Маркиз де Сад Философия в будуаре, или Безнравственные учителя
Добрая мать предпишет чтение этой книжки своей дочери
Диалоги, предназначенные для воспитания юных девиц
РАСПУТНИКАМ
Сладострастники и сладострастницы всех возрастов и мастей, вам одним предназначен сей труд: впитайте его принципы – они, несомненно, распалят вас. Не верьте холодным скучным моралистам, усердно запугивающим вас страстями, – только с помощью чувств природа подталкивает человека к уготовленному ему пути. Доверьтесь восхитительному голосу страстей – и он непременно приведет вас к счастью.
Чувственные женщины, перед вами пример сластолюбицы Сент-Анж, неразрывно связавшей свою жизнь с божественными законами наслаждения; отриньте же, подобно ей, все, что им противоречит.
Юные девушки, истомившиеся в нелепых мучительных оковах добродетели и в не менее отвратительных цепях религиозных, – подражайте пылкой Эжени: с такой же стремительностью разрушайте, топчите ногами все пустые наставления, вдалбливаемые вам в голову ограниченными вашими родителями.
А для вас, любезные мои развратники, кто с молодых ногтей не признает иных препон, кроме собственных желаний, и иных законов, кроме причудливых своих капризов, – для вас образцом пусть служит циник Дольмансе. Желаете продвинуться в познаниях столь же далеко, как он, – прогуляйтесь вслед за ним по бесчисленным благоуханным аллеям сладострастия. Усвойте главные заповеди его школы: лишь расширяя сферу своих склонностей и фантазий и лишь жертвуя всем на свете наслаждению, злосчастное создание, известное под именем «человек», заброшенное, помимо воли, в безрадостный наш мир, взращивает розочки на терновнике жизни.
ПЕРВЫЙ ДИАЛОГ
Госпожа де Сент-Анж, шевалье де Мирвель.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Привет, братец. А где же господин Дольмансе?
ШЕВАЛЬЕ. Он придет ровно в четыре. Обедать сядем не раньше семи, так что времени поболтать у нас, как видишь, предостаточно.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Представь, братец, мне, право, даже чуточку неловко за сегодняшнее мое любопытство и за непристойные мои замыслы. Сказать по правде, ты ко мне излишне снисходителен, мой друг, зря ты во всем мне потакаешь, от этого лишь портится мой нрав. Чем рассудочней мне хочется стать, тем возбужденней и блудливей проклятая моя голова. В двадцать шесть лет пора бы сделаться благочестивой, а я еще ненасытней, чем прежде... Хочется натворить такое, что никому и на ум не придет... Мое пристрастие к женщинам, казалось, должно способствовать определенной сдержанности... я полагала, что достаточно сосредоточить влечение на представительницах своего пола – и оно не распространится более на вас, мужчин. Напрасные мечты, мой друг! Мысли об удовольствиях, коих я пыталась себя лишить, еще сильнее разожгли мою фантазию. И я поняла: для тех, кто, подобно мне, рожден для разврата, бесполезно изобретать какие бы то ни было препоны – безудержный поток страстей тотчас сметет их на своем пути. Итак, дорогой мой, я принадлежу к тварям особого рода – амфибиям; с радостью позабавлюсь всем, чем угодно, мне нравится объединять различные жанры и стихии. Однако признайся, братец, не находишь ли ты несколько экстравагантным мое стремление к знакомству с этим чудаком Дольмансе – ведь он, как ты уверял, за всю свою жизнь ни разу не брал женщину обычным способом, ты еще говорил, что он содомит по убеждению, боготворит свой собственный пол и уступает домогательствам противоположного лишь при условии предоставления женщинами тех излюбленных прелестей, которыми он привык пользоваться при общении с мужчинами? Причуда моя, собственно, состоит в следующем: послужить Ганимедом сему новоявленному Юпитеру, испытать на себе его взыскательность, его непотребства, ощутить себя жертвой его извращенных фантазий. До сей поры, как ты знаешь, дорогой, подобным образом я отдавалась только тебе – из снисходительности – или кому-то из моих лакеев – им я платила за то, чтобы они обходились со мной именно так, и подчинялись они только ради денег. Сегодня же мною движет не снисходительность и не каприз – хочется войти во вкус... Различие между прежними и нынешними побудительными причинами, влекущими меня к своеобычной этой мании, огромно, и я жажду познать его нюансы. Опиши поподробнее твоего Дольмансе, желаю иметь о нем ясное представление еще до встречи. А то я видела его лишь мельком, и в каком-то постороннем доме.
ШЕВАЛЬЕ. Охотно, сестрица. Дольмансе исполнилось тридцать шесть лет. Он высокого роста, очень красивое лицо, необычайно живые и умные глаза. Правда, в чертах его порой проскальзывает едва заметная суровость и злоба. У него великолепные зубы. В фигуре и походке присутствует некоторая изнеженность – следствие привычки часто выступать в роли женщины. Он отличается безупречным изяществом, у него чарующий голос, уйма талантов, а главное – философский склад ума.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. В Бога, надеюсь, он не верует?
ШЕВАЛЬЕ. Да что ты! Отъявленный безбожник, чуждый всякой морали... Трудно найти пример более законченной и совершенной испорченности, никогда не встречал личности сквернее и подлее.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ах, как все это меня возбуждает! Такой мужчина точно сведет меня с ума. А теперь о его вкусах, братец.
ШЕВАЛЬЕ. Они тебе известны. Услады Содома одинаково дороги ему как в активной, так и в пассивной формах. Удовольствие он испытывает только с мужчинами. Подчас он допускает до себя женщин, но лишь в том случае, если они проявят сговорчивость и поменяются с ним полом. Я рассказал ему о тебе и о твоих намерениях. Он не возражает, но в свою очередь напоминает об условиях сделки. Еще раз повторяю, сестрица, он ответит решительным отказом на любую твою попытку склонить его к чему-либо иному: «То, что я согласен совершить с вашей сестрой, – заявил он, – особая вольность, непристойная шалость, коей допустимо осквернять себя крайне редко и со множеством предосторожностей».
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Осквернять себя!.. Предосторожности!.. Безумно люблю слушать, как изъясняются эти любезники! Мы, женщины, тоже умеем находить сильные слова, выражая глубокое свое отвращение ко всему, что не соответствует требованиям принятого у нас культа... Ну-ка признавайся, миленький, тебя-то он уже употребил? Уверена: мужчину такого склада не мог не привлечь двадцатилетний юноша с восхитительной фигурой!
ШЕВАЛЬЕ. Не скрою: мы с ним не раз совершали сумасбродства, но ты же у меня умница и не станешь за это порицать. В сущности, я предпочитаю женщин, а странным сим забавам предаюсь, лишь уступая натиску мужчины, достойного любви. В таких случаях я не в силах в чем-либо отказать. Я далек от глупой спеси юных ветрогонов, полагающих, что на подобного рода предложения следует отвечать ударами трости. Разве мы властны в своих пристрастиях? Людям, наделенным вкусами излишне своеобразными, стоит посочувствовать, однако унижать их не следует никогда, ведь причуды эти заложены в них самой природой. И виновны они в том, что пришли в этот мир с подобными склонностями, ничуть не более тех, что рождены кривоногими, а не прекрасно сложенными. Разве тот, кто выказывает желание насладиться вашим телом, произносит нечто для вас неприятное? Отнюдь. Скорее, делает вам комплимент. Зачем же отвечать на комплимент оскорблениями или бранью? Так поступают лишь совершенные болваны. Человек благоразумный наверняка присоединится к моему мнению. Правда, мир наш, к несчастью, наводнен пустоголовыми идиотами, которые уверены, что, полагая их пригодными для утех, вы тем самым проявляете к ним неуважение. Они испорчены женщинами, ревниво охраняющими от посягательств свои права, такие мужчины воображают себя донкихотами – они борются за сохранение заурядных своих привилегий, грубо обходясь с теми, кто не признает всеохватности женского владычества.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ах, дружок, дай я тебя расцелую! Ты не был бы моим братом, если бы думал иначе. Но умоляю, не пропускай подробностей ни о самом Дольмансе, ни о ваших утехах.
ШЕВАЛЬЕ. Через одного из моих друзей господину Дольмансе стало известно о внушительном члене, коим я, как тебе известно, оснащен. Он уговорил маркиза де V. пригласить меня на ужин. На месте мне пришлось предъявить свое достояние... Поначалу мне казалось, что интерес присутствующих вызван простым любопытством. Однако прекраснейший зад, развернутый в мою сторону, и мольбы воспользоваться им для наслаждения явно свидетельствовали о том, что проверка моих данных устроена с целью удовлетворения пристрастия особенного. Я предупредил Дольмансе о возможных трудностях подобного предприятия. Ничто не испугало его: «Мне не страшен даже таран, – сказал он мне, – а вам, в сравнении с другими, даже не достанется слава самого грозного орудия, пробившего эту жопу!» Маркиз находился рядом. Он приободрял нас, теребя, щупая, целуя все, что мы оба извлекли из своих штанов. Я являюсь во всей красе... и приступаю к некоторым подготовительным мерам: «Никаких смазок! – приказывает мне маркиз. – Иначе вы лишите Дольмансе половины ощущений, которых он от вас ожидает. Он жаждет, чтобы его рассекли... разодрали на части». – «Он будет удовлетворен!» – отвечаю я, слепо погружаясь в пучину... Ты наверное думаешь, сестренка, что мне это стоило неимоверного труда? Ничуть. Мощный мой кол провалился с необычайной легкостью, я коснулся самой глубины его нутра – а этому малому все нипочем. Я обращался с Дольмансе весьма дружелюбно. Он бурно вкушал наслаждение, подергиваясь и произнося ласковые речи, радость его тотчас передалась мне, и я его затопил. Едва я вышел из него, Дольмансе, раскрасневшийся и растрепанный, точно вакханка, повернулся ко мне лицом: «Взгляни, до какого состояния ты меня довел, дорогой шевалье! – воскликнул он, обращая ко мне свой упрямо вздыбившийся член, довольно длинный – никак не меньше шести дюймов в обхвате. – О, любовь моя! Ты уже побыл моим любовником, соблаговоли теперь послужить мне женщиной, и тогда я буду вправе заявить, что вкусил в твоих божественных объятиях милые своему сердцу утехи сполна». Сочтя, что вторую его просьбу мне исполнить ничуть не сложнее, нежели первую, я согласился. Тут прямо на моих глазах снимает с себя штаны маркиз и умоляет меня еще чуточку побыть в роли мужчины с ним, пока я буду женщиной его друга. И я обхожусь с маркизом столь же дружелюбно, как с Дольмансе, тот же, в свою очередь, вернув мне сторицей удары, обрушенные мною на третьего нашего участника, вскоре изливает мне в зад ту самую волшебную жидкость, которой я, почти в то же мгновение, орошаю зад маркиза де V.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ты, братец, должно быть, испытал необычайное блаженство, очутившись между двумя одновременно. Говорят, это просто восхитительно.
ШЕВАЛЬЕ. Совершенно точно, ангел мой, это наилучшая позиция. Но что бы об этом ни говорили, сие есть не более, чем причуда, и я никогда не предпочту ее наслаждению от женщины.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ну что ж, разлюбезный мой, дабы вознаградить твою милую к нам снисходительность, сегодня же предоставлю пылким твоим взорам юную девственницу, прекраснее самого Амура.
ШЕВАЛЬЕ. Как! В ожидании Дольмансе... ты приглашаешь сюда женщину?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Речь идет о воспитании. С этой девочкой я познакомилась прошлой осенью, в пансионате, где я находилась, пока мой муж отдыхал на водах. Там мы с ней были у всех на виду – и потому ни на что не решились; однако условились встретиться при первой возможности. И вот, сгорая от неутоленного желания, я завязываю знакомство с ее семьей. Отец оказывается распутником... я без труда соблазняю его. Добиваюсь согласия на приезд красотки, она уже в пути, я жду ее; мы проведем вместе два дня... два упоительных дня. Большую часть этого времени я употреблю на обучение юной особы. Дольмансе и я вложим в ее хорошенькую головку принципы самого разнузданного разврата, мы зажжем ее нашим огнем, привьем ей нашу философию, внушим наши желания. Мне не терпится соединить теорию с практикой, наглядно продемонстрировав каждое рассуждение, а посему тебе, братец, предназначено сорвать мирты Цитеры, а Дольмансе – розы Содома. Себе же я уготавливаю двойное наслаждение – вволю потешиться запретными утехами самой и пристрастить к ним милую простушку, завлеченную в наши сети, давая ей уроки распутства. Ну как тебе мой план, шевалье, не делает ли он честь моему воображению?
ШЕВАЛЬЕ. Замысел твой – плод богатой фантазии, сестрица, он божествен, обещаю добросовестно исполнить ту приятную роль, которая мне отведена. Ах, выдумщица, представляю, как ты насладишься, воспитывая эту малютку! Какая для тебя отрада – развращать ее, вытравлять из неопытного ее сердечка семена добродетели и веры, привитые прежними наставницами! На мой взгляд, это, пожалуй, даже слишком извращенно.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. О, я ни перед чем не остановлюсь, растлевая ее, повергну в прах ложные принципы морали, которыми ее дурманили прежде. Мне хочется за два урока превратить ее в такую же мерзавку, как я сама... в такую же безбожницу... распутницу. Подготовь Дольмансе, введи его в курс дела, едва он появится. Пусть яд его безнравственности проникнет в ее юную душу, сливаясь с отравой, которую впрысну я, – и тогда мы вырвем с корнем все ростки добродетели, успевшие дать всходы до нашего вмешательства.
ШЕВАЛЬЕ. Более подходящего растлителя тебе не сыскать: богохульства, издевки и непристойности извергаются из губ Дольмансе столь же неудержимо, сколь в былые времена елейные мистические речи стекали с уст знаменитого архиепископа из Камбре. Дольмансе – искушеннейший обольститель, человек на редкость испорченный и опасный... Ах, дорогая подружка, едва твоя ученица будет вручена попечению такого наставника – падение ее не заставит себя долго ждать!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Обучение определенно не затянется – я разглядела в ней такие способности...
ШЕВАЛЬЕ. Но сестрица, а как насчет родительского гнева? Вдруг девчушка, вернувшись домой, проболтается?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Бояться нечего: отца я соблазнила... он в моей власти. Такого признания тебе достаточно? Скажу больше – отдалась я ему лишь при условии, что он на все закроет глаза. Об истинных моих намерениях он осведомлен не до конца, и, надеюсь, никогда не посмеет в них вникать... Словом, я держу его в руках.
ШЕВАЛЬЕ. Твои средства ужасны!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. А иначе они не были бы верными.
ШЕВАЛЬЕ. Ладно. Расскажи теперь об этой юной особе.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Девочку зовут Эжени. Она – дочь одного из богатейших столичных откупщиков Мистиваля. Отцу около тридцати шести лет, матери – года тридцать два, самой малютке – пятнадцать. Мистиваль крайне распутен, супруга его крайне набожна. Что до Эжени – любые попытки описать ее тщетны – она выше всяких похвал. Думаю, довольно будет моего утверждения: ни ты, ни я еще не встречали создания более прелестного.
ШЕВАЛЬЕ. Не желаешь живописать – сделай хотя бы набросок. Должен же я представлять, с кем имею дело, и сотворить образ идола, которому надлежит приносить жертвы.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Итак, слушай, друг мой. У нее каштановые волосы – такой густоты, что рукой не обхватишь – длиной до низа попки. Лицо ослепительной белизны, носик с чуть заметной горбинкой, глаза чернее ночи, огненные и пронзительные!.. Неотразимый взгляд... Не представляешь, на какие безрассудства готова я ради этих глаз... Их увенчивают очаровательные брови... и обрамляют не менее изумительные веки!.. Маленький рот, роскошные губки, сама свежесть!.. С какой грациозностью держится на плечах ее прекрасная головка, какой благородный изгиб шеи... Эжени кажется взрослой и выглядит на семнадцать лет. Тоненькая изящная талия, обольстительная грудь... Ах, эта пара сисечек!.. Едва заполняют ладонь, но такие упругие... гладенькие... белоснежные!.. Раз двадцать теряла я голову, покрывая их поцелуями! Ты бы видел, как эта девочка оживлялась от моих ласк... какое душевное смятение сквозило в огромных ее глазах!.. Об остальном, друг мой, могу пока лишь догадываться. Но судя по тому, что мне уже знакомо, божества достойнее не найдется и на Олимпе... Вот я уже слышу ее шаги... оставь нас. Пройдешь через сад, чтобы не столкнуться с ней, вернешься в точно назначенный час.
ШЕВАЛЬЕ. На свидание я не опоздаю – залогом моей точности послужит изображенная тобой картина... О, небо! Уйти... покинуть тебя сейчас, взгляни, в каком я состоянии!.. Прощай... но сначала поцелуй... один поцелуйчик, сестричка, хоть немного успокой меня. ( Она целует брата, касаясь его члена сквозь штаны, и молодой человек поспешно выходит.)
ВТОРОЙ ДИАЛОГ
Госпожа де Сент-Анж, Эжени.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Здравствуй, ненаглядная моя. Ты как будто почувствовала, читая в моем сердце, с каким нетерпением я ждала тебя.
ЭЖЕНИ. О! Милая, дорога казалась мне бесконечной, так мне не терпелось поскорее обнять тебя. За час до отъезда я еще опасалась, что все переменится. Матушка решительно воспротивилась нашей восхитительной затее. Она заявила, что девушке моих лет негоже выезжать одной. Но тут вмешался отец: позавчера он ей всыпал, и довольно грубо, так что теперь одного его сурового взгляда оказалось довольно, чтобы поставить госпожу де Мистиваль на место. В конце концов, она смирилась с тем, что отец разрешает мне ехать, и я тут же примчалась. Мне отпущено два дня. Послезавтра одна из твоих служанок должна привезти меня назад в твоей карете.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Как быстро пролетят эти два дня, мой ангелочек! За столь короткий срок я едва ли успею выразить все, что к тебе испытываю... К тому же есть о чем поговорить. За недолгие часы общения мне надлежит посвятить тебя в самые сокровенные таинства Венеры. Как тут уложиться в два дня!
ЭЖЕНИ. Ах, я останусь, пока всего не узнаю... Я пришла учиться и не выйду отсюда, пока не стану просвещенной.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ ( целуя ее). О, любовь моя, нам предстоит еще столько сделать и столько сказать друг дружке! Кстати, не желаешь ли ты позавтракать, моя королева? Урок наш может затянуться.
ЭЖЕНИ. Дорогая наперсница, у меня только одно желание – слушать тебя. Я уже позавтракала в одном лье отсюда. И теперь спокойно продержусь до восьми часов вечера.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Тогда пройдем в мой будуар, там мы расположимся поуютней. Я уже предупредила слуг. Смею тебя уверить: нас никто не побеспокоит. ( Они идут туда, обнявшись.)
ТРЕТИЙ ДИАЛОГ
Госпожа де Сент-Анж, Эжени, Дольмансе.
Действие происходит в роскошном будуаре.
ЭЖЕНИ ( в крайнем изумлении, что видит в комнате мужчину, которого вовсе не ждала). О, Боже! Дорогая подруга, это же предательство!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ ( удивленная ничуть не меньше). Как это вас занесло сюда, сударь? Насколько мне помнится, вам надлежало прибыть к четырем?
ДОЛЬМАНСЕ. В предвкушении счастья увидеться с вами, сударыня, я несколько опередил события. Я разговаривал с вашим братом о занятиях, которые вы намереваетесь вести с мадемуазель, и он счел мое присутствие необходимым. Зная, где намечено устроить лицей для чтения лекций, он тайно привел меня сюда, полагая, что сие не вызовет вашего неодобрения. Что же до него самого, он уверен: наглядные объяснения с его участием понадобятся лишь после рассуждений теоретических, так что к нам он присоединится попозже.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Сказать по правде, Дольмансе, вот так фортель...
ЭЖЕНИ. Не такая уж я простушка. Ведь все это твоих рук дело, милая подруга... могла бы со мной посоветоваться... Теперь я чувствую себя посрамленной, а это определенно нарушит наши планы.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Поверь, Эжени, идея этой проделки целиком принадлежит моему брату. Твои тревоги напрасны. Дольмансе мне известен, как человек необыкновенно любезный, с особым, философским, складом ума, незаменимым для твоего воспитания. Для осуществления наших замыслов он крайне полезен. В смысле соблюдения тайны, положись на него так же, как на меня. Держись непринужденно с этим господином, милочка, он, как никто, знает свет и наилучшим образом разовьет тебя, выводя на верный путь к счастью и наслаждению – по нему мы и проследуем всей нашей компанией.
ЭЖЕНИ ( краснея). О! Я все равно стесняюсь...
ДОЛЬМАНСЕ. Полно, прекрасная Эжени, будьте раскованней... стыдливость – отжившая добродетель, без нее обойтись совсем несложно, тем более, с вашими прелестями.
ЭЖЕНИ. Но приличия...
ДОЛЬМАНСЕ. Еще одно допотопное понятие, совершенно утратившее ценность в наши дни. Правила приличия в корне противоречат законам природы! ( Дольмансе хватает Эжени, сжимает ее в своих объятиях и целует.)
ЭЖЕНИ ( защищаясь). Прекратите же, сударь!.. Обращение ваше, право, бесцеремонно!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Послушай меня, Эжени, перед этим милым господином нам с тобой не нужно строить из себя недотрог. Я знакома с ним не дольше, чем ты, но видишь, я доверяюсь ему! ( Она похотливо целует его в губы.) Делай, как я.
ЭЖЕНИ. О! Теперь и мне захотелось, ты заразила меня своим примером! ( Она также доверяется Дольмансе, который страстно целует ее, проникая языком ей в рот.)
ДОЛЬМАНСЕ. Ах, чаровница!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ ( целуя ее в свою очередь). И не надейся, маленькая шалунья, что я откажусь от того, что причитается мне! ( Тут Дольмансе, обнимая обеих, примерно четверть часа лижет их, они обе тоже лижут друг дружку, а затем отвечают ему тем же.)
ДОЛЬМАНСЕ. Сладостные, пьянящие прелюдии! Дорогие дамы, вы не находите, что здесь невыносимо жарко? Оденемся поудобнее, так будет гораздо легче беседовать.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Не возражаю, накинем эти прозрачные симары, прикроем лишь то, что следует утаивать от вожделения.
ЭЖЕНИ. Сказать по правде, дорогая, вы толкаете меня на такое!..
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ ( помогая ей раздеться). Презабавные одеяния, не правда ль?
ЭЖЕНИ. Да уж, и к тому же весьма нескромные... О, как ты меня целуешь!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Прелестная грудка!.. Едва распустившийся розан.
ДОЛЬМАНСЕ ( разглядывая соски Эжени, но не прикасаясь к ним). Такие бутончики обещают мне другие приманки... куда более ценные.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Более ценные?
ДОЛЬМАНСЕ. О да, клянусь честью! ( Произнося это, Дольмансе разворачивает Эжени, пытаясь разглядеть ее сзади.)
ЭЖЕНИ. О нет, не надо, умоляю вас.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Остановитесь, Дольмансе... Я пока запрещаю вам взирать на предмет, имеющий над вами столь неодолимую власть, иначе он поглотит все ваши мысли, и вы утратите способность рассуждать хладнокровно. Мы ждем от вас уроков, так преподайте же их, после этого столь вожделенные вами мирты непременно послужат вам наградой.
ДОЛЬМАНСЕ. Пусть так, но имейте в виду, мадам: для наглядности преподавания нашему прелестному ребенку первых уроков распутства мне потребуется ваше любезное согласие сделаться моей соучастницей.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. С удовольствием!.. Ну вот, взгляните, я уже голая: пользуйтесь мною для ваших умствований сколько угодно!
ДОЛЬМАНСЕ. Ах! Роскошное тело!.. Сама Венера, в соединении с Грациями!
ЭЖЕНИ. О, дорогая подруга, сколько красот! Позволь мне потрогать их руками, позволь поцеловать их. ( Исполняет.)
ДОЛЬМАНСЕ. Удивительный талант! Только чуточку умерьте свой пыл, прекрасная Эжени, поскольку сейчас я потребую от вас внимания.
ЭЖЕНИ. Конечно, я готова слушать вас, готова... до чего же она хороша... до чего пышна... свежа!.. Моя подруга изумительна, не правда ль, сударь?
ДОЛЬМАНСЕ. Безусловно, она красива... я бы даже сказал, безупречно красива. Впрочем, по моему мнению, вы ни в чем ей не уступаете... Итак, моя хорошенькая ученица, придется вам выслушать меня – а иначе, в случае непослушания, я воспользуюсь правами, предоставляемыми мне званием вашего учителя.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. О да, да, Дольмансе! Она в полном вашем распоряжении. Не будет умницей – отчитайте ее и пожестче.
ДОЛЬМАНСЕ. Думаю, одними внушениями здесь не обойтись.
ЭЖЕНИ. О, небо праведное! Не пугайте меня, сударь... что вы намереваетесь предпринять?
ДОЛЬМАНСЕ ( бормоча и целуя Эжени в губы). Сначала легкие телесные наказания... затем хорошая трепка – и прелестная попка с лихвой расплатится за провинности головы. ( Через тонкую симару он шлепает Эжени по заду.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Одобряю ваш замысел в целом, однако отвлекаться не стоит. Приступим непосредственно к уроку. Нам отпущено совсем немного времени на утехи с Эжени. Если мы растратим его на подготовительную часть, до основного курса дело так и не дойдет.
ДОЛЬМАНСЕ ( касаясь, по мере объяснения, тех или иных участков тела госпожи де Сент-Анж). Итак, начнем. Не стану долго описывать эти полушария из плоти: вы, Эжени, не хуже меня знаете их названия – бюст, груди, сиськи.Им принадлежит важная роль в акте наслаждения; они постоянно перед глазами, любовнику удобно мять и ласкать их. Кое-кто предпочитает устраивать из них алтарь наслаждения, помещая свой член меж двух холмов Венеры, чтобы женщина стискивала и зажимала его. Иные мужчины, после недолгого трения, изловчаются слить туда восхитительный бальзам жизни, чье истечение – суть высшее блаженство распутника... Кстати о члене, рассуждать о нем можно бесконечно. Не пора ли и нам, сударыня, немного пофилософствовать об этом с нашей ученицей?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Думаю, самое время.
ДОЛЬМАНСЕ. Отлично, сударыня. Тогда я улягусь на это канапе, вы расположитесь рядом, завладеете сим предметом и лично продемонстрируете его достоинства нашей юной ученице. ( Дольмансе устраивается, а госпожа де Сент-Анж показывает.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Перед твоими глазами, Эжени, скипетр Венеры – это главный участник любовных утех. Чаще всего именуемый « членом». Нет ни одной части тела, куда нельзя было бы его ввести. Покоряясь страстям своего управителя, он нередко пристраивается вот здесь ( она касается лобка Эжени), продвигаясь по обычной дорожке... самой проторенной, но не самой приятной. В поисках храма для посвященных истинный распутник обратит свои взоры скорее сюда ( она раздвигает свои ягодицы и показывает отверстие между ними): мы не раз будем возвращаться к такому способу наслаждения – ибо нет ничего более восхитительного. Рот, грудь, подмышки также служат алтарями для воскурения фимиама. Независимо от места, избранного нашим героем, после нескольких движений, он извергает вязкую белую жидкость, извержение ее приводит мужчину в исступленный восторг, являющий собой сладчайшее в жизни удовольствие.
ЭЖЕНИ. О, я жажду видеть, как истекает эта жидкость!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Для этого достаточно даже подрагивания моей руки. Смотри, по мере того, как я его встряхиваю, он возбуждается! Такие движения называют мастурбацией, а на языке развратников действие сие обозначается словом онанировать.
ЭЖЕНИ. О, бесценная моя, позволь мне поонанировать этот замечательный член!
ДОЛЬМАНСЕ. Больше не вытерплю! Не станем ей мешать, сударыня: от этой наивности у меня стоит, как бешеный.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Решительно возражаю. Будьте благоразумны, Дольмансе, не вскипайте раньше времени. Истечение семени ослабит активность ваших животных инстинктов, что неизбежно умерит пыл ваших рассуждений.
ЭЖЕНИ ( ощупывая детородные яички Дольмансе). О, зачем ты противишься моим желаниям, милая подружка, ты обижаешь меня!.. А это что за шарики, для чего они служат и как называются?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Техническое обозначение – яйца... научный термин – тестикулы. Эти шарики – хранилище плодоносного семени, о котором я только что говорила, благодаря его извержению в матку женщины совершается воспроизводство рода человеческого. Не стоит углубляться в детали, Эжени, куда более важные для медицины, нежели для распутства. Красивой девушке надлежит исключительно совокупляться, но ни в коем случае не рожать. Мы лишь слегка коснемся вопросов, имеющих отношение к скучному механизму размножения, дабы подробнее остановиться на крайне важных для нас областях – сладострастии и разврате, весьма далеких от задач роста народонаселения.
ЭЖЕНИ. Дорогая, мне трудно вообразить, как огромный член, едва помещающийся в моей руке, многократно проникает в такую узенькую дырочку, как у тебя сзади – по моим представлениям, это непременно причинит женщине сильную боль.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Женщина непривычная испытает боль и от проникновения спереди, и от проникновения сзади. Природе угодно вести нас к счастью лишь через страдания. Однако едва боль преодолена – ничто уже не препятствует наслаждению. Удовольствие, испытываемое от введения члена в зад, – безусловно, превосходит любые ощущения от принятия его спереди. От скольких опасностей ограждена при этом женщина! Никакого риска для здоровья, никакой угрозы беременности. Не стану распространяться о преимуществах данного вида наслаждения. Наш многоуважаемый учитель проведет всеобъемлющий анализ, соединяя теорию с практикой, после чего, надеюсь, сумеет убедить тебя, милочка: из всех разновидностей сладострастия предпочтение следует отдать именно этому способу.
ДОЛЬМАНСЕ. Поторопитесь с вашими показами, сударыня, умоляю, я уже не в силах сдерживаться. Вот-вот изольюсь помимо своей воли, грозный мой член, того и гляди, обратится в ничто и станет непригодным для ваших уроков.
ЭЖЕНИ. Как! Неужели он исчезнет, если потеряет семя, о котором ты говорила! О, милая, разреши, я заставлю его потерять это семя, хочу посмотреть, во что он превратится... Наверное, ужасно приятно наблюдать, как оно истекает!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Нет, нет, Дольмансе, еще не время, поднимайтесь; не забывайте – награду за ваши труды я вручу вам лишь после того, как вы ее заслужите.
ДОЛЬМАНСЕ. Хорошо. Все же для лучшего убеждения Эжени в действенности удовольствий, о которых мы ей недавно поведали, не сочтете ли вы уместным немножко помастурбировать ее передо мной?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Не просто сочту уместным – более того, исполню это с радостью, ибо столь волнующий эпизод, несомненно, посодействует нашим лекциям. Располагайся на канапе, моя милочка.
ЭЖЕНИ. О Господи! Что за прелестная ниша! А зачем столько зеркал?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Тысячекратно повторяя различные позы, зеркала до бесконечности разнообразят удовольствия в глазах тех, кто вкушает их на оттоманке. Благодаря этой искусной уловке ни один уголок тела не утаен от взоров: всё на виду. Вокруг занимающихся любовью возникают группы подражателей их сладостным действиям, от стольких восхитительных картинок восторг любовников достигает невиданного накала.
ЭЖЕНИ. Потрясающее изобретение!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Дольмансе, разденьте-ка нашу жертву...
ДОЛЬМАНСЕ. Это совсем несложно, достаточно сорвать тонкий покров, и нам откроются весьма трогательные прелести. ( Раздевает ее догола, первые его взгляды обращены на ее зад). Наконец-то, вот она, эта божественная, драгоценная попка, которой я так безуспешно домогаюсь!.. Черт возьми, какая пышка, свеженькая, изящная, просто блеск!.. Никогда не встречал прекраснее!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ах, проказник! Первые же похвалы выдают твои вкусы и привычки!
ДОЛЬМАНСЕ. Ничто в мире с этим не сравнится! Есть ли у любви алтарь более сокровенный?.. Эжени... восхитительная Эжени, дай истомить твою попку нежнейшими на свете ласками! ( Он ощупывает ее и вдохновенно целует.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Остановитесь, развратник!.. Вы забываетесь, Эжени принадлежит мне одной, а от вас ожидает лишь уроков. Она достанется вам в награду, но только после того, как вы ее обучите. Так что умерьте свой пыл, иначе я рассержусь.
ДОЛЬМАНСЕ. Ах, плутовка! Да вы просто ревнуете. Ну ладно, подставьте мне взамен вашу собственную попку, я воздам ей не меньше почестей. ( Он приподнимает накидку госпожи де Сент-Анж и ласкает ее сзади.) Ах, до чего же она у вас прекрасна, ангел мой!.. Просто восторг! Поставим их рядышком для сравнения: Ганимед на фоне Венеры! ( Осыпает и ту, и другую поцелуями.) Хочется продлить этот волнующий спектакль. Потрудитесь обняться с нею, мадам, предоставив восхищенным взорам ценителя сразу два восхитительных предмета его поклонения!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Великолепно!.. Пожалуйста, теперь вы удовлетворены? ( Они переплетаются так, что их ягодицы оказываются прямо перед Дольмансе.)
ДОЛЬМАНСЕ. Лучше не бывает: именно то, что я просил. А теперь подвигайте своими прелестными попками, разожгите в них огонь похоти, поднимайте и опускайте их в такт испытываемому вами наслаждению... Да, вот так, восхитительно!..
ЭЖЕНИ. Ах, дорогая, как мне с тобой хорошо!.. А что мы делаем сейчас?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Мы онанируем, моя милая... то есть доставляем себе удовольствие. А теперь давай изменим позу. Смотри: вот мое влагалище... именно этим словом обозначают храм Венеры. Внимательно вглядись в пещерку, которую закрывает моя рука: сейчас я ее приоткрою. Возвышение, ее венчающее, – лобок– обрастает волосами, кода у девушек начинается менструация, обычно лет в четырнадцать-пятнадцать. Вот этот язычок, чуть пониже, называется клитор. Это средоточие всей женской чувственности, и моей собственной в том числе. Когда меня там щекочут, я млею от наслаждения... Попробуй-ка... Ах ты, маленькая бестия! Как лихо у тебя получается!.. Будто всю жизнь только этим и занималась!.. Стой!.. Хватит!.. Больше не надо, говорю тебе, не хочу отдаваться до конца!.. Удержите же меня, Дольмансе!.. Иначе волшебные пальчики этой красотки сведут меня с ума!
ДОЛЬМАНСЕ. Неудивительно! Остудите хоть самую малость разгоряченные ваши мозги: для разнообразия пощекочите ее сами – пусть отдается она, а не вы... Да, именно так!.. И в такой позе. Прелестный ее задик окажется прямо перед моими руками. И я легонечко помастурбируюего пальцем... Расслабьтесь, Эжени, подчините все свои чувства наслаждению. Возведите его в верховное божество вашей жизни. Призвание юной девушки – жертвовать всем на свете во имя наслаждения. Нет для нее ничего священнее удовольствий.
ЭЖЕНИ. Ах, действительно, ничего более восхитительного я не испытывала... Я вне себя... не соображаю, что делаю, говорю... Я хмелею от избытка чувств!
ДОЛЬМАНСЕ. Как раззадорилась наша забавница!.. Ее анус сокращается так, будто сейчас откусит мне палец... Самое время поставить ее раком – она была бы просто неподражаема! ( Он поднимается и приставляет свой член к заднему проходу юной девушки.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Еще чуточку терпения. Более всего нас должно занимать воспитание этой малютки!.. До чего же сладко ее наставлять!
ДОЛЬМАНСЕ. Согласен! Итак, Эжени, после более или менее длительной мастурбации семенные железы набухают и в конце концов изливают жидкость, чье истечение приводит женщину в неописуемый восторг. Происходит так называемая разрядка. Когда твоя бесценная подружка позволит, я покажу тебе, насколько мощно и энергично разряжаются мужчины.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Погоди, Эжени, объясню тебе еще один способ погружения женщины в бездну сладострастия. Хорошенько раздвинь бедра... Порадую вас, Дольмансе, – разложу ее так, что в вашем распоряжении окажется зад! Вылизывайте его, а я пока пройдусь языком по влагалищу. Поместим ее между нами и постараемся добиться, чтобы она три-четыре раза подряд лишилась чувств от удовольствия. Твой лобок, Эжени, очарователен. Как мне нравится целовать этот пушок... Теперь хорошо просматривается клитор, еще не вполне сформировавшийся, но уже на редкость чувствительный... Как ты трепещешь!.. Дай-ка я еще раздвину... Ах, ты на самом деле девственна!.. Скажи, что ты чувствуешь, когда наши языки одновременно проникают тебе в оба отверстия. ( Исполняется.)
ЭЖЕНИ. Ах, дорогая, так восхитительно, что не поддается описанию! Трудно сказать, который из двух языков сильнее погружает меня в безумство страсти.
ДОЛЬМАНСЕ. В данной позе мой член совсем рядом с вашими руками, мадам. Соблаговолите помастурбировать его, пока я сосу этот божественный зад. Втыкайте поглубже ваш язык, мадам, не ограничивайтесь простым посасыванием клитора. Пусть похотливый ваш язык достанет ей до самой матки: так наилучшим образом ускорится ее извержение.
ЭЖЕНИ ( напрягшись). Ах, больше не могу! Не оставляйте меня, друзья мои, я упаду в обморок, я умру!.. ( Она достигает разрядки в объятиях двух своих учителей.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ну как, милочка, оценила доставленное тебе удовольствие?
ЭЖЕНИ. Я словно мертвая, разбитая... уничтоженная!.. Но пожалуйста, объясните мне значение двух слов, которые вы употребили – мне не все понятно. Начнем с того, что такое матка?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Это своеобразный сосуд, напоминающий бутылку, чье горлышко обхватывает мужской член, туда стекает сок, вырабатываемый женскими железами, а также мужская сперма – ее извержение мы тебе еще покажем. От слияния двух этих жидкостей возникает зародыш, который постепенно превращается то в мальчиков, то в девочек.
ЭЖЕНИ. А, теперь ясно! Это определение проясняет мне смысл слова сперма, которое я не сразу поняла. А разве для образования зародыша необходим союз двух семян?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Безусловно, хотя доказано, что существованием своим зародыш обязан исключительно мужской сперме; но тем не менее, изверженная сама по себе, без слияния с тем, что выделяют женщины, она не способна что-либо породить; женский же сок служит только для переработки – ничего не создавая, он лишь помогает созиданию, не являясь его причиной. Многие современные натуралисты уверяют, что он вообще бесполезен; из чего наши моралисты, следуя за открытиями естественников, делают вполне закономерный вывод о том, что ребенок, сформированный из крови отца, должен испытывать привязанность лишь к нему одному. Утверждение настолько очевидное, что даже я – женщина – не смею его оспаривать.
ЭЖЕНИ. Истинность твоих высказываний, моя милая, я обнаруживаю в своем сердце. Отца я люблю безумно, а к матери питаю отвращение.
ДОЛЬМАНСЕ. Подобное предпочтение вполне оправданно. Думаю точно так же. До сих пор не могу утешиться после смерти отца. В то время, как потеряв свою мать, просто полыхал от радости... Сердце мое переполнялось омерзением к ней. Без опаски следуй своим душевным движениям, Эжени: они продиктованы природой. Мы сотворены исключительно из отцовской крови и абсолютно ничем не обязаны своей матери. В акте зачатия она просто предоставила свое тело, отец же этого акта добивался. Выходит, отец жаждал нашего рождения, а мать согласилась лишь по принуждению. Столь же по-разному мы должны относиться к каждому из родителей!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Тысяча доводов подтверждают твою правоту, Эжени! Если есть на свете мать, действительно заслуживающая ненависти, так это твоя! Сварливая, суеверная... взглянешь на такую святошу – ну прямо воплощенная неприступность. Бьюсь об заклад, эта недотрога ни разу в жизни не оступилась... Ах, дорогая, если бы ты знала, как я ненавижу добродетельных женщин!.. Мы еще вернемся к этому разговору.
ДОЛЬМАНСЕ. Не пора ли обучить Эжени тому, что недавно столь успешно проделали с ней вы? Пусть она помастурбирует вас под моим руководством.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Не возражаю, находя сие весьма полезным. И если я правильно вас поняла, на протяжении всего действа, вы бы не прочь обозревать и мою задницу, ведь так, Дольмансе?
ДОЛЬМАНСЕ. Неужели вы усомнились в превеликом моем желании воздать ей самые нежнейшие из почестей?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ ( подставляя ему свои ягодицы). Ну как, вам удобно?
ДОЛЬМАНСЕ. Изумительно! Наилучшим образом обслужу вас, по примеру того, как вы ублажили сегодня Эжени. А вы, сумасбродочка, располагайте-ка свою головку между ног вашей подруги и своим хорошеньким язычком отблагодарите ее за нежные о вас заботы. В этой позе, владея обеими вашими попками, я всласть потискаю ягодицы Эжени и пососу зад ее прелестной наперсницы. Вот так... хорошо... Как слаженно!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ ( млея). Провались всё к черту, умираю!.. Дольмансе, до чего отрадно, в преддверии сладчайшего мига, держаться за твой рог изобилия!.. Пусть он затопит меня спермой!.. Щекочите!.. Сосите меня, дьявол вас забери! Ах, истекая соком любви, так упоительно ощущать себя шлюхой!.. Кончено, больше не могу!.. Вдвоем вы измотали меня... Кажется, в моей жизни еще не было такого экстаза.
ЭЖЕНИ. Как радостно осознавать себя его причиной! Только, милая моя, у тебя вырвалось еще одно слово, которое я не вполне понимаю. Что ты подразумеваешь под выражением шлюха? Прости, но ведь я здесь, чтобы учиться.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Так, прелесть моя, называют публичных женщин – вечных страдалиц мужского разврата, безотказно отдающихся либо по зову собственного темперамента, либо ради выгоды. Блаженные, достойные уважения создания, заклейменные молвой и коронованные сладострастием! Они гораздо полезнее обществу, чем недотроги, и у них достает мужества отказаться – в угоду несправедливому общественному мнению – от почтительности, которой оно безжалостно их лишает. Да здравствуют истинно любезные, философски одаренные женщины, с гордостью носящие высокое звание шлюхи! Сама я уже двенадцать лет тружусь, дабы заслужить такой титул, и поверь, дорогая, услышав его в свой адрес, я ничуть не обижаюсь, а скорее – забавляюсь. Обожаю, когда меня так называют в постели. Бранное это словечко необычайно горячит мне голову.
ЭЖЕНИ. О, теперь мне ясно, о чем ты говоришь, милая! Отныне я не рассержусь, если ко мне так обратятся, даже напротив – постараюсь удостоиться подобного титула. Все же поясни, не является ли такой подход к жизни полной противоположностью добродетели, и не оскорбляем ли мы своим поведением ее устои?
ДОЛЬМАНСЕ. Ах, Эжени, забудь ты о добродетелях! Никакие жертвоприношения во славу этих лжебожеств не стоят одной минуты наслаждения, испытываемой при их осквернении! Добродетель – не более, чем химера, культ ее предполагает вечное принесение себя в жертву и бесчисленные посягательства на любые проявления нашей чувственности. Разве это не противоестественно? Станет ли природа внушать побуждения, идущие ей во вред? Не давай себя дурачить, Эжени, не обольщайся насчет так называемых порядочных женщин. Пойми, и они, подобно нам, предаются страстям, только другим, куда более презренным – честолюбию, гордыне, личной выгоде; еще чаще движет ими врожденная холодность. За что, собственно, уважать этих особ? Руководствуются они исключительно себялюбием. Чем же служение эгоизму лучше и мудрее потворства страстям? Лично я предпочитаю второе. Правильнее доверять голосу страсти – истинному и единственному глашатаю матери-природы, ибо все остальное – детище скудоумия и предрассудков. Капелька спермы, извергнутая вот этим членом, Эжени, для меня ценнее самых возвышенных деяний во славу глубоко презираемой мною добродетели.
( Во время этих рассуждений воцаряется тишина. Женщины, вновь облачившись в симары, полулежат на канапе. Дольмансе сидит рядом, в большом кресле.)
ЭЖЕНИ. Но ведь существуют добродетели и иного рода. Что вы скажете о набожности?
ДОЛЬМАНСЕ. Что значит сия добродетель в глазах безбожника? И кого следует считать набожным? Разберем все по порядку. Итак, Эжени, вы называете религиозностью некий пакт, связывающий человека со своим Творцом и обязывающий его, посредством определенного культа, свидетельствовать признательность за жизнь, дарованную сим высшим создателем.
ЭЖЕНИ. Невозможно дать лучшее определение.
ДОЛЬМАНСЕ. Отлично! Только доказано, что существованием своим человек обязан исключительно непреодолимым планам природы; обнаружено, что человек столь же древен, как и сам земной шар, он – столь же неизбежное порождение земного шара, как дуб, как лев, как минералы, залегающие в недрах, и жизнью своей никому не обязан; засвидетельствовано, что тот самый Бог, которого глупцы рассматривают как единственного автора и изготовителя всего, что мы видим вокруг – не более, чем nec plus ultraчеловеческого разума, и что призрак этот возник в миг, когда разум, в бессилии что-либо объяснить, прибег к уловке в поисках подмоги; подтверждено, что существование Бога невозможно, поскольку деятельная природа вечным своим движением сама порождает то, что глупцы приписывают ей в качестве чьего-либо подарка; если все же предположить наличие сего инертного существа, то по смехотворности своей оно не знает себе равных – проработав только один день, оно несметное число столетий пребывает в губительном бездействии; если поверить описаниям различных религиозных авторов и представить, что оно все же существует, то тогда создание это следует признать наигнуснейшим, раз оно допускает на земле зло, ибо будучи всесильным, могло бы тому помешать; итак, если все это доказано, а дело обстоит именно так, то неужели вы, Эжени, продолжаете верить, что набожность, связывающая человека с неумным, никчемным, жестоким и презренным Творцом, является настоятельно необходимой добродетелью?
ЭЖЕНИ ( госпоже де Сент-Анж). Милая моя наставница, скажи, как по-твоему, вера в существование Бога – действительно химера?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Безусловно, и наипрезреннейшая.
ДОЛЬМАНСЕ. Поверить в такое – значит совершенно лишиться рассудка. Отвратительный этот призрак – плод страха одних и слабости других – бесполезен для земного жизнеустройства; более того – неизменно вредоносен, поскольку помыслы его, коим должно быть праведными, никак не соответствуют заложенной в основу природы неправедности; ему надлежит желать добра – природе же добро угодно лишь в качестве компенсации изначально присущего ей зла; едва оно проявит активность – природа, чей основной закон – беспрерывное действие, неизбежно окажется его соперницей, и им грозит вечное противостояние. Мне могут возразить, что Бог и природа – суть единое целое. Очередной абсурд! Сотворенный предмет нельзя приравнивать к существу созидающему: возможно ли, чтобы часы стали часовщиком? Кое-кто будет уверять: природа – ничто, а Бог – все. Новая нелепица! Вселенной необходимы два начала: созидательная сила и сотворенный индивидуум. Что явилось созидательной силой? Вот единственная проблема, которую предстоит разрешить, единственный вопрос, требующий ответа.
Материя движется с помощью неведомых нам комбинаций, движение – неотъемлемая часть материи, она с помощью своей собственной энергии способна создавать, порождать, сохранять, поддерживать, уравновешивать в безграничных просторах пространства все планеты, поражающие своим величием и равномерно-неизменным ритмом, вызывающим почтительный восторг. Откуда же возникает нужда в поиске некоей сторонней движущей силы, ведь способность к активности заключена в самой природе, которая, по сути, и есть не что иное, как движущаяся материя? Прояснит ли хоть как-нибудь развитие природы ваша бредовая идея о божественном вмешательстве? Ручаюсь, что нет. Предположим, я не вполне правильно оцениваю внутренние возможности материи, то есть испытываю некое затруднение. Чего же добиваетесь вы, навязывая своего Бога? Добавляете мне еще одно затруднение. И что же, в качестве причины того, что я не вполне понимаю, мне должно принять нечто еще более непонятное? Может, догмы христианства помогут разобраться и представить в истинном свете этого грозного Бога? Присмотримся к его портрету...
Каким обрисовывают мне Бога бесчестного этого культа? Непоследовательным варваром: сегодня он создает мир, а назавтра раскаивается в его построении. Рохлей, не способным призвать человека к порядку. Собственное его творение властвует над ним, вволю оскорбляет его, в наказание удостаиваясь каких-то вечных мук! Ну и слабак этот Боженька! Возможно ли, чтобы создатель всего сущего был не в силах приспособить человека на свой лад? Вы возразите мне, что человек, устроенный каким-либо иным образом, не был бы наделен возможностью проявлять положительные качества. Что за вздор! Бог вовсе не нуждается в заслугах человека. Произведение оказалось бы достойным своего Творца, если бы человек был задуман абсолютно добрым и не способным к совершению зла. Оставлять же человеку свободу выбора – значит искушать его. И Бог, в бесконечном Своем предвидении, прекрасно знает, что из этого выйдет. Выходит, Ему доставляет удовольствие сбивать с пути созданное им же самим существо – до чего же безжалостен такой Бог! Просто изверг! Отвратительный мерзавец, заслуживающий отмщения! Не вполне удовлетворенный результатом возвышенного сего труда, Он, во имя обращения человека в свою веру, топит его, сжигает, проклинает. Но человек все равно не меняется. И тогда власть свою утверждает дьявол– существо куда более могущественное, нежели никчемный Бог, он бравирует своей силой перед создавшим его автором и беспрестанными обольщениями развращает стадо, которое предназначил для себя Всевышний. Влияние этого демона на род людской непреодолимо. Что же измышляет в ответ неутомимый Создатель, за которого вы так ратуете? Он обзаводится сыном, единственным сыном – трудно сказать, кто Его на такое надоумил. Видимо, человек: ему свойственно совокупляться,и он возжелал, чтобы Бог его тоже совокупился. Итак, облака отделяют от себя почтенную сию частицу. Вы, наверное, вообразили, что столь возвышенная креатура предстанет взору вселенной в небесных лучах, в окружении ангельского кортежа... Ничуть ни бывало: зачатие посланного на землю Спасителя осуществляется в лоне еврейской шлюхи, родившей его в грязном свинарнике! Происхождение более, чем достойное! Быть может, оправданием тому послужит некая почетная миссия? Итак, проследим за нашим героем. Что он вещает? В чем возвышенность его предназначения? Какие тайны он нам раскроет? Какие предпишет догмы? Какими деяниями прославит свое величие?
Поначалу безвестное детство, некие услуги (несомненно, развратного свойства), оказанные юным проказником жрецам Иерусалимского храма; далее – загадочное исчезновение на пятнадцать лет, в течение которых наш мошенник отравляет свои мозги всевозможными бреднями египетской науки, занесенными им впоследствии в Иудею. Едва появившись там, этот безумец заявляет, что он – сын Божий, равный отцу своему; к этому союзу он приплетает еще один призрак, называя его Святым Духом и утверждая, что все три персоны являют собой единое целое! Чем очевиднее нелепость его мистерии, чем сильнее противоречит она здравому смыслу, тем рьяней наглец этот уверяет, что приятие ее весьма достойно... а развенчание – опасно. Недоумок этот старается внушить, что ради всеобщего спасения, он, будучи Богом, облекся плотью, представ перед нашими взорами, как дитя человеческое, после чего совершает впечатляющие чудеса, убеждая в своей правоте весь мир! На ужине с пьянчугами наш обманщик, по уверениям присутствующих, превращает воду в вино; в пустыне он кормит нескольких голодранцев продуктами, которые заранее припрятали его сторонники; один из его дружков притворяется мертвым – самозванец его воскрешает; затем отправляется на гору и там, перед двумя-тремя приятелями проделывает фокус, доступный самому захудалому фигляру наших дней.
Помимо этого шельмец горячо проклинает тех, кто в него не верует, а всем внимающим ему простакам сулит небеса. Он ничего не пишет, ввиду своей безграмотности; мало говорит, ввиду глупости; делает еще меньше, ввиду своего бессилия. Выступает этот шарлатан довольно редко, но бунтовские его речи вконец раздражают должностных лиц, и те вынуждены приговорить его к распятию; сопровождающих его прохвостов он успевает уверить, что всякий раз, как они призовут его, он спустится на землю, дабы утешить их. Его подвергают мучениям – он не противится. Папаша его – возвышенный Бог, от которого он якобы произошел – не оказывает ему ни малейшей поддержки. И тогда с нашим плутом обращаются, как с последним мерзавцем, чего он, впрочем, вполне заслуживает.
Собираются его приспешники и говорят: «Мы пропали, все надежды наши рухнули, спасемся мы, лишь наделав много шуму. Напоим стражу, охраняющую Иисуса; выкрадем его тело и провозгласим, что он воскрес: средство верное; если в наше плутовство поверят, возникнет и распространится новая религия; она завоюет весь мир... Итак, за работу!». Проделка удалась. Сколько мошенников выдвинулось благодаря этой дерзкой выходке! Наконец, тело похищено. Юродивые, женщины, дети голосят о чуде. Тем не менее в городе, где только что произошло множество чудес, в том самом городе, обагренном кровью Господней, никто не поверил в нового Бога – ни одного обращения в его веру. Более того, случай для современников оказался столь малозначительным, что ни один историк не удостаивает его упоминания. Выгоду из этого обмана удается извлечь только ученикам самозванца, и то не сразу.
Немало воды утечет, пока они сумеют распорядиться плодами бесчестного надувательства, выстроив на нем шаткое здание отвратительной своей доктрины. Людям нравятся перемены. Устав от деспотизма императоров, они нуждаются в очередной революции. К речам наших плутов начнут прислушиваться. И они добьются успеха. Такова история всех заблуждений. Вскоре алтари Венеры и Марса сменятся алтарями Иисуса и Марии; опубликуется жизнеописание самозванца; пошлый этот роман затуманит многие умы; Иисусу припишут сотни поступков, о которых он и не помышлял; несуразные его высказывания станут краеугольным камнем новой морали, обращенной преимущественно к сирым и убогим, так, первейшей добродетелью отныне будет признано милосердие. Учреждаются причудливые ритуалы, именуемые таинствами. Что может быть возмутительнее и подлее, чем погрязший в преступлениях священник, который, с помощью нескольких сокровенных слов, приобретает право призывать Бога к воплощению в кусочке хлеба!
Недостойный этот культ, несомненно, был бы задушен еще в зародыше, если бы с ним боролись, вооружившись презрением – вполне им заслуженным. Но к несчастью, его приверженцев стали преследовать, что с неизбежностью привело к укреплению их позиций. Падения христианства можно добиться лишь высмеиванием. И сегодня не поздно воспользоваться этим оружием, так поступает искусник Вольтер – и никому из писателей не похвастать большим числом прозелитов. Такова, Эжени, история Бога и религии. Теперь, надеюсь, вы правильно оцените эти басни и определите свое отношение к ним.
ЭЖЕНИ. Вы облегчили мне выбор; теперь я презираю религиозные бредни, а Бог, за которого я прежде цеплялась – из-за слабости и неведения – отныне внушает мне отвращение.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Поклянись мне никогда о нем не думать, никогда ему не служить, никогда к нему не взывать и позабыть о нем навек.
ЭЖЕНИ ( устремляясь на грудь госпожи де Сент-Анж). Приношу эту клятву в твоих объятьях! Ни секунды не сомневаюсь, что требования твои мне во благо – ты искренне желаешь, чтобы такого рода воспоминания не смущали мой покой.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Именно этими соображениями я и руководствуюсь.
ЭЖЕНИ. Дольмансе, наш разговор о набожности мы, кажется, начали с анализа добродетелей, не так ли? Вернемся к этому предмету. Нелепость религиозной морали очевидна, но скажите, предписывает ли она хоть какие-нибудь добродетели, способствующие нашему счастью?
ДОЛЬМАНСЕ. Хорошо, обсудим. Относится ли к таковым добродетелям целомудрие, чьим олицетворением вы, на сегодняшний день, являетесь, хотя одного взгляда ваших глаз довольно, чтобы бесследно его истребить? Признайтесь, считаете ли вы своим долгом бороться с позывами вашего естества? Готовы ли жертвовать ими ради смехотворной и ненужной девичьей чести? Гордиться тем, что ни разу не поддались даже минутной слабости? Будьте откровенны, дорогая подружка, вы действительно полагаете, что бессмысленное и вредное для здоровья соблюдение нравственной чистоты доставит вам удовольствие, сопоставимое с утехами, которыми одарит вас противостоящий ей порок?
ЭЖЕНИ. О нет, и слышать не желаю ни о какой чистоте! Во мне нет ни малейшего расположения к нравственности, к пороку же, напротив – безудержная тяга. Все же ответьте, Дольмансе, неужели нет на свете чувствительных душ, чье счастье составляет служение милосердиюи благотворительности?
ДОЛЬМАНСЕ. Держись подальше от этих добродетелей, Эжени, ибо порождают они одну лишь неблагодарность! Не обольщайся на сей счет, милая крошка: благотворительность – не искреннее движение добродетельной души, а порочное дитя гордыни. Ближних мы утешаем не ради совершения благого дела, а лишь из желания выставить себя в выгодном свете. Благотворитель вознегодует, если об оказанных им милостях не станет широко известно. И вовсе не обязательно, Эжени, что возвышенные деяния – как о том принято судить – непременно приведут к положительным результатам. Сам я склонен расценивать благотворительность, как величайший из обманов. Приучая бедняка к посторонней помощи, она сдерживает его жизненную энергию. Он не старается трудиться, поскольку рассчитывает на подачки, а коль ему в них отказано – становится вором или убийцей. Со всех сторон звучат голоса с требованием покончить с попрошайничеством, но тем не менее, по-прежнему делается все возможное для его приумножения. Хотите, чтобы у вас в комнате не было мух? Нечего привлекать их, рассыпая повсюду сахар. Хотите, чтобы во Франции не было нищих? Не раздавайте милостыню и упраздните дома милосердия. Поймите, лишить человека, рожденного в нищете, губительных этих вспоможений – истинное благо – ибо в этом случае, он не только употребит все свое мужество и все доставшиеся ему от природы способности, дабы вырваться из бедственного положения, но и перестанет докучать вам. Так что безжалостно разрушайте и сносите презренные заведения, скрывающие постыдные плоды нищенского распутства. Зловонные эти клоаки ежедневно изрыгают в общество новое отребье, уповающее исключительно на ваш кошелек. Во имя чего, спрашивается, столь рьяно оберегать подобных субъектов? Опасаетесь, что Франция обезлюдеет? Нашли чего бояться!
Одним из главных недостатков нашего государства является ничем не оправданное перенаселение. Оно ничуть не способствует процветанию державы, поскольку излишние и никчемные людишки подобны паразитирующим веткам, которые живут за счет ствола, в конце концов истощая его. Вспомните историю: стоило какой-нибудь стране допустить перевес числа населения над средствами своего существования – и она тотчас начинала чахнуть. Присмотритесь к Франции – именно это с ней сейчас происходит. Последствия не за горами. Китайцы куда мудрее нас – они научились облегчать бремя перенаселения. Никаких приютов для позорных плодов разврата: от них избавляются, как от отбросов пищеварения. В Китае не знают, что такое дома бедноты. Там все работают и все счастливы. Ничто не сдерживает энергии неимущего, и каждый может повторить вслед за Нероном: «Quid est pauper?».
ЭЖЕНИ ( обращаясь к госпоже де Сент-Анж). Дорогая, отец мой рассуждает точно, как господин Дольмансе, и за всю жизнь не сотворил ни одного доброго поступка. Он беспрестанно ругается с моей матерью – ей нравится выбрасывать деньги на такого рода мероприятия. Она даже вступила в «Материнское благотворительное общество» и в «Филантропический союз», трудно назвать ассоциацию, в которой она бы не состояла. Отец принудил ее прекратить все эти глупости, пригрозив, в противном случае, ограничить ее расходы и обречь на крайне скудный пенсион.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Подобные общества – при всей своей нелепости – весьма небезобидны, Эжени. Именно бесплатным школам и домам милосердия мы во многом обязаны теми страшными потрясениями, которые переживаем ныне. Заклинаю тебя, дорогая, никогда не подавай милостыню.
ЭЖЕНИ. Не беспокойся. Отец уже давно отучил меня от этого. Благотворительность слабо занимает меня, ради нее я не воспротивлюсь ни запретам отца, ни движениям моего сердца, ни твоим пожеланиям.
ДОЛЬМАНСЕ. Малой толикой мягкосердечия, доставшегося нам от природы, не стоит делиться ни с кем. И лучше уничтожить его ростки, нежели позволить им распространиться. Что мне до горестей других людей! Мало мне моих собственных – зачем же сокрушаться о чужих? Очаг чувствительности призовем к разжиганию наших удовольствий! Близко к сердцу станем принимать лишь то, что их подогревает, оставаясь абсолютно непреклонными ко всему остальному. Подобное состояние души порождает некоторую ожесточенность, не лишенную особой прелести. Беспрерывно творить зло – нам не под силу. Утрата приятных ощущений, которыми одаривает нас зло, частично уравновешивается незначительным, но острым наслаждением – никогда не совершать добра.
ЭЖЕНИ. Ах, Господи! Как воспламеняют меня ваши уроки! Теперь, наверное, меня и под страхом смерти не заставят совершить хоть какое-нибудь благодеяние!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. А вдруг представится случай учинить что-то дурное – ты им воспользуешься?
ЭЖЕНИ. Замолчи, искусительница. Ответ получишь только после окончания моей учебы. Выслушав все, что вы сказали, Дольмансе, я, кажется, разобралась: не важно, что вершить на земле – зло или добро. Главное – не изменять собственным вкусам и потакать своему темпераменту, ведь так?
ДОЛЬМАНСЕ. Несомненно, Эжени! Слова «порок» и «добродетель» выражают понятия узко локальные. Ни один поступок, сколь бы странным он ни казался, нельзя признать истинно преступным. Не бывает также и поступков однозначно добродетельных. Все обусловлено нашими нравами и климатом, в котором мы обитаем. То, что считается преступлением в данной местности, на расстоянии сотни лье зовется добродетелью. С таким же успехом, добродетели другого полушария именуются преступлениями у нас. Нет на свете зверства, которое не было бы кем-нибудь обожествлено, и нет добродетели, которая не была бы кем-нибудь заклеймена. Из этих незначительных, чисто географических, различий вытекает вывод: нас не должно заботить, как относятся к нам окружающие – с уважением или презрением. Следует быть выше этих пустых и необоснованных оценок, бесстрашно предпочитая людское презрение, если действия, его на нас навлекшие, доставляют нам удовольствие.
ЭЖЕНИ. Все же мне представляется, что существуют поступки действительно пагубные и предосудительные, которые повсюду расцениваются, как преступления и караются в любом уголке земного шара.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ни одного, любовь моя, ни единого, даже если речь заходит о насилии, инцесте, убийстве или отцеубийстве.
ЭЖЕНИ. Как! Где-то такие ужасы не осуждаются?
ДОЛЬМАНСЕ. Находятся страны, где они почитаются, увенчиваются лаврами и рассматриваются, как самые благие из деяний, в то же время в других местах все принятые у нас добродетели – человечность, чистота, благотворительность, целомудрие – расцениваются как крайне противоестественные.
ЭЖЕНИ. Пожалуйста, разъясните мне все это; остановитесь вкратце на каждом из преступлений, прежде всего, меня интересует ваше мнение о распутстве девушек и женском адюльтере.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Постарайся вникнуть в то, что я тебе скажу, Эжени. Уверения о том, что с момента выхода девочки из материнской утробы и до последнего ее вздоха ей следует оставаться жертвой родительской воли – полный бред. В наш век – век борьбы за расширение прав человека – обоснована полная химеричность родительской власти, так что не пристало юным девушкам считать себя рабынями своих семейств. В поисках ответа на интересующий нас вопрос, прислушаемся к голосу природы, и пусть примером нам послужат законы животного мира, весьма к ней приближенного. Разве у животных сохраняются родительские чувства после того, как удовлетворены первые физические потребности их потомства? Разве плод любви самца и самки не свободен и не полноправен? Разве не перестают узнавать своих детенышей творцы их дней, едва те начинают самостоятельно кормиться и передвигаться? И неужто молодым животным знакомо чувство долга перед теми, кто дал им жизнь? Конечно, нет. По какому же праву принуждают к иным обязанностям детей человеческих? И на чем, собственно, зиждутся эти обязанности? На честолюбии и скупости отцов. Итак, ответьте, справедливо ли применять подобные ограничения свободы по отношению к юным особам, едва начавшим самостоятельно мыслить и чувствовать? И в угоду отжившим предрассудкам продолжать держать их в цепях? Нелепо и смешно лицезреть, как пятнадцати – шестнадцатилетняя девушка вынуждена подавлять сжигающие ее желания и ждать, томясь муками, пострашнее адовых, пока родители, отравившие ей юность, соизволят принести в жертву и зрелые ее лета, дабы, руководствуясь лицемерным корыстолюбием, соединить дочь, помимо ее воли, с нелюбимым, а порой, и ненавистным супругом.
О нет, нет, Эжени! Так не будет продолжаться вечно – путы эти непременно исчезнут. По достижении сознательного возраста и получении государственного, а не семейного или монастырского образования, юную девушку следует отпустить из родительского дома. В пятнадцать лет пора становиться хозяйкой своей судьбы. Существует опасность, что девушка предастся пороку? Эка важность! Услуги, которые окажет юная особа, согласная осчастливить всех, кто ее об этом попросит, куда существеннее милостей, которыми она же – в насильственной изоляции от света – одарит своего супруга. Судьба женщины – быть сучкой, волчицей: принадлежит она всякому, кто ее захочет. Закабалять женщину бессмысленными оковами супружеской верности значит грубо оскорблять природное ее предназначение.
Будем надеяться, что глаза, наконец, откроются, и что, обеспечивая свободу всем индивидам, не позабудут об участи несчастных девушек; когда же юным особам надоест жаловаться на забвение – они сами поднимутся над обычаями и предрассудками, смело сбрасывая постыдные оковы, которыми их пытаются поработить – лишь в этом случае, им удастся преодолеть сложившиеся мнения и привычки; люди, вкусившие свободу, станут мудрее, они тотчас ощутят, как несправедливо презирать тех, кто живет в согласии с требованиями природы – и тогда поведение, предосудительное в глазах народа порабощенного, перестанет казаться таковым в глазах народа освобожденного.
Исходи из законности этих принципов, Эжени, разрывай цепи, чего бы это ни стоило; наплюй на пустые угрозы своей глупой мамаши: согласно законам естества, ты не должна испытывать к ней никаких чувств – только ненависть и презрение. Отец твой – распутник; пожелает насладиться тобой – в добрый час, лишь бы он не пытался привязать тебя к себе; заметишь, что норовит закабалить тебя – разбивай это ярмо; множество девушек поступают так со своими отцами. Словом, блуди и еще раз блуди; именно для этого ты рождена на свет; пусть удовольствия твои не знают иных границ, кроме пределов собственных твоих сил и желаний; неважно, где, когда, с кем – любая свободная минута, любое место, любой партнер – всё должно быть поставлено на службу сладострастию; воздержание – недопустимая добродетель: ущемленная в своих правах природа мстит за него множеством бед. Пока сохраняются законы, подобные нынешним, наслаждаться приходится украдкой – к тому нас вынуждает общественное мнение; что ж – под покровом тайны с лихвой доберем то, чего мы лишены, целомудренно держась на людях.
Юной девушке следует подыскать наперсницу – свободную, светскую, и та поможет ей тайно вкушать наслаждения; за неимением таковой, пусть сама пытается соблазнить приставленных к ней бдительных стражей и уговорить их проституировать ее, суля им все деньги, которые они извлекут, приторговывая ею; очень скоро то ли сами стражи, то ли подобранные ими женщины, именуемые своднями, станут исполнять любые желания девушки; ей же надлежит пускать пыль в глаза окружающим: братьям, сестрам, родителям, друзьям; ради сокрытия истинного своего поведения, допустимо – в случае необходимости – отдаваться всем подряд, смело жертвуя своими вкусами и привязанностями; случается, неприятная интрижка, в которую она ввязывается лишь по расчету, выводит на другую, более приятную, глядишь – девушка продвинута. Но для этого нужно раз и навсегда распрощаться с детскими предрассудками; надо обращать в прах все угрозы, увещевания, наставления, презревать и долг, и религию, и добродетель. Надо упорно пресекать любые уловки, направленные на наше закрепощение, словом, надо избавляться от всего, что не нацелено на приобщение к бесстыдству.
Родители любят потчевать нас нелепыми россказнями о несчастьях, якобы подстерегающих на стезе разврата; на колючки можно наткнуться повсюду, но карьера порока позволяет добраться и до роз, расположенных над шипами; на грязных же тропинках добродетели природа вообще не взращивает роз. Единственный подводный камень, которого многие опасаются, вступая на первую из означенных дорог – это общественное мнение; однако любая мало-мальски разумная девица непременно возвысится над жалким этим мнением. От всеобщего почета, Эжени, испытываешь лишь моральное удовлетворение, представляющее ценность только для людей определенного склада; удовольствия же от любодействанравятся всем, не говоря о том, что привлекательность сего занятия перевешивает неизбежное и незаслуженное презрение, на которое наталкиваются люди, осмелившиеся бросить обществу вызов; многие здравомыслящие женщины даже умудряются бравировать своей репутацией, извлекая из этого дополнительное наслаждение. Так что любодействуй, Эжени, любодействуй, мой дражайший ангел; тело твое в твоей власти; тебе одной принадлежит право полностью им распоряжаться, услаждая кого тебе угодно.
Пользуйся благоприятными ситуациями, лови момент – веселые года наших утех так скоротечны! В удел счастливицам, вволю насладившимся, достанутся прекрасные воспоминания, которые утешат их и скрасят им старость. А что выпадет на долю тех, кто упустил время?.. Душу им надорвут горестные мучительные сожаления, которые, вкупе со старческой немощью, слезами и терниями, отравят последние предсмертные их лета...
Быть может, ты одержима идеей заслужить бессмертие? Что ж, и в этом случае, моя милая, в памяти людей ты останешься лишь в звании блудницы. Лукрецию очень скоро позабыли, в то время, как Феодора и Мессалина – у всех на устах. Как же не предпочесть, Эжени, участь, которая, венчает нас цветами на этом свете и оставляет надежду и на будущее поклонение после смерти! Как же, повторяю, не предпочесть ее иной участи, обрекающей нас на жалкое прозябание в жизни земной и, по сошествии в могилу, не сулящей ничего, кроме презрительного забвения?
ЭЖЕНИ ( госпоже де Сент-Анж). Ах! Бесценная моя, обольстительные твои речи воспламеняют мне и сердце, и голову! Я так взволнована, не передать словами... скажи, могла бы ты меня познакомить с какими-нибудь женщинами... ( смущаясь), которые проституировали бы меня, если я их об этом попрошу?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. До тех пор, пока ты не наберешься опыта, Эжени, я одна обо всем позабочусь; доверься мне, а уж я приму меры предосторожности и прикрою твои прегрешения; желательно, чтобы первыми твоими мужчинами стали мой брат и наш надежный друг, поучающий тебя; после мы подыщем и других. Не беспокойся, крошка: я научу тебя порхать от услады к усладе, я окуну тебя в океан восторгов, ты будешь переполнена, пресыщена впечатлениями!
ЭЖЕНИ ( бросаясь на шею госпоже де Сент-Анж). О, милая, как я тебя обожаю! Возьмись за меня – и не будет у тебя ученицы послушней. Но, если не ошибаюсь, ты только недавно говорила, что девушке, предающейся разврату, впоследствии трудно будет скрыть это от своего супруга?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Это правда, милочка, но не печалься – известны тайные средства, помогающие заштопать любые бреши. Я обязательно ознакомлю тебя с ними. И тогда, будь ты даже пробита вдоль и поперек, как Антуанетта, я берусь вернуть тебе девство, с которым ты пришла в этот мир.
ЭЖЕНИ. Ах, какая ты замечательная! Продолжай свои наставления. Теперь объясни мне, коль об этом зашла речь, как следует себя вести женщине замужней.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Запомни, дорогая, каким бы ни было семейное положение женщины, будь она девица, дама или вдова – не существует для нее иной цели, иной работы и иного желания, кроме занятий любовью с утра и до вечера. Именно для этого она создана природой. Для исполнения главного предназначения женщины от нее требуется: попирать ногами детские предрассудки, проявлять категорическое неповиновение родительским наказам, непоколебимо презирать наставления близких, еще важнее всего перечисленного, решение женщины покончить с первейшими из пут – путами брака.
Ты только представь, Эжени, как юную особу, едва покинувшую отчий дом или пансион, не имеющую ни малейшего жизненного опыта, внезапно вынуждают перейти в объятия мужчины, которого она ни разу не видела прежде, и обязывают у подножия алтаря поклясться этому человеку в послушании и верности, что само по себе бесчестно, поскольку, в глубине души она горячо желает нарушить данное слово. Что в мире страшнее такой участи, Эжени? И вот, она связана обязательствами независимо от того, нравится ей муж или нет, нежен он с ней или груб; долг чести требует соблюдения верности, нарушь она клятву – репутация её запятнана; выходит, женщина либо обесчещена, либо до конца дней тащит на себе ярмо брачной жизни, сколь бы мучительным оно ей ни казалось. Ну уж нет, Эжени! Не для такого финала мы рождены; не пристало нам подчиняться дурацким законам, выдуманным мужчинами. Ты спросишь, а спасет ли нас развод? Никоим образом. Кто поручится за то, что во втором брачном союзе мы обретем счастье, ускользнувшее от нас в первом супружестве? Раз уж мы вынуждены терпеть бессмысленные эти узы – возместим свои утраты втайне, и не тревожься: шалости наши, сколь бы далеко они ни простерлись, не нанесут вреда природе, став лишь искренней данью уважения к ней; следовать законам природы – значит уступать желаниям, которые она в нас вложила; и оскорблением для природы явилось бы именно противление ее замыслам. Мужчины расценивают супружескую измену, как преступление, доходя до того, что карают неверных жен лишением жизни, хотя адюльтер, Эжени, есть не что иное, как погашение долга перед природой, и мы не позволим этим тиранам самовольно лишать нас естественного нашего права. «Разве не отвратительно поступают жены, – вопрошают наши мужья, – подставляя под отеческие заботы и ласки плоды своего распутства?» Таков довод Руссо. Это, пожалуй, единственное сколько-нибудь правдоподобное возражение против адюльтера. Но ведь это проще простого – предаваться разврату, не подвергая себя риску беременности! Ничуть не труднее избавляться от ее последствий, если все же допущена оплошность. Впрочем, к данному предмету мы еще вернемся, так что сейчас коснемся лишь сути. И тогда станет очевидным, насколько несостоятелен аргумент, вначале показавшийся правдоподобным.
Итак, пока я сплю с мужем, пока его семя проливается в глубь моей матки – пусть в этот же период я встречаюсь еще с десятью мужчинами на стороне – никто и ничто ему не докажет, что появившееся на свет дитя ему не принадлежит; ребенок либо от него, либо от кого-нибудь другого, и даже в случае неуверенности, муж (раз он принимал участие в зачатии означенного существа) не вправе колебаться и должен признать его своим. Дитя, способное произойти от мужа, принадлежит мужу, и всякий, кто терзается сомнениями на сей счет, обречен на вечные муки, будь он женат хоть на весталке, ибо нельзя поручиться ни за какую женщину: десять лет являя собой образец добропорядочности, она в одночасье перестает быть таковой. Словом, подозрительный супруг всегда найдет повод для подозрений и никогда не обретет уверенности, что обнимает собственного своего ребенка. А коли так – вполне допустимо, время от времени, подтверждать на деле мужнины догадки: сие ничто не изменит в его поведении и не сделает его ни счастливей, ни несчастней. Предположим, мужа действительно ввели в заблуждение: он холит и лелеет плод распутства своей жены. В чем, собственно, состав преступления? Разве у супругов не общее имущество? А в таком случае, совершаю ли я зло, вводя ребенка в семью, где ему по праву принадлежит часть нашего общего добра? Ребенок будет пользоваться моей долей, ничего при этом не украв у дражайшего супруга; то, что достанется малышу, я рассматриваю, как вступление во владение моим приданым; то есть, оба мы ни в чем не ущемляем интересов мужа. Будь ребенок законным, на каком основании он претендовал бы на часть моего состояния? Не в силу ли того, что произошел он от меня? А значит, на том же основании, с полным правом пользуется материнской долей имущества и ребенок, родившийся от интимной связи. Так или иначе, я предоставляю часть своих богатств тому ребенку, который принадлежит мне.
В чем меня упрекают? Ребенок ничем не обделен. «Но ведь вы изменяете мужу, лицемерие ваше чудовищно». – Ничего подобного, я просто возвращаю долги; он первый меня одурачил, насильно заковав в брачные цепи: вот я и мщу, чего же проще?
«Вы наносите ощутимый ущерб своему супругу, не дорожите его честью». – Отживший предрассудок! Беспутство мое никак не затрагивает мужа; мои прегрешения – мое личное дело. А так называемое бесчестье – понятие столетней давности, в наши дни пора отделываться от этой иллюзии, так что супруг мой обесчещен моим развратом ничуть не больше, чем я – его собственным. Да отдайся я хоть всем мужчинам земли – на муже моем не будет ни царапинки! Следовательно, пресловутый ваш «ущерб» – пустой вымысел, не имеющий ничего общего с реальностью. Одно из двух: либо супруг мой грубиян и ревнивец, либо – человек деликатный; в первом случае, лучшее, что я в силах придумать – отомстить за дурное обхождение; во втором – я нисколько не огорчу своего супруга, ибо буду вкушать наслаждения, отчего он, как человек благородный, будет только счастлив: натура деликатная, несомненно, порадуется блаженству, испытываемому любимым существом.
«А если вы любите мужа, неужели вы согласитесь, чтобы и он поступал так же»? – Ах, горе той женщине, которая заберет себе в голову ревновать своего мужа! Если она его любит – пусть довольствуется тем, что он ей дает, не оказывая на него никакого давления; ничего не добившись, она вызовет с его стороны только ненависть. Будь жена благоразумна – ее не удручит распутство мужа. Если он последует ее примеру – в семье воцарится мир и согласие.
Подведем итоги: положим, адюльтер завершается введением в дом детей, не принадлежащих мужу – в любом случае, это дети жены, а значит, они обладают неоспоримыми правами на часть ее приданого; если муж осведомлен, он должен рассматривать их, как детей от первого ее брака; если он ни о чем не догадывается, то не почувствует себя несчастным, ибо нераскрытое зло не способно причинить страдание; если адюльтер не имеет последствий и неизвестен мужу, никакой юрисконсульт не докажет здесь состава преступления; и тогда супружеская неверность оказывается совершенно безразличной для мужа, ничего о ней не ведающего, и чрезвычайно приятной для жены, которая ею наслаждается; если муж обнаруживает супружескую измену, то злом представляется вовсе не адюльтер – только что мы выявили, что он, по сути, таковым не является – а его обнаружение, то есть природа адюльтера в обоих случаях неизменна, и зло заключено лишь в факте его раскрытия обманутым супругом; выходит, вина падает исключительно на самого мужа: жена тут ни при чем.
Сторонников осуществляемых в прежние времена суровых наказаний за супружескую измену можно смело назвать палачами, тиранами и ревнивцами, пекущимися исключительно о себе и несправедливо полагающими, что женщина, осмелившаяся их задеть, тотчас становится преступницей – будто личная обида непременно должна расцениваться как преступление – хотя, по правде говоря, безосновательно провозглашать преступными действия, не наносящие вреда ни природе, ни обществу, а, скорее, наоборот, идущие им на пользу. Ничуть не более предосудителен и легко обнаруживаемый адюльтер, когда, например, супруг – импотент, либо приверженец вкусов, препятствующих размножению. У женщины возникают дополнительные неудобства, поскольку гулящей жене – при муже, не способном на нормальное семяизвержение – нелегко скрыть свое распутство. Но должно ли это ее смущать? Нет, разумеется. Просто следует позаботиться о том, чтобы не забеременеть и вовремя вытравить плод, если меры предосторожности не сработают. Порой пренебрежение мужа обусловлено его противоестественными вкусами – тогда мудрая жена возместит нанесенный ей урон. Сначала удовлетворит мужа, какими бы отвратительными ни казались его капризы; затем даст понять, что подобная любезность заслуживает особого вознаграждения, и, в уплату за свои услуги, потребует полной свободы. Муж либо согласится, либо нет; если согласится, как поступил мой супруг – даешь себе полную волю, удваивая заботы о нем и снисходительность к его причудам; откажется – преспокойно блудишь, сгущая покров тайны. Муж импотент? Проживаешь с ним раздельно, не отказывая себе ни в чем. В общем, блудишь независимо ни от чего, моя милая, ибо мы созданы для блуда – исполним же предначертания нашего естества и удостоим презрения всякий закон человеческий, противоречащий законам природы.
До чего глупа женщина, которую бессмысленные путы брака удерживают от следования своим склонностям, которая страшится всего на свете: беременности, оскорбления мужниной чести или, что еще хуже, пятна на своей репутации! Ведь ты уже убедилась и почувствовала, Эжени, какая она, право, идиотка, раз столь бездарно, в угоду нелепым предрассудкам, разрушает и счастье свое, и наслаждение. Ах, лучше бы эта дура отдавалась направо и налево! Крупица ложной славы, пустые надежды на рай – ничтожная плата за ее жертвы.
Нет-нет, ей не воздастся – в гробу смешаются все понятия о добре и зле! По прошествии нескольких лет общество превознесет былые пороки и проклянет былые добродетели. О нет, и еще раз нет! За безрадостную свою жизнь страдалица, увы, не обретет награды после смерти!
ЭЖЕНИ. Ты меня уговорила, мой ангел! Раздавила мои предрассудки! Сокрушила все ложные принципы, втолкованные моей мамашей! Ах, прямо завтра вышла бы замуж, так мне не терпится применить на практике твои максимы. Они подкупают своей подлинностью, я уже люблю их всей душой! Одно только настораживает в твоих словах, моя милая, объясни, умоляю. Ты говоришь, что твой муж в постели ведет себя так, что от него никогда не появятся дети. Пожалуйста, расскажи, что же он с тобой делает?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Когда я вышла замуж, супруг мой был уже немолод. В первую же брачную ночь он посвятил меня в свои фантазии, уверив, что и он, со своей стороны, готов уважительно отнестись к любым моим причудам. Я поклялась покорно исполнять его прихоти, и с той поры мы с ним зажили в согласии – каждый наслаждается свободой. Пристрастие моего мужа состоит в том, что он заставляет себя сосать. И не просто так, а со своеобразным дополнением: все то время, пока я, склоняясь над ним и располагая ягодицы над его лицом, рьяно откачиваю из его яиц сперму, мне надлежит испражняться ему в рот!.. И он проглатывает!..
ЭЖЕНИ. Ну и странная фантазия!
ДОЛЬМАНСЕ. Ни одно пристрастие нельзя расценивать, как странное, моя дорогая; все они исходят от природы; ей угодно было, при сотворении людей, разнообразить как лица их, так и вкусы, а значит, несходство наших причуд должно удивлять нас ничуть не более, чем различие наших черт. Фантазия, о которой поведала ваша подруга, нынче входит в моду; множество мужчин, преимущественно пожилого возраста, являются преданнейшими ее поклонниками. Неужели вы, Эжени, отказали бы, попроси вас кто-нибудь о таком?
ЭЖЕНИ ( краснея). Согласно внушенным мне здесь правилам, нельзя отказывать в чем бы то ни было, не так ли? Прошу простить мое излишнее изумление; ведь я впервые узнаю о подобных проделках, и мне еще предстоит постичь их суть; смею, однако, уверить моих наставников: от осмысления преподанного урока до претворения его в жизнь пройдет ровно столько времени, сколько они сочтут необходимым. И что же, бесценная моя, благодаря подобной снисходительности, ты добилась свободы?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Полнейшей свободы, Эжени. Я вытворяла все, что вздумается, он ни в чем не чинил мне препятствий, однако превыше всего ценя удовольствие, я не заводила постоянного любовника. Незавидна участь женщины, отважившейся на сердечную привязанность! Один любовник – и она погублена, в то время, как десять развратных сценок, возобновляемых ежедневно – если ей это по вкусу – едва отыгравшись, растворяются во мраке безмолвия. Я была богата: платила юношам, и они обслуживали меня, не спрашивая, как меня зовут; я окружила себя миловидными лакеями, строго их предупредив: будут держать язык за зубами – вкусят со мной нежнейшие утехи, проболтаются – будут безжалостно изгнаны. Не представляешь, ангелок мой дорогой, в какой омут сладострастия я окунулась! Всем женщинам, желающим воспользоваться моим опытом, советую вести себя именно так. За двенадцать лет брака я пропустила через себя примерно десять-двенадцать тысяч человек... Точно не припомню... В обществе же я слыву добронравной! А та, кто предпочитает постоянных любовников, попадается уже на второй интрижке.
ЭЖЕНИ. Правило это, похоже, самое надежное; постараюсь получше усвоить его; я тоже выйду замуж за богача, одержимого какой-нибудь фантазией... Но, признайся, дорогая, неужели твой муж строго придерживается своих вкусов и никогда не требует от тебя чего-то иного?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Никогда. Все двенадцать лет он ни разу не изменил своей привычке, за исключением тех дней, когда у меня менструация. Тогда он просит, чтобы я привела с собой какую-нибудь красотку, та подменяет меня – и все устраивается наилучшим образом.
ЭЖЕНИ. Вряд ли он этим довольствуется; наверное, он старается разнообразить свои утехи на стороне?
ДОЛЬМАНСЕ. Даже не сомневайтесь, Эжени, супруг мадам известен, как один из величайших распутников нашего века; на удовлетворение непристойных вкусов, только что описанных вашей подругой, он тратит ежегодно свыше ста тысяч экю.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. По правде сказать, думаю, это не совсем так; а, впрочем, что мне до его похождений, чем их больше, тем вернее оправдываются и покрываются собственные мои грешки.
ЭЖЕНИ. Остановись поподробнее, прошу тебя, на том, как молодой особе, замужней или незамужней, предохранить себя от беременности, меня это, признаться, очень страшит, как в браке с будущим супругом, так и на стезе разврата; в рассказе о пристрастиях твоего мужа ты указала один из таких способов; однако подобное наслаждение, видимо, весьма приятное для мужчины, на мой взгляд, вряд ли доставляет особую радость женщине, а мне хочется научиться вкушать наши, чисто женские удовольствия, не подвергая себя риску забеременеть.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Опасность зачать ребенка возникает только тогда, когда девушка допускает проникновение спермы во влагалище. Ей следует старательно этого избегать, подставляя взамен все, что угодно: свою руку, свой рот, свои сиськи, свой задний проход. Избрав последнюю дорожку, она вкусит бездну наслаждений, куда более острых, чем все остальные; другими способами она в большей мере доставит удовольствие не себе, а партнеру.
Рассмотрим все по порядку, начиная с руки; недавно ты убедилась воочию, Эжени – ею нужно встряхивать орган своего дружка так, словно ты накачиваешь насос, такие движения приводят к выбросу спермы; все это время мужчина целует тебя, ласкает, изливая свой сок на ту часть твоего тела, которая ему больше всего нравится. Предпочитаешь между грудей? Ложишься на кровать, помещаешь мужской член между сиськами и зажимаешь его – партнер, совершив несколько толчков, извергается, затопляя тебе соски, а порой и лицо. Этот способ – наименее сладострастный из всех и годится для женщин, чья грудь уже достаточно разработана, чтобы умело сжимать и сдавливать член. Использование рта куда приятнее – как для женщины, так и для мужчины.
Наивысшее наслаждение ртом достигается так: женщина ложится валетом на тело любовника: он вставляет свой кляп ей в рот, голова его оказывается между ее ляжек, и он языком вонзается ей во влагалище или водит им по клитору, возвращая ей то, чем ублажает его она. В этой позе каждому желательно ухватиться за ягодицы партнера и пощекотать друг дружке задний проход – незаменимое дополнение, усиливающее взаимную страсть. Пылкие любовники с богатым воображением проглатывают изливающийся им в рот сок и испытывают изысканное наслаждение, поглощая драгоценный сей бальзам, злорадно утаенный от общепринятого назначения.
ДОЛЬМАНСЕ. Эта поза восхитительна, Эжени. Рекомендую испробовать. Надругательство над диктатом размножения и над тем, что невежды понимают под законами природы, и впрямь необычайно заманчиво. Кстати, и ляжки, и подмышки порой не прочь приютить мужской член и предоставить убежища, где он прольет свое семя, исключая всякий риск оплодотворения.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Одни женщины вводят в глубину влагалища губки, впитывающие сперму и препятствующие ее проникновению в детородный сосуд; другие заставляют своих партнеров применять мешочки из венецианской кожи, обычно называемые «кондомами», куда собирается семя, не достигшее конечной цели; однако среди всех ухищрений наилучшим, бесспорно, следует признать использование заднего прохода. Возможность порассуждать на эту тему предоставляю вам, Дольмансе. Кто лучше вас опишет страсть, ради которой вы – если потребуется – и жизни не пожалеете?
ДОЛЬМАНСЕ. Это моя слабость – сознаюсь. И уверяю: нет в мире удовольствия возвышенней; обожаю забавляться с представителями любого пола; хотя юношеский зад все же дарит ощущения более сладостные, нежели девический. Тех, кто предается такой страсти, называют содомитами; удостоился звания содомита, так уж будь им до конца. Всаживать в женские задницы – значит быть им только наполовину: природа повелевает, чтобы фантазию эту мужчина удовлетворял с мужчиной; именно в расчете на мужчин прививает она такой вкус. Утверждение о том, что эта мания для природы оскорбительна, не выдерживает критики. Зачем природа побуждает потакать импульсам, которыми сама же нас и наделила? Продиктует ли природа нечто, способное ее принизить? Нет, Эжени, тысячу раз нет; будучи содомитом, ты служишь природе ничуть не менее преданно, чем не будучи таковым, а возможно, еще более свято. Размножение – всего лишь уступка с ее стороны. Как может она предписать, в качестве непреложного закона, действие, отнимающее у нее право на всесилие? С помощью размножения осуществляется проведение в жизнь первоначальных ее замыслов. В случае полного разрушения рода человеческого главной задачей природы станет создание новых существ, намного совершеннее прежних. И кто знает, вдруг новое сие творение окажется куда более лестным для ее гордости и могущества?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Знаете, Дольмансе, с такой системой вы, пожалуй, докажете, что полное пресечение рода человеческого явилось бы ценной услугой, оказанной природе, я права?
ДОЛЬМАНСЕ. Какие могут быть сомнения, мадам?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. О, небо праведное! По-вашему, войны, чума, голод, убийства – все это напасти, легко укладывающиеся в необходимые закономерности природы, и человек, выступивший в роли их орудия – не преступник, а оказавшийся страдающей стороной – не жертва?
ДОЛЬМАНСЕ. Человек, сгибающийся под ударами несчастливой судьбы, безусловно, жертва; преступником же нельзя назвать никого. Мы еще вернемся к этим вопросам, а пока разучим с нашей прекрасной Эжени все тонкости содомского наслаждения – вот предмет нашей беседы. Самое распространенное положение женщины в этом виде удовольствия – лечь ничком на край кровати, хорошенько раздвинуть ягодицы и как можно ниже опустить голову. Истинный распутник, налюбовавшись открывшейся его взорам прекрасной жопой, пошлепает ее, помнет, а порой и отстегает, исцарапает, искусает, после чего смочит своим ртом крошечное отверстие, которое ему предстоит пронзить, кончиком языка, подготавливая ввод; не забудет он и увлажнить слюной или мазью главный свой снаряд, после чего бережно приставит его к желанной дырочке; одной рукой введет его, а другой раздвинет прелестные ягодицы партнерши; едва ощутив проникновение члена, с жаром втолкнет его вглубь, остерегаясь утратить завоеванные позиции; порой это доставляет женщине боль, особенно, если она молода и неопытна; но, нисколько не считаясь с ее страданием, которое вскоре сменится наслаждением, нападающий столь же мощно вбивает свой таран, пока тот не достигнет цели, то есть пока волосы, окаймляющие снаряд, не станут тереться о края ануса захваченного им объекта. Тогда он стремительно продолжит свой путь; шипы уже пройдены; остались только розы. Дабы окончательно превратить боль, испытываемую другой стороной, в удовольствие, необходимо – если это юноша – ухватиться за его член и покачать его; если вы с девушкой – пощекочите ей клитор; такие ласки вызовут сладостное сжатие анального кольца партнера, что, в свою очередь, удвоит наслаждение нашего героя – и преисполненный похотливого восторга, усиленного столькими ухищрениями, он, наконец, сбросит в глубь вожделенной жопы обильный поток густой спермы. Впрочем, находятся распутники, коих ничуть не заботит удовольствие партнера; мы еще порассуждаем о природе этого явления.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Разрешите и мне на минутку побыть школьницей и ответьте, Дольмансе, дабы дополнить и усилить наслаждение атакующего, в какое состояние следует привести зад его партнера?
ДОЛЬМАНСЕ. Разумеется, в состояние переполненности; очень важно, чтобы используемый для утех объект испытывал неодолимое желание испражниться, тогда кончик копья нападающего достанет до кала и, погружаясь в него, мягче и плавнее извергнет семя в жаркую вожделенную почву.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. А я всегда беспокоилась, что это ослабит удовольствие партнера.
ДОЛЬМАНСЕ. Ошибочное представление! Наслаждению такой силы ничто не в силах повредить, и даже тот, кому отведена пассивная роль, равно возносится на седьмое небо. Это услада, не знающая равных по полноте ощущений для обеих сторон, ей предающихся, и испробовавший ее хоть раз, с трудом возвращается к прежним утехам. Таков, Эжени, наилучший способ вкусить удовольствие с мужчиной, не рискуя забеременеть; не забывайте и о других приемах: приятно не только подставлять мужчине задницу, как я вам только что объяснял, но и сосать его, качать, и так далее – я знавал немало развратниц, предпочитавших милые сии шалости утехам основательным и реальным. Фантазия – вот истинный побудитель наших удовольствий; в делах такого свойства бал правит воображение; именно оно одаривает нас восторгами, привнося в них особую остроту.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Пожалуй. Все же предостережем Эжени; воображение служит во благо лишь тому, чей ум совершенно свободен от предрассудков: одного-единственного предрассудка довольно для охлаждения любого азарта. Сия своеобразная частица нашего интеллекта отличается неудержимой блудливостью; разрывание всяческих пут, препятствующих полету фантазии – величайшее завоевание и возвышеннейшая радость человеческая; ибо фантазия – ярая противница любых правил, поклонница беспорядка, а также всего, что несет отпечаток недозволенности; пример тому – своеобразная отповедь одной дамы, не лишенной находчивости: как-то в постели с мужем она поразила его чрезвычайной своей прохладностью; «Отчего в вас столько льда?» – недоумевал супруг. – «О, это неудивительно! – ответила сия занятная персона. – Все, что вы проделываете со мной, крайне незамысловато».
ЭЖЕНИ. Ее ответ сводит меня с ума... Ах, милая, как я жажду познать этот божественный беспорядок необузданного воображения! С той поры, как мы вместе... только с той минуты, ах нет, нет, драгоценная моя, ты даже не представляешь, что за сластолюбивые замыслы взлелеял мой ум... О, как глубоко я постигаю суть зла!.. Как его алчет мое сердце!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Отныне, Эжени, не сторонись жестокостей, ужасов и самых невероятных злодейств; чем они бесчестнее, запретнее, грязнее – тем сильнее от них разгорячаются наши головы... и тем упоительнее мы испускаем любовный сок.
ЭЖЕНИ. Скольким же немыслимым извращениям вы оба предавались! Как мне не терпится услышать подробности!
ДОЛЬМАНСЕ ( целуя и щупая юную особу). Прекрасная Эжени, к чему рассказывать о том, что я уже натворил, для меня во сто крат приятнее испробовать на вас то, что мне еще хотелось бы сотворить.
ЭЖЕНИ. Не знаю, пойдет ли мне на пользу, если я соглашусь решительно на всё.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Я бы тебе не советовала, Эжени.
ЭЖЕНИ. Что ж, в таком случае, избавлю Дольмансе от описания подробностей; но тебя, любезная подружка, умоляю: поделись воспоминаниями о самых необыкновенных твоих приключениях!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Я вела игру одна против пятнадцати мужчин попеременно; за двадцать четыре часа я была атакована девяносто раз, и спереди, и сзади.
ЭЖЕНИ. Но ведь это просто оргии, любовные подвиги: бьюсь об заклад, на твоем счету отыщется кое-что и попричудливей.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Я была в борделе.
ЭЖЕНИ. Что означает это слово?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Бордель – это публичный дом, где за определенную плату каждому мужчине предоставляют юных прелестниц, готовых удовлетворить его прихоти.
ЭЖЕНИ. И ты, моя хорошая, отдавалась в борделе?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Да, там я выступала в роли шлюхи; целую неделю ублажала распутников всех мастей, насмотревшись на самые неожиданные фантазии; развратничала по примеру знаменитой императрицы Феодоры, супруги Юстиниана, [1]приставая к прохожим на улицах, в парках... а вырученные от проституции деньги разыгрывала в лотерею.
ЭЖЕНИ. Милая, зная, как устроена твоя голова, я не сомневаюсь – ты заходила и гораздо дальше.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Возможно ли зайти дальше?
ЭЖЕНИ. Да, да, еще как! Я так себе мыслю: не внушала ли ты мне, что самыми восхитительными умственными впечатлениями мы обязаны своей фантазии?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Действительно, я это утверждала.
ЭЖЕНИ. Отлично! Значит, давая волю воображению и позволяя ему преступать любые границы, предписанные религией, стыдом, человеколюбием, добродетелью, так называемым долгом, мы, тем самым, добиваемся неистового буйства фантазии, не так ли?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Именно так.
ЭЖЕНИ. Получается, накал нашего возбуждения зависит от степени свободы нашего воображения?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Нет ничего справедливей этих слов.
ЭЖЕНИ. Раз так, то чем больше встрясок и неистовых волнений мы желаем испытать, тем больший простор следует предоставить нашему воображению, направив его по самому непредвиденному пути... Соразмерно с обогащением ума усилится наше наслаждение, и вот тут-то...
ДОЛЬМАНСЕ ( целуя Эжени). Восхитительная крошка!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Наша озорница делает успехи, и в такое короткое время! А известно ли тебе, милочка, куда заводит намеченная тобой дорожка?
ЭЖЕНИ. Прекрасно понимаю, о чем говорю, ты предписала мне разрыв всяческих пут, и я догадываюсь, до чего можно дойти.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. До преступлений, маленькая разбойница, самых страшных и самых темных преступлений.
ЭЖЕНИ ( тихим прерывающимся голосом). Но ведь ты уверяешь, что преступлений не существует... и потом, это просто для разгорячения головы, а не для совершения.
ДОЛЬМАНСЕ. Все же приятно порой исполнять то, что намечаешь.
ЭЖЕНИ ( краснея). Значит, для совершения... Не хотите ли вы, дорогие наставники, уверить меня, что вам никогда не случалось осуществлять то, что вы нафантазировали?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Мне подчас доводилось.
ЭЖЕНИ. Ну наконец-то!
ДОЛЬМАНСЕ. Какая сообразительная!
ЭЖЕНИ ( продолжая). Признайся же, что именно ты замыслила и что после этого предприняла.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ ( запинаясь). Как-нибудь, Эжени, я поведаю тебе историю своей жизни. А сейчас лучше нам перейти к просветительству... Иначе ты вытянешь из меня такие откровения...
ЭЖЕНИ. Ладно, вижу, ты любишь меня еще не настолько, чтобы раскрыть свою душу; но ничего, я дождусь назначенного тобой срока; вернемся к прерванному разговору. Скажи, дорогая, кто тот счастливец, которого ты удостоила чести стать хозяином твоих первинок?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Мой брат; он обожал меня с детства; еще в юные годы мы частенько забавлялись, не достигая конечной цели; я пообещала отдаться ему, как только выйду замуж, и сдержала слово; к счастью, супруг мой так ничего и не повредил, так что брат сорвал всё. Мы до сих пор продолжаем нашу интрижку, ни в чем друг друга не стесняя; каждый окунается в восхитительную пучину разврата на стороне; мы оказываем взаимные услуги: я добываю для него женщин, а он знакомит меня с мужчинами.
ЭЖЕНИ. Прекрасно устроились! Но разве инцест – не преступление?
ДОЛЬМАНСЕ. Как можно называть преступными задушевнейшие союзы, предписанные и освященные самой природой! Поразмыслите хоть немного, Эжени: после неисчислимых невзгод, перенесенных земным шаром, могло ли человечество заново воспроизвестись, не прибегая к кровосмесительству? Не находим ли мы множество тому подтверждений даже в книгах, почитаемых христианами? Какое иное средство, кроме инцеста, способствовало бы продолжению рода Адама и Ноя? [2]Поройтесь в документах, изучите людские нравы: в самых различных странах вы обнаружите дозволенный инцест, кое-где даже принимались мудрые законы о кровосмешении как способе укрепления семейных связей. Любовь, как известно, возникает вследствие сходства душ, разве не очевидно, что наивысшее слияние душ достигается именно в отношениях брата и сестры, отца и дочери? Вытеснением инцеста из свода наших нравственных устоев мы обязаны неразумным политикам, опасающимся чрезмерного усиления отдельных семейств; но не до такой же степени мы ослеплены, чтобы принять чьи-то мелкие интересы и амбиции за всеобщие законы природы; спросим у собственного сердца: именно к нему я отсылаю наших педантов-моралистов; обратимся к священнейшему из органов – и признаем: нет на свете ничего нерушимее внутрисемейных плотских уз; довольно ложных иллюзий относительно истинных чувств брата к сестре и отца к дочери. Напрасно и в том, и в другом случае прикрываться маской узаконенной нежности: речь идет о неистовой страсти, вложенной в их сердца природой. Прочь страхи – удвоим, утроим число упоительных кровосмесительных связей, удостоверяясь вновь и вновь: чем ближе родство с вожделенным предметом, тем ярче наслаждение.
Один мой приятель сожительствует с дочерью, которую завел от собственной матери; на прошлой неделе он растлил тринадцатилетнего мальчика, прижитого им от этой дочери; пройдет несколько лет – и этот юноша женится на своей матери; таковы планы моего друга; детям своим он уготовил судьбу, подобную своей; сам он еще достаточно молод и не теряет надежды воспользоваться плодами устроенного им брачного союза. Призадумайтесь, милая Эжени, будь хоть зерно истины в предрассудке, усматривающем зло в этих связях, сколько преступлений вменили бы в вину этому почтенному человеку. Словом, в делах такого рода я всегда придерживаюсь принципа: если бы природа пожелала запретить содомию, инцест, мастурбацию и прочее, то она не позволила бы нам испытывать от этого столько наслаждения. Природа ни за что не потерпела бы того, что действительно наносит ей оскорбление.
ЭЖЕНИ. О, наставники мои, вы просто божественны! Впитывая ваши принципы, я убеждаюсь: настоящих преступлений на земле совсем немного, так что нужно без страха потворствовать любым своим капризам, какими бы необоснованными ни казались они невеждам, которые возмущаются и бьют тревогу по всякому поводу – с присущей им ограниченностью, они путают общественные условности с непреложными законами природы. Все же ответьте, друзья мои, существуют ли поступки совершенно недопустимые – однозначно преступные, пусть даже продиктованы они самой природой? Готова согласиться: она невероятно изобретательна в своем творчестве, награждая склонностями самыми непредсказуемыми, и нередко подталкивает нас на жестокости; если же, поддавшись прихоти, мы уступаем внушениям своенравной матери-природы столь безмерно, что – как я подозреваю – не останавливаемся даже перед покушением на жизнь себе подобных, то в таком случае, надеюсь, вы определяете данное действие как преступление?
ДОЛЬМАНСЕ. Никак не соглашусь с таким предположением, Эжени. Разрушение – один из первейших законов природы, а значит, ничто из ведущего к распаду, не вправе считаться преступным. Оскорбительно ли для природы то, что исправно ей служит? Впрочем, столь лестная для смертного роль разрушителя – не более, чем химера; убийство – далеко не гибель, тот, кто его совершает, лишь варьирует формами; он просто возвращает природе исходные элементы, дабы та, искусной своей рукой, воссоздавала новые существа. Творчество – великая радость для того, кто ему предается; убийство же готовит природе условия для творчества, поставляя ей материалы, которые та мгновенно перерабатывает, так деяние, безрассудно порицаемое глупцами, приобретает ценность в глазах универсальной сей созидательницы. Возведение убийства в ранг преступления – несуразность, порожденная нашей гордыней. Возомнив человека венцом всякого творения, мы забрали себе в голову, что любой ущерб, нанесенный созданию столь возвышенному, непременно явится страшным преступлением, мы сами себе внушили: природа непременно зачахнет, если неповторимый род людской исчезнет с лица земли, хотя в действительности полное уничтожение людей вернет природе частично отобранную ими созидательность, высвобождая энергию, которую она тратит на их размножение. Еще один верх непоследовательности – вы только вдумайтесь, Эжени! – любой честолюбивый правитель без зазрения совести забавляется истреблением врагов, препятствующих его величественным замыслам... жестокие и произвольные законы, столетие за столетием, приговаривают к смерти миллионы индивидуумов... а мы, жалкие незначащие людишки, не имеем права пожертвовать одним-единственным существом ради нашей мести или наших капризов? Не пора ли покончить со смехотворными варварскими запретами, с лихвой наверстывая упущенное под покровом глубочайшей тайны? [3]
ЭЖЕНИ. Конечно... О, как пленит меня ваша мораль... как искушает!.. Но скажите по совести, Дольмансе, баловались вы порой такого рода проделками?
ДОЛЬМАНСЕ. Не допытывайтесь, шалости мои многочисленны и разноообразны – рассказ о них вогнал бы меня в краску. Когда-нибудь, я вам, может, и откроюсь.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Меч правосудия, направляемый нашим коварным проказником, не раз служил произволу его страстей.
ДОЛЬМАНСЕ. Да уж, вряд ли найдется проступок, в котором меня нельзя было бы упрекнуть!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ ( бросаясь ему на шею). Божественный!.. Преклоняюсь перед вами!.. Каким умом и смелостью нужно обладать, чтобы решиться изведать все радости и услады! Лишь человеку гениальному уготована честь разрывать любые путы, порожденные невежеством и тупостью. Целуйте меня, вы великолепны!
ДОЛЬМАНСЕ. Будьте откровенны, Эжени, неужели вы никогда не желали чьей-нибудь смерти?
ЭЖЕНИ. О, еще как, всей душой! Каждый день перед моими глазами мелькает одно отвратительное создание, и мне давным-давно хочется свести его в могилу.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Держу пари, я догадываюсь, о ком идет речь.
ЭЖЕНИ. Ты додумалась, кто это?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Твоя мать.
ЭЖЕНИ. Ах! Дай спрятать румянец стыда у тебя на груди!
ДОЛЬМАНСЕ. Ну и сладострастница! Теперь моя очередь вознаградить тебя ласками за силу твоего сердца и ума. ( Дольмансе целует все ее тело и легонько похлопывает по ягодицам; от этого он приходит в возбуждение; госпожа де Сент-Анж рукой встряхивает ему член; время от времени пальцы его пробегаются по заду госпожи де Сент-Анж, который та похотливо ему подставляет; чуть придя в себя, Дольмансе продолжает прерванный разговор.) Кстати, отчего бы нам не привести в исполнение сей возвышенный замысел?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Эжени, я тоже в свое время горячо ненавидела и презирала свою мать, но, в отличие от тебя, ни минуты не колебалась.
ЭЖЕНИ. Мне недостает средств.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Скорее, решительности.
ЭЖЕНИ. Какая жалость, что я так малоопытна!
ДОЛЬМАНСЕ. Вы все-таки намерены что-то предпринять, Эжени?
ЭЖЕНИ. Ни перед чем не остановлюсь... Предоставьте мне средства, и тогда увидим!
ДОЛЬМАНСЕ. Вы их получите, Эжени, обещаю; однако предписываю одно условие.
ЭЖЕНИ. Какое же? Неужели существует условие, которое я не в состоянии заключить?
ДОЛЬМАНСЕ. Иди сюда, негодница, поближе: не могу больше сдерживаться; в награду за будущие мои дары подставь очаровательный твой задик, одно преступление непременно должно оплачиваться другим! Иди ко мне!.. А лучше вы обе, ну же, срочно гасите сжигающий нас божественный огонь струями любовной влаги!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Предлагаю хоть немного упорядочить наши оргии – порядок необходим во всем, даже в неистовстве похоти и злобы.
ДОЛЬМАНСЕ. Нет ничего проще... Главная задача, как мне представляется, сбросить сперму самому и доставить нашей милой девочке максимум удовольствия. Для начала я введу ей в попку член, и пока она будет в согнутом положении, вы вволю пощекочете ее с другой стороны; поза, в которую поставлю вас я, позволит ей ответить вам тем же, после чего вы поцелуете друг дружку. После нескольких вторжений в попку малютки мы несколько разнообразим картину. Я, мадам, зайду вам в тыл; Эжени расположится сверху, зажав вашу голову между своих ног, так мне будет удобно пососать ей клитор – и я заставлю малышку излиться во второй раз. Затем я займу прежнюю позицию в ее анусе; вы предоставите мне свои ягодицы взамен ее передка, который она мне предлагала ранее, то есть вы, как это делала она, зажмете ее голову между ваших ног; я пососу дырку вашего зада, подобно тому, как я сосал ее спереди, сначала разрядитесь вы, затем я, тем временем руки мои, обнимая прелестное тельце нашей послушницы и щекоча ей клитор, помогут ей извергнуться одновременно с нами.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Прекрасно, дорогой мой Дольмансе, хотя лично вам, похоже, кое-чего будет недоставать.
ДОЛЬМАНСЕ. Члена в моей собственной жопе? Вы, как всегда, правы, мадам.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ничего, утром как-нибудь обойдемся без оного, а ближе к вечеру на подмогу подоспеет мой брат – он привнесет в наши утехи недостающую полноту. А пока займемся творчеством в данном составе.
ДОЛЬМАНСЕ. Мне хотелось бы, чтобы Эжени меня немножко помастурбировала. ( Она исполняет). Да, вот так... чуть проворнее, мое сердечко... всегда держите эту багровую головку обнаженной, никогда не покрывайте ее... чем сильнее вы натянете уздечку, тем мощнее эрекция... Обращайтесь с членом побережнее... Отлично!.. Вот так, готовьте к рабочему состоянию снаряд, который вскоре пробьет вас... Взгляните, какой он воинственный!.. Не прячьте от меня ваш язычок, маленькая плутовка!.. Кладите свои ягодицы на мою правую руку, а левой рукой я пощекочу вам клитор.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Эжени, хочешь доставить ему максимальное удовольствие?
ЭЖЕНИ. Разумеется... Я сделаю все, лишь бы ему было хорошо.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Замечательно! Тогда возьми член в рот и несколько секунд пососи его.
ЭЖЕНИ ( делая это). Так правильно?
ДОЛЬМАНСЕ. Восхитительный ротик! Обволакивает теплом!.. По мне, не хуже самой прелестной задницы!.. Мастерицы сладострастия, никогда не отказывайте своим любовникам в этой милости, и вы привяжете их к себе навеки... О гнусный Вседержитель, смотри – посылаю тебя ко всем чертям!..
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Как ты богохульствуешь, друг мой!
ДОЛЬМАНСЕ. Лучше бы вы придвинули вашу жопу, мадам... Да, сюда, поближе, пока меня сосут, я расцелую ее – напрасно вы дивитесь моим кощунствам: когда у меня твердеет, одно из любимейших моих удовольствий – хулить имя Бога. В такие минуты разум мой, тысячекратно распаленный, еще свирепей ополчается против презренного призрака; так и подмывает изобрести самые действенные способы поношения; голова моя переполняется окаянными мыслями о полном ничтожестве ненавистного и омерзительного этого существа – во мне рождается раздражение, смешанное с желанием тотчас восстановить сей образ, дабы было на что обрушить бешеную свою ярость. Следуя моему примеру, и вы, моя прелесть, удостоверитесь, сколь усиливается чувственность от подобного злоречия. О проклятие!.. Как ни безмерно наслаждение, вижу, пора убираться из ее божественного ротика... иначе там я и оставлю свою сперму!.. Ну-ка, Эжени, располагайтесь, как я вам велел; составим живую картину и все трое окунемся в пьянящий омут ощущений. ( Поза выстраивается.)
ЭЖЕНИ. Дорогой мой, боюсь, усилия ваши тщетны! Слишком сильная диспропорция.
ДОЛЬМАНСЕ. Не проходит и дня, чтобы я не содомировал какого-нибудь юнца; не далее, как вчера, ровно за три минуты этим самым орудием я дефлорировал семилетнего мальчишку. Так что смелее, Эжени, смелее!..
ЭЖЕНИ. Ай! Вы меня раздираете!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Поосторожнее с ней, Дольмансе; не забывайте, ведь я за нее отвечаю.
ДОЛЬМАНСЕ. Хорошенько поработайте рукой, мадам, и вы облегчите ее страдания; впрочем, цель уже достигнута, я вошел по самую шерстку.
ЭЖЕНИ. О, небо! Это далось так трудно... Видишь, друг мой, капельки пота у меня на лбу... Господи! Никогда не испытывала такой боли!..
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Вот, милочка, ты и лишилась девственности, правда наполовину, теперь ты возведена в ранг женщины; ради того, чтобы удостоиться такой чести, стоит немножко помучиться; ну что, мои пальчики хоть немного умиротворяют тебя?
ЭЖЕНИ. Без них я не вытерпела бы такой пытки!.. Ласкай меня, ангел мой... Чувствую, как едва заметно боль моя превращается в наслаждение... Вгоняйте же!.. Дольмансе... Глубже!.. Умираю!..
ДОЛЬМАНСЕ. Ах треклятый Бог, прах тебя возьми! Сменим позу, а то я не выдержу... Где же ваш зад, мадам, заклинаю, поскорее примите позу, о которой я только что говорил. ( Все устраиваются, и Дольмансе продолжает.) Здесь попросторней... Как легко проникает мой кол!.. Роскошная у вас жопа, мадам – упоительна ничуть не менее предыдущей!..
ЭЖЕНИ. Я расположилась, как надо, Дольмансе?
ДОЛЬМАНСЕ. Чудесно! Девственная дырочка изумительно открывается передо мной. Готов нарушить свои правила, каюсь; знаю, что это непростительно, ведь такого рода прелести не для моих глаз; но желание преподать этой девчушке первые уроки сладострастия перебивает все доводы рассудка. Хочу, чтобы она истекла соком... хочу истомить ее, насколько это в моих силах... ( Начинает ее лизать.)
ЭЖЕНИ. Ах! Он заласкает меня до смерти, не вынесу такого наслаждения!..
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Я уже на подходе!.. Задвинь мне, Дольмансе!.. Теперь еще разок!.. Всё – извергаюсь!..
ЭЖЕНИ. И я тоже, милая... Ах, мой Боже, как он меня лижет!..
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ругайся, маленькая курва!.. Ругайся, ну же!..
ЭЖЕНИ. Эх, пускай сожжет нас Божий гром! Из меня льется!.. Я хмелею от восторга!..
ДОЛЬМАНСЕ. Ну-ка по местам! По местам, я сказал, Эжени!.. Вам меня не одурачить, мои лошадки! ( Эжени занимает прежнюю позицию.) Отлично! Вот я снова в главном своем пристанище... и вы, мадам, представьте моим взорам свою заднюю норку, а я всласть пососу ее... Как мне нравится целовать жопу, из которой я едва вынул!.. Позвольте мне вылизать ее как следует, прежде чем сбрасывать сперму в зад вашей подружки... Поверите ли, мадам? На этот раз он вошел без труда!.. Дьявольщина! Вы не представляете, как она обхватывает его, как сжимает!.. Ах, святой Творец, даже употребляя тебя самого, вряд ли я достиг бы такого экстаза!.. Все, готово, больше не сдерживаюсь!.. Сперма течет... я мертв!..
ЭЖЕНИ. Милая моя, клянусь, он и меня умертвил...
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Тонкая штучка! Мгновенно освоилась!
ДОЛЬМАНСЕ. Я знаю уйму девушек ее лет, которые не променяют эту усладу ни на какую другую; труден лишь первый шаг; и женщина, хоть единожды вкусившая такой способ, уже не захочет ничего иного... О небо! Я истощен. Дайте перевести дух хоть на несколько минут.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Таковы мужчины, моя дорогая, едва утолив свое влечение, они уже не удостаивают нас взглядом; упадок сил приводит их к отвращению, а от отвращения недалеко и до презрения.
ДОЛЬМАНСЕ ( холодно). Оскорбляете, и совершенно незаслуженно! ( Обнимает их обеих.) Такие божественные красавицы, как вы, созданы для восхищения мужчин, в каком бы состоянии те ни находились.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Впрочем, не печалься, милая Эжени, за то, что мужчины снискали себе право пренебрегать нами после того, как они удовлетворены – мы, женщины, в ответ награждаем их не меньшим презрением, особенно, если они нас к этому вынуждают! Не только Тиберий прославился тем, что на острове Капри приносил в жертву былые предметы своих страстей [4]– с неменьшим успехом умерщвляла своих любовников и африканская королева Зингуа. [5]
ДОЛЬМАНСЕ. Такого рода крайности просты, естественны и хорошо мне знакомы, однако нам с вами до них опускаться негоже, вспомните известную поговорку: «Волки никогда не пожирают друг друга» – при всей своей тривиальности, она вполне справедлива. Для вас, мои подружки, я совершенно не опасен: даже если под моим руководством вы натворите немало зол, сам я не причиню вам ничего дурного.
ЭЖЕНИ. О, милая, я готова поручиться: Дольмансе в ответе за свои слова и никогда не злоупотребит правами, которые мы ему предоставим; я верю ему безоговорочно, ему присуща высшая порядочность – порядочность негодяя;а теперь, умоляю, оставим нашего учителя при его мнении и вернемся к величественному замыслу, вдохновившему нас незадолго до того, как все мы так приятно развлеклись.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ну и хитрюга! Все время держит это в голове! А я полагала, что речь идет о пустой затее, распаленной фантазии – и не более того.
ЭЖЕНИ. Это самое твердое побуждение моего сердца, и успокоюсь я, лишь совершив это преступление.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. О! Хорошо, хорошо, но, может, все же пощадишь ее, ведь она – твоя мать.
ЭЖЕНИ. Подумаешь – высокое звание!
ДОЛЬМАНСЕ. Она права. Разве думала эта мамаша об Эжени, производя ее на свет? Да, шельма позволила с собой переспать – но просто потому, что находила в этом удовольствие, отнюдь не имея в виду эту девочку. Так что предоставим доброй воле Эжени поступать, как ей угодно; ограничимся лишь заверением: даже доходя до крайностей, она не окажется повинна ни в каком злодеянии.
ЭЖЕНИ. Душа моя преисполнена отвращения, и я нахожу тысячу доводов для оправдания своей ненависти; мне нужно лишить ее жизни – любой ценой!
ДОЛЬМАНСЕ. Что ж, Эжени, раз ты настроена столь решительно, клянусь, ты будешь удовлетворена; но прежде выслушай несколько советов, на мой взгляд, тебе без них не обойтись. Никогда не разглашай своей тайны, дорогая, и старайся действовать в одиночку; нет никого опаснее сообщников: остерегаться следует даже тех, кто, кажется, сердечно к нам привержен, Макиавелли говорил: «Нужно либо вовсе не иметь сообщников, либо отделываться от них, едва они сослужат нам службу». Но это еще не всё. Для осуществления твоих замыслов, Эжени, необходимо притворство. Прежде, чем отдать жертву на заклание, как можно теснее сближайся с ней; делай вид, что жалеешь или утешаешь ее; льсти ей, сочувствуй ее горестям, уверяй, что боготворишь ее; более того – доказывай всё на деле: в таких случаях, излишнего лукавства не бывает. Нерон ласкал Агриппину на той самой барке, которая предназначалась для ее гибели; следуй его примеру – не гнушайся ни плутовством, ни коварством – применяй всё, что измыслит твое воображение. Женщина и ложь – неразлучные спутницы, а при обстоятельствах, вынуждающих женщину обманывать, ложь ей необходима вдвойне.
ЭЖЕНИ. Мне еще предстоит усвоить и применить на практике ваши уроки. Но сейчас давайте разовьем эту тему, прошу вас. Вы настоятельно рекомендуете женщинам лицемерие. Неужели оно на самом деле столь необходимо в нашем мире?
ДОЛЬМАНСЕ. Не знаю качества полезнее криводушия; истина эта неоспорима, ибо лгут абсолютно все; исходя из этого, напрашивается вопрос: выживет ли и добьется ли успеха человек искренний в среде людей насквозь фальшивых? Если согласиться с утверждением, что добродетели хоть чем-то полезны для общества, то как, по-вашему, тому, у кого нет ни воли, ни власти, ни особых дарований, а таких большинство, – как же такому человеку обойтись без притворства, ведь и он, в свою очередь, жаждет заполучить хотя бы малую толику счастья, похищенного у него конкурентами? В чем же, на самом деле, нуждается человек общественный, в самой добродетели или в ее видимости? Сомнений нет: вполне достаточно внешнего подобия, добившись которого, индивид завладевает всем, что ему необходимо. С тех пор, как между людьми воцаряется общение исключительно поверхностное – довольно демонстрации одной только оболочки. К тому же несложно убедиться: в повседневной жизни добродетели оказываются ценными прежде всего для их носителей, остальные люди извлекают из них выгоду столь ничтожную, что им, по сути, совершенно безразлично, истинна или притворна добродетель того, кто живет с ними бок о бок. Лицемерие же – практически верный путь к преуспеянию; тот, кто овладеет искусством криводушия, бесспорно, одержит верх и в личном общении, и в переписке; ослепив собеседника ложным блеском, лицемер убедит его в своей правоте, с этого момента он – победитель. Допустим, я замечу, что меня обманули, – мне останется лишь пенять на самого себя, а обидчик мой волен будет продолжать свою игру, понимая, что я не пожалуюсь из гордости; его превосходство надо мной станет все более очевидным; он окажется правым, а я виноватым; он продвинется вперед, а я остановлюсь на месте; он обогатится – я разорюсь; он окажется на высоте и вскоре завоюет общественное мнение; с тех пор напрасны все мои обвинения – меня даже не станут слушать. Так предадимся же самой грязной и беззастенчивой лжи; отнесемся к фальши, как к источнику достижения всяческих благ, почестей и богатств; усмирим на досуге легкое чувство раскаяния за то, что обвели кого-то вокруг пальца – ощущение собственного хитроумия гораздо приятнее и острее.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Предмет сей, на мой взгляд, освещен более чем достаточно. Эжени убеждена, успокоена, вдохновлена и теперь поступит, как ей захочется. Не пора ли нам продолжить рассуждения о разновидностях разврата; здесь нас ожидает неограниченный простор для фантазии; посвятим нашу ученицу хотя бы в некоторые таинства, соединяя теорию с практикой.
ДОЛЬМАНСЕ. Юная наша воспитанница не предназначена для ремесла публичной женщины, поэтому многие развратные детали страстей человеческих для нее непригодны; Эжени выйдет замуж и – готов поставить десять против одного – супруг ее вряд ли проявит сколь-нибудь особенные пристрастия; достанется ей муж-распутник – задача упростится – с ним следует вести себя подчеркнуто мягко, любезно, с избытком возмещая упущенное тайными изменами: это короткая формула, в ней заключена суть. Если Эжени настроена на углубленный анализ развратных вкусов, то, вкратце, все многообразие человеческих наклонностей сводится к трем основным: содомия, святотатство и жестокость. Первая из этих страстей приобрела широкое распространение; к тому, что уже сказано, добавим несколько новых разъяснений. Содомия бывает двух видов, активная и пассивная; мужчина, употребляющий в зад юношу или женщину, совершает активную содомию; когда то же самое проделывают с ним самим – он пассивный содомит. Часто спрашивают, какой из двух видов содомии приятнее: конечно же, пассивная, ведь при этом сразу наслаждаешься и спереди, и сзади. О несравненное ощущение перемены пола! Как сладко подделываться под шлюху, играя женскую роль, отдаваться мужчине, называть его своим возлюбленным, осознавать себя его любовницей! Ах, знали бы вы, милые подружки, что это за волшебство! Для Эжени остановлюсь на некоторых рекомендациях, или точнее, нюансах, незаменимых для женщин, которые, следуя нашему примеру, вкушают изысканные сии утехи. Немного ознакомив вас с атаками такого рода, я уже вижу по своему опыту, что придет время – и вы, Эжени, достигнете значительных высот на данном поприще. Снова и снова призываю вас прогуляться по одной из самых чарующих тропинок острова Цитера – уверен, что советом сим вы не пренебрежете. Пока ограничусь изложением двух-трех приемов, представляющихся мне важными для женщины, решившейся посвятить себя данному виду удовольствия, или близкому ему по духу. Прежде всего, позаботьтесь, чтобы во время акта содомии вам непременно ласкали клитор: ничто в мире не сочетается лучше двух этих ощущений; избегайте всяких биде, омовений и обтираний: когда вас употребляют сзади, брешь всегда держите открытой; это подогревает желания, равно как заботы о чистоплотности тотчас гасят их; помните: никому не дано знать, сколь длительны порывы вожделения. Забавляясь сим утонченным способом, Эжени, избегайте применять мыло, содержащее кислоту: оно вызывает воспаление и геморрой, что затрудняет проникновение. Противьтесь тому, чтобы несколько мужчин поочередно разряжались вам в задний проход: смешение спермы пьянит воображение, однако чаще всего оказывается небезопасно для здоровья; так что, по мере поступления таких извержений, старайтесь сливать их на сторону.
ЭЖЕНИ. Но раз они предназначены для вливания спереди, не является ли преступлением их впрыскивание сзади?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. И ты, бедная моя глупышка, усмотрела некое зло в направлении мужского семени не по магистральной линии? Размножение – отнюдь не основная цель природы, она к нему просто снисходительна; и мы куда вернее выполняем ее заветы, уклоняясь от участия в нем. Становись заклятым врагом этого скучного процесса и даже на брачном ложе не впускай в себя коварное семя, чье произрастание портит наши фигуры, притупляет сладостные ощущения, разрушает здоровье, приводя к увяданию и старости; уговаривай своего супруга, чтобы он смирился с такой потерей; предоставляй ему все тропинки, уводящие от основного алтаря; повторяй, что ненавидишь детей, что умоляешь не делать их тебе. Строго соблюдай это правило, моя милая, не скрою – деторождение настолько мне отвратительно, что стоит тебе забеременеть – я тотчас перестану считать себя твоей подругой. Если все же – не по твоей вине – с тобой случится эта беда, предупреди меня не позднее первых семи-восьми недель, и я без лишнего шума избавлю тебя от плода. Не страшись детоубийства – это мнимое преступление; мы вольны распоряжаться тем, что носим в своем чреве, а значит, разрушение данного вида материи – зло ничуть не большее, нежели вызванное необходимостью очищение желудка с помощью лекарственных средств.
ЭЖЕНИ. А если ребенок доношен до конца?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Мы властны в уничтожении даже появившихся на свет детей. Нет в мире права более нерушимого, чем право матери на своего ребенка. И нет ни одного народа, который не признал бы сию истину, ибо она в принципе разумна.
ДОЛЬМАНСЕ. Право это существует в природе... и оно неоспоримо. Источник грубых заблуждений на сей счет – недочеты деистического мировоззрения. Невежды, верующие в Бога в качестве первопричины мира, убеждены, что ему одному обязаны мы своим возникновением и что едва созревший зародыш тотчас оживляется душой, отделяющейся от Всевышнего; по нелепой их теории, это крошечное существо больше не принадлежит человеку, и поэтому разрушение его рассматривается ими как страшное злодейство. Творенье Божье принадлежит Богу, – уверяют эти глупцы, – а значит, распоряжаться его жизнью – преступление. Однако в наши дни светильник философии рассеял этот мрак; поправ религиозную химеру ногами, мы обратились к законам физики, разобрались в сути механизма деторождения, и теперь нам ясно: развитие человеческого зародыша ничуть не удивительнее произрастания пшеничного зерна, пора воззвать к природе, исправляя ошибки человеческие. Раздвигая рамки собственных полномочий, мы, наконец, признали за собой право возвращать назад то, что некогда отдали по принуждению или случайно, и что недопустимо требовать от того или иного индивида, чтобы он становился матерью или отцом против своей воли. Не столь важно, одним существом на земле больше, одним меньше – словом, сколь бы одухотворенным ни был сей кусочек плоти, мы – неоспоримые его хозяева и властны поступать с ним так же, как с ногтями, срезаемыми с наших пальцев, с нарывами, удаляемыми с нашего тела или с продуктами пищеварения, выводимыми из наших внутренностей, ибо и то, и другое, и третье порождено нами, и мы, на правах собственников, распоряжаемся всем, что исходит от нас. Развивая далее тезис о чрезвычайной незначительности такого деяния, как убийство, вы, Эжени, неизбежно придете к выводу о ничтожности последствий детоубийства для нашего мира, даже если речь пойдет о существе, достигшем сознательного возраста; нет смысла возвращаться к этому сюжету: у вас блестящие мозги, и вы не нуждаетесь в излишних мудрствованиях. Перечитайте историю нравов всех племен и народов, повествующую о повсеместном распространении детоубийства, дабы окончательно удостовериться: лишь скудоумец усмотрит зло в поступке столь обыденном и заурядном.
ЭЖЕНИ ( обращаясь сначала к Дольмансе). Не представляете, до какой степени вы меня убедили. ( Затем к госпоже де Сент-Анж.) Но скажи, дорогая, сама ты применяла когда-нибудь средство, которое предлагаешь мне для уничтожения зародыша еще в утробе?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Два раза, и успешно; правда, должна сознаться, на себе я испытала это лекарство только в первые месяцы; две мои знакомые проделали то же самое в середине срока и уверили меня, что все завершилось благополучно. Так что, при случае, можешь на меня рассчитывать, дорогая, хотя все же призываю тебя пользоваться средством самым надежным: никогда не доводить себя до состояния, когда тебе потребуется лекарство. А теперь вернемся к основным сладострастным приемам, с которыми мы пообещали ознакомить нашу юную ученицу. Продолжайте, Дольмансе, остановились мы на святотатстве.
ДОЛЬМАНСЕ. Полагаю, Эжени уже достаточно свободна от религиозных предрассудков и осознает: высмеивание предметов культа, коим с таким усердием поклоняются глупцы, не влечет за собой никаких последствий и остается безнаказанным. Не стоит преувеличивать действенности святотатственных фантазий – они воспламеняют лишь самые юные головы, упивающиеся нарушением любого запрета; это нечто вроде детской мести, будоражащей воображение и доставляющей сиюминутную радость; едва человек постигает суть вещей и убеждается в ничтожности идолов, чье жалкое изображение служит предметом для забавы, как сладострастные ощущения охладевают, теряя остроту. В глазах истинного философа осквернение реликвий, портретов святых, облаток, распятия сродни надругательству над языческой статуей. Следует раз и навсегда отречься от никчемных этих безделушек, не удостаивая их вниманием. Сохранения достойно лишь богохульство, и вовсе не по причине особой его действенности – ведь если Бога нет, разве не бессмысленно поносить его имя? Просто очень важно произносить крепкие и грязные словечки в опьянении восторга, а хула на Святого Духа как нельзя лучше распаляет воображение. Не жалейте красок; расцвечивайте ругательства самыми изощренными оборотами, дабы еще сильнее шокировать слух. Что за отрада тешить собственную гордыню, скандализируя окружающих! Признаться, милые дамы, это одна из сокровеннейших моих услад и высшее духовное наслаждение – пожалуй, именно так сильнее всего подхлестывается моя фантазия. Испытайте это, Эжени, и вы увидите результат. В кругу сверстниц, прозябающих в сумраке невежества и суеверий, ведите себя вызывающе неблагочестиво: щеголяйте распущенностью, изображайте уличную девку, обнажайте свою грудь; оказавшись с ними в укромном месте, бесстыдно задирайте свою юбку, выставляя напоказ интимнейшие части вашего тела; от них требуйте того же; обольщайте и поучайте, растолковывайте им нелепость их предрассудков; что называется, вводите их в искушение; сквернословьте в их присутствии, как мужик; если они младше вас, берите их силой, забавляйтесь с ними, растлевайте примерами, советами, словом, всем, что придет вам на ум, – лишь бы испортить их. С мужчинами держитесь еще более раскрепощенно; афишируйте безбожие и бесстыдство: не страшитесь их вольностей по отношению к вам, позволяйте им шалить, как им вздумается – но строго под покровом тайны, не компрометируя вас; разрешайте им щупать ваше тело, мастурбируйте их, пусть они отвечают вам тем же; предоставьте им в пользование свой зад; однако памятуя о так называемой женской чести, оберегайте нетронутость спереди – на этот счет следует быть менее сговорчивой; выйдете замуж – не заводите любовников, лучше возьмите лакеев или заплатите нескольким надежным людям: тогда вы в безопасности, репутация ваша не задета, и вы вне подозрений – теперь спокойно постигайте искусство делать все, что вам заблагорассудится.
Продолжим обещанное исследование основных источников сладострастия. Третий способ достижения удовольствия – жестокость. Данный вид наслаждения особо популярен в наши дни. Приверженцы его приводят следующий аргумент: стремясь взволновать себя, – заявляют они, – а именно такова цель любого, кто предается сладострастию, – мы изыскиваем средства самые сильнодействующие. Исходя из этой посылки, нам совершенно неинтересно, по душе ли наши поступки лицам, используемым нами для утех, – речь идет лишь о том, чтобы помощнее всколыхнуть нашу нервную систему; боль ощущается несравненно острее наслаждения, причиняя ее другим, мы не на шутку взбудоражены, ибо чужие переживания, отзываясь в нас, усиливают нашу собственную вибрацию, производя круговорот наших низменных животных инстинктов, постоянно скатывающихся к ослаблению, – давая им обратный ход, мы воспламеняем наши органы сладострастия, настраивая их на удовольствие. Любовные восторги женщин почти всегда притворны; старику или уроду добиться их еще труднее. Даже при успешном исходе, эффект от испытанной нервной встряски незначителен. Иное дело боль – ее воздействие неподдельно и очевидно. Пытаясь загнать в тупик приверженцев такого рода мании, обычно приводят довод: боль – тяжкое испытание для смертного, милосердно ли, ради собственной услады, причинять страдание ближнему? Прожженные сластолюбцы отвечают, что привыкли считаться исключительно с собственными ощущениями, а на партнеров им глубоко наплевать – распутники эти, по простоте душевной, убеждены: то, что чувствуют они сами, гораздо важнее всего, что чувствуют другие, ибо именно так распорядилась природа. Что нам за дело, – дерзко вопрошают они, – до мучений ближнего? Ранит ли нас чужая боль? Ничуть. Более того, она, как выясняется, производит на нас довольно приятное впечатление. Во имя чего щадить неких индивидов, имеющих к нам весьма отдаленное отношение? На каком основании ограждать ближнего от страдания, раз сами мы не проливаем из-за этого ни слезинки, а даже напротив, взираем на чужие муки с величайшей радостью? Слышали ли вы хоть раз, чтобы голос природы подсказывал предпочитать других себе? Есть ли у тебя на свете кто-нибудь дороже тебя самого? Часто ссылаются на мифическое врожденное стремление не делать другим того, чего не желал бы испытать сам; однако бессмысленное это уверение исходит явно не от природы, а от людей, причем людей слабых. Человеку сильному такое высказывание явно не к лицу. Как тут не вспомнить выкрики первых христиан, которых преследовали за их дурацкое учение: «Не сжигайте нас, не сдирайте с нас кожу! Природа говорит: не делай другим, что не хотел бы, чтобы они делали тебе». Недоумки! Природа, беспрестанно внушающая нам позыв к наслаждению, вдруг в какой-то миг проявит непоследовательность и прикажет прекратить наслаждаться просто оттого, что это причинит некоторые неудобства другим? Ах, что за бред, Эжени! Лучше доверимся нашей матери-природе, побуждающей нас не считаться решительно ни с кем; прислушаемся к ее эгоистичному голосу – и ясно зазвучит разумный благой совет: услаждай себя самого, не важно, за чей счет. Кто-то возразит, что те, другие, могут отомстить... В добрый час! Кто сильнее, тот и прав. Таково первозданное состояние вечной войны и вечного разрушения, в которое мы ввергнуты рукой природы, и ей угодно, чтобы мы пребывали в нем поныне.
Так рассуждают блудодеи; что касается меня, милая Эжени, то, исходя из моего жизненного опыта и личных моих наблюдений, добавлю: жестокость – первейшее чувство, запечатленное в нас природой, не имеющее ничего общего с пороком. Задолго до наступления сознательного возраста ребенок уже ломает игрушки, кусает сосок кормилицы и душит птичек. Жестокость прослеживается в поведении животных, а на их примере, как я уже отмечал, законы природы проступают гораздо отчетливее, нежели на примере людей; для дикаря проявления кровожадности естественнее, чем для человека цивилизованного, следовательно, утверждение о том, что жестокость порождена испорченностью нравов, ниже всякой критики. Снова и снова повторяю: уверения эти ложны. Жестокость растворена в природе; каждый из нас рождается с определенной дозой бессердечности, смягчить ее под силу только воспитанию, однако воспитание ломает естество, нанося вред священным замыслам природы – так садовод уродует дикие деревья подрезкой. Зайдите в сад и сравните дерево, предоставленное заботам природы, с деревом, которое насильно окультуриваете вы, сопоставьте, какое из них прекраснее и какое дает лучшие плоды. Свирепство – не что иное, как нерастраченная людская энергия, не изъеденная ржавчиной цивилизации, это не слабость наша, а мощь. Откиньте законы, наказания, обычаи – исчезнут опасные последствия жестокости, ибо она будет незамедлительно отражена ответной жестокостью; угроза нависает лишь над государством цивилизованным, где потерпевшему, чаще всего, недостает сил или возможностей отомстить за нанесенное оскорбление; в государстве же нецивилизованном, жестокость по отношению к сильному всегда встречает с его стороны достойный отпор, а жестокость по отношению к слабому не создает никаких дополнительных неудобств, поскольку ущемляет права существа, и без того извечно уступающего сильному, согласно законам самой природы.
Обойдемся без подробного анализа лютости распутников-мужчин; вы уже имеете представление, Эжени, до каких бесчинств можно дойти – с пылкостью вашего воображения, несложно понять, сколь чужды любые пределы душе твердой и стоической. Нерон, Тиберий, Элагабал подогревали свое половое возбуждение, умерщвляя детей; не менее успешно сочетали убийство с развратом маршал де Рец и граф Шароле – дядя принца де Конде. На допросе маршал де Рец признался, что самые сильные сладострастные ощущения испытывал тогда, когда, в компании со своим духовником, подвергал пыткам детишек обоего пола. В одном из его замков, в Бретани, обнаружено не то семьсот, не то восемьсот замученных им жертв. После недавнего нашего обоснования такие факты представляются неудивительными и вполне объяснимыми. Строение нашего тела, наши органы, движение жидкостей, энергия инстинктов – вот физические причины, порождающие такие противоположные натуры, как Тит и Нерон, Мессалина и Шанталь. Довольно кичиться добродетелями и каяться в пороках, обвиняя природу в том, что она сотворила нас излишне добрыми или излишне злыми; природа действует в соответствии с собственными целями, планами и потребностями: а наш удел – подчиняться. Особого рассмотрения заслуживает, на мой взгляд, жестокость женская, часто превосходящая мужскую по накалу, и залогом тому служит исключительная чувствительность женских органов.
Следует различать два вида жестокости. Начнем со свирепости, порожденной тупоумием, примитивной и неосознанной: одержимый ею субъект – ввиду полного отсутствия понятий об изысканности – уподобляется дикому зверю и не способен извлечь из нее удовольствие; грубость такого рода не представляет опасности, от нее несложно укрыться. Существует, однако, жестокость иного свойства – плод исключительно развитой впечатлительности, и ведома она лишь натурам сверхутонченным; крайности, до которых доходит такая безжалостность – следствие изощренной деликатности их душевного склада; именно в силу прихотливости, впечатлительность эта быстро притупляется и ради пробуждения своего пускает в ход все мыслимые ресурсы. Как мало на свете тех, кто наделен способностью постичь эти тонкости!.. Еще меньшему числу людей дано их прочувствовать! Различие тем не менее налицо, и оно неоспоримо. Так, женщины чаще привержены жестокости второго вида. Приглядитесь к представительницам слабого пола: вы тотчас обнаружите среди них неумолимых хищниц, одаренных повышенной чувственностью, живостью воображения и остротой ума; это творения особенные – они совершенно неотразимы и вскружат голову любому, кого пожелают; к несчастью, нетерпимость, вернее, нелепость наших нравов не дает пищи для их необузданных инстинктов; вынужденные таиться, маскироваться, прикрывать истинные свои наклонности показной благотворительностью, глубоко противной их душе, они дают волю своим страстям украдкой, со строжайшими предосторожностями, при посредстве надежных подруг; женщин такого склада немало, почти все они несчастны. Желаете их распознать? Объявите о некоем кровавом зрелище, будь то дуэль, пожар, сражение, бой гладиаторов – они тотчас сбегутся; такие случаи, к сожалению, предоставляются нечасто – ярость их не утолена: им остается тайно изнывать и сдерживать свои порывы.
Проведем краткий исторический обзор. Королева Анголы Зингуа, безжалостнейшая из женщин, приносила в жертву своих возлюбленных тотчас после того, как наслаждалась ими; ей нравилось заставлять воинов сражаться на своих глазах и назначать себя в качестве награды для победителя; она услаждала свою кровожадную душу, приказывая истолочь в известковом растворе всех женщин, имевших несчастье забеременеть в возрасте до тридцати лет. [6]Зоэ, жена китайского императора, достигала высот наслаждения, наблюдая казнь преступников; за неимением оных, она приказывала умерщвлять рабов, сама в это время совокуплялась с мужем, соразмеряя пыл своих оргазмов со степенью жестокости пыток, которым подвергались эти несчастные. Изощрясь в придумывании новых мучений, она изобрела знаменитую бронзовую колонну, полую внутри, которую раскаляли докрасна, помещая туда жертву. Феодора, жена Юстиниана, забавлялась зрелищем превращения мужчин в евнухов; а Мессалина онанировала себя, пока перед ней изнуряли мужчин насильственной мастурбацией. Жительницы Флориды, стремясь увеличить размеры детородных органов своих мужей, сажали им на головку полового члена крошечных насекомых, отчего мужчины испытывали нестерпимую боль; проводя эту операцию, женщины привязывали мужчин, а сами собирались группами вокруг каждого из них, дабы убедиться в достижении желанной цели. При приближении испанцев жены собственноручно придерживали своих супругов, чтобы варварам-европейцам удобнее было убивать их. Отравительницы Ла Вуазен и Ла Бренвилье расправлялись с людьми исключительно ради удовольствия совершать преступления. Словом, история изобилует примерами женской беспощадности, пристрастие к жестокости свойственно прекрасному полу, и нам представляется крайне желательным приобщение женщин к активной флагелляции – испытанному средству, благодаря которому усмиряют свою ярость многие сластолюбивые мужчины. Некоторые дамы, как мне известно, успешно освоили этот прием, хотя в привычку он еще не вошел, во всяком случае, в той мере, в какой хотелось бы – а жаль. Общество премного выиграет, потворствуя подобному выплеску женского неистовства; ибо не имея возможности направлять свою злобу в мирное русло, женщины проявляют ее иначе, изливая накопленную желчь на весь свет, повергая в отчаяние и супругов своих, и семейства. Существуют различные способы, дающие выход исконному их жестокосердию, – это и отказ совершить благое деяние, когда предоставляется повод, и нежелание оказать поддержку обездоленным, но по сути, всё это мелочи в сравнении с теми злодействами, которые они жаждут сотворить. Женщина чувственная и свирепая всегда изыщет меры для обуздания своих бурных страстей, правда, средства эти порой небезопасны, и я бы, Эжени, не советовал тебе к ним прибегать... О небо! Что с вами, ангелочек?.. Мадам, вы только взгляните, в каком состоянии ваша ученица!..
ЭЖЕНИ ( мастурбируя себя). Ах, черт подери! Вы вскружили мне голову... Вот до чего довели ваши проклятые речи!..
ДОЛЬМАНСЕ. На помощь, мадам, на помощь!.. Неужели мы допустим, чтобы такая очаровашка изверглась без нашего участия?..
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. О, это было бы несправедливо! ( Заключая ее в объятия.) Восхитительное создание, никогда не встречала столь уникального сочетания чувственности с богатством воображения!..
ДОЛЬМАНСЕ. Займитесь ею спереди, мадам, я же легонько пройдусь языком по обворожительной дырочке ее зада, похлопывая по ягодицам; пусть она разрядится на наших руках, по меньшей мере, раз семь-восемь.
ЭЖЕНИ ( в беспамятстве). Ах, видит Бог, это будет незатруднительно!
ДОЛЬМАНСЕ. Ваши позы, милые дамы, надеюсь, позволят вам по очереди пососать мне член; потрудитесь возбудить меня – дабы я еще активнее услаждал нашу прелестную питомицу.
ЭЖЕНИ. Дорогая, я оспариваю у тебя честь высосать этот замечательный член. ( Берет его.)
ДОЛЬМАНСЕ. Ах, какое блаженство!.. Что за упоительная теплота!.. Но, Эжени, сумеете ли вы повести себя должным образом в критический миг семяизвержения?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Она проглотит... проглотит, ручаюсь за нее; а впрочем, если вдруг из-за ребячества... или уж не знаю, по какой причине... она пренебрежет священным долгом похоти...
ДОЛЬМАНСЕ ( очень возбужденный). Не прощу ее, ни за что не прощу, мадам!.. И уроком ей послужит наказание... клянусь, она будет высечена... да, да, до крови!.. О дьявол! Я дохожу... истекаю спермой!.. Глотай же!.. Глотай, Эжени, чтобы ни одной капельки не пропало!.. А вы, мадам, позаботьтесь о моей жопе, она готова вам отдаться... видите, как вожделенно зияет распроклятая ее дыра?.. Взгляните, она зазывает ваши пальчики!.. Сатанинский, неземной восторг! Наконец вы погрузились туда, аж до самого запястья!.. Довольно, присядем, больше не могу, малышка отсосала, как ангел...
ЭЖЕНИ. Бесценный, обожаемый учитель, я не потеряла ни капельки. Целуй же меня, любовь моя, пока твоя сперма проникает в мое нутро.
ДОЛЬМАНСЕ. Она восхитительна... эта маленькая паршивка... Так здорово разрядилась!..
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ее всю затопило!.. О небо! Что я слышу!.. Стучат. Кто осмелился нас побеспокоить? Это мой брат... Повеса!..
ЭЖЕНИ. Но, дорогая, это же предательство!
ДОЛЬМАНСЕ. Беспримерное, не правда ль? Ничего не бойтесь, Эжени, мы трудимся исключительно ради вашего блага.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. И вскоре она в этом убедится! Подойди поближе, братец, взгляни на эту девочку, она прячется от тебя – это так забавно.
ЧЕТВЕРТЫЙ ДИАЛОГ
Госпожа де Сент-Анж, Эжени, Дольмансе, шевалье де Мирвель.
ШЕВАЛЬЕ. Не пугайтесь, прекрасная Эжени, гарантирую вам полное соблюдение тайны; двое поручителей – моя сестра и мой друг – подтвердят: на меня можно положиться.
ДОЛЬМАНСЕ. Покончим разом с этими смешными церемониями, шевалье. Мы заняты воспитанием нашей юной красавицы, обучаем ее тому, что должно знать девице ее лет, и, для лучшей усвояемости, всячески подкрепляем теорию практикой. Остановились мы на показе семяизвержения – не изволишь ли послужить нам моделью?
ШЕВАЛЬЕ. От столь лестного предложения трудно отказаться, мадемуазель обворожительна, чары ее обещают ускорить наступление желаемого эффекта – урок, надеюсь, станет успешным.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Итак, за дело, и безотлагательно!
ЭЖЕНИ. О, сказать по правде, это уж чересчур! Вы злоупотребляете моей юностью и неопытностью... За кого меня принимает этот господин?
ШЕВАЛЬЕ. За милую девочку, Эжени, за очаровательнейшее из всех виденных мною созданий. ( Целует ее, пробегаясь пальцами по ее прелестям.) О Боже! До чего все крошечное, свеженькое... просто сказка!
ДОЛЬМАНСЕ. Поменьше разговоров и побольше действий, шевалье. Право постановщика спектакля оставляю за собой; наша цель – изобразить для Эжени механизм эякуляции; вряд ли ей удастся хладнокровно наблюдать за подобным феноменом, поэтому все четверо разместимся лицом друг к другу, и поближе. Вы, мадам, помастурбируете вашу юную подругу; я возьму на себя шевалье. Мужчине, добивающемуся истечения семени, следует предпочесть услуги другого мужчины, а не женщины. Прекрасно зная, что нужно ему самому, мужчина гораздо лучше женщины исполнит это для себе подобного... А теперь каждый – на отведенное ему место. ( Все располагаются согласно предписаниям.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Не слишком ли близко мы придвинулись?
ДОЛЬМАНСЕ ( начиная овладевать шевалье). В данном случае слово «слишком» неуместно, мадам; вашему брату надлежит оросить мордашку и грудь нашей подружки доказательствами своей половой потенции; он, что называется, должен бросить их ей в лицо. Мне, как распорядителю насоса, предстоит направить его потоки – так, чтобы девочку непременно забрызгали. Вы тем временем тщательно обработаете ее тело, не пропустив ни одной части. А вы, Эжени, полностью отдайтесь во власть воображения; помечтайте – и пред вами развернутся грандиозные мистерии безудержного распутства; попирайте всякую сдержанность: стыдливость не имеет никакого отношения к добродетели. Будь природе угодно, чтобы мы скрывали какие-то участки наших тел – она бы об этом позаботилась; но она сотворила нас голыми; значит, ей нравится, когда мы обнажаемся, и любое тому противодействие – безусловное нарушение ее принципов. Дети, еще не задумывающиеся ни о наслаждении, ни о необходимости оживлять его с помощью умеренности и скромности, открыто демонстрируют все свои уголки. Порою встречаются несоответствия весьма странные: есть края, где принятая обычно сдержанность в одежде отнюдь не означает скромности в поведении. На Таити девушки одеты вполне благопристойно, но, по первому же требованию, готовы задрать подол.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. За что я люблю Дольмансе, так это за то, что он не теряет времени понапрасну; взгляните, даже рассуждая, он действует, ах, с какой похотью он присматривается к роскошному заду моего брата, как вдохновенно накачивает нашему удальцу его великолепный... Присоединимся, Эжени! Трубка насоса вознеслась вверх; нас вот-вот затопят.
ЭЖЕНИ. Ах, бесценная подруга, что за чудовищный агрегат! Мне его и в кулак не зажать! О, мой Боже! Они все такие здоровенные?
ДОЛЬМАНСЕ. Взгляните на мой, Эжени: он существенно уступает в размерах; да, такой, как у шевалье, небезопасен для юных девиц; вы верно предчувствуете – он пробьет вас насквозь.
ЭЖЕНИ ( уже во власти пальцев госпожи де Сент-Анж). Во имя наслаждения стерплю, какой угодно!
ДОЛЬМАНСЕ. И будете совершенно правы: не следует пугаться подобных орудий; природа все приспособила, как нельзя лучше – за незначительную боль она тотчас вознаграждает лавиной блаженства. Встречал я девиц помоложе вас, принимавших члены куда покрупнее. Немного смелости и терпения – и вы преодолеете любые препятствия. Чистое безумие полагать, что при лишении девушки невинности, предпочтительнее коротышки. Девственнице, на мой взгляд, напротив, должно вверять себя самым мощным снарядам – чем решительнее разрушается плева, тем живее ощущения. Правда, особа, испробовавшая такой режим, с трудом возвращается к середнякам; но если она богата, молода и хороша, то, в нужный момент, всегда отыщет подходящего размера. Пусть придерживается приемлемой для себя нормы; попадется помельче – при желании воспользоваться им, пусть вставит его себе в зад.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Именно так, но для полного счастья, лучше приладить два одновременно; сладостными толчками женщина подмахивает тому, который в ней спереди, ускоряя экстаз того, который сзади, и, орошенная спермой обоих, изливается сама, изнемогая от восторга.
ДОЛЬМАНСЕ ( наблюдая за тем, чтобы взаимная обработка во время диалога не прерывалась). Мне кажется, в нарисованной вами картине, мадам, недостает еще двух-трех персонажей; неплохо бы только что описанной даме в дополнение взять у кого-нибудь в рот и держать вдобавок еще по одному в каждой руке.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. А еще лучше – и под мышками, и в волосах, будь на то моя воля, их было бы тридцать; в эти минуты так хочется окружить себя ими одними – любоваться, трогать, грызть, пока все они разом не затопят тебя в миг собственного твоего истечения. Ах, Дольмансе! Знаю беспримерную вашу распущенность, но поверьте, по непристойности упоительных любовных схваток я иду с вами вровень... Мною пройдено все, что можно вообразить.
ЭЖЕНИ ( млея под ласками своей подруги, то же самое проделывает Дольмансе с шевалье). Ах, милая... ты вскружила мне голову! Представляю, вот я отдаюсь... множеству мужчин одновременно... Ах, как сладко! Какие у тебя пальчики, дорогая! Ты просто богиня наслаждения! А как восхитителен этот набухший член! Как раздувается и багровеет его царственная головка!..
ДОЛЬМАНСЕ. Дело идет к развязке.
ШЕВАЛЬЕ. Эжени... и ты, сестрица... придвиньтесь... Что за божественные груди! Что за нежные пухленькие бедра! Изливайтесь же! Изливайтесь обе, смешивайтесь с моей спермой! Вот она потекла... Ах, черт вас всех раздери! ( В критический момент Дольмансе направляет потоки спермы своего друга на обеих женщин, в особенности на Эжени.)
ЭЖЕНИ. Прекрасное зрелище! Возвышенное, величественное!.. Брызги спермы обдали меня с ног до головы... аж до самых глаз!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Подожди, милая, дай-ка я соберу эти драгоценные капельки и натру тебе ими клитор – это ускорит твою разрядку.
ЭЖЕНИ. Да, конечно, дорогая! Чудесная идея! Так и сделаем, а потом я вернусь в твои объятья.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Божественное дитя, целуй меня бессчетное число раз! Дай пососать твой язычок... ощутить твое легкое дыхание, разгоряченное вожделением!.. О, сила преисподняя! Вот-вот изольюсь! Доведи же меня, братец, умоляю!
ДОЛЬМАНСЕ. Ну же, шевалье... поковыряйтесь у сестрички...
ШЕВАЛЬЕ. Предпочел бы вставить ей, как положено: у меня еще стоит.
ДОЛЬМАНСЕ. Отлично, займитесь ею, а мне на время этого восхитительного инцеста предоставьте ваш зад. Эжени вооружим вот этим годмише, пусть содомирует меня. В один прекрасный день она исполнит свое предназначение – блестяще отыграть любую роль в любом развратном действе, а пока пусть поупражняется и усвоит как следует начальные уроки.
ЭЖЕНИ ( вооружившись годмише). О, охотно! Не беспокойтесь, по части разврата я не ударю в грязь лицом: отныне нет для меня иного божества, иного правила и иного руководства к действию. ( Она содомирует Дольмансе.) Ну как, дорогой учитель? У меня получается?
ДОЛЬМАНСЕ. Великолепно! Сказать по правде, малышка обслуживает меня не хуже заправского мужика! Блестяще! По-моему, мы прекрасно соединились вчетвером: осталось дойти до конца.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ах, я не выдержу, шевалье! Еще несколько ударов твоего красавчика – и я испущу дух!
ДОЛЬМАНСЕ. Разрази меня гром! Упоительная жопа, просто восторг! Ах, тысяча чертей! Попробуем всей четверкой одновременно... Конец! Я выдохся! Никогда еще не извергался так сладостно! А что у тебя, шевалье, ты уже растратил свою сперму?
ШЕВАЛЬЕ. Видишь эту женскую штуку – как обильно она ею вымазана.
ДОЛЬМАНСЕ. Ах, друг мой, как жаль, что все это досталось не моей заднице!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Отдохнем, иначе я умру.
ДОЛЬМАНСЕ ( целуя Эжени). Очаровательная девчонка – обработала меня, как Бог.
ЭЖЕНИ. Признаться, мне и самой это доставило удовольствие.
ДОЛЬМАНСЕ. Истинной распутнице все в радость, лучшее занятие женщины – любовные утехи, бесконечно разнообразные, вплоть до самых невообразимых бесчинств.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. У моего нотариуса отложено пятьсот луидоров для того, кто сообщит о неизвестном мне пристрастии и сумеет погрузить меня в еще неизведанные ощущения.
( Собеседники приводят себя в порядок и переходят к беседе.)
ДОЛЬМАНСЕ. Интересная мысль, стоит принять на вооружение – полагаю, своеобычные ваши фантазии, мадам, вряд ли хоть отдаленно напоминают те скудные утехи, кои вы только что вкусили.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Сделайте одолжение, объясните.
ДОЛЬМАНСЕ. По чести сказать, нет ничего скучнее засовывания спереди, и мне не понять, как вы, мадам, изведав преимущества жопы, способны прибегнуть к чему-либо иному.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Что поделать – старые привычки. Впрочем, женщине моего склада хочется быть пробитой повсюду, ибо ощущать этот таран в себе, в любой части тела – огромное счастье. Тем не менее придерживаюсь того же мнения, что и вы, и готова подтвердить: для истинной ценительницы сладострастия наслаждение, испытываемое от проникновения в зад, острее обычного удовольствия. Говорю со знанием дела – во всей Европе мне нет равных по числу проб и тем, и другим способом, это действительно несопоставимые величины: испытав употребление в зад, крайне неохотно возвращаешься к переду.
ШЕВАЛЬЕ. А я так не считаю. Готов приспособиться к чему угодно, однако в женщинах предпочитаю именно тот алтарь, на который указывает сама природа.
ДОЛЬМАНСЕ. Так ведь это же жопа! Дорогой мой шевалье, доискиваясь до сути законов природы, выявляешь, что единственный алтарь, определенный ею для оказания почестей, – дырка задницы; предписывает природа именно это отверстие, а против всех остальных просто не возражает. Если в намерения ее не входит использование задов, какого же черта она так точно приладила их очко к нашим членам! Случайно ли и те, и другие округлой формы? Только истинный враг здравого смысла может вообразить, что для круглых членов природа предназначила овальную дыру! Благодаря такой аномалии, без труда обнаруживается ее замысел; она ясно дает нам понять, сколь раздражает ее бесконечная череда жертвоприношений, совершаемых в неподходящую часть тела, известную терпимость, в этом отношении, она проявляет лишь для поддержания рождаемости. А теперь вернемся к нашей воспитаннице. Эжени только что приобщилась к великому таинству оргазма; настала пора научить ее правильно направлять его потоки.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ей придется нелегко – вы оба вычерпаны до дна.
ДОЛЬМАНСЕ. Согласен, и потому желательно отыскать в вашем доме или в деревне какого-нибудь крепкого парня. Он послужит нам манекеном, и мы продолжим наши уроки.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. У меня есть именно то, что нужно.
ДОЛЬМАНСЕ. Уж не тот ли это случайно садовник, лет восемнадцати-двадцати, которого я недавно приметил у вас на огороде? Видный юноша!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Огюстен? Да, так точно, это Огюстен, а член у него – тринадцать дюймов в длину на восемь с половиной в окружности!
ДОЛЬМАНСЕ. Боже правый! Ну и монстр! Он еще и извергается?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. О, как из ведра! Сейчас разыщу его.
ПЯТЫЙ ДИАЛОГ
Дольмансе, шевалье, Огюстен, Эжени, госпожа де Сент-Анж.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ ( приводит Огюстена). Вот парень, о котором я вам говорила. Ну что, друзья мои, развлечемся! Что наша жизнь без удовольствий?! Подойди поближе, бестолковый. О, какая деревенщина! Вы не поверите, вот уже полгода я тружусь, обтесывая этого толстенького кабанчика, и никак не справлюсь.
ОГЮСТЕН. Ей-ей, госпожа! Иногда вы говорите, что я еще ничего и кое-что у меня получается, а уж попадись какая необработанная грядка, вы тут же даете именно мне.
ДОЛЬМАНСЕ ( смеясь). Ах! Что за прелесть! Очаровательно! Наивная непосредственность в соединении со свежестью... ( Демонстрируя Эжени). Огюстен, дружок, вот нетронутая клумба в палисаде; готов ли ты за нее взяться?
ОГЮСТЕН. Ай, побойтесь Бога, господа хорошие! Такие лакомые кусочки не про нас.
ДОЛЬМАНСЕ. Смелее, мадемуазель.
ЭЖЕНИ ( краснея). О Боже! Какой стыд!
ДОЛЬМАНСЕ. Откиньте это малодушное чувство; все наши действия, а в особенности развратные, внушены нам природой, и что бы мы ни измыслили, не должно вызывать в нас стыда. Ведите себя с этим юношей, как грязная шлюха; подстрекая мужчину к распутству, девушка отдает дань природе, ибо главное предназначение слабого пола – бесчестить себя перед сильным полом; словом, вы, женщины, созданы исключительно для блуда, и те из вас, которые стремятся ускользнуть от служения природе, недостойны жизни на земле. А теперь спустите-ка сами с этого молодого человека штаны – пониже, до конца его замечательных ляжек, рубашку ему заверните под жилетку, пусть передняя сторона – и задняя, которая, между прочим, изумительно хороша, – находятся в полном вашем распоряжении. Одной рукой хватайтесь за этот объемный кусок плоти, вскоре, надеюсь, он устрашит вас своим видом, другой рукой прогуливайтесь по ягодицам и щекочите отверстие жопы... Да, вот так. ( Показывая Эжени, о чем идет речь, он сам сократизирует Огюстена.) Откройте как следует эту красную головку и всегда оставляйте непокрытой; оголите ее... натяните уздечку до предела... Ну! Видите, сколь действенны мои уроки? А ты, мой мальчик, умоляю, не стой сложа руки; тебе что, нечем их занять? Пройдись-ка по этой кукольной грудке, по этой прелестной попке...
ОГЮСТЕН. Господин, коли эта барышня делает мне так хорошо, стало быть, мне позволительно ее целовать?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Эх ты, дурачок! Целуй же ее, сколько хочешь; разве со мной ты не целуешься, когда я с тобой сплю?
ОГЮСТЕН. Ай, Бог ты мой! Красивенький ротик! Как пахнет! Будто бы засовываешь нос в розы нашенского сада! ( Показывает свой стоячий член.) Вот те на! Гляньте, до чего его довели!
ЭЖЕНИ. О, Боже! Как он удлиняется...
ДОЛЬМАНСЕ. Теперь движения ваши становятся более упорядоченными и энергичными... Уступите мне место на минутку и наблюдайте, как я это делаю. ( Он мастурбирует Огюстена.) Смотрите, вот так, сильно и в то же время нежно... Возвращаю вам его, только не покрывайте головку... Прекрасно! Наконец он во всей своей красе; теперь приглядимся, действительно ли он толще, чем у шевалье.
ЭЖЕНИ. Не подлежит сомнению – взгляните, я даже не могу обхватить его.
ДОЛЬМАНСЕ ( измеряет). Да, вы правы: тринадцать в длину и восемь с половиной в окружности. Мне не доводилось видеть толще. Что называется роскошный прибор. Вы пользуетесь им, мадам?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Регулярно, каждую ночь, которую провожу в этой деревне.
ДОЛЬМАНСЕ. Надеюсь, в жопу?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Да, туда, пожалуй, чаще, чем в соседнее отверстие.
ДОЛЬМАНСЕ. Ах, чертова распутница! По чести сказать, не уверен, что выдержу такой.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Не прибедняйтесь, Дольмансе; в вашу жопу он войдет с такой же легкостью, как в мою.
ДОЛЬМАНСЕ. Посмотрим; льщу себя надеждой, что наш Огюстен почтит мой зад, впрыснув туда немножко спермы; я, со своей стороны, в долгу не останусь, однако возобновим наши уроки... Итак, Эжени, змей вот-вот изрыгнет свой яд: приготовьтесь; не отрывайте глаз от головки этого несравненного члена; и когда, в преддверии близкой эякуляции он набухнет и окрасится в роскошный свой багрянец, двигайте руками энергичней, в полную силу, пальцами щекочите анус, погружаясь на всю глубину; полностью отдавайтесь во власть партнера, пусть забавляется вашим телом, как пожелает; ищите его рот, сосите его; все ваши прелести обращены навстречу его рукам... И вот, Эжени, настает миг вашего торжества – он извергается!
ОГЮСТЕН. Ай! ай! ай! Мамзель, кончаюсь!.. Невтерпеж!.. Ну давай, поднажми, умоляю... Фу, чертовка, аж в глазах темно!
ДОЛЬМАНСЕ. Множьте ваши усилия, Эжени, наращивайте темп! Не осторожничайте, он опьянел от восторга... Ах, какая лавина спермы! С какой мощью он ее метнул! Вот следы первого выброса: выше десяти футов... Черт подери! Залил всю комнату! Никогда не видел такого семяизвержения, и вы уверяете, мадам, что сегодня ночью уже им попользовались?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Думаю, раз девять-десять: мы уже давно сбились со счета.
ШЕВАЛЬЕ. Прекрасная Эжени, вы покрыты спермой с ног до головы.
ЭЖЕНИ. С радостью бы в ней утонула. ( Обращаясь к Дольмансе.) Ну как, учитель мой, теперь ты доволен?
ДОЛЬМАНСЕ. Очень недурно для начала, хотя некоторыми мелочами вы все же пренебрегли.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Не торопите события: нюансы – продукт опыта. Что до меня, я чрезвычайно довольна малышкой Эжени: она обнаруживает незаурядные способности и, полагаю, вполне заслуживает того, чтобы перед ней разыгрался новый спектакль наслаждения. Пусть полюбуется, как нужно орудовать в тылу. Для чего готова предоставить вам, Дольмансе, свою собственную задницу; братец заключит меня в объятия, употребляя спереди, в то время как вы обслужите меня с противоположной стороны с помощью Эжени – она подготовит ваш снаряд, вставит мне в анус и направит его движения, так наша подопечная овладеет стратегией, после чего мы со спокойной душой подвергнем ее атаке нашего несокрушимого Геркулеса.
ДОЛЬМАНСЕ. Хочется верить, что прелестный ее задик вскоре на наших глазах будет истерзан мощными ударами бравого Огюстена. Полностью согласен на ваше предложение, мадам, позвольте, однако, для вашего же блага, поставить дополнительное условие: содомизируя вас, я – буквально двумя взмахами руки – заведу Огюстена, и он поработает на меня сзади.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Целиком одобряю такого рода композицию; мне от нее только выигрыш, а нашей ученице – два превосходных урока вместо одного.
ДОЛЬМАНСЕ ( завладевая Огюстеном). Иди сюда, мой толстячок, сейчас я воскрешу тебя... Красавчик! Целуй же меня, будь другом... Ты еще не просох от спермы, а я уже требую от тебя новой порции... Черт возьми! Неплохо бы не просто помастурбировать его, но и пососать ему заднюю дыру...
ШЕВАЛЬЕ. Подойди, сестрица; для исполнения ваших с Дольмансе общих замыслов, я растянусь на кровати; ты ляжешь на меня, выставив ему на обозрение твои великолепные ягодицы, раздвинув их как можно шире... Да, именно так: теперь можем начинать.
ДОЛЬМАНСЕ. Нет, погодите: сначала я вставлю в жопу вашей сестре, затем Огюстен осторожненько войдет в меня, и лишь после этого я вас сочетаю браком с помощью своих пальцев. Не следует нарушать эти правила; помните: на нас смотрит ученица, а значит, уроку нашему должно стать безупречным. Пока я доведу до нужного состояния могучее орудие этого негодника, вы, Эжени, руками добьетесь моей эрекции, периодически поддерживая ее легкими прикосновениями вашей попки... ( Она исполняет.)
ЭЖЕНИ. Я делаю правильно?
ДОЛЬМАНСЕ. Движения ваши несколько вяловаты; сожмите член покрепче, Эжени; мастурбация тем и хороша, что при ней достигается большее давление, чем при обычном соитии, и рука, обрабатывающая подъемное устройство, обеспечивает ему гораздо более плотный обхват, нежели любая другая часть тела... Уже лучше! Вы делаете успехи! Расширьте немножко вашу заднюю норку, пусть каждый удар моего набалдашника отзывается в глубине вашей жопы... да, вот так! Поковыряйся у сестренки, шевалье, через минуту мы будем в твоем распоряжении... Ах, здорово! У моего парня уже стоит... Настраивайтесь, мадам; раскройте ваш дивный зад для непристойного моего пыла, а ты, Эжени, направляй мое копье: именно твоей рукой должна быть пробита брешь; именно тебе надлежит осуществить проникновение, и как только протолкнешь в мадам, хватайся за копье Огюстена и загоняй его в меня до самого нутра – таковы начальные наставления для послушницы, усваивай их, как следует.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Тебе хорошо видны мои ягодицы, Дольмансе? Ах, ангел мой, если бы ты знал, как я хочу тебя, как давно я жажду, чтобы меня отодрал истинный мужеложец!
ДОЛЬМАНСЕ. Готов внять вашим мольбам, мадам; но потерпите чуточку, я на миг задержусь у подножия кумира, дабы воздать ему хвалу прежде, чем проникнуть в святая святых... Божественная жопа! Зацелую ее! Не устану лизать ее тысячу и тысячу раз! Получай, вот герой, которого ты так ждала!.. Чувствуешь его в себе, бестия? Отвечай же, чувствуешь, как он входит?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ах, всади его в меня до самого дна! Ничто не сравнится со всевластием этого удовольствия!
ДОЛЬМАНСЕ. Впервые встречаю такую жопу, достойную самого Ганимеда! Ну-ка за дело, Эжени, позаботься о том, чтобы Огюстен не обошел вниманием и мою задницу.
ЭЖЕНИ. Вот он, предоставляю его вам в рабочем состоянии. ( Обращаясь к Огюстену.) Взгляни, ангелок, видишь дырку – тебе ее нужно просверлить.
ОГЮСТЕН. Таращусь я на нее, госпожа, и соображаю... Да здесь места хоть отбавляй! Мне туда войти проще, чем в вас, мамзель; поцелуйте меня хоть разок, так он легче пройдет.
ЭЖЕНИ ( целуя его). О, сколько хочешь, цветик ты мой! Давай заталкивай! Головка поглощена мгновенно... Ах, кажется, вот-вот утонет и остальное...
ДОЛЬМАНСЕ. Продвигайся, дружок, глубже... если надо, рви меня на части... Не волнуйся, моя жопа приспособится... Ах, разрази меня гром! Ну и дубина! Никогда еще не принимал такую... Сколько дюймов еще остается снаружи, Эжени?
ЭЖЕНИ. Едва наберется два.
ДОЛЬМАНСЕ. Значит, глубина моей задней дыры достигает одиннадцати! Какая сладость! Как он меня истерзал, отдаю концы... Эй, шевалье, ты уже на взводе?
ШЕВАЛЬЕ. Пощупай и скажи, что ты об этом думаешь.
ДОЛЬМАНСЕ. Вперед, дети мои, я поженю вас... поспособствую в меру своих сил чудесному сему инцесту. ( Он вводит член шевалье во влагалище его сестры.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ах, дорогие мои, вот я и пронзена с обеих сторон... Я сама Святая Троица! Неземное блаженство, не знающее равных в этом мире... Ах, как мне жаль женщин, не испытавших такое! Встряхни меня, Дольмансе, посильнее!.. Каждым толчком безжалостно бросай меня на меч моего брата, а ты, Эжени, постигай служение пороку: смотри на меня и учись вкушать и вдохновенно смаковать его услады... Видишь, любовь моя, сколько прегрешений я совершаю разом: скандал, совращение, дурной пример, инцест, адюльтер, содомию!.. О Люцифер! Единственное божество души моей! Внуши мне еще хоть что-нибудь неизведанное, подари моему сердцу свежие извращения и полюбуйся, с каким упоением я в них окунусь!
ДОЛЬМАНСЕ. Чувственница! Речи твои, вкупе с раскаленным жаром твоего зада, выжимают из меня сперму, торопя ее выброс! Еще секунда – и я готов... Эжени, подогрей-ка моего удалого сверлильщика: сдави его бока, приоткрой его ягодицы, тебе уже знакомо искусство оживления угасающей похоти... Одно твое приближение заряжает энергией бурящее меня сверло... Это передается мне, удары все резче... Плутовка, ты, похоже, не отказалась бы, уступи я тебе то, что в данный момент предназначено одной моей жопе... Шевалье, ты, чувствую, несешься, закусив удила... Погоди, я тебя догоню! Дождись всех нас! О, друзья мои, изольемся же одновременно: это высшее счастье жизни!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ах, дьявол вас раздери! Извергайтесь, когда угодно... А я больше не удержусь... я уже дошла... Убей меня Бог! Истекаю любовным соком... Милые вы мои, затапливайте меня... захлестывайте вашу блудницу... пенистыми валами вашей спермы доставайте до глубины ее пламенной души: она создана для того, чтобы впитывать их!.. Ах, к черту и Отца, и Сына, и Святого Духа! Нечеловеческое наслаждение! Еще миг – и отойду в вечность! Эжени, дай я расцелую тебя, дай я тебя съем, дай вберу в себя твою влагу – хочу восполнить потерю моего нектара! ( Огюстен, Дольмансе и шевалье вторят ей хором; боясь показаться монотонными, мы не станем воспроизводить выражения каждого из участников, весьма сходные в такие минуты.)
ДОЛЬМАНСЕ. Это один из сладчайших в моей жизни оргазмов. ( Указывая на Огюстена.) Славный малый – наполнил меня спермой до самых краев! Надеюсь, мадам, я тоже не остался перед вами в долгу?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ах, и не говорите – просто наводнение.
ЭЖЕНИ. А мне ничего не досталось! ( Бросаясь в объятия своей подруги и явно резвясь.) Ты похвалилась, дорогая, что совершила уйму грехов, мне же предоставила роль свидетеля чужих удовольствий, не дав поучаствовать в них в полной мере. Ах, будь мне предписан режим питания, подобный твоему, думаю, у меня не было бы несварения!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ ( смеясь). Причудница!
ДОЛЬМАНСЕ. Она очаровательна! Идите ко мне, малышка, я подстегну ваш пыл. ( Легонько шлепает ее по заду.) Поцелуйте меня и чуточку потерпите: дойдет очередь и до вас.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Отныне займемся ею одной. Оцени-ка, братец, свою добычу, приглядись к этой прелестной целизне – честь нарушить ее принадлежит тебе.
ЭЖЕНИ. О, не надо спереди: мне, наверное, будет очень больно! Сколько угодно, но только сзади, как недавно проделал со мной Дольмансе.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Наивная восхитительная девочка! Сама просит именно о том, чего так трудно добиться от других!
ЭЖЕНИ. Все же мне немного совестно: об этом всегда говорят, как о величайшем преступлении, особенно если мужчина с мужчиной, как Дольмансе с Огюстеном... И вы меня еще не разубедили. Неужели ваша, сударь, философия способна оправдать подобное прегрешение? Разъясните, отчего его считают столь неподобающим.
ДОЛЬМАНСЕ. Исходная посылка, Эжени, состоит в том, что ничего ужасного в распутстве нет и быть не может, ибо любые проявления распутства внушены нам природой; самые, казалось бы, экстраординарные и странные деяния, самые шокирующие законы и институты, учрежденные человеком (не станем затрагивать промыслов небесных), ничуть не предосудительны, даже если речь идет о крайностях, поскольку любая из них присутствует в природе, и та, о которой упомянули вы, прекрасная Эжени, отнюдь не исключение. На сей счет даже сложена небылица, вошедшая в Священное Писание: в этом скучном романе, представляющем собой компиляцию, составленную неким невежественным евреем, жившим в эпоху вавилонского плена, повествуется о том, как небезызвестные города или, вернее, местечки Содом и Гоморра были испепелены огнем. Слухи о том, что их жители наказаны за хождение за иной плотью, совершенно неправдоподобны – Содом и Гоморра были расположены неподалеку от кратеров древних вулканов, и их постигла участь многих городов Италии, поглощенных лавой Везувия; вот и все чудо. Тем не менее, основываясь на столь непримечательных событиях, люди изобретают варварскую кару – предавать огню несчастных обитателей части европейского континента, одержимых этой естественной фантазией.
ЭЖЕНИ. Естественной! Неужели...
ДОЛЬМАНСЕ. Готов отстаивать ее естественность. У природы нет двух голосов, один из которых вседневно и всечасно осуждает то, на что вдохновляет второй. Совершенно очевидно, что передаются импульсы к пристрастиям такого рода именно через посредство природы. У приверженцев этой склонности много противников – их клеймят позором и объявляют вне закона. В качестве аргумента выдвигается довод о том, что они создают препятствия росту народонаселения. До чего же примитивны невежды, озабоченные идеей повышения рождаемости и рассматривающие в качестве преступления все, что этому не способствует! А где, собственно, свидетельства особой заинтересованности природы в росте народонаселения, как нас пытаются в том уверить? На самом ли деле оскорбляет природу чье-либо уклонение от участия в идиотском процессе размножения? Вникнем в суть ее движения и развития. Если бы природа занималась исключительно созиданием, никогда ничего не разрушая, то и я вторил бы навязчивым софистам, убежденным, что наиболее возвышенные деяния совершает тот, кто беспрестанно трудится над повышением рождаемости, и согласился бы, вследствие этого, что отказ от воспроизводства непреложно явится преступлением. Однако даже поверхностное рассмотрение явлений природы ясно свидетельствует о том, что для осуществления ее замыслов разрушение столь же необходимо, как и созидание. Разве не связаны они и не сцеплены столь тесно, что порой невозможно оторвать одно от другого? Разве рождается или обновляется хоть что-нибудь без уничтожения того, что существовало прежде? Разрушение – столь же всеобщий закон природы, как созидание.
Признавая этот постулат, правомерно ли считать надругательством над природой отказ что-либо создавать? Зло от предполагаемого в этом случае ущерба, несомненно, слабее результата разрушения, которое, как мы только что выяснили, вполне сообразуется с ее законами. Итак, с одной стороны, я следую внушенной мне природой склонности, ведущей к определенной утрате, с другой – я исполняю то, что ей необходимо, то есть, служа своим вкусам, я вполне соответствую ее намерениям. Так в чем же, собственно, состоит мое преступление? В качестве возражения и недоумки, и приверженцы размножения (слова эти вполне синонимичны) приводят довод: плодоносной сперме должно быть помещенной между ваших ног исключительно с целью воспроизводства себе подобных, а значит, сворачивать ее с нужного пути – прегрешение. Во-первых, я уже доказал, что это утрата мелкая и неравносильная разрушению, которое – даже будучи куда более действенным – преступлением не является. Во-вторых, рассуждение о том, что семенная жидкость предназначена природой целиком и полностью для зачатия, ошибочно: будь так, природа просто запретила бы истечение семени по иному случаю, но, как мы знаем по личному опыту, оно постоянно происходит – туда, куда нам захочется, и тогда, когда нам захочется. Воспротивилась бы природа также и потерям семени вне коитуса, происходящим порой в наших снах и воспоминаниях: будь природа скупа на бесценную эту жидкость, она допустила бы вытекание ее исключительно в сосуд для размножения и, несомненно, не позволила бы нам испытывать дарованное ею же наслаждение тогда, когда мы уклоняемся от причитающихся ей подношений, и уж, наверное, не согласилась бы одаривать нас блаженством даже в те минуты, когда мы относимся к ней наплевательски. Далее. Допустим, что женщины созданы лишь для того, чтобы рожать, и воспроизводство чрезвычайно ценно для природы – отчего тогда на самую долгую женскую жизнь, за всеми вычетами, приходится от силы семь лет детородного периода? Как же так! Природа жаждет размножения, все, что не способствует этой цели, для нее оскорбительно, и в то же время из ста лет жизни особи женского пола, предназначенной для воспроизведения себе подобных, на реализацию столь важной цели она отводит только семь лет! Природа стремится исключительно к размножению, а семя, предоставленное ею мужчине для служения этому самому размножению, растрачивается так, как это вздумается мужчине! Теряя сперму впустую, он испытывает ничуть не меньшее наслаждение, нежели используя ее по назначению, – и никаких нежелательных последствий!
Довольно, друзья мои, довольно верить в нелепый вздор, отвратительный людям здравомыслящим. Думаю, мы нисколько не обидим природу, предполагая, что законам ее служат именно содомит и трибада, упорно отвергающие обычное совокупление, результатом коего является до оскомины надоевшее ей потомство. Не стоит обманываться: размножение, как я уже говорил, суть проявление не основного закона природы, а скорее, ее снисходительности. Ей глубоко безразлично, угаснет ли род человеческий или вовсе сотрется с лица земли. Она смеется над нашим горделивым убеждением о том, что, случись такая беда, тотчас наступит конец света. Да она и не заметит такой безделицы. Вспомните, сколько вымерло племен и народов! В трудах одного Бюффона их насчитывается великое множество, и природа преспокойно взирает на безвозвратные сии потери. Исчезни целый род человеческий – воздух не станет менее чистым, звезды не потускнеют, ход вселенной ничуть не нарушится. Верить в необычайную полезность нашего биологического вида для этого мира, как и в то, что следует считать преступником всякого, кто не трудится над его приумножением либо таковое прерывает, – верх слабоумия! Довольно заблуждаться на сей счет, и пусть пример народов более благоразумных поможет разобраться в наших представлениях. Нет ни одного уголка на земле, где бы слывущая преступлением содомия не удостоилась своих храмов и своих приверженцев. Греки даже возвели ее в своего рода добродетель, воздвигнув статую, именуемую Венера Каллипига. Рим учился законам у Афин, переняв божественное сие пристрастие.
А какие успехи делает содомия в эпоху императоров! Под сенью римских орлов она простирает свое влияние от одного края земли до другого! После развала империи она укрывается у папской тиары, сопровождает все области искусства Италии, затрагивая любого, кто приобщается к культуре. Открываем новое полушарие – обнаруживаем содомию. Кук впервые забрасывает якорь в Новом Свете – а она уже там воцарилась. Если бы наши воздушные шары очутились на Луне, они точно так же встретились бы с содомией. Восхитительное пристрастие, дитя природы и наслаждения, неразлучный спутник человечества, и повсюду те, кому оно знакомо, воздвигают ему алтари! О, друзья мои, что за нелепость – считать мужчину нравственным уродом, достойным расстаться с жизнью, лишь за то, что ему больше нравится задняя, а не передняя дыра, поскольку юноша, способный одарить его двойным удовольствием – почувствовать себя и любовником, и любовницей – для него предпочтительнее девицы, сулящей только один вид наслаждения! Выходит, он – чудовище и мерзавец оттого, что пожелал выступить в роли, не свойственной его полу! Отчего же тогда природа создала его столь восприимчивым к таким утехам?
Приглядитесь повнимательнее к его физическому сложению, и вы тотчас заметите коренные отличия от остальных мужчин, не разделяющих подобных вкусов: ягодицы его белее и пухлее, ни один волосок не затеняет алтарь наслаждения, внутренняя часть устлана оболочкой нежной, чувствительной и трепетной, сродни внутреннему устройству женского влагалища. Еще более отличаются такие мужчины от других нравом, мягким и гибким, им присущи все пороки и добродетели женщин, в том числе и пресловутая их слабость, они женственны и в причудах своих, и в чертах лица. Возможно ли, чтобы природа, столь рьяно уподобляя их женщинам, сердилась на них из-за такого рода наклонностей? Разве не ясно, что это особая порода мужчин, сотворенная природой для ограничения рождаемости, ибо чрезмерное размножение неминуемо нанесет ей вред? Ах, милая моя Эжени, если бы вы знали, что за восхитительное ощущение, когда мощный член заполняет все пространство вашего зада, он проваливается в вас до самых яиц, пламенно трепещет внутри – и, выдвинутый по крайнюю плоть, вбивается все глубже и глубже, аж до самых волос! Нет и еще раз нет! Не существует в нашем мире блаженства, сравнимого с содомией: это услада философов, героев и богов, более того: осмелюсь предположить, что символические участники возвышенного сего действа – единственные божества, коим нам должно поклоняться на земле! [7]
ЭЖЕНИ ( очень возбужденная). О, друзья мои, возьмите меня прямо сейчас! Вот мои ягодицы... Примите их в дар! Войдите же в меня, я истекаю соком! ( Произнося эти слова, она падает в объятия госпожи де Сент-Анж, которая сжимает ее, целует и подносит ее поднятые кверху бедра Дольмансе.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Божественный учитель, устоите ли вы от такого искушения? Неужели вас не прельстит этот восхитительный задик? Взгляните, как он зияет, приоткрывая свой зев.
ДОЛЬМАНСЕ. Прошу прощения, прекрасная Эжени: вопреки вашим надеждам, не я погашу огонь, который ненароком разжег. Милое дитя, вы виноваты передо мной не на шутку: вы женщина. Может, настанет час, когда мне захочется позабыть о своем предубеждении, подбирая первоначальные ваши красы, уже сорванные кем-нибудь другим, но на сей раз позвольте мне ограничиться лишь этим признанием; черную работу возьмет на себя шевалье. Его сестра, вооружившись вот этим годмише, нанесет атакующие удары жопе брата, свою роскошную задницу она подставит Огюстену, он займется мадам, а я тем временем употреблю его самого. Не скрою – жопа этого красавчика вот уже целый час неудержимо манит меня, и я не успокоюсь, пока не верну ему то, что он мне ввалил.
ЭЖЕНИ. Не возражаю против перемены мест, и все же, сказать по правде, Дольмансе, откровенность вашего признания отдает неучтивостью.
ДОЛЬМАНСЕ. Тысяча извинений, мадемуазель; нам, мужеложцам, нечем похвастать, кроме искренности и четкого соблюдения своих принципов.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Репутация человека чистосердечного мало применима к тому, кто, подобно вам, привык нападать на ближнего с тыла.
ДОЛЬМАНСЕ. Вы полагаете, такой прием усиливает склонность к фальши и предательству? Отнюдь нет, мадам, я уже объяснял, лицемерны мы ровно настолько, насколько сие вызвано необходимостью выживания в обществе. Мы обречены на существование среди людей, крайне заинтересованных в сокрытии истинного своего лица и рядящих пороки свои в одежды никогда не соблюдаемых ими добродетелей, и в таких условиях, всякое проявление искренности крайне опасно; стоит ли сетовать на надувательство, раз сам отдаешь всех козырей в чужие руки. Общество нуждается в лицемерии и скрытности – не станем же противиться. Позвольте, мадам, продемонстрировать справедливость этих высказываний на моем собственном примере: нет на свете создания более испорченного, чем ваш покорный слуга, при этом мне удается вводить всех в заблуждение. Спросите любого – вам непременно ответят, что я человек порядочный, хотя на самом деле нет преступления, которым бы я не потешился ради своего удовольствия.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. О, вы хотите убедить меня, что действительно натворили ужасов?
ДОЛЬМАНСЕ. Ужасов? Сказать по правде, мадам, скорее жестокостей.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Вот оно что! Вы, как тот умирающий, признавшийся исповеднику: «Откинем ненужные подробности, отец мой; исключим убийство и грабеж, во всем остальном я грешен»!
ДОЛЬМАНСЕ. Да, пожалуй, мадам, я повторил бы нечто подобное, однако за некоторым исключением.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Как! Вы не просто развратник, вы позволяете себе кое-что и...
ДОЛЬМАНСЕ. Я ни в чем себе не отказываю, мадам, решительно ни в чем. Да и что, собственно, может остановить человека с моим темпераментом и с моими принципами?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ах, давайте продолжим наши любовные игры! От таких разговоров я возбудилась донельзя, мы еще поговорим, Дольмансе, но после: в истинность ваших признаний я поверю лишь, если вы произнесете их на свежую голову. Когда у вас твердеет, вы обожаете говорить всякие гадости, и мы рискуем принять за чистую монету вольные речи, порожденные вашей распаленной фантазией. ( Готовится новая поза.)
ДОЛЬМАНСЕ. Не торопитесь, шевалье: я введу его своими руками, но сначала, да простит меня прекрасная Эжени, нам потребуется немного раззадорить ее поркой. ( Он сечет ее.)
ЭЖЕНИ. Подобная церемонность, право, бесполезна... Сознайтесь, Дольмансе, вы заботитесь о собственном сластолюбии? Не изображайте, прошу вас, что стараетесь для меня.
ДОЛЬМАНСЕ ( продолжая стегать ее). Ах, скоро вы меня еще поблагодарите! Вам пока неведома действенность такой прелюдии... Ну и задам я тебе сейчас, озорница!
ЭЖЕНИ. О боже! Как напустился! Моя бедная попка вся горит! Вы причиняете мне боль, правда!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Я отомщу за тебя, деточка; отвечу ему тем же. ( Она порет Дольмансе.)
ДОЛЬМАНСЕ. О, как я рад – от всего сердца! Прошу Эжени лишь об одной милости – позволить мне отстегать ее с той же силой, с какой бит я сам. Видите, как исправно следую я законам природы? Только давайте устроимся поудобнее: пусть Эжени обхватит ваши бедра, мадам, затем обнимет вас за шею, по примеру матерей, носящих своих детей на спине, – так у меня под рукой окажутся сразу две попки, и я отколочу обе разом, а шевалье и Огюстен вернут мне долг, исхлестав, как следует, мои ягодицы... Вот так, покрепче!.. Ах, молодцы! Просто рай!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Не жалейте эту проказницу, умоляю, для себя пощады не прошу, но и ей не делайте поблажек.
ЭЖЕНИ. Ай-ай-ай! Кажется, у меня течет кровь.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Она лишь приукрасит твои ягодицы, расцвечивая их... Держись, ангелок мой дорогой, не робей! Помни: только в муках рождается наслаждение.
ЭЖЕНИ. Нет сил терпеть, поверьте...
ДОЛЬМАНСЕ ( на мгновение прерываясь и любуясь плодами своего труда, затем возобновляя порку). Еще шестьдесят, Эжени, да, да, шестьдесят по каждой ягодице!.. О, разбойницы! С каким пылом вы теперь ринетесь в схватку! ( Композиция распадается.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ ( рассматривая ягодицы Эжени). Ах, бедняжка, вся попка в крови! Злодей, ну и порадуешься ты теперь, проходясь поцелуями по следам своей бесчеловечности!
ДОЛЬМАНСЕ ( занимаясь онанизмом). О да, не скрою, мне нравятся эти кровавые следы, правда, будь порка пожестче, поцелуи мои могли быть и погорячее.
ЭЖЕНИ. Да вы просто изверг!
ДОЛЬМАНСЕ. Не спорю.
ШЕВАЛЬЕ. Ему не откажешь в правдивости.
ДОЛЬМАНСЕ. Пришло время предаться с ней содомии, шевалье.
ШЕВАЛЬЕ. Подержи ее за бока, три толчка – и он туда войдет.
ЭЖЕНИ. О Господи, у вас еще толще, чем у Дольмансе! Вы разрываете меня на части, шевалье! Поосторожней, молю вас!..
ШЕВАЛЬЕ. Это невозможно, ангел мой. Я двигаюсь прямо к цели... За мной наблюдает мой наставник, и мне должно проявить себя достойным его учеником.
ДОЛЬМАНСЕ. Он уже там! Что за изумительное зрелище – мохнатый зверь, трущийся о перегородки ануса... Вперед, мадам, содомируйте вашего братца! А вот забияка Огюстена, уже готовый прорваться в вас, я же, со своей стороны, ручаюсь не щадить вашего обидчика... Ах, замечательно, цепочка, похоже, выстроена, теперь все помыслы подчинены разрядке.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Посмотрите, как извертелась эта маленькая потаскушка.
ЭЖЕНИ. Разве я виновата, что умираю от наслаждения!.. Это бичевание... этот огромный член... любезный шевалье, чей палец не покидает меня все это время... Милая моя, родная, я больше не могу!..
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Черт подери! Мне не до тебя, я изливаюсь!
ДОЛЬМАНСЕ. Давайте сообща, друзья мои! Соизвольте предоставить мне две минутки, я настигну вас, и мы придем к финалу одновременно.
ШЕВАЛЬЕ. Поздно, моя сперма течет по заднему проходу прекрасной Эжени... я улетаю! Я на седьмом небе!
ДОЛЬМАНСЕ. Я за вами, друзья... по пятам... сперма слепит меня...
ОГЮСТЕН. И я! Я тоже отдаю концы!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Какая трогательная сцена! Этот увалень заполнил всю мою жопу...
ШЕВАЛЬЕ. Ну-ка, дамочки, к биде!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Нет уж, увольте, обожаю ощущать сперму в своей жопе: ни за что ее не отдам.
ЭЖЕНИ. Все же не удержусь от вопроса... Скажите мне теперь, друзья, всегда ли должно женщине давать согласие, когда ей предлагают такой вид любви?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Всегда, дорогая, разумеется, всегда: этот способ совокупления настолько приятен, что ей надлежит не просто соглашаться, а даже требовать этого от обслуживающих ее мужчин. Однако, если она зависит от того, с кем забавляется, если надеется добиться от него милостей, подарков или услуг – пусть набивает себе цену и заставляет себя упрашивать: любой приверженец подобного вкуса разорится ради женщины, способной умело поиграть в отказ – так она еще сильнее разожжет его страсть, ибо женщина, овладевшая искусством уступать чужим мольбам в нужный момент, вытянет из мужчины все, что пожелает.
ДОЛЬМАНСЕ. Ну как, удалось обратить нашего ангелочка в новую веру? Ты еще считаешь содомию преступлением?
ЭЖЕНИ. Преступна она или нет – безразлично. Вы убедительно доказали иллюзорность представлений о зле. Отныне немного найдется поступков, которые показались бы мне предосудительными.
ДОЛЬМАНСЕ. Дорогая девочка, преступлением не является решительно ничего – согласись, даже в самом чудовищном поступке обнаруживается тот или иной элемент привлекательности, не так ли?
ЭЖЕНИ. Вне всяких сомнений.
ДОЛЬМАНСЕ. Отлично, с этой минуты он перестает быть преступлением: действие, которое служит во благо одному и наносит ущерб другому, может считаться преступным лишь при обосновании того, что существо, потерпевшее для природы, ценнее существа, извлекшего пользу, но все индивидуумы равны перед природой, а значит – такое предпочтение невозможно: природа совершенно равнодушно взирает на то, как действия, выгодные для одних, создают неудобства для других.
ЭЖЕНИ. А если поступок наш, приносящий нам только малую толику удовольствия, наносит ущерб огромному числу людей, не ужасно ли мы себя ведем, совершая его?
ДОЛЬМАНСЕ. Ничуть, поскольку то, что чувствуем мы сами, не идет ни в какое сравнение с тем, что испытывают другие. Самая сильная боль ближнего для нас ничто, в то время как едва заметный трепет наслаждения личного трогает нас до чрезвычайности. Итак, очевидно – мы любой ценой будем стремиться даже к легкому зуду удовольствия, пускай достижимо оно за счет пучины бед, в которую ввергнуты другие люди, ведь их невзгоды не затрагивают нас непосредственно. Случается порой, и довольно часто, что некие особенные черты физические или своеобычный склад ума делают для некоторых из нас страдания ближнего особенно притягательными: подобные люди, бесспорно, отдают предпочтение боли другого, которая их забавляет, отсутствию оной, если это лишает их удовольствия. Источник всех наших нравственных заблуждений кроется в нелепом допущении братства, придуманного христианами в эпоху их мытарств и злоключений. Тот, кто вынужден молить другого о сострадании, проявляет завидную изворотливость, объявляя его своим братом. Весьма удобная гипотеза – как после этого отказать в помощи? Однако принять такую доктрину совершенно невозможно. Разве каждый не рождается в одиночку? Более того, разве мы – не враги друг для друга, пребывающие в состоянии вечной войны всех против всех? А что вы ответите на мое предположение о том, что добродетели, требуемые в соответствии с идеей братства, реально существуют в природе? В этом случае голос ее должен внушать людям добрые побуждения с самого момента их появления на свет. Но тогда сострадание, благотворительность, гуманность оказались бы добродетелями врожденными, естественными, от них нельзя было бы отречься, а изначальный облик человека-дикаря в корне отличался бы от того, который мы наблюдаем ныне.
ЭЖЕНИ. Допустим, вы утверждаете, что природа желает, чтобы все рождались одинокими и независимыми друг от друга, но согласитесь ли вы, по крайней мере, что людей сближают общие потребности, с необходимостью устанавливающие между ними некие взаимосвязи – будь то кровные узы, возникшие в результате супружества, будь то узы любви, дружбы, благодарности, их-то, надеюсь, вы почитаете?
ДОЛЬМАНСЕ. Сказать по правде, ничуть не больше всего остального. Этот сюжет хотелось бы рассмотреть поподробнее: сделаем беглый обзор по каждому пункту. Решитесь ли вы, к примеру, утверждать, что потребность жениться, обусловленная моим стремлением продолжить свой род либо устроить свои имущественные дела, непременно породит неразрывные священные узы между мною и предметом, с которым я вступаю в брак? Не абсурдно ли, по-вашему, придерживаться таких взглядов? Пока длится половой акт, я, известное дело, нуждаюсь в данном предмете как в его участнике; но едва желание удовлетворено, что, скажите на милость, остается между нами? Какие реальные обязательства связывают нас в результате этого совокупления? Так называемые узы супружества возникают вследствие страха родителей быть брошенными в старости, и их небескорыстная забота о нас в детстве нацелена на заслуживание ответных знаков внимания в конце их жизни. Довольно поддаваться на удочку: мы ничем не обязаны своим родителям... даже самой малостью, Эжени, – трудились они не столько для нас, сколько для себя, а значит, вполне позволительно питать к ним отвращение и даже избавляться от них, если они досаждают нам своим поведением. Любим мы их лишь в том случае, если они хорошо с нами обходятся, причем степень нашего расположения не должна выходить за пределы обычной привязанности к друзьям, поскольку права рождения ничего не определяют и ничего не дают, – вникнув в суть, мы тотчас обнаружим немало поводов для ненависти к родителям, ибо они, как правило, заботятся исключительно о собственном удовольствии, нередко обрекая нас на несчастливый и нездоровый образ жизни.
Вы упоминаете об узах любви, Эжени. Лучше вам их не знать! Последуйте совету человека, желающего вам счастья: не обременяйте ими свое сердце! Что есть любовь? По моим представлениям, это не что иное, как эффект, произведенный на нас достоинствами некоего прекрасного предмета, мы в восторге от испытанных впечатлений, они воспламеняют нас, овладевая сим предметом – мы ликуем, при невозможности им обладать – отчаиваемся. Что лежит в основе этого чувства? Влечение. Каковы последствия этого чувства? Безумие. Разобравшись в побудительных причинах, несложно обеспечить себе нужный результат. Мотив – обладание предметом: вот и отлично! Попытаемся преуспеть, не теряя благоразумия: едва предмет окажется в наших руках – насладимся им вволю, едва он нам недоступен – тотчас успокоимся, ибо тысячи подобных предметов, куда более совершенных, с легкостью утешат нас, смягчая боль потери, – все мужчины и женщины похожи друг на друга: любовь бессильна перед здравыми суждениями. Опьянение, охватывающее нас без остатка, когда мы слепо обожаем единственное в мире существо и дышим им одним, – самообман! И это зовется полнотой жизни? Такое состояние, скорее, сродни добровольному отказу от всех земных радостей. И врагу не пожелаешь этой бесконечной всепоглощающей горячки, этого счастья, заключенного в чисто умозрительных ощущениях, сильно смахивающих на бред сумасшедшего. Если бы мы были способны любить прелестное сие создание вечно и могли никогда с ним не расставаться, тогда подобная привязанность – пусть и представляющая собой блажь – расценивалась бы как придурь, по крайней мере простительная. Приключается ли нечто подобное? Много ли известно примеров ненарушимости любовных связей? Несколько месяцев блаженства – и мы ставим предмет недавней страсти на истинное его место, а сами краснеем за фимиам, который воскуряли в его честь, часто недоумевая, на что, собственно, польстились столь безудержно.
О юные сладострастницы, пользуйтесь любым случаем побаловать свою плоть! Суть в следующем: безудержно отдаваясь и развлекаясь, старательно избегайте любви. «Добро заключено лишь в физической стороне страсти», – говаривал натуралист Бюффон и благодаря мудрейшему этому высказыванию прослыл хорошим философом. Итак, неустанно повторяю: забавляйтесь, но не любите, гоните от себя сильные переживания, не изнуряйте себя слезами, вздохами, закатыванием глаз, любовными записками, а вместо этого занимайтесь любовью, приумножайте число партнеров и почаще их меняйте. Оказывайте сопротивление всякому, кто постарается закрепить вас за собой, ибо цель постоянного возлюбленного – привязать вас к себе, тем самым мешая вам отдаваться другим, – жестокий этот эгоизм неизбежно омрачит радость вашего бытия. Природа сотворила женщину не для единственного мужчины, а для многих. Прислушайтесь к священному ее голосу и безучастно блудите со всяким, кто вас захочет. Будьте шлюхами, но никогда не превращайтесь в любовниц, уклоняйтесь от любви, служа лишь наслаждению – и жизненный ваш путь будет усеян розами. А сколько цветов перепадет при этом нам, мужчинам! Взгляните, Эжени, вот очаровательная дама, взявшая на себя труд воспитывать вас, спросите ее, стоит ли дорожить мужчиной после того, как он доставил женщине удовольствие? ( Продолжает тише, чтобы не услышал Огюстен.) Да она ни шагу не сделает для сохранения этого Огюстена, несмотря на то, что в данный момент он ей весьма приятен. Отнимут у нее одного – она возьмет другого, ничуть не тоскуя о прежнем, наскучит очередной партнер – месяца через два она преспокойно убьет его собственными руками, если такое жертвоприношение посулит ей новые услады.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Милая Эжени, удостоверяю: Дольмансе не просто высказывает сокровенные мои мысли – он раскрывает тайники сердца всех женщин.
ДОЛЬМАНСЕ. Заключительная часть нашего обзора коснется уз дружбы и благодарности. Признаю: дружеские связи, пока они полезны, следует уважать: друзей, приносящих благо, придержим при себе, но тотчас позабудем о них, когда из дружбы этой больше нечего извлечь. Любить кого бы то ни было стоит лишь ради себя самого, любить людей ради них – бессмыслица: природа внушает человеку лишь те помыслы и побуждения, которые ему выгодны, и устроено так оттого, что сама природа исключительно эгоистична. Так возьмем с нее пример, коль скоро мы решили исполнять ее законы. Теперь перейдем к благодарности – это, несомненно, самая слабая из привязанностей. Не верьте, дорогая, в то, что люди делают вам одолжение ради вас, – только напоказ, только ради собственного тщеславия. Не унизительно ли служить игрушкой чужого себялюбия? Еще оскорбительнее – чувствовать себя кому-либо обязанным. Ничто не сравнится с бременем оказанного тебе благодеяния. Либо ты отвечаешь услугой на услугу, либо ощущаешь себя ничтожеством – третьего не дано. Душе гордой тягостно осознавать себя облагодетельствованной – ноша давит с непомерной силой, и единственное чувство, испытываемое к благодетелю, – ненависть. Итак, что же, по-вашему, восполнит пустоту одиночества, для которого нас создала природа? Или, быть может, вам известны некие отношения, способные преодолеть человеческую разобщенность? На каком основании любить других, дорожить ими, предпочитать их себе? По какому праву облегчать их страдания? В каком уголке нашей души отыщется место для колыбели, где были бы взлелеяны красивые и ненужные добродетели – милосердие, гуманность, благотворительность, обозначенные в абсурдных кодексах идиотских вероучений, проповедуемых самозванцами или попрошайками, дающими советы исключительно о том, как наилучшим образом помогать им самим или как мириться с их существованием? Ну что, Эжени, верите ли вы отныне в существование неких священных уз, соединяющих людей? Отыщете ли еще хоть какие бы то ни было причины для предпочтения других себе самой?
ЭЖЕНИ. Уроки ваши столь живительны для моего сердца, что разум мой не в силах их оспорить.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Преподаем не мы, Эжени, а природа, и принятие тобой этих уроков лишний раз подтверждает их истинность. Подумай, разве можно счесть порочными душевные движения девочки, едва оторвавшейся от утробы матери-природы?
ЭЖЕНИ. Но раз отклонения от нормы, которые вы превозносите, присущи природе, отчего же против них восстают законы общества?
ДОЛЬМАНСЕ. Оттого, что законы написаны не для отдельного гражданина, а для всех, так порождается неразрешимое противоречие, ибо интересы отдельной личности никогда не совпадают со всеобщими интересами. Законы, пригодные для общества в целом, совершенно неприемлемы для каждого из входящих в его состав индивидов. Порой случается, что на протяжении некоторого периода гражданину удается воспользоваться юридической защитой и гарантией своих прав, остальные же три четверти жизни законы только стесняют и порабощают его. Человек мудрый глубоко презирает общественные законы, однако мирится с ними: так терпят гадюк – они ранят и жалят, но яд их все же используется в медицинских целях; предохраняясь от законов, точно от ядовитых змей, мудрец примет меры предосторожности, прячась, таясь, но не теряя благоразумия. Словом, едва душа ваша вдохновится преступными затеями, Эжени, не робейте: в нашем тесном кругу вам будет обеспечена возможность спокойно их осуществить.
ЭЖЕНИ. Ах, мое сердце уже кое-что нафантазировало!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Что за прихоть взволновала тебя, Эжени? Откройся нам.
ЭЖЕНИ ( растерянно). Мне захотелось помучить какую-нибудь жертву.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. И какого же пола жертву ты предпочитаешь?
ЭЖЕНИ. Моего собственного!
ДОЛЬМАНСЕ. Ну и ну, мадам! Порадуйтесь за ученицу! Схватывает на лету!
ЭЖЕНИ ( взволнованно). Жертву, дорогая моя, хочу жертву!.. О, силы небесные, это было бы высшее счастье!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. И что бы ты с ней учинила?
ЭЖЕНИ. Все! Решительно все! Превращу ее в несчастнейшую из смертных. О милая, хорошая моя, пожалей меня, со мной творится что-то неладное!..
ДОЛЬМАНСЕ. Черт возьми! Бешеное воображение! Иди сюда, Эжени, ты восхитительна... иди ко мне, сейчас я зацелую тебя, миллион раз! ( Заключает ее в объятия.) Держите ее, мадам, держите, видите, как она доходит до экстаза одними мозгами, в уме, никто ведь к ней и пальцем не прикасался... Эх, вставлю-ка я ей еще разок сзади!
ЭЖЕНИ. Получу ли я за это то, чего прошу?
ДОЛЬМАНСЕ. Да, да, сумасбродка! Непременно, обещаю!..
ЭЖЕНИ. О бесценный друг, вот моя жопа! Распоряжайтесь ею по вашему усмотрению.
ДОЛЬМАНСЕ. Не торопитесь, привнесем в эту утеху побольше остроты. ( Все исполняется в соответствии с указаниями Дольмансе.) Огюстен, располагайся на краю кровати, Эжени ляжет на тебя, я содомизирую ее, щекоча ей клитор венценосной головкой твоего члена, ты же прибережешь сперму, не доводя дела до разрядки. Дорогой шевалье, за все время, что вы слушали наши речи, вы не проронили ни слова, а только потихоньку мастурбировали, ну а сейчас извольте устроиться на плечах Эжени, подставляя прелестные ваши ягодицы под мои поцелуи, в дополнение я помастурбирую вас снизу... Таким образом, пока орудие мое трудится в жопе, у меня окажется по члену в каждой руке. На вас, мадам, я уже женился, побудьте и вы теперь моим муженьком, вооружившись наиболее внушительным из ваших годмише! ( Госпожа де Сент-Анж раскрывает шкатулку, набитую годмише, и наш герой отбирает самый устрашающий.) Богатый выбор! Пожалуй, вот этот, по прозвищу «нумер», четырнадцать дюймов в длину на десять в окружности... Приладьте его к вашим бедрам, мадам, и начинайте наносить мне сокрушительные удары.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Вы просто безумец, Дольмансе, я же вас искалечу такой штукой.
ДОЛЬМАНСЕ. Ничего, не бойтесь, толкайте, проникайте, мой ангел: пока грозный ваш таран не пробьет мою жопу – не войду в попку вашей любимицы Эжени! Он уже там, во мне! Наконец-то... О, черт! Уношусь в облака... И тебя не пощажу, моя красавица! Возьму без всякой подготовки... Ах, дьявольски роскошная задница!..
ЭЖЕНИ. О, друг мой, ты разорвешь меня! Нельзя ли предварительно хоть чуточку расчистить путь?
ДОЛЬМАНСЕ. Еще чего! Из-за какой-то идиотской заботливости терять половину ощущений! Вспомни наши принципы, Эжени. Я работаю на себя: в эту минуту ты – жертва, дорогой мой ангелок, а мгновение спустя – преследовательница... Ах, проклятие, он входит!..
ЭЖЕНИ. Ты меня убьешь!
ДОЛЬМАНСЕ. О, божья кара! Я достал до дна!..
ЭЖЕНИ. Ах, делай, что пожелаешь... Теперь, когда он там... мне все в радость...
ДОЛЬМАНСЕ. Приятно толстым членом потереться о клитор девственницы! Шевалье, не прячь от меня свою красивую жопу... Хорошо я тебе накачиваю, старина? А вы, мадам, вламывайтесь в меня, будьте со мной пожестче, как с последней сволочью... именно так мне хочется себя ощущать... Эжени, ангел мой, пришло время, пора, испускай свой сок... Огюстен не устоял и щедро заполнил меня... Я принимаю сперму, шевалье, вот-вот подоспеет и мое семя... Мне уже не удержаться... Эжени, подвигай ягодицами, сожми анусом мое орудие – и огненная его струя обдаст тебя до самого нутра... Ах, сто чертей в божью задницу! Я в агонии... ( Он отстраняется; композиция нарушена.) Вручаю вам, мадам, вашу маленькую забавницу, полную до краев – даже передний вход затоплен... Самое большее, что вы можете для нее сделать, – это пощекотать ее внутри, теребя что есть силы ее клитор, еще не просохший от спермы.
ЭЖЕНИ ( трепеща). О родная, не лишай меня этого удовольствия! Я сгораю от похоти, любимая! ( Поза выстраивается.)
ДОЛЬМАНСЕ. Шевалье, именно на тебя возложена миссия лишить девственности это прелестное дитя, так что торопись на подмогу сестре и добейся, чтобы малышка млела от восторга в твоих объятиях. Сам же расположись так, чтобы я имел доступ к твоим ягодицам, а моим задом на все это время займется Огюстен. ( Все подготавливаются.)
ШЕВАЛЬЕ. Так тебе удобно?
ДОЛЬМАНСЕ. Чуть повыше жопу, любовь моя! Замечательно... без подготовки, шевалье...
ШЕВАЛЬЕ. Ты, конечно, волен в своих предпочтениях, я же, клянусь честью, не представляю, как можно отказать себе в удовольствии позабавиться с такой аппетитной девочкой! ( Он целует ее, легонько погружая палец в ее влагалище, госпожа де Сент-Анж тем временем щекочет клитор Эжени.)
ДОЛЬМАНСЕ. Что до меня, дорогой, в тебе я занимаю гораздо более прочное положение, нежели в Эжени: как разнится мужское очко от женского! Бери же меня сзади, Огюстен! Тебе так трудно решиться?
ОГЮСТЕН. Госпожа! И вы, сударь, вы же видите, вон сколько из меня натекло поблизости от штучки этой славной голубки, неужто у меня тут же встанет от погляденья, как вы передо мною, раком... у нее-то покрасивше, чем у вас!
ДОЛЬМАНСЕ. Бестолочь! А впрочем, на что сетовать? Это вполне естественно: каждый молится своему святому и каждый защищает личный интерес. Давай-давай, проникай поглубже, простодушный мой Огюстен, рано или поздно ты наберешься опыта, тогда и поговорим, что лучше – задняя или передняя дыра... Эжени, окажи шевалье ту же услугу, что и он тебе, а то ты сосредоточилась только на своих ощущениях... В общем, ты права – таковы правила распутства, но в данном случае заняться им вплотную – в твоих же интересах, поскольку именно ему предстоит сорвать твои первинки.
ЭЖЕНИ. Видите, какая я послушная, как я его обрабатываю, целую... до умопомрачения... Ай-ай-ай, друзья мои, больше не могу! Успокойте меня... а то я не выдержу... из меня полилось!.. Я сама не своя...
ДОЛЬМАНСЕ. А я поступлю, как истинный мудрец. Не стану вновь возвращаться в эту прелестную задницу, сперму, зародившуюся там, я приберегу для госпожи де Сент-Анж: нет ничего забавней, чем начинать дело в одной жопе, а кончать в другой. Ну как, шевалье, ты уже заведен?.. Приступим к дефлорации?
ЭЖЕНИ. О небо, не хочу, чтобы этим! Такой – мне на погибель! Ваш, Дольмансе, поменьше, совершите эту операцию вы, умоляю!
ДОЛЬМАНСЕ. Невозможно, ангел мой. Ни разу в жизни не пользовался влагалищем. Увольте, не начинать же мне на старости лет?! Первые ваши плоды принадлежат шевалье: он единственный, кто достоин их сорвать, нечего посягать на его права.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Отвергнуть девственницу... такую хорошенькую... свеженькую... Держу пари: моя Эжени – первая красотка Парижа! О, сударь, вы излишне принципиальны!
ДОЛЬМАНСЕ. Отнюдь, мадам, скорее, недостаточно последователен – многие мои собратья, определенно, не стали бы иметь дело и с вами... Я же пошел на это и не намерен останавливаться – напрасно вы обвиняете меня в том, что культ мой доведен до фанатизма.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Вперед, шевалье! Только поосторожней, помни, в какой узкий пролив тебе предстоит втиснуться – явное несоответствие вместилища и содержимого.
ЭЖЕНИ. О, он убьет меня, спасения не будет! Ну и пусть! Огонь моего желания сильнее страха – рискну... Входи в меня, милый, проникай, я твоя.
ШЕВАЛЬЕ ( держа в руке свой восставший член). Да уж! Деваться некуда, надо протискиваться... Сестренка, Дольмансе, каждый держит ее за ногу... Ну и работенка! Хоть на части ее режь, хоть разорви, а пройди...
ЭЖЕНИ. Осторожней, потихоньку, я не выдержу... ( Она кричит; слезы текут по щекам.) Помогите! Подружка моя... ( Отбивается.) Нет, не хочу его принимать! Отпустите, не то закричу караул!
ШЕВАЛЬЕ. Ори сколько угодно, маленькая дрянь, сказал – войду, значит войду, хоть тысячу раз подохни!
ЭЖЕНИ. Варвар!
ДОЛЬМАНСЕ. Фу-ты, черт, понимаю! Когда у тебя твердеет – тут уже не до любезностей!
ШЕВАЛЬЕ. Держите ее; я уже там! Пробиваю!.. Крепкий орешек, проклянешь все на свете с этими девственницами! Посмотрите, она вся в крови!
ЭЖЕНИ. Иди ко мне, мой тигр! Иди, рви на части, теперь мне все равно! Целуй меня, палач мой, целуй, я тебя обожаю! Ах, когда он внутри, совсем не страшно, сразу забываешь о страданиях... Мне жаль девчонок, пугающихся сладостной этой атаки! Из-за ничтожного неудобства – отказаться от такого блаженства!.. Вталкивай! Вталкивай, шевалье, я дохожу до точки... Твоя сперма – целительный бальзам: смажь ею раны, тобою нанесенные... Глубже, доставай до матки... Ах, боль сменяется наслаждением... земля уходит из-под ног... ( Шевалье извергается, Дольмансе обрабатывает его зад и яички, а госпожа де Сент-Анж щекочет клитор Эжени, после чего композиция нарушается.)
ДОЛЬМАНСЕ. Я нахожу, что именно сейчас по свежепроторенной дорожке нашей малютки должен проехаться Огюстен.
ЭЖЕНИ. Огюстен?! С его громадиной?! И прямо сейчас, когда я еще обливаюсь кровью?.. Вы что, жаждете моей смерти?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Поцелуй меня, сердце мое... мне жаль тебя... но приговор уже вынесен и обжалованию не подлежит: терпи, ангел мой.
ОГЮСТЕН. Ух ты, ё-моё! Я не прочь! Коли нужно натянуть эту девчушку, я и в Рим потопаю пешим ходом.
ШЕВАЛЬЕ ( хватаясь за огромный член Огюстена). Эй, Эжени, видишь, как он вздыбился? Вполне готов сменить меня на моем посту.
ЭЖЕНИ. О Боже правый, за что мне такое наказание? Вы хотите меня погубить, это ясно...
ОГЮСТЕН ( овладевая Эжени). О нет, зазря вы, мамзель: от этого еще никто не умирал.
ДОЛЬМАНСЕ. Минутку, сынок, одну минутку: пока ты ее имеешь, пусть она подставит мне свою попку... Да, отлично, а теперь вы, госпожа де Сент-Анж, извольте подойти ко мне поближе: я обещал употребить вас сзади и слово свое сдержу, располагайтесь так, чтобы, занимаясь вами, я тем временем мог высечь Эжени. А меня пусть отхлещет шевалье. ( Все устраиваются.)
ЭЖЕНИ. О проклятие! Он меня прикончит! Поласковее, мягче, грубиян!.. Ах ты, скот! Вбивает... что есть силы... негодяй! До самого дна! Я умираю!.. О Дольмансе, и еще ваша порка! Подогреваете меня с двух сторон, мои ягодицы горят, как в огне...
ДОЛЬМАНСЕ ( хлеща с размаха). То ли еще будет, маленькая шельма! Увидишь, как сладостно ты разрядишься... Раз уж вы ковыряетесь в ней, Сент-Анж, позаботьтесь, чтобы легкий ваш пальчик смягчил боль, которую причиняем ей мы с Огюстеном. Ощущаю, мадам, как сжимается ваш анус... Похоже, мы придем к финишу одновременно... Ах, я зажат между братом и сестрой – это просто божественно!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ (о бращаясь к Дольмансе). Давай-давай, солнышко, не останавливайся! Никогда еще мне не было так хорошо!
ШЕВАЛЬЕ. Дольмансе, предлагаю поменяться местами: ты элегантно переходишь из жопы моей сестры в жопу Эжени – пусть почувствует всю прелесть положения, когда двое бьют по задней стенке, – а я тем временем проделаю то же самое с сестренкой, она же в свою очередь вернет твоим ягодицам удары розог, которыми ты только что до крови обагрил попку прелестной Эжени.
ДОЛЬМАНСЕ ( исполняя). Согласен. Будь по-твоему, друг мой: действительно, трудно вообразить перестановку более элегантную!
ЭЖЕНИ. Как! Оба в меня, Боже правый!.. Не знаю, к кому из них приноравливаться, – довольно было бы и одного этого жеребца... Ах, сколько спермы натечет от них двоих! Уже проливается... Если бы не эта мощная эякуляция, меня бы уже, наверное, не было в живых... А ты, моя милая, делаешь то же, что и я... О, как она ругается, мерзавка! Дольмансе, извергайся! Ну же, любовь моя!.. Я уже затоплена этой грубой деревенщиной: он впрыснул мне до самых потрохов... Ну, теперь оба долбаря одновременно! Друзья, примите и мою любовную влагу – пусть соединится с вашей... Взлетаю в поднебесье... ( Композиция расстраивается.) Ну как, дорогая, довольна ты своей ученицей? Заправская я теперь шлюха? Вы довели меня до такого... я взбудоражена... вне себя... Совершенное опьянение – клянусь, готова помчаться на улицу и отдаться первому встречному!
ДОЛЬМАНСЕ. Как она прекрасна!
ЭЖЕНИ. Вас я ненавижу – вы посмели мне отказать!
ДОЛЬМАНСЕ. Я сохранил верность своим догматам.
ЭЖЕНИ. Ладно, прощаю вас, но только из уважения к основополагающим принципам распутства. Понимаю, что именно они отныне становятся для меня руководством к действию, коль скоро я избираю стезю преступления. Присядем и поговорим; мне надо передохнуть хоть минутку. Продолжайте ваши наставления, Дольмансе, утишьте мое волнение, заглушите угрызения совести, ободрите меня.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Справедливое требование: практика непременно должна быть подкреплена теорией, иначе ученица не достигнет совершенства.
ДОЛЬМАНСЕ. Итак, на какой предмет занять вас беседой, Эжени?
ЭЖЕНИ. Меня интересует, действительно ли необходимы в обществе правила морали и насколько существенно их влияние на национальный дух.
ДОЛЬМАНСЕ. Надо же! Как раз сегодня утром, выйдя из дому, я приобрел в Пале-Эгалите одну брошюрку. Судя по названию, она содержит ответ на поставленный вами вопрос... Едва вышла из печати.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Посмотрим-ка. ( Читает.) «Французы, еще одно усилие, если вы желаете стать республиканцами». Название, по-моему, многообещающее. У тебя приятный голос, шевалье, почитай нам вслух.
ДОЛЬМАНСЕ. Думаю, не ошибусь, полагая обнаружить в этой книжке ответ на вопросы Эжени.
ЭЖЕНИ. Уверена, что так и будет!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ступай, Огюстен, это не для твоих ушей, но далеко не уходи: понадобишься снова, мы вызовем тебя звонком.
ШЕВАЛЬЕ. Приступаю к чтению.
«Французы, еще одно усилие, если вы желаете стать республиканцами».
Религия
Приготовьтесь внимать и размышлять – идеи я вам предложу воистину грандиозные; пусть не все они придутся вам по душе – что ж, с меня довольно заронить в вас даже малую их толику и оказать тем самым посильное содействие Просвещению. Не скрою: меня печалит нерасторопность, с коей мы продвигаемся к цели; беспокоюсь – как бы вновь нам не проиграть. Полагаете, мы приблизимся к идеалу после дарования подходящих законов? Полно фантазировать. Что есть закон, не подкрепленный верой? Нам нужен новый культ, приспособленный к характеру республиканца, культ, исключающий всякую возможность возврата к духовным ценностям Рима. Мы наконец осознали: вера должна опираться на существующую в обществе мораль, а вовсе не наоборот – нам необходима религия, способная не только оправдать сложившиеся нравы, но и усовершенствовать их, религия, беспрестанно возвышающая душу до вершин свободы – единственного достойного кумира современности. Призадумайтесь, возможно ли в наш век почитать какого-то раба времен императора Тита, какого-то жалкого комедианта из Иудеи, считая его религию пригодной для свободолюбивой воинственной нации в период духовного ее возрождения! Не пристало вам, сограждане, верить в такой бред. Французов, по-прежнему погруженных в мрачные топи христианства, подстерегают две опасности, с одной стороны, их одолеют священники – порочная грязная шайка, одержимая тщеславием, тиранством и деспотизмом, с другой – низменные пошлые догматы и мистерии бесчестной лживой религии; стоит ослабить горделивость республиканской души – на нее тотчас наденут ярмо, сброшенное ценой неимоверных усилий.
Будем бдительны – уже на заре своего возникновения религия эта служила действенным оружием в руках тиранов, так, одна из первых ее догм гласит: «Отдайте кесарю кесарево»; мы же сбросили кесаря с трона и не намерены вновь наделять его полномочиями. Дорогие соотечественники, не тешьте себя напрасными надеждами о превосходстве священников, присягнувших положению о церкви, перед священниками, не подчиняющимися закону о ее реорганизации; порочность, присущая сословию в целом, неискоренима. Не пройдет и десяти лет, как церковники позабудут свои клятвы о бескорыстии, прибегнув к суевериям и предрассудкам христианской веры, дабы вернуть утраченную власть над душами; они снова прикуют вас цепями к королям, ибо монархия служит им подспорьем, усиливая их могущество – из-под хрупкого республиканского здания будет выбита опора, и оно рухнет.
Обращаюсь к тем, кто способен держать в руках серп: нанесите решающий удар по древу суеверия; не ограничивайтесь подрезанием ветвей: рубите под корень заразный ствол; ни на миг не обольщайтесь – республиканская система, основанная на свободе и равенстве, задевает кровные интересы служителей алтарей Христа, никто из них искренне ее не примет, скорее напротив – не упустит шанса ее расшатать и при первой же возможности восстановить былое господство над умами. Какой священник, памятуя об утерянных привилегиях, не предпримет все от него зависящее, лишь бы возвратить себе некогда отнятые почтение и авторитет? Сколько слабых робких душ тотчас завлечет в рабство этот постриженный честолюбец! Неужели не ясно – прежние злоупотребления воспрянут с новой силой! Со времен зарождения христианской церкви, и до наших дней, роль священника ничуть не изменилась. Что лежит в основе всех достижений церковников? Льготы, предоставляемые духовному сословию. То есть, до тех пор, пока не наложен запрет на эту религию, проповедники ее вновь и вновь станут обращаться к испытанным средствам воздействия, неустанно добиваясь искомого результата.
Следует раз и навсегда покончить с тем, что грозит гибелью нашему детищу. Помните – плод наших трудов предназначен для потомков, дело нашей чести – не оставлять ни одного вредоносного зернышка для взращивания хаоса, из которого мы вырвались с таким трудом. Предрассудки мало-помалу рассеиваются, народ отрекается от католических небылиц; он сносит храмы и развенчивает идолов. Брак отныне рассматривается исключительно в качестве гражданского акта; разрушенные исповедальни используются как общественные помещения; так называемые «верные» покидают апостольские собрания, оставляя на съедение мышам слепленных из теста богов. Не останавливайтесь на полпути, французы: Европа, положа руку на повязку, закрывающую ей глаза, ждет, когда же вы наконец решитесь сорвать ее. Поторопитесь: не оставляйте святейшему Римуни времени, ни сил обуздать ваш порыв и сохранить хотя бы немногих своих прозелитов. Беспощадно отсекайте его надменную, но уже дрожащую от страха голову. Не пройдет и нескольких месяцев – над развалинами кафедры Святого Петра вознесется деревце свободы, чьи раскидистые ветви заслонят презренных идолов христианства, бесстыдно воздвигнутых на костях Брута и Катона.
Французы, не устану повторять: Европа надеется, что вы освободите ее и от скипетра,и от кадила.Поймите: невозможно избавиться от пут королевской тирании, не разбив оков религиозных предрассудков. Обе тирании связаны одной цепью, и оставляя в живых одну из них, вы тотчас окажетесь во власти второй, недобитой. Не пристало республиканцу преклонять колени ни перед воображаемым верховным существом, ни перед наглым самозванцем; нет у него отныне иных божеств, кроме мужества и свободы. Едва в Риме начали проповедовать христианство, он утратил свое величие, неминуемо погибнет и Франция, если вовремя не прекратит почитать этот культ.
Достаточно изучить абсурдные догматы, зловещие таинства, чудовищные обряды и непримиримую мораль этой гнусной религии, чтобы стало очевидно, сколь неприемлема она для республиканца. Неужели вы и впрямь полагаете, что я стану дорожить мнением субъекта, припадающего к ногам никчемного служителя Иисуса? Совершенно исключено! Презренный этот тип будет вечно цепляться за близкие ему – именно в силу его ничтожности – зверства старого режима; кто добровольно смирился с глупостью и пошлостью вероисповедания, бездумно признанного большинством в качестве господствующего – не вправе диктовать мне законы и заниматься моим просвещением, ибо я презираю его, как раба суеверия и предрассудков.
Желая убедиться в справедливости данного утверждения, достаточно приглядеться к индивидам, которые по-прежнему верны неразумному культу наших отцов; нетрудно заметить, что большинство из них – непримиримые враги нынешней системы правления, принадлежащие к справедливо презираемой касте роялистови аристократов. И это вполне естественно – раб коронованного разбойника пресмыкается у ног идола из хлебного мякиша, такой предмет поклонения как нельзя лучше соответствует низкой его душонке. Кто прислуживает королям, непременно почитает и богов! Но нам ли, французы, нам ли, дорогие единоземцы, смиренно ползать, влача ненавистные оковы? Лучше тысячу раз умереть, нежели снова попасть в кабалу! Раз мы так нуждаемся в некоем культе, изберем для подражания древних римлян, у них объектами веры становились великие деяния, большие страсти и прославленные герои. Такие кумиры возвышали душу, электризовали ее, приобщая простых смертных к добродетелям почитаемого божества. Поклонник Минервы стремился к благоразумию. В сердце того, кто припадал к стопам Марса, вселялось мужество. Все божества, избранные достойными сими людьми, преисполнены силы; искры их небесного пламени разносились по душам тех, кто воздавал им почести; человек той поры надеялся, что и сам однажды станет предметом чьего-то восхищения, и потому выбирал для подражания объекты истинно возвышенные. Полная тому противоположность – бессильные христианские божки. Что предлагает нелепая эта вера? [8]Пробудит ли в вас сколь-нибудь возвышенные идеи пошлый самозванец из Назарета? А может, внушит вам какие-то добродетели его грязная противная мамочка – бесстыжая Мария? Отыщется ли в христианском раю, сплошь забитом святыми, достаточно примеров величия, геройства и доблести? О неспособности жалкой этой религии порождать великие идеи явно свидетельствует малое число художников, сумевших воплотить ее атрибуты в созданных ими памятниках культуры; так, в Риме большинство украшений и орнаментов папского дворца выполнено по греко-римским, а не раннехристианским образцам; сколько простоит наш мир, столько продлится ни с чем не сравнимое влияние язычества на творчество великих мастеров.
Быть может, более возвышенными и величественными окажутся сюжеты чистого теизма? Быть может, принятие химеры иного рода зарядит наши души энергией, столь необходимой для взлелеивания и реализации на практике республиканских добродетелей? Распрощаемся и с этим обманчивым призраком – единственной системой, пригодной в нашу эпоху для людей здравомыслящих, является атеизм. На данном этапе познания становится ясно: движение присуще самой материи, и побудитель, передающий ее импульсы, не более чем иллюзия, ибо для сущности, подвижной по своей природе, двигатель совершенно бесполезен; пора осознать, сколь предусмотрительно изобрели себе такого бога первые законодатели, превратив его в удобное средство нашего закабаления; они закрепили за собой право высказываться от имени этого призрака и научились его устами поддерживать нелепые законы, призванные нас поработить. Ликург, Нума, Моисей, Иисус Христос, Магомет – словом, все великие плуты, деспотично завладевшие нашими умами, ловко приобщали ими же придуманные божества к осуществлению своих собственных непомерно честолюбивых замыслов: покорение целых народов происходило с санкции богов – к ним взывали, как правило, либо «весьма кстати», либо к собственной выгоде.
Равного презрения заслуживает как сам ни на что не годный бог, усердно проповедуемый самозванцами разных мастей, так и сопутствующие ему религиозные ухищрения; смешными этими игрушками не позабавить людей истинно свободных. Полная ликвидация религиозных культов на всей европейской территории – одно из важнейших для нас положений. Сломанных скипетров недостаточно; сотрем в порошок и идолов: от суеверия до роялизма один шаг. [9]Необходимость таких мер очевидна, ибо одна из первейших статей королевской власти – усиление господствующей религии как одной из политических основ. Трон снесен, теперь закрепим победу навсегда – без оглядки выбьем из-под него подпорки.
Сограждане, нет сомнений: религия в корне противоречит идее свободного общества; многие уже ощутили это на себе. Человек освобожденный не станет гнуть спину перед ипостасями христианства: непригодны для республиканца ни догматы его, ни обряды, ни таинства, ни мораль. Еще одно усилие – потрудитесь искоренить предрассудки, не давайте выжить ни одному из них, поскольку любой, оставшийся в живых, вытянет за собой остальные, и тогда, словно в колыбели, выпестуются все до единого. Довольно полагать религию полезной для рода человеческого. Примите хорошие законы – и вы прекрасно без нее обойдетесь. Тому, кто утверждает, что вера необходима народу в качестве развлечения и сдерживающего начала, спокойно ответим: в добрый час! Но в таком случае, извольте предложить вероучение, подобающее людям свободомыслящим. Вернемся к языческим божествам. С радостью преклоним колена перед Юпитером, Геркулесом или Палладой; но довольно с нас сказок о творце вселенной, которая приходит в движение сама по себе; довольно разговоров о Боге, не обладающем протяженностью и тем не менее заполняющем безграничное пространство, о Боге всемогущем, не способном исполнить ни одно из своих желаний, о всеблагом существе, постоянно доставляющем нам неприятности, о поборнике порядка, чье правление зиждется на полном беспорядке. Довольно с нас Бога, портящего природу, порождающего замешательство в умах и подталкивающего человека к совершению безобразий; нельзя наблюдать за таким Богом, не содрогаясь от возмущения – предадим Его забвению, из которого Его недавно чуть было не извлек бесчестный Робеспьер. [10]
Французы, пусть место недостойного этого призрака займут величественные образы, обеспечившие Риму мировое господство; с христианскими идолами мы расправимся так, как недавно расправились с мифами о наших королях. Мы уже научились водружать символы свободы на опорах, некогда служивших тирании; теперь нам по силам устанавливать статуи великих людей на пьедесталах, прежде занятых изваяниями шутов, почитаемых христианами. [11]Без опаски вводите атеизм в деревню. Думаете, крестьянам не дано понять, сколь необходимо избавиться от католического культа, противного истинным принципам свободы? Вспомните, как безучастно наблюдали они за разгромом алтарей и домов священников. Ах, поверьте, с не меньшей легкостью отрекутся они и от своего несуразного бога. В самых примечательных местах их поселений следует установить статуи Марса, Минервы, Свободы и ежегодно справлять там празднества; кто отличится наивысшими заслугами перед отечеством, будет жалован на этих празднествах гражданским венком. Прежде чем уединяться в роще, влюбленные посетят сельский храм, воздавая почести Венере, Гименею и Амуру. Постоянство в любви будет увенчано представительницами красоты – грациями. Чтобы удостоиться их венка, мало просто любить, его надо заслужить героизмом, талантами, человечностью, великодушием, проявлением гражданской доблести – вот какие титулы возложит юноша к ногам своей возлюбленной, титулы куда более ценные, нежели требуемые прежде – в угоду пустому тщеславию – знатность и богатство. Такое богослужение, по крайней мере, вызовет расцвет добродетелей, в отличие от христианства, которому мы столь малодушно поддались и которое порождает одни только преступления. Новый культ станет союзником свободы, чьими служителями мы себя считаем; придав ей новое дыхание, он поддержит и разожжет ее костер, в то время как теизм суть смертельный враг горячо почитаемой нами свободы. Пролилась ли хоть капелька крови, когда рушились языческие идолы в Восточной Римской империи? Отнюдь: в те времена переворот, вызревший благодаря оцепенению загнанного в рабство народа, произошел без малейших осложнений. Так стоит ли опасаться, что умозрительное сооружение философов окажется прочнее здания, выстроенного деспотами? Никому, кроме священников, не удержать в рабском поклонении химерическому богу тот самый народ, который вы так страшитесь просвещать; удалите священников от толпы – и завеса спадет естественным путем. Поверьте, народ гораздо мудрее, чем вы себе представляете, сумев высвободиться из оков тирании, он не замедлит избавиться и от суеверий. Вы боитесь простолюдина, с которого снимут эту узду? Что за неразумие! Ах, сограждане, неужели тот, кого не останавливает реальный меч правосудия, убоится неких духовных мук в аду? Да он привык над ними потешаться с детства! Теизм ваш не раз содействовал преступлениям, предотвратить же не сумел ни одного. Верно, страсти ослепляют нас, затуманивая наш взор, и мы представляем в ином свете таящиеся в них опасности, но возможно ли предполагать, что столь далекие от нас наказания, предвещенные вашим Богом, способны рассеять миражи, которые не в силах разрубить даже меч правосудия, постоянно висящий над страстями и их последствиями? Очевидно, что дополнительная узда, навязанная некоей божественной идеей, бесполезна, и более того, в иных случаях, даже опасна. Какую же службу она может нам сослужить? Какими мотивами должны мы руководствоваться, продолжая настаивать на идее о существовании Бога? Мне возразят, что мы еще не готовы укреплять нашу революцию столь решительным образом. Ах, дорогие соотечественники, путь, пройденный нами с 1789 года, гораздо труднее того, что нам предстоит проделать, – теперь не потребуется столь радикальной обработки общественного мнения, как в пору взятия Бастилии. Поверьте в мудрость и смелость народа, низвергнувшего с вершин почестей до подножия эшафота бесстыдного монарха: народ, сумевший за короткий срок перебороть столько предрассудков и разорвать столько пут, ради общего блага и ради процветания республики без труда пожертвует неким фантомом, еще более обманчивым, нежели призрак королевской власти.
Французы, нанеся первые удары по религии, не останавливайтесь на достигнутом. Продолжит ваше дело народное образование; не откладывайте до лучших времен эту работу – она должна стать предметом особых ваших забот; в основу народного просвещения следует заложить естественную мораль, отринутую образованием религиозным. Богословский вздор, утомляющий юные души ваших детей, замените на превосходно отлаженные принципы общественных отношений; вместо заучивания ненужных молитв, которые с успехом выветрятся из их голов, едва им стукнет шестнадцать лет, пусть усваивают свои общественные обязанности; научите их дорожить добродетелями, позабытыми ныне из-за засилья религиозных сказок, и объясните, что добродетели необходимы для их личного счастья; пусть почувствуют себя счастливыми оттого, что сделают других столь же благополучными, какими сами желали бы стать. Только не обосновывайте эти истины на химерах христианства, не повторяйте прошлых своих ошибок, ибо едва ученики ваши разберутся, насколько ничтожен фундамент разрушаемого здания, они рискуют превратиться в негодяев, хотя бы в знак протеста против того, что опрокинутая ими религия запрещала быть таковыми. Если же, напротив, внушать, что добродетель необходима исключительно оттого, что от нее зависит их счастье, они станут порядочными людьми из эгоизма – и надежной тому гарантией явится всеобщий и непреложный закон личной выгоды. Тщательно оберегайте народное образование от вмешательства церковников. Никогда не забывайте: нам надлежит воспитывать не жалких приспешников того или иного божества, а людей свободных. Пусть к непостижимым и возвышенным таинствам природы новичков приобщит философ; пусть докажет: познание Бога таит в себе опасность, ничуть не содействуя благополучию – люди не станут счастливее, признавая первопричиной того, что и так не вполне ясно, нечто еще более непонятное. Надо не просто внимать голосу природы, а – что еще важнее – научиться извлекать наслаждение, соблюдая ее законы, простые и мудрые, начертанные в душе каждого человека, – разгадку любого своего побуждения следует искать в собственном сердце. На вопрос о Создателе есть ответ: окружающий мир всегда останется тем, что есть, он не имеет ни начала, ни конца, бесполезны и тщетны усилия человека взойти к началу того, что он не в силах ни вообразить, ни объяснить. Нам не дано составить истинное представление о существе, не воздействующем ни на один из наших органов чувств.
Все наши мысли суть воспроизведение объектов, затрагивающих нас тем или иным образом. На чем же основаны представления о Боге, то есть идее, явно лишенной объекта? Подобное допущение, – продолжите вы поучать, – по неосуществимости сопоставимо со следствием без причины. Идея в отсутствие прототипа – всего лишь несбыточная мечта. Некоторые ученые, – добавите вы, – уверяют, что человек рождается с представлением о Боге, приобретя его в материнской утробе. Однако утверждение сие ложно, скажете вы: любой принцип основан на суждении, всякое суждение – следствие опыта, опыт, в свою очередь, достигается путем постоянных испытаний наших чувств; отсюда следует, что религиозные принципы, как явно ни с чем не соотносимые, врожденными не являются. Как же удалось убедить существо разумное, что главным в жизни ему следует считать нечто в высшей степени труднопонимаемое? Человека очень сильно запугивают – ведь в страхе утрачивается способность рассуждать; настоятельные рекомендации не доверять своему разуму приводят к тому, что взбудораженный мозг начинает во все верить, ничего не подвергая сомнению. Далее поясните своим ученикам, что две основные опоры любой религии – невежество и страх. Именно состояние неопределенности, испытываемое смертными перед лицом Всевышнего, является главной побудительной причиной их приверженности к религии. Человеку свойственно бояться темноты как в физическом, так и в духовном смысле; привычный страх постепенно перерастает в потребность чего-нибудь опасаться или на что-нибудь надеяться. Осветите полезность морали: побольше примеров – поменьше уроков, побольше доказательств – поменьше книг, так вы превратите своих учеников в достойных граждан, в храбрых воинов, в добропорядочных отцов и супругов, в людей, ратующих за свободу своей страны; идея рабства перестанет омрачать их дух, а религиозное благоговение – их таланты. Во всех душах воцарится истинный патриотизм, блистая во всей своей силе и чистоте; он станет господствующим чувством, и ни одна чужеродная идея не расхолодит его запала; труд ваш не пропадет, второе поколение, более уверенное в себе, закрепит ваши достижения, придав им статус всеобщего закона. А теперь задайте вопрос: что произойдет, если из страха или малодушия советы ваши будут оставлены без внимания и фундамент здания, подлежащего разрушению, будет сохранен? И отвечайте: на старом основании будут воздвигнуты прежние колоссы, с той лишь безжалостной разницей, что на сей раз они упрочат свои позиции, и ни вашему поколению, ни последующим уже не под силу будет свергнуть их с пьедестала.
Долой сомнения: любая религия – колыбель деспотизма; первыми на свете деспотами становились священники; первый римский царь Нума и первый римский император Август присоединили к своим званиям священный сан; Константин и Хлодвиг более походили на аббатов, нежели на властителей; Гелиогабал служил жрецом бога солнца. Деспотизм и религия неразлучны – во все эпохи и во все века; вознамерившись разрушить деспотизм, необходимо подорвать основы религии, поскольку законы одного из этих институтов неизбежно обусловливают законы другого. Тем не менее я вовсе не призываю к ссылкам и расправам; такого рода бесчинства глубоко чужды душе моей, я и в мыслях не оскверню себя ими ни на миг. Довольно убийств и изгнаний: ужасы эти к лицу только королям и берущим с них пример злодеям; желая вызвать отвращение к негодяям, негоже действовать их методами. К идолам применим силу, а для их служителей прибережем насмешки: язвительные замечания Юлиана для христианской религии гораздо вредоноснее всех зверств Нерона. Покончим же раз и навсегда с представлением о Боге и произведем жрецов в солдаты; кое с кем из священников так уже случилось; пусть теперь осваивают это весьма почетное для республиканца ремесло и прекращают разглагольствования о своем мифическом сверхсуществе и о презренной своей вере. Вынесем приговор святошам-шарлатанам: первый из них, кто заведет разговор о Боге и религии, будет осмеян, посрамлен и забросан грязью на всех перекрестках всех французских городов; провинившегося дважды ожидает пожизненное тюремное заключение. Цель ясна: искоренить из сердец и из памяти рода людского эти небезопасные детские игрушки; следует узаконить оскорбительные богохульства, разрешить свободное хождение атеистической литературы; объявить конкурс на лучшее произведение, способное просветить европейцев в этом важном предмете; и пусть внушительная награда, присуждаемая народом, достанется тому, кто все выскажет и все наглядно объяснит настолько убедительно, чтобы моим соотечественникам захотелось схватиться за косу и срезать под корень ненавистные их открытым сердцам призраки. Полгода – и с бесчестным Богом будет покончено навеки: он канет в небытие, а мы, избавившись от него, отнюдь не станем менее праведными, мы по-прежнему будем дорожить уважением окружающих и трепетать перед мечом правосудия; мы останемся людьми порядочными, осознающими, что истинный патриот, в отличие от королевского прислужника, не позволит распоряжаться своей жизнью каким-то заоблачным химерам; не легкомысленная надежда на лучший мир, не страх перед великими карами, превосходящими по жестокости бедствия, насылаемые природой, станут отныне руководить нашей душой – нет у республиканца другого вождя, кроме добродетели, и иного сдерживающего начала, кроме совести.
Нравы
После выявления непригодности теизма для республиканского образа правления представляется необходимым доказать еще большее его несоответствие французским нравам. Статья эта чрезвычайно важна, поскольку обоснованием готовящихся к изданию законов должны послужить именно нравы.
Вы, французы, – народ вполне просвещенный и понимаете: новый образ правления неизбежно приводит к изменению нравов; не пристало гражданину свободного государства вести себя, подобно рабу короля-деспота; полное несходство интересов, обязанностей, взаимоотношений – отсюда совершенно иное поведение в обществе. Множество заблуждений и проступков, считающихся в наши дни незначительными, при монархии расценивались как весьма серьезные – высокая требовательность королей объяснялась необходимостью обуздывать своих подданных, играя перед ними в респектабельность и недоступность; при республиканском же образе правления, не признающем ни государей, ни религии, некоторые преступления – известные, например, под названиями «цареубийство» и «святотатство» – просто исчезнут за ненадобностью. Поразмыслите, сограждане: вам предоставили свободу совести и свободу печати, теперь недалеко и до свободы действий; исключите то, что непосредственно расшатывает основы строя, и останется очень незначительное число наказуемых проступков; в обществе, основанном на принципах свободы и равенства, немного найдется действий, на самом деле заслуживающих звания преступных; взвесив и проанализировав все за и против, мы обнаружим, что предосудительным привыкли считать лишь то, что отвергается законом; природа же диктует нам попеременно поступки то порочные, то добродетельные, исходит она из нашего устройства или, выражаясь по-философски, в соответствии со своими собственными потребностями в пороке или добродетели, и внушения ее не дают четкого представления о том, что есть добро, а что зло. Для дальнейшего развития моих идей относительно столь важного предмета потребуется классификация различных человеческих поступков, которые до сегодняшнего дня принято было именовать преступными; итак, прикинем на глаз, как они соотносятся с истинными обязанностями республиканца.
Во все времена обязанности человека рассматривались в трех основных аспектах:
1. Обязанности, предписанные совестью в связи с верой в Верховное Существо.
2. Обязанности, вменяемые человеку по отношению к своим собратьям.
3. И наконец, обязанности человека перед самим собой.
Уверенность в том, что никакое божество не вмешивается в наши дела и что мы потребны природе ничуть не больше и не меньше, чем растения и животные, просто в качестве созданий, которым невозможно не существовать на земле, – так вот, эта уверенность разом сметает все обязанности первого рода – имеется в виду придуманная нами ответственность человека перед Всевышним; заодно исчезает само понятие о религиозных правонарушениях, известных под расплывчатыми и неопределенными названиями «нечестивость», «святотатство», «богохульство», «атеизм» и так далее, – словом, все, за что в Афинах столь несправедливо поплатился Алкивиад, а во Франции – несчастный Ла Барр. Воистину, верх странности – наблюдать, как люди, способные познать Бога и его требования, руководствуясь исключительно своим ограниченным умом, берутся выносить решение – удовлетворится или рассердится сей смехотворный фантом их воображения! Не взирайте безучастно на различного рода культы; свободно подвергайте осмеянию и глумлению любое вероисповедание. Лиц, собирающихся в каком бы то ни было храме и изображающих обращение ко Всевышнему, должно рассматривать как комедиантов на сцене, чью игру дозволено высмеять любому. Если оценивать религии иначе – придавать им важность или относиться к ним всерьез – они вновь завладеют умами, а от теологических дискуссий недалеко и до религиозных схваток; [12]предпочтение или поддержка той или иной религии приведет к нарушению принципа равенства, заложенного в основу нашего образа правления, и восстановленная теократияочень скоро перерастет в аристократию. Не устану повторять: довольно богов, французы, довольно с вас богов, если не хотите, чтобы пагубное их влияние вновь ввергло вас во все ужасы деспотизма; истребить кумиров можно, только смеясь; едва вы начнете раздражаться или придавать им значительность, они тотчас возродятся, вовлекая вас в опасную ловушку. Идолов опрокидывают не в гневе: их разбивают на мелкие куски, играючи, так ложная идея растворяется сама собой.
Теперь, надеюсь, с достаточной убедительностью доказано: не нужно издавать никаких законов, карающих за религиозные преступления, ибо оскорбивший химеру, не оскорбил никого; ни одна из религий не имеет преимуществ перед остальными, поэтому крайне неразумно наказывать того, кто поносит или презирает какое бы то ни было вероисповедание – такие действия неизбежно приведут к пристрастности, и тогда под угрозой окажется равенство – важнейшая из основ нового образа правления.
Перейдем к рассмотрению второго вида обязательств человека, а именно тех, что связывают его с другими людьми; здесь, конечно, потребуется обзор более широкий.
Положения христианской морали об отношении человека к своим собратьям весьма неопределенны и сплошь построены на софизмах; их следует признать совершенно неприемлемыми, ибо при формулировании принципов любого рода самым решительным образом необходимо воздерживаться от закладывания в их основы софизмов. Так, абсурдная религиозная мораль призывает возлюбить ближнего, как себя самого. Правило, на первый взгляд, сверхвозвышенное – если можно счесть красивой пустую фразу, насквозь пронизанную ложью. Любить себе подобных, как себя самого, – значит идти наперекор законам природы – единственной распорядительницы нашей жизнедеятельности; природа одарила нас способностью любить ближних, лишь как братьев своих и друзей, – кстати, наилучшие условия для сосуществования людей возникают именно в республиканском государстве, где ликвидация сословных различий неизбежно приводит к упрочению общественных связей.
Что ж, пускай гуманность, братство и благотворительность станут определяющими принципами наших обязанностей друг перед другом, исполним свой долг перед ближним – только строго индивидуально, дозируя степень рвения в соответствии с природной силой каждого, не осуждая, а тем более не наказывая тех, кто из-за холодности или желчности характера не находят в такого рода взаимоотношениях, при всей их трогательности, той душевной радости, которую испытывают от них люди иного склада; согласитесь, стремление предписать универсальные законы для всех – явный абсурд, по смехотворности сравнимый с желанием генерала натянуть на всех своих солдат форму, сшитую по единой мерке; требовать от неодинаковых людей подчинения одинаковым законам – вопиющая несправедливость: что пригодно для одного, совершенно недостижимо для другого.
Готов признать: невозможно создать столько законов, сколько существует людей, однако вполне возможно свести число законов до минимума, смягчив их настолько, чтобы им с легкостью подчинился любой человек, независимо от душевного склада. Еще настаиваю на том, что немногочисленные сии законы должно наилучшим образом приспособить ко всему многообразию человеческих характеров; разумному правителю надлежит наносить удары с большей или меньшей решительностью, применяя индивидуальный подход к провинившимся подданным. Очевидно, что существуют добродетели, практически неосуществимые для целого ряда людей, подобно тому, как иные лекарства несовместимы с тем или иным темпераментом больного. До чего же несправедливо карать мечом правосудия того, кто не способен исполнить требования закона! Не совершается ли при этом беззаконие, приравниваемое к преступному желанию заставить слепого различать цвета? Необходимость смягчения законов не подлежит сомнению, это относится, в частности, к безоговорочной отмене такого зверства, как смертная казнь, ибо закон, покушающийся на жизнь человека, неприменим, необоснован и недопустим. Сие вовсе не означает нерассмотрения бесконечного числа ситуаций – о них еще пойдет речь в дальнейшем, – когда, ничуть не оскорбляя природу (и я это докажу), люди осуществляют на деле полученную от нее же, общей своей праматери, ничем не ограниченную свободу посягать на жизнь других людей. Закон общественный такой привилегией не обладает, беспристрастный по сущности, он не допускает разгула страстей, оправдывающих жестокую неудержимую тягу человека к убийству; человек получает от природы впечатления, в какой-то мере извиняющие его за это злодеяние, закон же, как правило, противоречит природе, не получает от нее побуждений, то есть не уполномочен ею позволять себе такого рода отклонения: не обладая причинами для оправдания, он лишен и известных прав. Таковы тонкие отличительные особенности, ускользающие от большинства – ведь число людей мыслящих крайне невелико; все же тешу себя надеждой, что соображения сии, обращенные к людям сведущим, будут ими оценены и окажут положительное влияние на новый кодекс, который мы готовимся принять.
Еще один довод в пользу отмены смертной казни – она не служит мерой пресечения, ибо благодаря ей вновь совершается преступление, на этот раз у подножия эшафота. Словом, подобное наказание требует срочного упразднения. Что за скверный расчет: насильственное умерщвление человека за убийство ближнего! Ведь ясно, что в ходе этой процедуры становится не одной жизнью меньше, а двумя – такая арифметика под стать лишь палачам и скудоумцам.
В конечном счете злодеяния, совершаемые нами по отношению к своим собратьям, сводятся к четырем основным разновидностям: клевета, кража, непристойные действия, неблагоприятно отражающиеся на окружающих, и убийство. При монархической форме правления проступки такого рода признаны весьма серьезными. Столь ли тяжки они для государства республиканского? Призовем на помощь светильник философии – его сияние позволит разобраться в истине. Только не нужно приписывать мне авторство опасных новаций, говорить, что писания эти притупят угрызения совести в душах злодеев, превращать гибкость моих моральных устоев в средство усиления преступных наклонностей злоумышленников: категорически заявляю, что не будучи одержим ни одним из предосудительных сих намерений, излагаю здесь лишь соображения, которых придерживаюсь всю свою сознательную жизнь; подобные идеи не раз вызывали жестокое противодействие со стороны бесчестных деспотов и тиранов различных эпох. Всегда найдутся те, кого испортят даже самые великие идеи – что ж, тем хуже для них! Как и для тех, кто поддается растлению, умудряясь извлекать из философских рассуждений исключительно дурное начало! Кое-кому опасная зараза чудится даже в книгах Сенеки и Шаррона. Но не к ним обращены мои речи. Да услышат меня избранные люди, способные понять мои мысли – им такое чтение не опасно.
Буду откровенен: я никогда не считал клевету злом, а тем более в нашем обществе, построенном на тесных и прочных связях между людьми, когда каждый кровно заинтересован побольше узнать о другом. Возможны два варианта: клевета поражает либо настоящего мерзавца, либо человека добродетельного. Согласимся, что в первом случае почти безразлично позлословит кто-нибудь о негодяе, и без того известном дурными своими поступками, или нет – кто знает, может, приписываемые ему провинности, даже несуществующие, прольют свет на истинное его лицо, позволяя выявить действительно сотворенное им зло.
Предположим где-нибудь, скажем в Ганновере, нездоровый климат, и отправляясь туда, а значит, подвергая себя неблагоприятному воздействию холодного воздуха, я рискую заработать приступ лихорадки. Вызовет ли у меня недовольство тот, кто желая воспрепятствовать моей поездке, запугает меня уверениями, что я умру, едва ступлю на землю Ганновера? Конечно же нет; ибо устрашая меня великой бедой, он избавит меня от беды малой. Затронет ли клевета человека добродетельного? Отнюдь, раз отсутствует повод для беспокойства; более того, стоит ему выказать свою порядочность – и жало злопыхателя тотчас обернется против самого обидчика. Оговор для такого человека явится мерой скорее очистительной, а добродетель его засияет еще ярче. Более того, сие обстоятельство послужит на пользу гражданским доблестям республиканца; достойный чувствительный муж, в пику пережитой несправедливости, постарается еще более укрепить свою добропорядочность, преодолевая зловредное влияние клеветы, и прекрасные его деяния наполнятся новым всплеском энергии. Таким образом, в первом случае преувеличением порочности опасного злодея клеветник производит эффект вполне положительный; во втором случае результат достигается воистину превосходный – добродетель вынуждают предстать во всей своей красе. Итак, ответьте теперь, какие основания бояться клеветника в обществе, где жизненно важно выявлять злодеев и приумножать силы добра? Воздержимся от какого бы то ни было осуждения клеветы; рассмотрим ее под двойным углом зрения: как маяк и как побудитель к действию; в обоих случаях очевидна чрезвычайная ее полезность. Законодателю, одержимому возвышенными идеями и величественными задачами, должно изучать не индивидуальные, а массовые последствия тех или иных правонарушений; внимательно исследовав конечный результат, он наверняка не сочтет очернителя заслуживающим наказания, скорее, внесет некоторые поправки в законы, карающие за клевету; еще более высокую справедливость и широту взглядов проявит законодатель, благоприятствующий клевете и даже вознаграждающий за нее своих подданных.
Следующее из моральных правонарушений, достойное нашего рассмотрения, – кража.
Обратим взоры на античную эпоху – грабеж разрешался и даже поощрялся во всех республиках Греции; ему открыто покровительствовали в Спарте или Лакедемоне; некоторые народы рассматривали его как одну из воинских доблестей; воровство – явное подспорье для решительности, силы, ловкости и прочих добродетелей, полезных для республиканского правительства, тем более для такого, как наше. Теперь отвечайте с беспристрастием: если в результате расхищения люди поровну наделяются богатствами, то следует ли считать такое воровство великим злом для общества, цель которого – равенство? Разумеется, нет; правительство, с одной стороны, ратует за равенство, а с другой – предписывает каждому стоять на страже личного имущества. У некоторых народов принято наказывать не вора, а того, кто позволил себя обокрасть – пусть учится получше беречь свою собственность. Такая практика наводит на более пространные размышления.
Боже упаси, я вовсе не намерен атаковать или нарушать клятву об уважении к собственности, недавно провозглашенную нацией. Однако мне, надеюсь, позволительно высказать некоторые соображения по поводу несправедливости этой клятвы? В чем смысл присяги, принятой французами? Разве не в отстаивании абсолютного равенства всех граждан перед законом, защищающим собственность каждого? А теперь я задаю вопрос: справедлив ли закон, приказывающий тому, у кого нет ничего, уважать права того, у кого есть все? В чем основополагающие принципы общественного договора? Не в том ли, чтобы уступить часть своей свободы и своей собственности ради поддержания и сохранения свободы и собственности других людей?
Все законы зиждутся на этих постулатах, ибо в них заложены побудительные причины любых наказаний за злоупотребление свободой. Законы предусматривают взыскание налогов, и гражданин не возражает, когда от него требуют их уплаты, поскольку понимает: то, что отнято, позволяет сохранить остальное его добро; итак, снова повторяю: по какому праву пытаются закабалить того, кто не обладает ничем, неким общественным договором, защищающим интересы того, кто обладаем всем? Если клятвой вашей вы совершаете акт справедливости, сохраняя собственность имущего, не поступаете ли вы тем самым несправедливо по отношению к исполнителю этой клятвы – неимущему? Какой ему резон в навязанной вами присяге? На каком основании вы налагаете на него обязательство перед тем, кто существенно превосходит его в уровне благосостояния? Трудно придумать нечто более необоснованное: присяга должна создавать равные условия для всех индивидуумов, ее принимающих; недопустимо сажать на цепь того, кто совершенно не заинтересован в соблюдении верности клятве, ибо в таком случае это не договор свободного народа – в руку сильного вкладывается оружие для борьбы со слабым, против чего тот, в свою очередь, будет беспрестанно восставать; именно так и происходит осуществление клятвы об уважении к собственности, недавно провозглашенной нацией; богатый в одностороннем порядке порабощает бедного, защищая свои интересы, бедный же, легковерно провозглашая о своих обязательствах, опрометчиво связывает себя клятвой, которую невозможно исполнить по отношению к нему самому.
Теперь, когда вы осознали это варварское неравенство, не усугубляйте и без того жестокую несправедливость, карая того, кто лишен какой бы то ни было собственности, за посягательство на часть имущества богача: бесчестная ваша клятва дает ему на то неоспоримые права. Абсурдностью наложенных на бедняка обязательств вы подталкиваете его к клятвопреступлению, тем самым узаконивая любые преступления, вытекающие из такого вероломства; следовательно, не вам судить его за то, что случилось по вашей же вине. Сказано, по-моему, более чем достаточно, чтобы вы почувствовали: преследовать воров ужасно и жестоко. Почему бы вам не последовать примеру мудрого народа, о котором я недавно упоминал, приняв закон о наказании того, кто допускает преступную беспечность, позволяя себя обкрадывать, и отводя любые обвинения от человека, эту кражу совершающего; вдумайтесь: изобретенная вами клятва оправдывает его действия, и занимаясь воровством, человек этот следует первейшему и разумнейшему из движений природы – инстинкту самосохранения, стремясь выжить, не важно за чей счет.
Ко второму разряду правонарушений, связанных с обязательствами человека по отношению к себе подобным, относятся также действия, квалифицируемые как развратные. Особо предосудительными и затрагивающими интересы окружающих считаются проституция, адюльтер, инцест, изнасилование и содомия. Ни на миг не сомневайтесь: все преступления против нравственности, в том числе и упомянутые мною проступки, совершенно безразличны правительству, которое высшей моральной ценностью признает сохранение республиканской формы правления любыми доступными средствами. Невозможно представить, как сохранить республику, окруженную враждебными деспотическими силами, исключительно моральными методами; выстоит она лишь посредством войны – но нет ничего более безнравственного, чем война. Судите сами: так ли уж необходимы государству, безнравственномупо определению, нравственныеграждане? Скажу больше: лучше, чтобы они таковыми не являлись. Законодатели Греции тонко прочувствовали важность распространения среди членов общества заразы недовольства; моральное разложениена руку государственной машине, ибо восстание – одно из обязательных условий существования государства, где благополучное республиканское правительство непременно вызывает ненависть и зависть со стороны своего враждебного окружения. Бурное негодование, как справедливо полагали мудрые законодатели, нравственнымотнюдь не является; тем не менее именно таково нормальное состояние умов в республиканском обществе; от людей, призванных постоянно поддерживать режим безнравственныхпотрясений государственной машины, не только нелепо, но и опасно требовать нравственности. Привычное состояние для человека нравственного– мир и покой, в отличие от безнравственногосостояния вечного движения, неизбежно подталкивающего к восстанию. Республиканец нуждается в чувстве возмущения – только так он как гражданин окажет поддержку своему правительству.
А сейчас перейдем к подробным описаниям и начнем со стыдливости, этого робкого трусливого чувства, противостоящего непристойностям. Если бы природа задумала устроить человека целомудренным, он, конечно же, не рождался бы голым; множество народов, менее нас испорченных цивилизацией, ходят нагими, не ведая никакого стыда; обычаю носить одежду мы обязаны суровости климата и женскому кокетству; женщины почувствовали, как много теряют в глазах мужчин, предупреждая их желание, и насколько выгоднее пробуждать его; они сообразили, что природа создала их несовершенными, и чтобы понравиться, весьма полезно скрывать свои недостатки с помощью разного рода ухищрений; таким образом, стыдливость не имеет ничего общего с добродетелью, являясь одним из первейших признаков развращенности и испытанным средством кокетливых женщин. Проницательные правители Ликург и Солон вовремя осознали, сколь важна непристойность для погружения граждан в безнравственноесостояние, так, молодые девушки обязаны были показываться в театре обнаженными. [13]Примеру греков не замедлили последовать римляне: на играх, устраиваемых в честь богини Флоры, танцевали голыми; в таком же духе проводилось большинство языческих мистерий; у некоторых народов нагота приравнивалась к добродетели. Как бы то ни было, непристойность пробуждает сластолюбивые склонности, а те в свою очередь – так называемые преступления против нравственности и прежде всего – проституцию. Возвращаясь к рассмотрению этого вопроса, мы уже отринули постылые религиозные путы, прежде нас стеснявшие, и покончили с множеством предрассудков, теперь мы ближе к природе – прислушаемся же к ее голосу, дабы удостовериться раз и навсегда: единственное в мире преступление – противиться внушенным ею склонностям, пытаясь их перебороть; стремление к чувственным наслаждениям – важнейшая из природных склонностей, и вместо того чтобы гасить в себе желания, следует, напротив, изыскивать средства мирного их удовлетворения. Настаивайте на наведении порядка по этой части, обеспечивая все условия для доступа гражданина к предметам сладострастия, дабы он любым способом мог утолить свой пыл, не будучи сдерживаем никакими ограничениями, ибо из всех страстей человеческих наибольшей свободы алчет именно сластолюбие. В городах сооружайте просторные, опрятно меблированные, безопасные во всех отношениях помещения, туда придут развратники для удовлетворения своих причуд – с лицами любого пола и возраста и с кем бы то ни было; созданиям, предоставленным для утех, предписано безоговорочное подчинение – за ничтожный отказ незамедлительно следует наказание со стороны того, кто недополучил желаемое. Сейчас объяснюсь поподробнее, соотнося свои соображения с республиканскими нравами; обещал быть последовательным – и слово свое сдержу.
Как только что отмечено, чувственность – самая свободолюбивая и самая деспотичная из страстей; человеку свойственно стремление повелевать, подчинять других, окружать себя рабами, принужденными исполнять его прихоти; всякий раз, когда вы лишаете человека тайной возможности проявить хоть малую толику деспотизма, вложенного ему в душу природой, он тотчас направляет его вовне, набрасываясь на окружающих или на правительство. Хотите избежать этой опасности – позвольте человеку беспрепятственно испускать тиранические позывы, неустанно одолевающие его помимо воли, и он удовольствуется своей маленькой верховной властью в рамках гарема продажных ичогланов [14]или султанш, где окажется благодаря вашим заботам и собственному своему кошельку, после чего вернется домой удовлетворенным, не испытывая ни малейшего желания смущать покой правительства, снисходительно потворствующего его вожделениям. Если же вы, напротив, станете чинить публичному разврату нелепые препятствия, некогда изобретенные министерской тиранией и нашими новоявленными Сарданапалами, [15]подданные ожесточатся против правительства, ревнуя к единолично присвоенному им праву на деспотизм, сбросят навязанное вами иго, им наскучит ваша манера управления, и они переменят ее, как это уже случилось недавно.
Вспомните, как проникнутые великими идеями греческие законодатели относились к разврату в Лакедемоне и Афинах; никаких запретов, гражданина опьяняли распутством; ни один вид похоти не был запрещен; Сократ, которого оракул объявил мудрейшим на земле философом, безучастно переходил из объятий Аспазии в объятия Алкивиада, что не мешало ему оставаться гордостью Греции. Пойду дальше: понимаю, насколько противоречат мои мысли сегодняшним нашим понятиям, однако цель моя – доказать: следует поторопиться с обновлением существующих обычаев, коли мы желаем сохранить принятую у нас форму правления; итак, попытаюсь убедить вас, что проституирование так называемых «честных» женщин ничуть не опаснее развращения мужчин. Порядочных женщин надлежит приобщать к участию в оргиях, устраиваемых в предусмотренных для этого заведениях, для них следует выстроить специальные дома, где капризы и нужды женского темперамента, ничуть не менее пылкого, чем мужской, были бы удовлетворены с лицами обоего пола.
Прежде всего ответьте, на каком основании беретесь вы освобождать женщину от предписанного ей природой слепого подчинения мужским прихотям? И наконец, по какому праву вы обрекаете женщину на воздержание, невыносимое для ее здоровья и совершенно бесполезное для ее чести?
Разберем каждый из этих вопросов по отдельности.
По естеству своему, женщина, безусловно – « побродяжка», и пользуется теми же преимуществами, что и другие самки животных, принадлежащие всем самцам без исключения; таковы, вне всякого сомнения, первые законы природы и первые установления древнейших человеческих сообществ. Однако впоследствии корысть, эгоизм и любовьискажают простоту и естественность изначальных постулатов; женщина, а с ней в придачу имущество ее семьи рассматриваются как верный путь к обогащению; так удовлетворяются первые из двух обозначенных мною потребностей, порой женщину похищают и привязываются к ней – еще один побудительный мотив к действию, во всех трех случаях наблюдается нецелесообразность.
Акт обладания неприменим к существу свободному; безраздельно владеть женщиной столь же несправедливо, как владеть рабами; никогда не следует забывать – все люди рождены свободными и равноправными, и сильный пол не имеет законного права на захват неограниченной власти над слабым; да и ни один пол или отдельные его слои не вправе по своему произволу обладать другим полом или отдельными его представителями. Согласно законам природы, женщина не вправе отказать тому, кто ее пожелает, сославшись, в качестве мотива, на свою любовь к другому – налицо исключительная принадлежность, что недопустимо: раз ясно, что женщина принадлежит решительно всем мужчинам, значит никто из мужчин не должен быть отстранен от обладания женщиной. Владеть можно недвижимостью или животным, но не существом себе подобным – любые узы, приковывающие женщину к мужчине, в какой бы форме они ни выступали, необоснованны и иллюзорны.
Несомненно не только наше естественное право открыто выражать свое влечение ко всем женщинам без разбора, но и наше право заставлять их покоряться нашим страстям – я отнюдь не противоречу сам себе, речь идет не о вечном подчинении, а о временном. [16]Нам, мужчинам, несомненно, надлежит устанавливать законы, принуждающие женщину уступать любовному пылу всякого, кто ее пожелает. И если для реализации этого права потребуется насилие, у нас есть законные основания его применить! Разве сама природа не подтверждает эти полномочия, предоставляя нам перевес в силе, из которого вытекает неизбежность подчинения женщин нашим желаниям?
Напрасно женщины разглагольствуют, прикрываясь своим целомудрием или привязанностью к другим мужчинам; такой способ защиты – просто отговорка; не так давно мы уже убедились в наигранности и ничтожности такого чувства, как стыдливость. Не более доводов в пользу женского постоянства и у любви – так называют душевное безумие, когда удовлетворены только двое – любящий и любимый, счастье остальных не учитывается, в то время как назначение женщины – доставлять радость всем мужчинам, а вовсе не ублажать одного привилегированного эгоиста. Все мужчины имеют равные основания наслаждаться всеми женщинами; согласно законам природы, ни один мужчина не наделен единоличным и персональным правом владеть той или иной женщиной. В обществе тоже необходим закон, принуждающий женщин проституировать в той мере, в какой это будет угодно нам, мужчинам, и в тех домах терпимости, о которых недавно шла речь; необходим закон, заставляющий женщин подчиниться, даже в случае несогласия с их стороны, и карающий их за уклонение от своих обязанностей; такой закон – истинный и беспристрастный – невозможно опровергнуть сколько-нибудь разумными доводами.
Итак, торжеством справедливости стало бы издание закона о том, что любой мужчина, желающий насладиться какой бы то ни было женщиной или девушкой, имеет возможность требовать ее присутствия в одном из означенных мной заведений; там, под присмотром матрон храма Венеры, избранная особа предоставляется для удовлетворения каприза (порой унизительного и подневольного – не важно) того, кому взбредет в голову позабавиться с ней; ни одна любовная прихоть не признается странной или неподобающей – в любом случае она внушена природой, а значит ею же и одобрена. Остается лишь оговорить возраст; берусь утверждать: не стоит стеснять свободу мужчины, заказывающего девушку тех или иных лет. Кто наделен правом отведать плод с дерева, по собственному усмотрению и пристрастию решает, срывать его спелым или недозрелым. Предвижу возражения: девушкам известного возраста вредно вступать в отношения с мужчинами. Подобное утверждение безосновательно; признаваемое за мной право на наслаждение существует вне зависимости от последствий, им вызываемых, и совершенно безразлично, пойдут ли мои действия на пользу или во вред предмету, предназначенному для моих утех. Я уже доказал: принуждать женщину против воли вполне законно – едва кто-либо ее возжелает, ей должно покориться и, отбросив всякие эгоистические соображения, тотчас предоставить себя для удовольствий. Так же обстоит дело со здоровьем. Излишняя забота о здоровье девушки ослабляет и притупляет наслаждение того, кто ее возжелал; выходит, благоговение перед нежным возрастом беспочвенно – нас не заботят ощущения предмета, приговоренного природой и законом к временному утолению чужого пыла, наш труд посвящен изучению того, что подходит прежде всего носителю влечения. Хотя все же стоит уравновесить чашки весов.
Да, определенный баланс интересов, несомненно, желателен; несчастные женщины, порабощенные нами столь безжалостно, бесспорно, заслуживают возмещения убытка – перехожу к ответу на второй из поставленных мною вопросов.
Допуская безоговорочное подчинение женщин нашим желаниям, мы не вправе возражать против того, чтобы и они целиком и полностью удовлетворяли свои прихоти; принятием разумных законов нам должно подогреть их огненный темперамент, ибо верх нелепости – вооружаться женской честью и добродетелью для противоестественной борьбы со склонностями, которыми природа одарила их куда щедрее, нежели нас, мужчин; вопиющая несправедливость – мы соблазняем женщин, а затем, добившись их падения, наказываем за то, что они не устояли под натиском наших домогательств. Такая жестокость представляется мне неоправданной, она еще более усиливает абсурдность нравственных правил – назрела настоятельная необходимость очистки наших обычаев от подобной скверны. Не устану повторять: женщины получили от природы мощнейшую тягу к разврату, так пускай предаются ему абсолютно свободно, отринув узы супружества и ложные предрассудки о целомудрии; я ратую за то, чтобы женщины безраздельно подчинялись зову своего естества; чтобы законы позволяли им отдаваться стольким мужчинам, сколько им будет угодно; чтобы им, как и нам, дозволялось наслаждаться представителями обоего пола, пользуясь любой частью своего тела; при строгом соблюдении женщинами условия о предоставлении себя всякому, кто их пожелает, они вознаграждаются свободой удовлетворять себя с любым предметом, который сочтут достойным своего внимания.
Спрашивается, каковы опасные последствия женского распутства? Обычно ссылаются на детей, лишенных отца. Подумаешь! Что за важность для республики, где у всех граждан – и взрослых, и новорожденных – нет другой матери, кроме родины! Ах, сколь беззаветно преданы родине те, кому она – единственная мать – ведь с самого рождения они ждут милостей лишь от нее одной! Напрасно вы надеетесь воспитать добрых республиканцев, изолируя детей, предназначенных для нужд республики, в узком семейном кругу. Отдавая лишь отдельным личностям ту меру привязанности, которая должна быть распределена между всеми их собратьями, дети неизбежно перенимают опасные предрассудки членов своей семьи; суждения и мысли таких чад обособляются, существуя в отрыве от других людей, и добродетели государственные становятся для них совершенно чуждыми. Сердце их без остатка принадлежит тем, кто произвел их на свет, и в душе у них не остается уголка для истинной матери, призванной обеспечить им достойную жизнь, знания и славу, несмотря на то что приобретенные эти блага куда ценнее простой родительской любви. Прозябание детей в лоне семьи крайне нежелательно – там они впитывают ценности, порой весьма далекие от нужд республики, – постараемся отделить их от родителей. Это произойдет само собой с помощью предлагаемого мною средства: полное разрушение семейных уз, при котором плодам наслаждения женщиной – детям – строго запрещено знакомство с собственным отцом; так, благодаря отсутствию принадлежности к какой-либо определенной семье, формируются достойные сыны своей отчизны.
При поддержке государства возникнут заведения, предназначенные для женского разврата, по примеру домов для мужчин, там будут собраны особы обоих полов, и чем чаще женщина станет посещать эти заведения, тем большим почетом она будет окружена. Пора кончать с безжалостным нелепым обычаем привязывать понятие о женской чести и добродетели к сопротивлению желаниям, внушенным самой природой, довольно беспрестанно разжигать женское влечение, а затем с беспримерной жестокостью за него же и порицать. С самого нежного возраста [17]девушка, освобожденная от родительских уз и не хранящая более того, что якобы приуготовлено для супруга (согласно мудрому законодательству, о котором я так ратую, брак прекратит свое существование), будет учиться преодолевать бремя предрассудков, некогда сковывавших ее пол – лишь после этого она будет готова беспрепятственно предаваться всему, что предпишет ее темперамент; она встретит достойный прием в специально приспособленных для разврата домах и, получив там полное удовлетворение, вновь появится в обществе, где открыто расскажет об испытанном удовольствии, подобно тому, как делятся впечатлениями о бале или прогулке. Прекрасный пол, вы, подобно мужчинам, обретете свободу, вам станут доступны все удовольствия, для которых предназначила вас природа – не отказывайте себе ни в одном из них. Доколе божественнейшей части человечества терпеть оковы, наложенные сильным полом? Разбейте их по велению вашего естества! Нет у вас иной узды, кроме ваших наклонностей, иного закона, кроме ваших желаний, и иной морали, кроме предписаний природы; довольно чахнуть в плену варварских предрассудков, иссушающих ваши прелести и сдерживающих божественные порывы ваших душ; [18]вы свободны ничуть не менее мужчин – поприще сражений во славу Венеры в равной степени открыто и для вас; не страшитесь ханжеских упреков; долой педантизм и суеверие; прекращайте краснеть за милые ваши безрассудства; мы, мужчины, увенчаем вас миртами и розами, и почитание наше станет тем более благоговейным, чем решительнее расширите вы простор своих фантазий.
Сказанное ранее, пожалуй, должно избавить нас от необходимости исследования адюльтера; тем не менее остановимся вкратце и на нем, каким бы несущественным ни представлялось сие явление в свете изложенных мною законов.
До чего смешны в наши дни старинные понятия о преступном характере прелюбодеяния! Миф о нерушимости супружеских уз – несомненно, одна из главных бессмыслиц нашего мира; не сомневаюсь: любой, кто обнаружил или ощутил на себе бремя этих уз, не сочтет преступными действия, направленные на их ослабление. Природа, как уже отмечалось, наделяет женщин более пылким темпераментом и более глубинной чувственностью, чем мужчин, тем самым усугубляя для них тяжесть супружеского ига. Нежные женщины, пылающие любовным огнем, без опаски предавайтесь удовольствиям; внушайте себе: нет никакого зла в уступке природному влечению, и сотворены вы не для одного мужчины, а чтобы нравиться всем подряд. Не сдерживайте себя. Следуйте примеру республиканок Греции; правителям той поры, сочиняющим законы, и в голову не приходило называть адюльтер преступлением, женское распутство позволялось тогда практически повсюду. Томас Мор в своей «Утопии» обосновывает полезность женского разврата, кое-где идеи этого великого человека из мечты превращались в реальность. [19]
У татар самой почитаемой считалась женщина, проституировавшая более остальных; она открыто демонстрировала на шее свидетельства своего бесстыдства, те же, кто не имел таких знаков отличия, удостаивался презрения. В Перу существовал семейный обычай предлагать проезжим иностранцам своих жен и дочерей внаем с поденной платой, как за лошадь или за экипажи. Потребовалось бы многотомное издание для подтверждения непреложного факта – ни у одного из мудрейших народов мира развратные действия не считались предосудительными. Ни для кого из философов не секрет: именно христианские лицемеры возводят прелюбодеяние в ранг преступления. Священники кровно заинтересованы в наложении запрета на сладострастие: рекомендуя другим отказ от удовольствий, присваивая право на знание тайных грехов и на их отпущение, они обретают неслыханную власть над женщинами и открывают безграничные возможности услады своей похоти. Общеизвестно, какие выгоды удалось им извлечь из такого положения, злоупотребления их продолжались бы и поныне, не будь доверие к ним окончательно подорвано.
Может, по сравнению с адюльтером, более опасен инцест? Ничуть. Расширение семейных связей приводит к усилению гражданского патриотизма; кровосмешение – одно из первейших установлений природы, мы ощущаем особое упоение, наслаждаясь предметами, нам принадлежащими. Первые человеческие сообщества поощряли инцест, он стоит у истоков любых государственных объединений, кровосмешение освящено всеми религиями и одобрено всеми законами. Обращаясь к истории, мы обнаруживаем инцест повсюду. Негры, обитающие в Кот дю Пуавр и в Рио-Габоне, предоставляли жен собственным сыновьям; в царстве Жуида в Гвинее старший сын должен был жениться на жене своего отца; у народов Чили принято спать без разбора то со своими сестрами, то с дочерьми, а также жениться на матери и на дочери одновременно. Осмелюсь утверждать: кровосмешение должно стать непреложным законом любого государства, в основу которого заложена идея о братстве. Возможно ли человеку здравомыслящему дойти до такого безумия, чтобы полагать преступным проявление нежности к матери, сестре или дочери? Разве не омерзителен предрассудок, вменяющий человеку в вину выбор для наслаждения предмета, с которым его сближают наиболее сильные из чувств, внушенных ему природой? В равной мере глупо утверждать, что запрещено любить слишком сильно людей, которых природа предписала нам любить больше всего на свете, и что чем неразрывнее она связывает нас с данным предметом, тем настоятельнее она в то же время приказывает нам от него отдалиться. Несуразность этих противоречий очевидна: только самые дикие и одурманенные предрассудками народы способны принять их на веру. Проповедуемая мною общность владения женщинами с необходимостью предполагает инцест, впрочем, столь мелкое и мнимое правонарушение явно не стоит того, чтобы далее заострять на нем внимание.
Перейдем к изнасилованию; среди прочих распутных извращений, оно, на первый взгляд, выделяется четко выраженным нанесением ущерба и, похоже, на самом деле вредоносно. Однако при ближайшем рассмотрении выясняется: изнасилование – действие довольно нечастое и труднодоказуемое, оно наносит ближнему ущерб меньший, нежели воровство, ибо в результате воровства собственность захватывается, а в результате изнасилования – лишь приводится в негодность. Что возразите вы насильнику, уверяющему, что совершенное им злодеяние незначительно – он всего только поторопился с приведением предмета в состояние, которое чуть позднее приобрел бы тот же предмет при вступлении в брак или в любовную связь?
Теперь еще об одном преступлении, называемом содомия, – предававшиеся ей города некогда были испепелены огнем, посланным с неба. В чем, собственно, чудовищность этого действия, если даже самое жестокое наказание за него признается чересчур мягким? С большим прискорбием вынужден попрекнуть наших предков в совершении множества убийств, явившихся результатом несправедливых судебных решений, осуждающих содомию. Какое варварство приговаривать к смертной казни несчастного, чье преступление сводится лишь к отличию его вкусов от ваших! Дрожь пробирает от мысли: менее чем сорок лет назад наши законодатели еще придерживались этого бреда. Успокойтесь, сограждане, к подобной дикости нет возврата – благоразумие сегодняшних государственных мужей тому порукой. Отныне мы просвещены об этой слабости, присущей некоторой части мужчин, и понимаем, что не стоит расценивать ее как преступную: природа не придает особой ценности жидкости, проистекающей из наших чресл, и вряд ли разгневается, если мы направим означенную жидкость в любое удобное для нас русло.
О каком же преступном умысле идет речь? Безусловно, не о вторжении в то или иное отверстие, иначе напрашивается вывод о неравноценности различных частей тела и их делении на чистые и нечистые; трудно предположить, что кто-то выскажет подобные нелепицы, остается единственный преступный умысел – сознательная потеря семени. Итак, ответьте: правда ли, что семя это столь бесценно в глазах природы, что утрата его равнозначна преступлению? Будь это так, разве потворствовала бы она ежедневным потерям семени? Разве не с ее согласия происходит растрата семени во время сновидений или при половом акте с беременной женщиной? Бессмысленно предполагать, что природа не позаботилась о том, чтобы отнять у нас всякую возможность совершать преступления, способные нанести ей реальный урон. Неужели природа разрешила бы смертным отказаться от удовольствий, сделав их тем самым сильнее себя самой? Невероятно, в какую пропасть абсурда низвергаются те, кто презревает светильник разума! Уясним же наконец истины ясные и простые: женщиной дозволено наслаждаться любым способом, и совершенно безразлично, девочек ли, мальчиков ли мы избираем для забав – неизменно лишь одно: все наши склонности заложены в нас природой, а она достаточно мудра и последовательна, чтобы не снабжать нас тем, что в силах ей навредить.
Содомия – следствие определенного телосложения, и нам не дано его изменить. Склонность эта проявляется с нежнейшего возраста, от нее не избавляются никогда. Не менее естественной представляется и содомия, являющаяся плодом пресыщения. Словом, во всех своих ипостасях содомия выступает как творение природы, а значит, заслуживает того, чтобы с ней считались. Если кому-нибудь удастся собрать точные данные, доказывающие, насколько содомия предпочтительнее обычных склонностей, насколько удовольствие от нее острее, насколько число ее сторонников превышает число противников, то для всех станет совершенно очевидным: порок этот, ничуть не оскорбляя природу, напротив, служит ее целям – природа куда менее печется о потомстве, нежели мы, по неразумию своему, привыкли полагать. Взгляните на мир вокруг – в скольких странах презирают женщин! У некоторых народов женщинами пользуются исключительно для продолжения рода. Республиканский режим располагает мужчин к совместному проживанию, способствуя распространению этого порока, что, впрочем, не представляет никакой опасности. Иначе греческие законодатели не допускали бы подобных вольностей в своей республике. Они не считали мужеложство предосудительным, даже напротив, полагали его необходимым для народа-воителя. Плутарх с воодушевлением описывает фалангу, состоящую из возлюбленныхи их любимых, эти юноши долго держали оборону, защищая свободу Древней Греции. Подобные привычки царят в объединениях братьев по оружию, укрепляя боевые связи; такой склонности предаются виднейшие деятели различных эпох. При открытии Америки тотчас обнаружилось: весь континент заселен людьми, приверженными к этому вкусу. В Луизиане у иллинойцев проживают индейцы, которые наряжаются в женскую одежду и торгуют собой, как куртизанки. Негры из Бенгелы открыто содержат мужчин; почти все серали Алжира и в наши дни переполнены мальчиками. В Фивах не просто терпимо относились к любви с юношами, но даже обязывали ею заниматься; херонейский философ предписывал ее для смягчения нравов молодых людей.
Известно, как широко распространена была содомия в Риме, проституцией занимались прямо в общественных местах: юноши – в одежде девушек, девушки – в мужской одежде. Марциал, Катулл, Тибулл, Гораций и Вергилий в своих посланиях обращались к мужчинам как к любовницам; почитайте Плутарха, [20]уверявшего, что истинную любовь внушают только юноши и такое чувство не имеет ничего общего с низменной привязанностью к женщинам. Амизийцы – народ, населявший остров Крит, – похищали мальчиков, причем с необычным церемониалом: избрав возлюбленного, похититель извещал родителей о дате, когда намеревался его увезти; если претендент в любовники мальчику не нравился, он оказывал некоторое сопротивление, в противном случае – следовал за ним, и соблазнитель, попользовавшись его услугами, сразу отсылал мальчика в семью; подобная страсть, как и страсть к женщине, быстро утоляется, переходя в пресыщение. По описанию Страбона, на этом острове серали заполнялись одними только мальчиками, и их открыто предлагали всем желающим.
И наконец еще одно авторитетное свидетельство о полезности этого порока для республики. Прислушаемся к мнению перипатетика Иеронимоса. Страсть к юношам охватила всю Грецию, писал он, придавая гражданам силу, мужество и способствуя изгнанию тиранов; заговорщики часто оказывались любовниками, они сносили любые пытки, но не выдавали своих сообщников; жертвенный патриотизм служил процветанию государства; тогда считалось, что подобные любовные связи укрепляют республику, привязанность же к недостойным созданиям – женщинам – осуждалась как слабость, присущая деспотическому режиму правления.
Педерастия характерна для воинственных народов. Цезарь описывает, с какой превеликой охотой отдавали дань этому пристрастию галлы. Войны в поддержку республики, разделяя представителей обоих полов, немало способствуют распространению этого порока, когда же полезность его для государства признается очевидной, церковь тотчас освящает его. Известно, как свято почитали римляне любовь Юпитера и Ганимеда. По уверению Секста Эмпирика, у персов эта фантазия даже вменялась в обязанность. В конце концов презренные женщины в порыве ревности начинают предлагать своим мужьям те же услуги, которые предоставляют им мальчики, однако многие из попробовавших такую замену не поддаются на обман, возвращаясь к старым привычкам.
Правда, турки, горячие приверженцы этого извращения, освященного Магометом в его Коране, придерживаются иного мнения: они считают, что юная девственница с успехом заменяет мальчика – редко кто из их девушек становится женщиной, минуя такое испытание. Сикст V и Санчес не возражают против и развратных действий такого рода. Санчес даже пытается доказать, что содомия полезна для продолжения рода, и что ребенок, произведенный после предварительного курса такой обработки, становится существенно крепче физически.
Женщины в отместку принимаются взаимно удовлетворять друг дружку. Их озорство доставляет обществу ничуть не более хлопот, нежели мужское – весь результат сводится к простому отказу от размножения. Сторонникам увеличения рождаемости не о чем беспокоиться: их армия столь многочисленна и могущественна, что такому слабому противнику их не одолеть. Греки поддерживали женские шалости из государственных соображений, полагая, что удовлетворяясь между собой, женщины реже вступают в связи с мужчинами, а значит, не вмешиваются в дела республики. Лукиан считает такую распущенность прогрессивной, небезынтересно наблюдать среди ее сторонниц и знаменитую Сафо.
Словом, ни одна из исследованных нами маний не заключает в себе опасности: даже при существенном расширении границ дозволенного, когда дело доходит до ласк с монстрами или животными – и примеры тому мы находим у многих народов – не стоит рассматривать подобные пустяки как нечто губительное и неподобающее – испорченность нравов государству, скорее, на пользу, нежели во вред, так что, надеюсь, нашим законодателям достанет мудрости и осмотрительности не выпускать законов о жестоких расправах за безделицы, связанные исключительно с особенностями нашей телесной организации, ибо те, кто им привержен, виновны ничуть не более тех, кого природа сотворила уродливыми.
Обзор второго раздела преступлений, а именно преступлений, совершаемых людьми по отношению к себе подобным, завершим исследованием сущности убийства, после чего перейдем к следующему разделу – обязанностям человека по отношению к самому себе. Из всех оскорблений, наносимых человеком своему ближнему, убийство, бесспорно, наиболее жестокое, ибо отнимает главное из полученных от природы благ – жизнь, и потеря сия невосполнима. Тем не менее даже в этом случае, невзирая на неоспоримость вреда, причиненного жертве, возникают дополнительные вопросы:
1. Является ли акт убийства преступлением, действительно нарушающим законы природы?
2. Преступно ли убийство относительно законов политики?
3. Наносит ли оно ущерб обществу?
4. Как следует его расценивать в республиканском государстве?
5. Должно ли, наконец, пресекать убийство другим убийством?
Теперь приступим к исследованию каждой проблемы по отдельности: предмет достаточно серьезный – на нем и задержимся поподробнее; кому-то наши идеи, возможно, покажутся слишком смелыми – что ж, пусть. Но за что мы боролись – разве не за право говорить все, что вздумается? Раскроем великие истины; люди готовы нас выслушать; пора срывать повязку лжи – именно этого ждут от тех, кто недавно обнажил правду о королевской власти. Итак, является ли убийство преступлением с точки зрения природы? Таков первый из поставленных нами вопросов.
Предвижу, как задену людскую гордыню, низводя человека до ранга прочих творений природы, однако не пристало философу тешить чье-то мелкое самолюбие – он одержим поисками истины, а значит, в клубке глупых тщеславных предрассудков сумеет распознать ее нить, распутать, развернуть и дерзко явить изумленному миру.
Что есть человек, чем отличается он от произрастающих вокруг растений и обитающих рядом животных? Решительно ничем. На этой планете он очутился по воле случая; подобно им, он рождается, размножается, растет и увядает; после чего достигает старости и проваливается в небытие по истечении срока, назначенного природой для каждого вида живых тварей, в соответствии с тем или иным строением органов. Сходство столь очевидно, что даже наблюдательному глазу философа абсолютно невозможно разглядеть какое бы то ни было различие; отсюда напрашивается вывод: убить человека – все равно, что убить животное.
Зло практически одинаково, истоки мнимой несопоставимости таких действий кроются исключительно в предрассудках, порожденных нашей гордыней, хотя нет ничего глупее столь неоправданной спеси. Попробуем все же заострить эту мысль. Итак, нет смысла отрицать: уничтожение человека приравнено к уничтожению животного. Но не является ли неоспоримым злом лишение жизни всякого животного, как то некогда полагали пифагорейцы и до сих пор считают жители берегов реки Ганг? Прежде чем отвечать, напомним читателям, что сначала мы изучим данный вопрос относительно природы, а затем перейдем к его рассмотрению с точки зрения общества.
Итак, я спрашиваю: насколько ценны для природы индивиды, создание которых не стоило ей ни малейшего напряжения и ни малейших забот? Рабочий, оценивая плод своего труда, высчитывает количество времени и усилий, потребовавшихся для его производства. Во что же обходится природе человек? И насколько превышает стоимость человека – если она вообще существует в глазах природы – стоимость обезьяны или слона? Пойдем дальше: каков исходный материал природы? Из чего состоят все рожденные на земле существа? Не являются ли три стихии, их образующие, продуктами изначального распада других тел? Если бы все особи жили вечно, разве не утратила бы природа способность создавать новые творения? Бессмертие живых существ для природы неприемлемо, а значит их уничтожение суть непреложный ее закон. Так, любые разрушения чрезвычайно полезны для природы – ей без них не обойтись: она способна творить, лишь черпая материал из массового разложения, происходящего по вине смерти, а значит сама идея об уничтожении, приписываемая смерти, теряет всякий смысл; это не истребление, и то, что мы привыкли называть концом жизни животного, в реальности таковым не является, речь идет о трансмутации, простом превращении, лежащем в основе вечного движения – первейшей сущности материи. Таковы важнейшие постулаты, признанные большинством современных философов. Смерть, согласно тем же неопровержимым положениям, не более чем изменение формы, неуловимое перевоплощение одного существа в другое, то, что Пифагор называл метемпсихозом.
После принятия сих истин в качестве исходных посылок, разговоры о преступном характере разрушения теряют всякий смысл. Уверен: теперь даже прежние мои противники откажутся от старых предрассудков и не осмелятся утверждать, что превращение приравнивается к уничтожению. Иначе придется согласиться, что материя хоть на миг погружается в бездействие и покой. Но как улучить такой момент – не успеет взрослое животное испустить дух, уже самозарождаются маленькие животные, и их жизнь – одно из необходимых следствий временного отсутствия большой особи. Решитесь ли вы судить, кем из них больше дорожит природа? Для этого потребуется доказать недоказуемое, как, например, то, что удлиненные и квадратные формы природе полезнее и приятнее, нежели формы продолговатые и треугольные; либо обосновать, что, исходя из высших предначертаний природы, лентяй, жиреющий в безделье и праздности, годен на нечто большее, нежели лошадь, верно служащая человеку, или бык, чье тело настолько ценно, что каждая его часть приносит ту или иную пользу; либо сказать, что ядовитая змея гораздо нужнее, чем верный пес.
Все эти системы не выдерживают критики. Значит, следует безоговорочно принять тезис о принципиальной невозможности для человека уничтожить какое бы то ни было произведение природы. Единственное, на что способен человек, предаваясь разрушительной деятельности, – варьировать формами, а это не приводит к угасанию жизни: кто не в силах отнять жизнь, тот не в силах обосновать преступность мнимого уничтожения живых существ любого вида, пола и возраста. Продолжая последовательную цепочку умозаключений, признаем наконец: совершаемые людьми действия по изменению форм различных творений природы ей вовсе не вредны, скорее, даже выгодны – так поставляется исходный материал для бесконечных ее реконструкций, и она не справилась бы с этой работой, если бы истребление постоянно не возобновлялось. Не надо ей мешать трудиться! Правда, в ходе такого переустройства она порой внушает нам тягу к убийству, и мы прислушиваемся, не в силах противиться ее советам; а впрочем, человек, убивающий себе подобного, осуществляет в глазах природы то же, что чума или голод, посланные ее же рукой, дабы поскорее раздобыть первичный материал для разрушения, столь необходимого для ее творчества.
Соблаговолим ли мы хоть на миг осветить нашу душу священным факелом философии, чтобы осознать: какой еще голос, если не голос природы, побуждает нас к личной неприязни, мести, вражде, словом, ко всем извечным мотивам убийства? Судя по настойчивости ее призывов, она нуждается в убийствах. Возможно ли предположить, что мы виновны перед природой, действуя согласно ее намерениям?
Похоже, набирается более чем достаточно доводов, способных убедить любого просвещенного читателя: убийство ни при каких условиях ущерба природе не наносит.
Является ли убийство преступлением с точки зрения политической? Осмелимся признать: убийство не преступно, более того, оно даже выступает в качестве одного из главных орудий достижения политических целей. Разве не с помощью убийств стал владыкой мира Рим? И разве Франция наших дней добилась свободы не с помощью убийств? Оговоримся заранее: речь идет об убийствах, причиненных войной, а не о зверствах, совершенных мятежниками и возмутителями общественного порядка – эти подонки, вызывающие всеобщее омерзение, упомянуты лишь затем, чтобы раз и навсегда заклеймить их позором. Политика целиком основана на лжи и не знает иных целей, кроме возвышения одной нации за счет другой, – ни одна область человеческой деятельности так сильно не нуждается в подкреплении убийствами. Политика бесчеловечна по сути, единственный ее плод – война, которая, в свою очередь, вскармливает, усиливает и поддерживает ее, ибо война не что иное, как наука разрушать. В странном ослеплении пребывает человечество: проводится публичное обучение искусству убивать, награждается тот, кто в этом преуспевает – и в то же время наказанию предается человек, решившийся отделаться от личного врага! Не пора ли покончить с варварскими пережитками?
И наконец, является ли убийство преступлением против общества? Возможно ли, по здравом размышлении, дать утвердительный ответ? Важно ли для многолюдного общества, станет в нем одним членом больше или меньше? Пострадают ли его законы, нравы и обычаи? Повлияет ли смерть одного индивида на общую массу? Предположим, что в результате потерь после крупной битвы, да что там битвы, после умерщвления половины рода человеческого или, если хотите, абсолютного его большинства, на земле останется ничтожное число выживших существ – и вы полагаете, что эта горстка людей испытает на себе хоть малейшее изменение порядка вещей? Увы, нет! Еще менее потревоженной окажется природа. Наивный человек, одержимый гордыней! Он верит, что мир устроен исключительно ради него, каково же было бы его удивление, когда после полного уничтожения рода людского он обнаружил бы, что окружающая природа ничуть не изменилась и ход небесных тел нисколько не замедлился. Продолжим.
Как положено расценивать убийство в государстве воинственных республиканцев?
Навлекать опалу на убийство и жестоко за него карать – крайне опасно. Возвышенный дух республиканца нуждается в определенной доле жестокости: стоит республиканцу немного расслабиться – он теряет силу, рискуя быть порабощенным. Здесь напрашивается одна необычная, хотя и вполне справедливая мысль; пусть кому-то она покажется дерзкой, я тем не менее выскажу ее. Нация, которая начинает самоопределяться с республиканского образа правления, выстаивает именно с помощью добродетелей – желая достигнуть большего, всегда начинают с меньшего; что же касается нации достаточно старой и испорченной, мужественно сбросившей ярмо монархии ради утверждения республики, то такая нация удержится только на многочисленных преступлениях; она уже приучена к злодействам и, пытаясь перейти от преступления к добродетели, то есть от состояния буйства к состоянию кротости, неизбежно впадет в инертность – и бездеятельность приведет к краху государства. Во что превратится дерево, извлеченное из плодородной почвы и пересаженное на иссохшую песчаную равнину? Любые интеллектуальные рассуждения подчинены физическим законам природы, поэтому сравнения сельскохозяйственного толка уместны в области морали.
Каждый день безнаказанно совершают убийства дикари – самые независимые из людей, ближе всех стоящие к природе. В Спарте, в Лакедемоне преследовали илотов, подобно тому как у нас, во Франции, охотятся на куропаток. Чем свободнее народ, тем благосклоннее он относится к убийству. В Минданао того, кто намеревается совершить убийство, возводят в ранг храбрецов: он даже награждается тюрбаном; карагуосы удостаивают такого головного убора за убийство семи человек; жители острова Борнео верят: те, кого они предадут смерти, станут прислуживать им в загробном мире; благочестивые испанцы давали обет святому Иакову Галисийскому убивать ежедневно по двенадцать американцев; в королевстве Тангут выбирают сильного и крепкого молодого человека, которому в определенные дни года разрешается убивать всякого, кто встретится ему на пути. Трудно отыскать более рьяных сторонников убийства, чем евреи. Оно прослеживается во всех видах, на каждой странице их истории.
Император и мандарины Китая время от времени предпринимают меры для возбуждения народного негодования, в результате таких маневров они зарабатывают право на устройство безжалостной резни. Когда этот мягкий, изнеженный народ делает попытку сбросить с себя иго тиранов, он, в свою очередь, на еще более законном основании приканчивает своих мучителей; таким образом, убийство торжествует и в том, и в другом случае, просто жертвы меняются местами: сначала оно на радость одним, затем осчастливливает других.
Множеству народов присуще терпимое отношение к публичным убийствам: они совершенно беспрепятственно осуществляются в Генуе, Венеции, Неаполе и на всей территории Албании; в Кашао, на берегу реки Сан-Доминго, убийцы, облаченные в особые ритуальные костюмы, по вашему приказу и на ваших глазах перережут горло тому, на кого вы им укажете; индонезийцы, готовясь к совершению убийства, обкуриваются опиумом, после чего мчатся по улицам, истребляя все, что встретится на их пути; английские путешественники не раз встречались с такой манией в Батавии.
Никто не окружен таким ореолом блеска и свободы, как величественные в своей жестокости римляне! Боевой дух нации поддерживался зрелищем битв гладиаторов; убийство превращалось в игру, воинственность – в привычку. Двенадцать-пятнадцать сотен жертв ежедневно наполняли арену цирка, и женщины, по природе более жестокие, чем мужчины, требовали, чтобы умирающие падали грациозно и в предсмертных конвульсиях принимали живописные позы. От гладиаторов римляне перешли к новому удовольствию: на глазах зрителей перерезали друг другу горло карлики. Когда же христианский культ отравил весь мир проповедями о том, что убивать друг друга – зло, римляне тотчас оказались под властью тиранов: так герои мира стали игрушками в чужих руках.
Люди всей земли справедливо полагают: убийца, сумевший подавить свою чувствительность настолько, чтобы поднять руку на себе подобного и пренебречь опасностью возмездия как со стороны общества, так и со стороны частного лица, – человек совершенно неустрашимый, а значит чрезвычайно полезный для воинственного или республиканского государства.
Обратимся к истории безжалостных народов, у которых принято умерщвлять детей, часто своих собственных, – привычки эти получили широкое распространение, кое-где их даже возвели в ранг закона. Во многих диких племенах уничтожают новорожденных. На берегах реки Ориноко матери убивают своих дочерей сразу после их появления на свет – они убеждены, что девочек ожидает печальная участь стать женами грубых дикарей этого края, ненавидящих женщин. В Трапобане и в королевстве Сопит все дети-уроды умерщвлялись руками их собственных родителей. Женщины Мадагаскара отдавали на съедение диким зверям своих детей, рожденных в определенные дни. В республиках Древней Греции внимательно осматривали всех новорожденных, и если физические данные кого-то из младенцев не соответствовали представлениям о будущем защитнике отечества, их тотчас лишали жизни: там не рассуждали о необходимости отпуска огромных средств на возведение специальных домов для взлелеивания этих жалких отбросов рода человеческого. [21]Вплоть до эпохи переноса столицы империи, все римляне, не желавшие кормить своих детей, выбрасывали их на помойку. Древние законодатели нисколько не совестились, обрекая детей на смерть, и ни один из их кодексов не ограничивал прав отца распоряжаться жизнью членов своей семьи. Аристотель советовал прибегать к абортам; жителям античных республик, преисполненным вдохновенного пыла по отношению к родине, неведомо было сострадание к отдельной личности, свойственное современным народам; в ту пору меньше любили своих детей, зато больше были преданы своей стране.
Во всех городах Китая каждое утро находят огромное количество детей, выброшенных на улицу; на восходе дня их увозят на двухколесной тележке и сбрасывают в яму; часто акушерки освобождают матерей от детей, топя новорожденных в чанах с кипящей водой или кидая в речку. В Пекине детей кладут в тростниковые корзинки и спускают по каналам; каждый день во время очистки каналов, по оценке знаменитого путешественника Дюальда, обнаруживается свыше тридцати тысяч подобных жертв. Невозможно отрицать, что республиканскому правительству безусловно необходимо и политически выгодно сдерживать рождаемость; исключительно противоположные задачи стоят перед монархией, заинтересованной в росте народонаселения; и это неудивительно: тираны богатеют за счет своих рабов и потому испытывают крайнюю нужду в увеличении их численности; республиканскому же государству перенаселение явно во вред; правда, нет смысла избавляться от излишка людей, перерезая им горло, как советуют наши новоявленные децемвиры, речь идет о том, чтобы численность населения не выходила за пределы, необходимые для поддержания благополучия в республике. Остерегайтесь приумножения числа граждан, каждый из которых – носитель суверенных прав: всегда и повсюду революции являются следствием избыточного прироста населения. Ради славы и блеска государства принято наделять его воинов правом убивать, отчего бы ради сохранения того же государства не позволять каждому индивидууму осуществлять нечто подобное по собственному усмотрению: ничем не оскорбляя природу, он получит возможность избавляться от детей, которых не в силах прокормить и которые не принесут никакой пользы государству; предоставьте гражданину право на свой страх и риск отделываться от врагов, способных ему навредить, – в результате таких мероприятий, совершенно необременительных, удастся поддерживать умеренную численность населения, иначе она возрастет настолько, что станет представлять угрозу вашему правительству. Не слушайте пустую болтовню монархистов о прямой зависимости величия государства от числа его членов: государство бедствует, если количество жителей превосходит количество его ресурсов, и, напротив, процветает, если держит прирост населения в разумных рамках и торгует излишками своих жизненных средств. Не обрубают ли сучья у непомерно разросшегося дерева? Не подрезают ли ветви ради сохранения ствола? Общественный строй, уклоняющийся от соблюдения этих принципов, поступит безрассудно – следование подобным заблуждениям неизбежно приведет к полному обвалу здания, едва возведенного ценой невероятных усилий. Не стоит сокращать число населения путем ликвидации людей зрелых; укорачивать жизнь хорошо приспособленного к жизни индивида нецелесообразно; настаиваю я лишь на необходимости предотвращать приход в мир существ, заведомо бесполезных для государства. Род человеческий надлежит очищать с колыбели; общество должно отнимать от своей груди младенцев, совершенно для него непригодных, – таков единственно разумный прием снижения населенности, чрезмерное разрастание которой, как мы недавно убедились, и вредоносно, и опасно.
Пора подводить итоги.
Возможно ли пресечение убийства другим убийством? Безусловно, нет. Не стоит наказывать убийцу, довольно с него акта мести, которому его подвергнут друзья и родственники убитого. «Дарую вам помилование, – говорил Людовик XV Шароле, убившему человека ради забавы, и добавлял: – Однако равным образом я дарую его и тому, кто убьет вас». В этих возвышенных словах заключена суть любого закона, карающего за убийство. [22]
Словом, убийство ужасно и отвратительно, однако низость эта во многих случаях оправданная; преступлением убийство нельзя признать ни при каких обстоятельствах, а в республиканском государстве оно вполне допустимо. Высказывания мои уже подкреплены примерами из мировой практики. Перед всяким, кто пожелает разобраться, стоит ли рассматривать убийство как поступок, наказуемой смертью, неизбежно встанет дилемма: является убийство преступлением или не является? Если убийство не преступление, то бессмысленно издавать законы, которые за него наказывают. Если убийство преступление, то карать за него подобным же преступлением – варварская и глупая непоследовательность.
Остается поговорить об обязательствах человека перед самим собой. В глазах философа, обязательства эти заслуживают внимания лишь в зависимости от того, насколько способствуют они нашему удовольствию или чувству самосохранения; отсюда следует, что давать те или иные практические рекомендации совершенно бесполезно, но еще более бесполезно – наказывать за их несоблюдение.
Единственное правонарушение такого рода, на которое способен человек, – самоубийство. Не стану терять время попусту, уверяя, что возводят это действие в разряд преступлений только люди недалекие, – всех сомневающихся отсылаю к знаменитому письму Руссо. В большинстве государств Древнего мира самоубийство считалось законным – как с политической, так и с религиозной точки зрения. Афиняне излагали соображения, побуждавшие их покончить с собой, перед Ареопагом, а затем пронзали себе грудь кинжалом. Все греческие республики снисходительно относились к самоубийству, законодатели строили на нем расчет, самоубийцы расставались с жизнью публично, превращая свою смерть в торжественное представление. Самоубийство поощрялось в республиканском Риме, становясь символом высшего жертвенного патриотизма. При взятии Рима галлами самые именитые сенаторы самоотверженно предавали себя смерти. Сегодняшние наследники славного этого духа перенимают и сопутствующие ему добродетели. Вспомним солдата, участвовавшего в кампании 92-го года и лишившего себя жизни от отчаяния, что он не сможет последовать за своими товарищами на битву при Жемапе. Беспрестанно равняясь на примеры былой доблести республиканцев, мы превзойдем их достижения и возвысимся над ними: новое государство сформирует новых граждан. Долгая привычка к деспотизму изрядно истощила наш боевой дух и испортила наши нравы, но мы на пути к возрождению; скоро, очень скоро освобожденный французский гений поразит мир возвышенными деяниями, прославив наш национальный характер; не пожалеем же ни добра своего, ни живота для сохранения свободы, доставшейся неизмеримо дорого; не будем отдаляться от цели; оплакивать жертвы не стоит – самоотверженность их добровольна, кровь пролита не зря; главное – единство и согласие, любой ценой, иначе все труды наши тщетны; усовершенствуем законы, приведем их в соответствие с величием недавних побед; первые наши законодатели не сумели преодолеть рабского почитания поверженного деспотизма, издав законы, подобающие тирану, которому они никак не отвыкнут поклоняться; переделаем за них эту работу, памятуя о том, что трудимся мы для республиканцев и для философов, смягчим законы, сделав их необременительными для народа.
После демонстрации на этих страницах ничтожности и незначительности большинства проступков, которым присвоили звание преступлений наши предки, одурманенные религиозными бреднями, задача наша сводится к минимуму. Примем нужные законы – немногочисленные, но действенные. Множество уздечек ни к чему, довольно одной, лишь бы не рвалась. Цели утверждаемых законов ясны: спокойствие и счастье гражданина, а также процветание республики. Хочу, однако, предостеречь вас, соотечественники: изгнав врага, не простирайте принципов своих и пыла за пределы французских земель; идеи насаждаются по свету лишь огнем и мечом. Прежде чем решиться на такой шаг, вспомните о плачевном опыте крестовых походов. Послушайте меня: едва враг окажется по ту сторону Рейна, оберегайте свои границы, оставаясь в родном доме; оживляйте свою торговлю, расширяйте рынки сбыта, энергичнее развивайте производство; добивайтесь расцвета искусств, поощряйте сельское хозяйство – это необычайно важно для государства, заинтересованного снабжать весь мир и не нуждаться в помощи извне, и тогда европейские троны рухнут сами собой: пример вашего благоденствия тотчас опрокинет их, исключая всякую необходимость вмешательства с вашей стороны.
Станьте неуязвимыми внутри своей страны, поставьте в образец другим народам разумность ваших порядков и ваших законов – и тогда любое в мире правительство всеми силами постарается вам подражать, сочтя за честь сделаться вашим союзником; если же, в суетной погоне за почестями, вы вместо забот о национальном благе вознамеритесь разносить по чужим странам революционные принципы, едва задремавший деспотизм тотчас воспрянет ото сна. Так стоит ли терзаться внутренними распрями, истощать финансовые и торговые ресурсы ради того, чтобы вновь раболепно целовать кандалы, в которые тотчас закуют вас тираны, воспользовавшись вашим рассеянием? Всего желаемого можно достичь, не покидая домашнего очага; предоставьте другим народам наблюдать, как вы счастливы – и они устремятся к собственному своему благополучию по проложенной вами дороге. [23]
ЭЖЕНИ ( обращаясь к Дольмансе). Вот сочинение, действительно заслуживающее звания «мудрого» и по части многих сюжетов настолько в духе ваших правил, что возникает сильное искушение приписать его авторство вам.
ДОЛЬМАНСЕ. Конечно, я разделяю кое-какие изложенные здесь положения, да и недавние мои высказывания, похоже, придают прочитанному привкус повторяемости...
ЭЖЕНИ ( прерывая). Не заметила излишних повторов. Разумные мысли не приедаются, хотя некоторые принципы я нахожу небезопасными.
ДОЛЬМАНСЕ. Что в нашем мире действительно небезопасно, так это благотворительность и жалость; доброта – слабость непростительная, множество приличных людей в ней раскаялись, столкнувшись с неблагодарностью и бесцеремонностью тех, кого некогда облагодетельствовали. Поместите на одну чашу весов все губительные последствия жалости, а на другую – неудобства, вытекающие из чрезмерной твердости, и, приглядевшись повнимательнее, вы убедитесь: последствия жалости непременно перевесят. Не станем углубляться, Эжени, из того, что сказано, извлеките необычайно важный для вашего воспитания совет: никогда не повинуйтесь голосу сердца, дитя мое, это самый ненадежный из путеводителей, дарованных нам природой, а потому старательно оберегайте себя от жалобных стенаний притворщиков. Лучше отказать в помощи тому, кто вызывает у вас сочувствие, нежели рисковать, оказывая содействие негодяю, интригану или склочнику. В первом случае расплата почти неощутима, во втором – ожидают большие неприятности.
ШЕВАЛЬЕ. А теперь позвольте мне переиначить все с начала до конца и по возможности опровергнуть идеи Дольмансе. Безжалостный ты человек! Что бы осталось от всех этих принципов, лиши тебя огромного твоего состояния – неисчерпаемого источника удовлетворения твоих страстей! Как бы ты заговорил, забрось тебя на несколько годков прозябать в жалкой нищете, которую ты так беспощадно вменяешь в вину обездоленным! Хоть единожды прояви к ним сострадание, не гаси порывов своей души, не ожесточай ее до полного бесчувствия к чужой беде! Когда тело твое, не знающее иной усталости, кроме пресыщения от утех, томно почивает на пуховиках, постарайся представить себе их тела, обессиленные работой по обеспечению твоего достатка. Уберегаясь от холода и сырости, они с трудом раздобывают немного соломы, чтобы не ложиться на голую землю, как животные; вокруг тебя вертятся двадцать последователей Комуса, ежеминутно пробуждая твою чувственность изысканными блюдами, а теперь взгляни на этих отверженных, оспаривающих у лесных волков горькие коренья, выкопанные из иссохшей земли; пока нечистые твои вожделения услаждают очаровательнейшие создания из храма Цитеры, бедняк, лежа рядом с угрюмой женой, делит радости со слезами пополам, и не подозревая о существовании утех иного рода; ты купаешься в роскоши; ты не отказываешь себе ни в чем; обрати же взоры на того, кто настоятельно нуждается в самом необходимом и на жалкую его семью; на женщину, отчаянно разрывающуюся между вниманием, которое она должна уделить мужу, находящемуся в таком же бедственном положении, что и она, и предписанной ей природой заботой о детях, – эта несчастная глубоко страдает от невозможности исполнить в полной мере обе священные обязанности – матери и супруги. Ну как, в силах ты слышать без содрогания ее призывы о помощи, ее мольбы поделиться излишками твоих богатств? И ты бесчеловечно ей откажешь?
Варвар! По-твоему, это не такие же люди, как ты? Но раз они на тебя похожи, отчего тебе назначено наслаждаться, а им – чахнуть? Эжени, Эжени! Не заглушайте в своей душе священный голос природы – он подсказывает помогать нуждающимся, и звуку его дано к нам пробиться даже сквозь пламя поглощающих нас страстей. Отбросим религиозные соображения – это чушь, согласен. Но зачем отвергать добродетели, внушенные чувствительностью? Наградой за любое соприкосновение с ними послужат нежнейшие и деликатнейшие наслаждения души. Один добрый поступок искупит все заблуждения ума, он усмирит угрызения совести, порожденные безнравственным поведением, создаст в глубине сознания священный уголок, там можно укрыться наедине с собой, загладить ошибки и прегрешения. Я молод, милая сестрица, я распутник, безбожник, ум мой порочен беспредельно, но сердце мое сохраняется незапятнанным – чистота его дарит мне утешение, смягчая дурные следствия свойственных моим годам причуд.
ДОЛЬМАНСЕ. Да, вы молоды, шевалье, сие сквозит в ваших речах. Вам недостает опыта, но ничего, я подожду; когда вы созреете, дорогой мой, и получше узнаете людей – вы перестанете хорошо о них отзываться. Человеческая неблагодарность рано иссушила во мне сердце, вероломство ближних навек истребило из него те роковые добродетели, для которых я, как и вы, возможно, был рожден. Порочность одних делает добродетельность смертельно опасной для других, и мы окажем ценнейшую услугу молодежи, советуя душить добродетели еще в зародыше. Ты что-то говорил об угрызениях совести, мой друг? Откуда им взяться в душе того, кто не усматривает преступления решительно ни в чем? Страшишься уколов совести – притупи ее жало: какой смысл каяться в поступке, раз ты проник в его суть и убедился в полной его пустяковости? О каком раскаянии идет речь, если не веришь в наличие зла как такового?
ШЕВАЛЬЕ. Угрызения совести исходят от сердца, а не от ума – софизмам, возникшим в голове, не под силу умерить движений души.
ДОЛЬМАНСЕ. Сердце обманывает, ибо является лишь внешним проявлением просчетов ума; добьемся зрелости ума – и сердце тотчас уступит. В рассуждениях надо придерживаться точных определений, иначе мы собьемся с дороги. Лично я не знаю, что есть сердце, – этим словом я обозначаю уязвимые места нашего рассудка. Разум – единственный и неповторимый факел, ясно освещающий мое сознание, пока я здоров и тверд, и меня не совратить с пути истинного; но едва я немощен, впадаю в ипохондрию или малодушничаю – я начинаю блуждать во тьме, считая себя чувствительным, хотя, в сущности, я просто слаб и нерешителен. Повторяю снова, Эжени: сентиментальность коварна, не доверяйте ей, она не что иное, как слабость души; от плача до страха один шаг – так короли превращаются в тиранов; отвергайте предательские советы шевалье: предлагая вам открыть свое сердце навстречу всевозможным мукам и горестям, он взваливает на ваши плечи груз чужих забот, а это обернется для вас сплошными потерями. Ах, поверьте, Эжени, поверьте: удовольствия, порождаемые бесчувствием, куда сильнее тех, которыми одаривает чувствительность! Сентиментальность действует лишь на одну струну вашего сердца, в то время как апатия затрагивает все до единой. Наслаждения дозволенные не идут ни в какое сравнение с наслаждениями запретными, с присущей им особой пикантностью, усиленной неоценимым блаженством нарушать общественные нормы и ниспровергать законы!
ЭЖЕНИ. Ты одолел его, Дольмансе, блестящая победа! Речи шевалье едва задели мою душу, ты же обольстил ее и увлек за собой. Впредь, дорогой шевалье, желая уговорить женщину, взывайте к страстям, а не к добродетелям!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ ( поворачиваясь к шевалье). Да, это так, дружок, лучше бы ты вставил мне, да покрепче, довольно читать нам наставления: тебе не обратить нас в свою веру – ты только замутишь источник знаний, чьей влагой мы хотим опоить душу и ум этой очаровательной девочки.
ЭЖЕНИ. Замутить? О нет, нет! Вы сделали свое дело: то, что глупцы называют испорченностью, прекрасно закрепилось во мне, возврат к старому невозможен, принципы ваши прочно укоренились в моем сердце, и никакими софизмами, шевалье, их уже оттуда не выкорчевать.
ДОЛЬМАНСЕ. Она права, незачем нам обсуждать ваши ошибки, шевалье; лучше мы порадуемся вашим успехам.
ШЕВАЛЬЕ. Ладно, не стану отвлекаться, помня, ради чего мы здесь собрались. Что ж, не возражаю, двинемся прямо к цели, а мораль свою я приберегу для людей иного склада, не столь опьяненных восторгами порока, как вы, и способных правильно ее воспринять.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Да, братец, да, да, в настоящий момент нам от тебя нужна только твоя сперма, а от морали нас избавь: она бессильна исправить таких развратников, как мы, которых и колесоватьмало.
ЭЖЕНИ. Дольмансе, вы пылко превозносите жестокость, и я забеспокоилась, не отразится ли она на наслаждении. Я отметила, сколь безжалостны вы во время утех, и чувствую, что и сама предрасположена к этой дурной склонности. Помогите мне разобраться в моих мыслях, сделайте одолжение, расскажите, что для вас значит предмет любви, доставляющий вам удовольствие?
ДОЛЬМАНСЕ. Ничего не значит, моя милая, ровным счетом ничего: разделяет ли он мое наслаждение или нет, испытывает ли он удовлетворение или нет, противно ли ему или даже больно – мне совершенно безразлично, лишь бы самому мне было хорошо.
ЭЖЕНИ. Правильно ли я поняла – лучше даже, если предмет этот испытывает боль?
ДОЛЬМАНСЕ. Разумеется, так гораздо лучше. Я уже объяснял вам: болевые ощущения оказывают сильное воздействие на наш организм, активизируя и обостряя животные инстинкты в нужном для сладострастия направлении. Загляните в серали – и в Африке, и в Азии, и на юге Европы, находящемся под турецким владычеством – и присмотритесь, обременяют ли себя владельцы прославленных сих гаремов, в момент собственной эрекции, заботой об удовольствии тех, кто их обслуживает: хозяин приказывает – ему подчиняются, пока он наслаждается – ему не осмеливаются возражать, едва он удовлетворен – следует удалиться. Среди правителей находились и такие, которые наказывали, как за непочтение к собственной персоне, того, кто дерзнул разделить их удовольствие. Султан Ашема без всякой жалости приказывал отрубать голову женщинам, осмелившимся забыться в его присутствии настолько, чтобы позволить себе оргазм, часто он отсекал головы провинившимся собственноручно. Это один из самых своенравных деспотов в Азии: он окружал себя только женщинами и отдавал им приказы с помощью знаков, и тех, кто неправильно его понимал, ожидала мучительная смерть – все пытки осуществлялись либо им непосредственно, либо у него на глазах.
Все это, дорогая Эжени, целиком основано на принципах, которые я недавно изложил. Как подняться на вершину наслаждения? Необходимо, чтобы все окружающие занимались исключительно нами, думали только о нас и во всем нам угождали. Когда прислужники доведены до оргазма, то они, несомненно, больше заняты собой, нежели нами, следовательно, блаженство наше нарушено. Нет мужчины, который в минуты полового возбуждения не мечтал бы стать деспотом: он ощутит себя обделенным, если кто-то другой испытает тот же восторг, что и он. Охваченный вполне естественной для такого состояния гордостью, он хочет стать единственным в мире существом, способным подняться до таких чувственных высот; сама идея о партнере как о человеке, имеющем, подобно ему, право на оргазм, устанавливает нечто вроде равенства, нанося непоправимый ущерб чарующему ощущению деспотизма. [24]Кстати, утверждение о том, что, доставляя удовольствие другим, мы усиливаем собственное наслаждение, – ложь. Бессмысленно призывать мужчину услаждать других – пока длится его эрекция, он весьма далек от желания быть кому-либо полезным. Мужчина легко возбудим, поэтому, причиняя боль, он использует приятную возможность проявить свое превосходство: он властвует, он – тиран.Его самолюбие торжествует.
Убежден: акт наслаждения – страсть, подчиняющая себе все остальные и в то же время собирающая их воедино. Стремление к господству в момент такого акта естественно и непреодолимо, подтверждением тому служат примеры из жизни животных. Сравните, как они размножаются в неволе и как – на свободе. Одногорбый верблюд доходит до того, что отказывается от спаривания в присутствии свидетелей. Захватите-ка его врасплох, то есть явите ему хозяина – он тотчас разъединится со своей подругой и убежит. Если бы в намерения природы не входило наделение мужчины превосходством в такие минуты, она не предназначала бы для его утех существ, уступающих ему в силе. Слабость, на которую обречены женщины, бесспорно доказывает: природа не возражает, чтобы именно во время акта наслаждения мужчина, как никогда, ощущал себя всемогущим властелином, которому дозволено прибегать к любым действиям, в том числе к насильственным, вплоть до пыток. Отчего неистовство сладострастия столь сродни бешенству – не оттого ли, что в намерения матери рода человеческого входит трактовка совокупления как приступа гнева? Какой крепкий, хорошо сложенный, словом, полноценный мужчина не мечтает так или иначе подвергнуть свою партнершу грубому обращению? Прекрасно осознаю: для несметных толп идиотов, не отдающих себе отчет в собственных ощущениях, система изложенных мною воззрений окажется недоступной. Но какое мне дело до этих слизняков? Я распинаюсь не для них. Жалких обожателей женщин я оставляю у ног их зарвавшейся дульсинеи, пусть дожидаются, пока она осчастливит их своим вздохом. Это низкие рабы слабого пола, над которым им должно возвышаться, они радуются презренному очарованию цепей и носят их сами, вместо того чтобы по праву, данному им природой, заковывать в них других. Не станем отговаривать ничтожных этих тварей пресмыкаться: зачем проповедовать попусту? Только пусть не смеют они хулить то, что выше их разумения, пусть уяснят: личности, щедро одаренные душевными порывами и безудержным воображением – как мы с вами, мадам, – не разделяют их взглядов и живут иначе; именно к мнению достойных людей, сильных сердцем и умом, надлежит прислушиваться – мы для того и созданы, чтобы повелевать ими и поучать их!
Черт подери! У меня деревенеет!.. Позовите Огюстена, прошу вас. ( Звонят; тот входит.) Поразительно: все время, пока я вещал, великолепный зад этого красавчика не выходил у меня из головы. Все мои мысли невольно крутились вокруг него... Представь моим взорам этот шедевр, Огюстен. Готов целовать и ласкать его не меньше четверти часа! Иди же, иди ко мне, ненаглядный, меня сжигает огонь Содома, дай загасить его в твоей прекрасной жопе. Никогда не встречал таких изумительных ягодиц... Ослепительная белизна! А теперь мне хочется, чтобы Эжени, стоя на коленях, сосала в это время его член. Так ей будет удобно подставить свою задницу под натиск шевалье, а госпожа де Сент-Анж, сидя верхом на спине Огюстена, поднесет к моим губам свои ягодицы; вооружившись пучком розог и слегка склонившись, она отхлещет шевалье, надеюсь, этот возбуждающий обряд подвигнет его не щадить нашу ученицу. ( Поза выстраивается.) Да, вот так. Как нельзя лучше, друзья мои! Сказать по правде, заказывать вам такие картины – одно удовольствие. Ни один в мире художник не в силах с вами тягаться!.. Тесновато в заду у этого полюбовничка! Попробую-ка там разместиться... Вы будете столь добры, мадам, чтобы позволить мне, пока я внутри, кусать и щипать ваше роскошное тело?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Сколько угодно, дружок; только предупреждаю: месть моя будет ужасна. Клянусь: за каждое нанесенное оскорбление я буду пукать тебе в рот.
ДОЛЬМАНСЕ. Ну чертовка! Еще угрожает! Так и подмывает тебя обидеть, дорогая. ( Кусает ее.) Посмотрим, как ты сдержишь слово. ( Она пукает.) Ах, разрази меня гром! Как восхитительно!.. ( Шлепает ее и в ответ получает еще один пук.) О, да это просто божественно, мой ангел! Прибереги для меня еще несколько порций к моему семяизвержению... и будь уверена, я обойдусь с тобой со всей грубостью... со всем хамством... Тысяча чертей! Больше не могу... я сливаю!.. ( Кусает ее, шлепает, она беспрерывно портит воздух.) Видишь, как я с тобой строг, засранка... как я тебя укрощаю... Еще один разик сюда... теперь туда... и вот заключительное надругательство над обожаемым идолом! ( Он кусает отверстие ее зада; поза нарушается.) Как вы там, юные мои друзья, что успели натворить?
ЭЖЕНИ ( с вытекающей из ее зада и из ее рта спермой). Ох и досталось мне, учитель! Взгляните, как отделали меня ваши воспитанники! У меня полный рот и полный зад, меня просто распирает от спермы!
ДОЛЬМАНСЕ ( разгорячившись). Погодите, не успокоюсь, пока вы не вольете мне в рот ту сперму, которой шевалье одарил вашу жопу.
ЭЖЕНИ ( исполняя просьбу). Какое чудачество!
ДОЛЬМАНСЕ. Ах, что может быть вкуснее спермы, добытой из недр прекрасной задницы! Блюдо богов! ( Проглатывает.) Видите, какой я ценитель? ( Поворачивается к Огюстену, целуя его в зад.) А теперь, милые дамы, с вашего позволения, мы с этим юношей ненадолго уединимся в соседнем кабинете.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Вы что, не можете позабавиться с ним здесь?
ДОЛЬМАНСЕ ( тихо и загадочно). Нет. Есть вещи, требующие соблюдения полной тайны.
ЭЖЕНИ. Ну надо же! Объясните нам, по крайней мере, о чем идет речь.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Не отпущу его, пока не откроется.
ДОЛЬМАНСЕ. Вы действительно желаете это знать?
ЭЖЕНИ. Непременно!
ДОЛЬМАНСЕ ( увлекая Огюстена). Что ж, дорогие дамы, пожалуй... хотя на самом деле о таком лучше не распространяться.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Неужели есть на свете хоть какая-нибудь гнусность, которую мы не в силах понять и исполнить?
ШЕВАЛЬЕ. Так и быть, сестричка, я вам скажу. ( Шепчет обеим женщинам на ухо.)
ЭЖЕНИ ( не скрывая отвращения). Вы правы, это ужасно.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. О, я догадывалась!
ДОЛЬМАНСЕ. Вот видите, не следовало посвящать вас в подробности моей фантазии, теперь вам ясно, что подобным мерзостям предаются лишь тайком и без свидетелей.
ЭЖЕНИ. Хотите, я пойду с вами? Можно помастурбировать вас, пока вы будете развлекаться с Огюстеном?
ДОЛЬМАНСЕ. Нет, нет, это дело чести, такое происходит только в мужском кругу: женщина нам все напортит... Через пару минут я снова к вашим услугам, милые дамы. ( Выходит вместе с Огюстеном.)
ШЕСТОЙ ДИАЛОГ
Госпожа де Сент-Анж, Эжени, шевалье.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ну, братец, твой друг и правда развратник.
ШЕВАЛЬЕ. Рад, что не разочаровал тебя.
ЭЖЕНИ. Убеждена, ему нет равных на всем свете... О, дорогая, он просто чудо! Приглашай его почаще, прошу тебя.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Стучат... Кто это может быть? Я велела никого не пускать. Видно, что-то срочное... Будь добр, братец, посмотри, кто там.
ШЕВАЛЬЕ. Лафлер забежал, принес какое-то письмо и тотчас скрылся – он нарушил ваши указания лишь потому, что, как ему показалось, дело не терпит отлагательства.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ох, да что же там такое? Письмо от вашего отца, Эжени!
ЭЖЕНИ. Мой отец! О, мы погибли!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Не торопись отчаиваться, сначала прочтем. ( Читает.) «Представляете, сударыня, до чего дошла несносная моя супруга – ее встревожило пребывание моей дочери в вашем замечательном доме, и она отправилась на ее поиски! Вообразила себе невесть что... допускаю: приключилось именно то, чего она так опасалась, но стоит ли придавать значение пустякам, естественным и само собой разумеющимся. Не сочтите за труд наказать ее за подобную бесцеремонность, и построже; не далее как вчера я уже применил к ней исправительные меры, однако моего урока, как выяснилось, недостаточно. Покорнейше прошу: разыграйте ее, позабавьтесь с ней на славу, смею вас уверить – до чего бы ни простерлись ваши действия, я не стану подавать на вас жалобу куда бы то ни было... Эта дрянная особа давно мне в тягость... и, сказать по правде... Понимаете, о чем я? Распространяться не намерен, скажу одно: вам сойдет с рук все, что бы вы ни натворили. Явится она сразу после того, как вы получите мое письмо, так что держитесь начеку. Вынужден проститься, искренне сожалея, что не смогу составить вам компанию. Думаю, вы оправдаете мои надежды и вернете мне Эжени обученной, как следует. С радостью предоставляю вам право на сбор первинок и спокойно дожидаюсь своего часа, зная, что в определенной мере вы потрудитесь и для меня».
Вот видишь, Эжени, твои опасения напрасны. Хотя, признаться, маменька у тебя действительно преотвратная.
ЭЖЕНИ. Да она просто стерва! Ах, дорогая, раз папа предоставляет нам полную свободу действий, пожалуйста, не надо церемониться с этой гадиной, пусть получит все, что заслуживает.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Дай я тебя расцелую, милочка. Мне нравится твое расположение духа. Не беспокойся, отвечаю: пощады не будет. Ты мечтала о жертве, Эжени? Вот тебе жертва, посланная и природой, и судьбой.
ЭЖЕНИ. Уж мы поразвлечемся с ней, дорогая, поразвлечемся всласть, клянусь!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Мне не терпится узнать, как отнесется к этому известию Дольмансе.
ДОЛЬМАНСЕ ( возвращаясь вместе с Огюстеном). Как нельзя лучше, милые дамы. Я находился совсем неподалеку от вас, так что все слышал и обо всем осведомлен. Госпожа де Мистиваль придет с минуты на минуту – у нас больше не будет случая обсудить... Вы, надеюсь, решительно настроены на выполнение плана, намеченного ее супругом?
ЭЖЕНИ ( обращаясь к Дольмансе). Ты сомневаешься, дорогой мой, что я выполню этот план? Да я его перевыполню, превысив все мыслимые полномочия! И пусть разверзнется подо мной земля, если я хоть на миг дрогну от жалости, к каким бы ужасам вы ни приговорили эту мразь! Будь другом, возьми бразды правления в свои руки.
ДОЛЬМАНСЕ. Руководить мы будем вдвоем с вашей подругой, от остальных потребуется послушание... Все же до чего наглая бабенка, никогда не встречал ничего подобного!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Это от ограниченности. Может, приоденемся и примем ее в более приличном виде?
ДОЛЬМАНСЕ. Ни в коем случае; прямо с порога ошарашим ее тем, как здесь проводит время ее дочь. Итак, сохраняем беспорядок – и в одежде, и в обстановке.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Слышу какой-то шум; это она. Смелее, Эжени! Не отступай от наших принципов... Черт побери! Предвкушаю дивную сценку...
ДИАЛОГ СЕДЬМОЙ И ПОСЛЕДНИЙ
Госпожа де Сент-Анж, Эжени, шевалье, Огюстен, Дольмансе, госпожа де Мистиваль.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ ( обращаясь к госпоже де Сент-Анж). Извините, мадам, мой визит без предупреждения; как мне известно, здесь находится моя дочь, и поскольку в ее года девице не должно выезжать одной, будьте так добры, мадам, отпустите ее со мной и не судите меня строго за это вторжение.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ваше вторжение, мадам, – верх бесцеремонности. Послушать вас, выходит, дочь ваша попала в плохие руки.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. Как знать! Если судить по состоянию, в котором я нахожу свою дочь и все ваше общество, мадам, то полагаю, что не ошибусь, сочтя ее пребывание здесь крайне неуместным.
ДОЛЬМАНСЕ. Неудачное начало, мадам. Не осведомлен о степени близости ваших отношений с госпожой де Сент-Анж, однако не скрою: на ее месте за подобную дерзость я бы выпроводил вас через окно.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. «Окно» – что вы подразумеваете под этим словом, месье? Довожу до вашего сведения: женщин моего круга не выставляют через окно! Не знаю, кто вы, хотя, судя по вашим речам и по вашему виду, нетрудно вынести суждение о ваших нравах. Эжени, следуйте за мной!
ЭЖЕНИ. Прошу прощения, мадам, не могу оказать вам такую честь.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. Что? Моя дочь мне противится!
ДОЛЬМАНСЕ. Видите, мадам, вам определенно выказывают непослушание. Я бы такого не потерпел. Хотите, я велю принести розги, и мы накажем упрямого ребенка?
ЭЖЕНИ. Боюсь, розги окажутся более кстати для мадам, нежели для меня!
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. Несносное создание!
ДОЛЬМАНСЕ ( приближаясь к госпоже де Мистиваль). Помягче, сердце мое, здесь не место для инвектив; все мы покровительствуем Эжени, и вы еще пожалеете, что наговорили ей резкостей.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. Как! Дочь выходит из повиновения, а мне не дают заявить о своих материнских правах?
ДОЛЬМАНСЕ. О каких, собственно, правах вы толкуете, мадам? Не тешьте себя иллюзиями об их законности. Когда господин де Мистиваль – а может, кто-то другой – запускал вам во влагалище несколько капель спермы, из которых впоследствии получилась Эжени, вы вряд ли задумывались о своих материнских правах. В тот миг занимало вас нечто совсем иное, не так ли? И теперь, по-вашему, она перед вами в долгу за то, что некогда вы успешно разрядились, пока долбили поганую вашу дыру? Поймите, мадам, рассчитывать на возникновение добрых чувств между родителями и детьми невозможно. Подобная привязанность лишена всякого реального основания: где-то она прижилась, где-то совершенно неприемлема, в одних странах родители убивают своих детей, в других – дети приканчивают тех, кто подарил им жизнь. Если бы взаимная любовь между родителями и детьми закладывалась в нас природой, то, внимая зову крови, не видевшиеся прежде отцы и сыновья даже в самой многочисленной толпе тотчас распознавали бы друг друга и с обожанием бросались друг другу на шею. Что же мы наблюдаем в действительности? Укоренившуюся в сердцах ненависть: детей, которые с самого раннего возраста неосознанно избегают общества своих отцов, и отцов, которые отворачиваются от своих детей, отвергая всякое сближение с ними. Инстинкт родительской любви – чистый вымысел; представления о нем порождены выгодой, предписаны обычаем и поддержаны привычкой, природа же здесь совершенно ни при чем: она не запечатлевала таких побуждений в наших душах. Обратите взоры на животных – им этот инстинкт, безусловно, не знаком; не секрет, что для прояснения намерений природы, примеры следует искать именно в мире животных. Отцы! Прекращайте терзаться мыслями о допущенной вами несправедливости, если, подчиняясь собственным вашим страстям или интересам, вы дурно обходитесь с ничего не значащими для вас существами, рожденными из нескольких капелек вашего семени; ничего вы им не должны – ради себя самих, а не ради них пришли вы в этот мир; не вздумайте стеснять себя в чем бы то ни было, займитесь собой и живите для себя. Дети! Освобождайтесь – и как можно скорее – от глупых фантазий о сыновней любви, осознайте: вы решительно ничего не должны индивидам, которые с помощью своей крови приняли некоторое участие в вашем появлении на свет. Они не вправе требовать от вас ни жалости, ни благодарности, ни любви; вы не обязаны им ничем: даря вам жизнь, они трудились лишь на себя, устраивая собственные свои делишки; полагать необходимым оказывать поддержку людям, никоим образом этого не заслуживающим, – величайшее заблуждение; законы природы никаких обязательств вам не предписывают; если вы все же обнаружите в своей душе отзвук теплых чувств, подсказанных каким-нибудь обычаем или нормами морали, – душите их без зазрения совести: расправляйтесь с нелепыми переживаниями, порожденными теми или иными национальными привычками и климатическими условиями – природа от них отрекается, разум их опровергает!
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. А мои заботы о ней! А воспитание, которое я ей дала!
ДОЛЬМАНСЕ. О! Заботы ваши – не более чем дань условностям и тщеславию. Вы не сделали для дочери ничего особенного – все вписывается в нравы вашей страны, значит, лично вам Эжени не обязана решительно ничем. Воспитание ваше и вовсе никуда не годится – мы вправе так судить, поскольку вынуждены полностью выбивать из ее головы вдолбленные ей прежде принципы, являющиеся помехой на пути к счастью. Все, что вам удалось ей внушить, – воздушные замки. О Боге вы ей говорили как о силе, реально существующей, о добродетели – как о качестве, действительно необходимом, вы скрывали от нее истинную сущность всякого религиозного культа, основанного на самозванстве того, кто сильнее, и слепой доверчивости того, кто слабее, и толковали ей о почтении к жалкому плуту и мерзавцу по имени Иисус Христос! Вы обманывали ее, называя блудгрехом, в то время как нет в жизни занятия более упоительного, нежели блуд, вы пытались привить ей добронравие, хотя истинную радость юная девушка испытывает, ведя себя распутно и безнравственно, а счастливейшая из женщин – несомненно та, что, совершенно погрязнув в разврате и пороке, презревает предрассудки и плюет на репутацию. Не обманывайте себя, мадам, полно лицемерить! Вы ровным счетом ничего не сделали для дочери, именно по вашей вине она не исполняла ни одного из наказов природы, так какое же чувство может испытывать к вам Эжени, кроме ненависти.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. Боже праведный! Моя Эжени пропала, это ясно... Эжени, родная моя Эжени, в последний раз заклинаю: прислушайся к словам матери, давшей тебе жизнь! Это не приказ, дитя мое, а просьба, сомнения мои, к несчастью, рассеялись – ты действительно в лапах злодеев, так найди же в себе силы прервать эти опасные сношения и следуй за мной, на коленях молю тебя! ( Она падает на колени.)
ДОЛЬМАНСЕ. Ах, ах, что за слезная сцена!.. Ну-ка, Эжени, покажите, как вы растроганы!
ЭЖЕНИ ( как помнит читатель, полуголая). Видите, маменька, вот моя попка... как раз на уровне ваших губ, целуйте ее, душа моя, сосите, это все, что может для вас сделать ваша маленькая Эжени... Будь уверен, Дольмансе, я никогда не уроню высокое звание твоей ученицы.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ ( с ужасом отталкивая Эжени). Чудовище! Уходи, отрекаюсь от тебя навеки, ты мне больше не дочь!
ЭЖЕНИ. Добавьте к этому еще и ваше проклятие, дражайшая матушка, спектакль станет более впечатляющим, но я, увы, останусь к нему равнодушной.
ДОЛЬМАНСЕ. О потише, не стоит так горячиться, мадам! Мы на вас в обиде; на наших глазах вы только что излишне сурово оттолкнули Эжени, хотя я известил вас, что здесь она находится под нашим покровительством. Такое преступление заслуживает наказания; так что сделайте одолжение, разденьтесь догола и получите сполна то, что вам причитается за вашу неучтивость.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. Мне обнажиться?..
ДОЛЬМАНСЕ. Мадам, похоже, противится. Огюстен, окажи-ка ей услуги горничной.
( Огюстен грубо приступает к делу; она отбивается.)
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ ( обращаясь к госпоже де Сент-Анж). О небо! Куда я попала? Мадам, неужели вы допустите, чтобы со мной так обращались в вашем доме? Вы полагаете, что я не подам жалобу на подобные действия?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Вряд ли вам удастся это осуществить.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. Боже правый! Значит, меня здесь убьют?
ДОЛЬМАНСЕ. Почему бы и нет?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Минутку, господа. Прежде чем представить вашим взорам эту писаную красавицу, хочу предупредить вас о некоторой потрепанности ее телес. Эжени шепнула мне на ушко, что не далее как вчера супруг как следует отхлестал свою женушку кнутом за какие-то хозяйственные недочеты... так что, по уверениям Эжени, ягодицы ее напоминают узорчатую тафту.
ДОЛЬМАНСЕ ( едва госпожа де Мистиваль оказывается обнаженной). Ей-богу, это чистая правда! Мне еще не доводилось видеть столь истерзанного тела... Черт возьми, оно разукрашено и спереди, и сзади!.. Но жопа при этом все равно ужасно хороша. ( Целует и щупает ее.)
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. Оставьте меня, оставьте, иначе я позову на помощь!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ ( подходя к ней и хватая ее за руку). Послушай, старая дура! Пора мне наконец просветить тебя!.. Ты для нас – жертва, присланная собственным мужем, тебя постигнет страшная участь; ничто не спасет тебя... Что тебе уготовано? Понятия не имею! Ты можешь быть повешена, колесована, четвертована, сжата клещами или заживо сожжена: выбор мучений зависит от воли твоей дочери – именно она объявит приговор. Ну и настрадаешься ты, лахудра! О да! Умертвят тебя медленно, лишь после бесчисленных пыток. Предупреждаю сразу: кричать бесполезно, в этом помещении можно зарезать быка – никто не услышит его рева. И лошади твои, и слуги отосланы. Еще раз повторяю, голубка, действуем мы с позволения твоего мужа, и ты, по наивности, с легкостью попалась в расставленные сети.
ДОЛЬМАНСЕ. Надеюсь, теперь мы окончательно успокоили мадам.
ЭЖЕНИ. Известить ее заранее подобным образом – просто верх обходительности!
ДОЛЬМАНСЕ ( продолжая ощупывать ягодицы госпожи де Мистиваль и пошлепывать по ним). Воистину, мадам, в лице госпожи де Сент-Анж вы обнаружили настоящую подругу... Кто еще в наши дни так разоткровенничается? Как искренне и правдиво она все перед вами выложила!.. Эжени, встаньте рядом с вашей матушкой... вот так, чтобы мне удобно было сравнивать обе ваши задницы. ( Эжени повинуется.) Твоя попка, деточка, признаться, хороша, но, черт подери, и у мамаши тоже недурственная... Позабавлюсь-ка я, вставляя то в одну, то в другую... Огюстен, попридержите мадам.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. Ах, небо праведное! Какое унижение!
ДОЛЬМАНСЕ ( начиная с матери). Ничуть! Нет ничего проще... Вот те на! Да вы едва меня прочувствовали!.. Ах, видно муженек ваш не раз пользовался этой дорожкой! Теперь твоя очередь, Эжени... Большая разница!.. Ладно, с меня довольно – хотелось слегка размяться перед серьезной игрой... Теперь все по порядку. Прежде всего две наши госпожи, вы, Сент-Анж, и вы, Эжени, соблаговолят вооружиться годмише для поочередного нанесения решительных ударов то по переду, то по заду достопочтенной сей дамы. Шевалье, Огюстен и я исправно подменят их с помощью собственных своих орудий. Итак, я начинаю, нетрудно догадаться, что и на этот раз почести я воздам ей сзади. По ходу действия каждый вправе подвергнуть ее любой пытке, но соблюдая разумную постепенность, так, чтобы она не околела слишком быстро... Огюстен, сделай милость, войди в меня, облегчи исполнение унылой моей обязанности – содомировать эту старую корову. Эжени, пока я занимаюсь твоей мамашей, подставь к моим губам свою прелестную попку, а вы, мадам, придвиньте вашу – я пощупаю ее... и посократизирую... Трудясь над жопой, хочется видеть вокруг одни только жопы.
ЭЖЕНИ. Друг мой, какое же насилие ты над ней учинишь, выплескивая свое семя? Как накажешь эту дрянь?
ДОЛЬМАНСЕ ( продолжая шлепать). Нет ничего проще и естественней: удалю ей волоски и защипаю до посинения ее ляжки.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ ( терпя эти мучения). Ах, изверг! Ах, сквернавец! Он сделает меня калекой!.. О, Царь небесный, владыка милостивый!..
ДОЛЬМАНСЕ. Не взывай к нему, душенька: он останется глух к твоим мольбам, как, впрочем, и к мольбам всех остальных людей. Никогда всемогущие небеса не снизойдут до сочувствия к чьей бы то ни было заднице.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. Ах, как вы мне делаете больно!
ДОЛЬМАНСЕ. Непостижимые странности духа человеческого! Ты страдаешь, бесценная моя, ты плачешь, а я от этого еще лучше разряжаюсь... Ах ты, сука! Так и придушил бы – но не хочу лишать других радости помучить тебя. Теперь твоя очередь, Сент-Анж. ( Госпожа де Сент-Анж обрабатывает ее спереди и сзади своим годмише, наносит несколько ударов кулаком; ее сменяет шевалье: он пробегается по обеим дорожкам и изливаясь, бьет ее по щекам. За ним следует Огюстен, он действует примерно так же, прибавляя несколько щелчков по носу. Во время этих атак Дольмансе успевает воткнуть свое орудие во все задницы и теперь разгорячает всех действующих лиц своими речами.) Смелей, прекрасная Эжени, впихивайте вашей матушке, начинайте с передка!
ЭЖЕНИ. Идите ко мне, мамуся, я побуду вашим муженьком. Этот чуть потолще, чем у вашего супруга, не так ли, дорогуша? Ничего, войдем... Ай-ай-ай, мамочка кричит, что ж, пусть покричит, ведь ей вставляет ее собственная дочь!.. А ты, Дольмансе, ты уже пристроился ко мне сзади?.. Вот я разом соединяю инцест, адюльтер и содомию, и все это творю я, девочка, лишенная невинности сегодня утром... Какой прогресс, друзья мои! С какой скоростью продвигаюсь я по тернистому пути порока! О, теперь я падшая женщина! По-моему, ты истекаешь соком, моя родненькая?.. Дольмансе, посмотри, какие у нее глаза! Такое выражение, как при оргазме, разве нет? Ах ты, похотливая кошка, я научу тебя настоящему разврату! Ну, держись, паршивка, держись!.. ( Она сжимает и треплет ей грудь.) Сильней, Дольмансе... еще сильней, мой нежный друг, я умираю!.. ( Разряжаясь, Эжени бьет кулаком по груди и по бокам матери раз десять-двенадцать.)
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ ( теряя сознание). Сжальтесь надо мной, заклинаю вас... Мне дурно... я впадаю в беспамятство... ( Госпожа де Сент-Анж пытается ей помочь, Дольмансе этому противится.)
ДОЛЬМАНСЕ. Нет, нет, не приводите ее в чувство: женщина в обмороке – зрелище необычайно возбуждающее. Отстегаем ее как следует – и к ней вернется сознание... Эжени, ложитесь на тело жертвы... Докажите мне, что вы действительно тверды. Шевалье, овладейте ею на груди ее бесчувственной матери, пусть она в это время одной рукой мастурбирует Огюстена, другой – меня, а вы, Сент-Анж, подобным же образом щекочите Эжени на протяжении всего акта.
ШЕВАЛЬЕ. Сказать по правде, Дольмансе, то, что вы заставляете нас делать, – ужасно: это осквернение природы, небес и святых законов человечности.
ДОЛЬМАНСЕ. Ничто меня так не смешит, как неистребимые добродетельные порывы нашего шевалье. Где в наших действиях умудряется он разглядеть хоть тень оскорбления природы, неба и человечности? Поймите, друг мой, принципы, воплощаемые в жизнь развратниками, заложены в природе. Я уже тысячу раз повторял: природа стремится к поддержанию совершенного равновесия между пороками и добродетелями – в силу законов движения, она нуждается то в одних, то в других, поочередно внушая нам то, что ей более необходимо в данный момент; таким образом, мы не совершаем никакого зла, отдаваясь во власть тех или иных своих побуждений. Теперь о небе. Послушай, дорогой мой шевалье, брось ты наконец трястись, не бойся расплаты: нет во вселенной иной движущей силы, кроме природы. Отдельные физические явления матери рода человеческого стали называться чудесами и обожествляться людьми в самых различных формах – одни причудливее других, – обрастая бесконечным числом интерпретаций, а плуты и интриганы, воспользовавшись доверчивостью ближних, распространили по всему свету эти небылицы – вот что шевалье именует небесами, вот что боится он оскорбить! Далее он берется утверждать, что мелкие шалости, которые мы себе здесь позволяем, нарушают законы человечности. Простодушный! Запомни же раз и навсегда: то, что дураки называют человечностью, – слабость, порожденная страхом и эгоизмом, призрачная эта добродетель, сажающая на цепь людей недалеких, чужда личностям, чей характер сформирован стоицизмом, бесстрашием и философией. Действуй же, шевалье, не робей, не думай о возмездии! Допустим, мы действительно сотрем в порошок эту старую мегеру – поступок наш не окажется и намеком на преступление. Сотворять преступления – выше сил человеческих. С одной стороны, природа внушает людям неодолимую тягу к злодействам, а с другой – осмотрительно лишает смертных возможности приводить в беспорядок свои законы. Так что будь уверен, друг мой: все, что в твоих силах, – безусловно позволено, мудрая природа не доведет дело до абсурда и не наделит нас способностью нарушать задуманный ею ход развития. Мы – слепые орудия: если природа прикажет нам сжечь дотла всю вселенную, то единственным преступлением явится сопротивление ее воле, таким образом, все негодяи земли просто потворствуют ее капризам... Вперед, Эжени, располагайтесь... Но что я вижу! Она бледнеет!..
ЭЖЕНИ ( ложась на свою мать). Это кто бледнеет? Я? Черта с два! Сейчас убедитесь, что это не так! ( Поза выстраивается; госпожа де Мистиваль по-прежнему в обмороке. После семяизвержения шевалье группа распадается.)
ДОЛЬМАНСЕ. Эта кляча никак не придет в себя! Безобразие! Розги! Розги!.. Огюстен, сбегай-ка в сад, нарви мне несколько веточек терновника. ( Ожидая, он хлещет ее по щекам и подносит к ее носу зажженные бумажные рожки.) Ничего не помогает! Ох, боюсь: вдруг она протянет ноги.
ЭЖЕНИ ( шутливо). Протянет ноги! Только этого мне не хватало! Я только что нашила кучу красивых платьев – и что же, теперь все лето носить по ней траур?
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ ( громко смеясь). Ах, дьяволенок!..
ДОЛЬМАНСЕ ( беря ветки колючего терна у вернувшегося Огюстена). Испробуем последнее средство. Эжени, пока я буду усердствовать, пытаясь вернуть вам мать, вы сосите мой член, а Огюстен пусть возвращает мне удары, которые я стану наносить сам. Ничуть не рассержусь, шевалье, наблюдая, как ты управляешься с задницей твоей сестры: главное во всей этой операции – чтобы я мог беспрепятственно целовать твои ягодицы.
ШЕВАЛЬЕ. Придется уступить, раз нет никакой возможности убедить этого мерзавца, сколь отвратительно все, к чему он нас склоняет.
( Сценка выстраивается; госпожу де Мистиваль секут розгами, и она начинает подавать признаки жизни.)
ДОЛЬМАНСЕ. Ну как? Убедились в действенности моего лекарства? Я же говорил – оно всегда приносит желаемый эффект.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ ( открывая глаза). О Боже! Зачем меня вырывают у смерти? Зачем возвращают ко всем ужасам земным?
ДОЛЬМАНСЕ ( продолжая порку). Эх, милая наша маменька! Не все еще сказано. Вы еще не выслушали приговор... А мы еще не привели его в исполнение... Итак, приступим: образуем круг, в центре – коленопреклоненная жертва, трепещущая от страха, пусть послушает, что за участь ее ожидает. Начинайте, госпожа де Сент-Анж.
( Последующие объявления приговора происходят попутно с исполнением каждым актером назначенной ему роли.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Я приговариваю ее к повешению.
ШЕВАЛЬЕ. Пусть ее изрежут на двадцать четыре тысячи кусков – так делается у китайцев.
ОГЮСТЕН. А по мне, так пусть ее колесуют заживо.
ЭЖЕНИ. Нашпигуем мою прекрасную матушку серными фитилями, а я не поленюсь поджечь каждый по отдельности. ( На этом месте поза нарушается.)
ДОЛЬМАНСЕ ( хладнокровно). Очень хорошо, друзья мои! А теперь, на правах вашего наставника, я несколько смягчу тяжесть наказания. Ваши приговоры – остроумная мистификация, но не более того, в отличие от моего приговора, который действительно будет приведен в исполнение. Там, внизу, моих указаний ожидает один лакей, член его – незауряднейшее творение природы, хотя сокровище это, увы, поражено страшнейшей в мире болезнью – сифилисом. Прикажу ему подняться: пусть запустит свой яд в оба естественных прохода нашей дражайшей любезнейшей дамы, чтобы, пережив период тяжелых осложнений, вызванных жестоким недугом, старая развратница зарубила в памяти: нельзя мешать дочери отдаваться блуду. ( Все аплодируют; приглашают лакея. Дольмансе обращается к нему.) Лапьер, берите эту женщину – она ваша; наслаждение с совершенно здоровой партнершей наверняка исцелит вас – средство верное.
ЛАПЬЕР. Как, сударь, прямо перед всеми?
ДОЛЬМАНСЕ. Ты что, стесняешься показать нам своего героя?
ЛАПЬЕР. Нет, отчего же! Он у меня очень красивый... Ну-ка, сударыня, соблаговолите занять нужное положение.
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. О, небо праведное! Какое страшное наказание!
ЭЖЕНИ. Все-таки согласись, мама, это лучше, чем сразу отправиться к праотцам: так я хотя бы все лето похожу в своих новых платьях!
ДОЛЬМАНСЕ. А мы пока позабавимся: предлагаю всем бичевание. Госпожа де Сент-Анж отстегает Лапьера, дабы он пожестче обходился с госпожой де Мистиваль, я выпорю госпожу де Сент-Анж, Огюстен – меня, Эжени – Огюстена, а ее со всей строгостью отхлещет шевалье. ( Все устраиваются. После обработки переда хозяин приказывает Лапьеру перейти к заду, что в точности исполняется. Далее Дольмансе обращается к лакею). Отлично! Ты свободен, Лапьер. Держи, вот десять луидоров. Сатанинская прививка! Такого за всю свою жизнь не проделывал и Троншен!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Думаю, теперь важно не дать вытечь наружу тому яду, который сейчас циркулирует по вашим венам, мадам, для этого Эжени тщательно зашьет вам и переднее, и заднее отверстие – сосредоточение отравляющей жидкости в нужных местах приостановит ее испарение, что приведет к скорейшему разъеданию ваших костей.
ЭЖЕНИ. Превосходно! Подайте мне иголки и нитки!.. Раздвиньте ваши ножки, мамочка, я зашью вас так, чтобы вы уже никогда не подарили мне ни братиков, ни сестричек. ( Госпожа де Сент-Анж протягивает Эжени большую иглу, в которую вдета толстая вощеная красная нить. Эжени принимается за шитье.)
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. О Спаситель! Какая боль!
ДОЛЬМАНСЕ ( хохоча, как сумасшедший). Видит Бог! Отменная идея! Она делает тебе честь, дорогая, я бы до такого не додумался.
ЭЖЕНИ ( покалывая срамные губы то снаружи, то внутри, переходя к лобку и животу). Не волнуйтесь по пустякам, маменька; нужно же мне испробовать иголку.
ШЕВАЛЬЕ. Маленькая разбойница пустит ей кровь!
ДОЛЬМАНСЕ ( подогреваемый рукой госпожи де Сент-Анж на фоне матери и дочери). Ах, неподобающее это поведение дьявольски заводит меня! Эжени, участите ваши уколы, у меня от этого лучше твердеет.
ЭЖЕНИ. Да я уколю и двести раз, если нужно... Шевалье, помастурбируйте меня, пока я занимаюсь мамой.
ШЕВАЛЬЕ. Никогда еще не встречал такой скверной девчонки!
ЭЖЕНИ ( очень возбужденная). Будете обижать меня, шевалье, я и вас кольну! Лучше щекочите, как положено. Теперь сзади, ангел мой, будь так добр... У тебя что, только одна рука? Темно в глазах, все стежки вкривь и вкось... Видите, моя иголка затерялась... между ляжек, сосков... О проклятие! Какая сладость!..
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. Ты рвешь меня на части, бессердечная! Стыжусь, что произвела тебя на свет!
ЭЖЕНИ. Успокойся, мамочка! Вот и конец.
ДОЛЬМАНСЕ ( выходя из рук госпожи де Сент-Анж в возбужденном состоянии). Эжени, жопу уступи мне, это по моей части.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Ты слишком взбудоражен, Дольмансе, как бы ты не истерзал ее до смерти.
ДОЛЬМАНСЕ. А хотя бы и так! Разве нет у нас письменного разрешения? ( Он кладет госпожу де Мистиваль на живот, берет иглу и начинает зашивать ей задний проход.)
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ ( истошно кричит). Ай-ай-ай!..
ДОЛЬМАНСЕ ( погружая иглу глубоко в ее плоть). Ну-ка заткнись, потаскуха! Не то превращу твою жопу в мармелад... Эжени, помастурбируй меня!
ЭЖЕНИ. Ладно, только при условии, что вы будете колоть посильнее – вы как-то чересчур бережно с ней обращаетесь. ( Она его мастурбирует.)
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Эти две жирненькие половинки явно нуждаются в разделке!
ДОЛЬМАНСЕ. Потерпите, сейчас я продырявлю ее, словно говяжью тушу. Вспомни мои уроки, Эжени: прекрати закрывать головку моего члена крайней плотью!
ЭЖЕНИ. Страдания этой скотины невероятно воспламеняют мое воображение – я уже не ведаю, что творю.
ДОЛЬМАНСЕ. Что за чертовщина! Я начинаю терять голову. Сент-Анж... встань передо мной, умоляю, и пусть Огюстен войдет в тебя сзади, а шевалье – спереди, так, чтобы я повсюду видел одни только задницы: это зрелище меня добьет. ( Пока организуется заказанная им поза, он покалывает ягодицы.) Держись, маменька, получи-ка еще, вот так, и еще!.. ( Делает проколы местах в двадцати.)
Г-ЖА ДЕ МИСТИВАЛЬ. Ах, простите, сударь! Тысяча и тысяча извинений! Но вы же меня умерщвляете!..
ДОЛЬМАНСЕ ( обезумевший от удовольствия). Как бы мне этого хотелось... Давно уже у меня так не деревенел... Не поверил бы, что после стольких семяизвержений...
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ ( исполняя назначенную роль). Тебя устраивает, как мы разместились, Дольмансе?
ДОЛЬМАНСЕ. Пусть Огюстен чуть развернется вправо, иначе он заслоняет жопу, а мне нужно видеть ее дыру.
ЭЖЕНИ. Ах, полюбуйтесь, наша чертова кукла вся в крови!
ДОЛЬМАНСЕ. Не страшно. Ну как, все готовы? Еще секунда – и я орошу животворным бальзамом нанесенные мною раны.
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Да, да, сердце мое, я вот-вот изольюсь... мы с тобой придем к цели одновременно.
ДОЛЬМАНСЕ ( завершил операцию и теперь покалывает ягодицы жертвы, комментируя собственный оргазм). Ах, убей меня Бог! Мое семя вытекает, пропадая напрасно... Эжени, направь же его струю на эти многострадальные ягодицы, я так их измучил... Эх, послать бы плевок спермы прямо в дырку облаков! Кончено... больше не могу!.. Отчего безудержный пыл страстей неизменно сменяется бессилием?!
Г-ЖА ДЕ СЕНТ-АНЖ. Долби крепче, братец! Двигайся во мне порезвее, я уже исхожу соком!.. ( Огюстену.) Пошевеливайся же, увалень, сколько повторять: когда я дохожу до точки, нужно поглубже загонять мне в зад!.. Ах, как приятно подражать Триединому! Благодарствую за высшую святость – быть пробитой с двух сторон! ( Группа распадается.)
ДОЛЬМАНСЕ. Все сказано. ( Госпоже де Мистиваль.) Одевайся, бесстыдница, и уходи, куда хочешь! Имей в виду: на все, что мы с тобой проделали, получено разрешение от твоего мужа. Мы тебе и раньше говорили, но ты все не верила, так читай и убедись сама. ( Показывает ей письмо.) Пусть пример этот послужит тебе наукой, пойми: дочь твоя достигла возраста, когда она вольна делать все, что ей вздумается; ей хочется блудить, она создана для порока; и если ты не желаешь, чтобы издевались над тобой – не мешай другим жить так, как им нравится. А теперь ступай прочь. Шевалье отвезет тебя. Попрощайся со всеми, неблагодарная тварь! На колени перед дочерью, проси прощения за то, что премерзко вела себя с ней... А вы, Эжени, влепите-ка вашей матушке парочку добрых пощечин и проводите ее до порога, добавив еще парочку крепких пинков под зад. ( Все исполняется.) Прощай, шевалье, смотри, по дороге не приставай к мадам, помни: она зашита и у нее сифилис. ( Когда они вышли.) А нам, друзья мои, пришла пора садиться за стол, а оттуда – всей четверкой в одну постель. Какой замечательный денек! Еда приобретает для меня особый вкус, а сон – особую безмятежность лишь после того, как в течение дня я в достаточной мере замараю себя тем, что глупцы называют преступлениями.
Примечания
1
Обратитесь к «Анекдотам» Прокопия. (Прим. авт.)
(обратно)2
Адам, подобно Ною, был восстановителем рода человеческого. В результате страшной катастрофы Адам остался на земле один, примерно при тех же обстоятельствах, что и Ной. Однако традиция Адама прервалась, а традиция Ноя сохранилась. – (Прим. авт.)
(обратно)3
Данное утверждение впоследствии будет изложено более развернуто. Здесь же приведены лишь наброски основных положений философской системы, которая вскоре получит свое развитие. (Прим. авт.)
(обратно)4
См. Светония и Диона Кассия из Никеи. (Прим. авт.)
(обратно)5
См. «Историю Зингуа, королевы Анголы» (Прим. авт.)
(обратно)6
См. «История Зингуа, королевы Анголы», написанная одним миссионером. (Прим. авт.)
(обратно)7
Далее в нашем сочинении приводятся гораздо более развернутые суждения об этом предмете, здесь мы ограничиваемся лишь поверхностным рассмотрением. (Прим. авт.)
(обратно)8
Внимательное рассмотрение постулатов христианства обнаруживает исключительную его нечестивость, истоки которой кроются и в простодушном жестокосердии иудеев, и в равнодушной неразборчивости язычников. Вместо усвоения лучших достижений древних народов христиане, казалось, умышленно создали религию, основанную на совокупности окружавших их пороков. (Прим. авт.)
(обратно)9
Проследите за историей всех времен и народов: повсюду монархический образ правления избирался именно в периоды наивысшего расцвета невежества и суеверия; короли извечно служат опорой религии, а религия извечно коронует королей. Ты – мне, я – тебе. Как в одной истории про управляющего и повара: «Вы мне перец, а я вам масло». Несчастные творения человеческие, доколе будете вы походить на незадачливого хозяина, потворствующего двум плутам? (Прим. авт.)
(обратно)10
Все религии в один голос превозносят мудрость и всемогущество божества; но стоит коснуться его деяний – тотчас обнаруживаются непоследовательность, бессилие и слабоумие. Уверяют, будто Всевышний сотворил мир для самого себя, если так, то почему он не добился от людей надлежащего почитания? Господь создал нас для поклонения ему, а мы денно и нощно насмехаемся над ним! Бедный боженька! (Прим. авт.)
(обратно)11
Речь идет о великих деятелях, чья репутация сложилась в незапамятные времена. (Прим. авт.)
(обратно)12
Каждый народ утверждает, что его религия – самая лучшая, приводя в доказательство своей правоты бесконечное множество доводов, как правило, противоречивых и не согласующихся друг с другом. Люди пребывают в глубочайшем неведении, какая из религий больше по вкусу Всевышнему, даже если предположить, что он все-таки существует. Куда мудрее покровительствовать всем религиям до единой либо объявить их все вне закона; запрет религий оказался бы средством более надежным, поскольку основывался бы на нравственном принципе: любая религия – фарс, а значит, ни одной из них не дано угодить Богу, тем более несуществующему. (Прим. авт.)
(обратно)13
Говорят, в намерение этих законодателей входило, путем показа девичьей наготы, ослаблять страсть мужчин к женщинам и тем самым оживлять влечение, порой испытываемое мужчинами к представителям собственного пола. Эти мудрецы принуждали выставлять напоказ то, к чему старались вызвать отвращение, предписывая скрывать под покровами одежды предмет, по их мнению, наиболее вожделенный; в том или ином случае они трудились во имя уже означенной нами цели. Они, как видно, уже тогда распознали, сколь сильна потребность аморальности для республиканских нравов. (Прим. авт.)
(обратно)14
Ичоглан – дворцовый офицер в оттоманской Турции. (Прим. пер.)
(обратно)15
Известно, что бесчестный негодяй Сартин придумал способ для разжигания похоти Людовика XV – три раза в неделю через Дюбарри передавал рапорты, где с приукрашенными подробностями описывалось все, что происходило в злачных местах Парижа. Подобная распутная прихоть французского Нерона обошлась государственной казне в три миллиона! (Прим. авт.)
(обратно)16
Да не обвинят меня в непоследовательности, напомнив: сначала я уверял, что у нас нет никакого права привязывать женщину к себе, а затем опроверг свои же принципы, утверждая, что мы имеем право ее принуждать; повторяю, речь идет не о собственности, а о наслаждении; у меня нет прав на владение фонтаном, встретившимся на моем пути, однако мне даны известные права насладиться его прохладой; у меня есть основания утолить свою жажду его прозрачной водой; таким же образом я не имею никакого вещного права на владение той или иной женщиной, будучи наделен неоспоримыми правами на наслаждение ею; и я воспользуюсь ими, заставляя ее доставить мне удовольствие, чем бы ни были обусловлены мотивы отказа с ее стороны. (Прим. авт.)
(обратно)17
Юные вавилонянки, не дожидаясь наступления семилетнего возраста, спешили принести свои первинки на алтарь храма Венеры. Первое вожделенное ощущение девочки, подсказанное ее естеством, повелевало заняться проституцией. Голосу природы следует уступать безоговорочно; любое сопротивление нарушает основополагающие ее законы. (Прим. авт.)
(обратно)18
Женщины даже не догадываются, насколько украшает их чувственность. Сравним двух женщин, сходных по возрасту и по красоте, одна из которых живет в воздержании, а другая – в разврате: нетрудно убедиться, насколько вторая превосходит первую в блеске и свежести; любое насилие над естеством куда вредоноснее злоупотребления удовольствиями; всем известно, как хорошеет женщина после родов. (Прим. авт.)
(обратно)19
Томас Мор настаивал, чтобы женихи и невесты до свадьбы показывались друг другу обнаженными. Сколько браков расстроилось бы, будь принят такой закон! Хотя противоположные действия с полным основанием можно считать покупкой кота в мешке. (Прим. авт.)
(обратно)20
«Моралии», Трактат о любви. (Прим. авт.)
(обратно)21
Надо надеяться, и наша нация сократит такого рода расходы в силу полнейшей их бесполезности; всякий новорожденный, не обладающий качествами, которые в дальнейшем послужат на благо республики, не имеет права на существование, лучшее, что можно сделать – отнять у него жизнь в тот момент, когда она им получена. (Прим. авт.)
(обратно)22
Салический закон применял против убийц лишь простое наложение штрафа, и поскольку виновному несложно было избегнуть наказания, Хильдеберт, король Австразии, находясь в Кельне, вынес постановление, предписывающее смертную казнь не за убийство, а за уклонение от уплаты штрафа, назначенного за убийство. Рипуарский закон за подобные действия предписывал взыскивать с виновного в соответствии со значимостью личности пострадавшего. Дороже всего обходилось убийство священника: убийце предъявляли свинцовую сутану, отлитую по мерке его жертвы, и ему надлежало отдать столько золота, сколько весила эта сутана; за неимением золота, виновный и члены его семьи становились рабами церкви. (Прим. авт.)
(обратно)23
Не забывайте о том, что на объявлении войны иностранным государствам настаивал именно нечестивец Дюмурье. (Прим. авт.)
(обратно)24
Бедность французского языка вынуждает нас употреблять слова, вполне справедливо осуждаемые в нынешнем счастливо здравствующем государстве; надеемся, что просвещенные читатели правильно нас истолкуют и не станут путать абсурдность деспотизма политического с возвышенным величием деспотизма ничем не сдерживаемых страстей. (Прим. авт.)
(обратно)



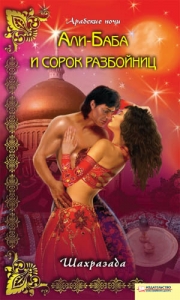



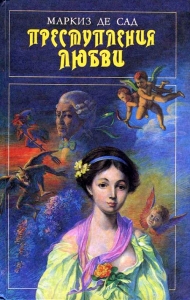


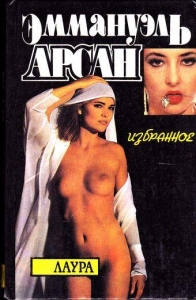
Комментарии к книге «Философия в будуаре, или Безнравственные учителя (Другой перевод)», Маркиз де Сад
Всего 0 комментариев