Виктор Рябинин ЛЕДИ В БАНЕ Юмористические фантазии на эротические темы
«Нечистых слов нет, есть только нечистые представления».
Сергей Есенин.ЛЕДИ В БАНЕ
Который год отдаюсь я любимому делу хлебопашества на необъятных полях родного колхоза «Красный спец». Однако, бороню ли я яровые, или перепахиваю озимые, поднимаю ли зяби, или просеиваю пары, но всегда нахожу неурочное время для пополнения своего носимого багажа знаний через прессу или изустно. А иначе нам, механизаторам широкого профиля, просто нельзя, ибо так давно служим жизненным примером для остального местного жителя и малолеток, что даже выцвели на районных «Досках почёта» и засиделись до мозолей на сценах с краю президиумов. Поэтому и набираемся мы в любых полевых и погодных условиях новостями до краёв, невзирая на аппарат и систему, так что к вечерней дойке всегда готовы поучить уму-разуму любого, будь ты хоть здешний политик, хоть другой какой сват и кум.
Помню, как-то раз в посевную, сразу после начатой нами с партией перестройки недоделок, мы с другом Петькой, тоже механизатором широкой души, разложились около сеялки кой-чем закусить перед началом ударного труда и бдения на родимых просторах. Надо сказать, что всегда уважительно относимся к любому народному обычаю и не можем начать день без бодрого почина, а иногда и призывной песни. Вот тогда-то и сказал мне Петька с горечью в сердце, разглядывая газету под съестными припасами:
– И тут опередила нас с тобой гидра капитализма, дышло ей в рынок!
Читаю я бегло и в охотку, а потому тут же ухватился за печатный лист и, прищурившись для верности восприятия на один глаз, стал рассматривать указанный другом материал. И то, что я вычитал, навсегда запало мне в душу, прокатившись волной возмущения по устойчивости сознания, но с оттенком обиды на нашу нерасторопность.
А напечатано было там, что моральный устой за границей загнил окончательно, и тамошние леди и джентльмены, отбросивши нормы приличия, с целью помывки ходят в общие бани, не разбирая дней половой очерёдности и не таясь друг от друга. Нас так возмутила эта копеечная экономия ресурсов и времени, а ещё более – их наглое безразличие к природному разделению человечества на два лагеря, что мы уже в тот день полновесно трудиться не смогли, а развернулись в бурную дискуссию. Лишь к вечеру, наложив на всё резолюцию, правда, с посильной помощью бригадира, пришли к единому выводу, что совместное это мероприятие, хотя и рискованное для баб, но вполне подошло бы и для наших краёв. Тем более, что ты всякому друг, товарищ и брат, поэтому особо стесняться один другого не приходится. Это был бы для любого члена общества широкий шаг вперёд на правах человека, закрепляющий наши завоевания, как на пути неминуемых побед, так и по дорогам привычных потрясений.
Но как далеки оказались наши светлые мечты от грубой правды жизни родных подворий!
Оказалось, что не все обыватели способны так глубоко проникнуться нуждами народонаселения, как мы, механизаторы. Даже моя супруга и жена, Анна-Роза-Мария, прозванная в деревне так за мою слабую память на женские имена в первые годы нашей счастливой совместной жизни, и та месяц не пускала меня на порог жилища после того, как я в тот же вечер претворил в жизнь свой почин по совместному обмыванию с близлежащей соседкой в её же бане. А наше начинание было разогнано заборной доской и неприличным словом, едва успев зародиться. И я до сенокоса приволакивал правую нижнюю оконечность, хотя и левая действовала слабо, не говоря уже о муках при исполнении сидячих работ.
Так и остались бы эти неиспользованные знания в моей голове мёртвым грузом, да только грянуло время демократических реалий, и народ получил полную свободу в шествиях и волеизлияниях в толпе. Это меня сильно обрадовало, но ещё больше весть, которую привёз Петька из райцентра.
По его словам выходило, что в связи с бережливым отношением к природным богатствам и падением кой-какого производства, в нашем городишке баня стала работать раз в неделю по пятницам, и, кто успевает, моется так без внимания на свой возраст и пол.
Я тут же смекнул, что цивилизация докатилась и до нас, а потому в ближайшую же пятницу, пока слухи не потревожили устои моей Анны-Марии, наладился в райцентр по своим техническим делам, хоть и налегке, но с поллитровкой для храбрости.
Помывочное хозяйство я нашёл сразу, но париться не поспешил, а засел в кустах при дороге с умыслом самоличной проверки Петькиного донесения.
Так как время было обеденное, то примерно с час никакого продвижения на объект не наблюдалось. Затем стали появляться мужики, и лишь к вечеру, с неясной для меня пока целью, в баню стали проникать женщины. Не сказать, что их было густо, но и этих хватило бы надолго. Поэтому я, для большей самоуверенности и успокоения нервов, на скорую руку хватил из бутылки, вылез из кустов и смелой походкой, как будто тут полощусь с пелёнок, направился на этот пункт общего сбора.
Билет я купил, не глядя на кассиршу, так как совестился своего не банного вида, и поскорее протиснулся в раздевалку. Тут вдоль стен, как и положено, стояли шкафчики и скамейки, но народу, кроме двух замшелых долгожителей, не было. Старые пни вольготно располагались на низкой лавке, развесив, как на смотринах, обессиленные прежними трудовыми годами свои мудейные реликвии почти до пола, и, важно беседуя, отдыхали.
Оглядев такой неприкрытый натурализм срама, я сильно запереживал за городских дам, если они и впрямь окажутся поблизости и смогут нечаянно увидеть этот древний износ шатунов. Однако бабами в предбаннике и не пахло. Поэтому я не стал разбираться с ветеранами домашних очагов, а смело разделся до трусов и стал ждать дальнейшего разворота событий, опустившись у шкафчика на лавку. И минут через десять, прополоскав горло своим питьевым запасом, я стал было развлекаться игрой воображения ума о совместной с бабьим полом парилке. Вот как-то раз в этот момент в раздевалку и вошла особа другой статьи устава, но моих лет, с высокой причёской на голове и полной пазухой всякого женского добра. Сердце у меня стукнуло где-то под подбородком, по спине побежали знакомые муравьи, а глаза от непривычной действительности сошлись на переносице.
Женщина же, уверенно и ни на кого не глядя, подошла к шкафчику напротив меня, поставила сумку на лавку и стала раздеваться. Стоя ко мне спиной, она стащила через голову своё лёгкое платье, а затем, выгнувшись и расстегнув на спине лифчик, скинула и его. Когда же она, сначала подняв руки и разбросав причёску по плечам, принялась стягивать с себя не по-деревенски мелкие трусы, показывая мне пышную и белую, обхватом в два передних крыла «Москвича» первой модели, свою кормовую часть, я вдруг отрезвел до звона в ушах.
А женщина, тем временем, развесив одежду, взяла сумку и нагнулась, чтобы поставить её в шкафчик. И в тот же момент её задний борт вырос прямо на глазах до нестерпимых для моего ока размеров и плавно округлился двумя путеводными прожекторами, а меж ног, дай тебе, Петька, бог здоровья, где они вверху сходятся, прорвалась на волю, сжатая бёдрами, а потому растянутая, прямо-таки маслосъёмная манжетка с мелкой стружкой волос по краям, и с едва выступающими двумя розовыми прокладками по центру. Видение этих с виду малоизношенных деталей и узлов женского организма длилось всего какое-то мгновение, но его в самый раз хватило на то, чтобы мой Григорий, головастый заместитель по бабьей части, враз осатанел и так дёрнулся вверх, что мои семейственные трусы должны были треснуть, не успей я перехватить неуёмного зама рукой и загнать его под лавку, сжав после этого ловкого манёвра свои крепкие ноги.
Едва я провёл эту операцию, как женщина повернулась и с банным пакетом в руке независимо проследовала в помывочное отделение. И я едва не поздоровался с ней, потому как узнал в этом голом чуде Анну Ивановну, культурного руководителя при районном клубе. Я пару раз возил на спевки нашу самодеятельность, поэтому ещё тогда обратил на культпросвет своё неослабное внимание. Анна Ивановна мне и в платьях смотрелась, а тут ангелы сподобили увидеть её и вовсе без облицовки. Нет, чтобы там ни говорила моя жена, а всё-таки Петька – наипервейший друг, может даже брат после такого наглядного подарка.
Долго я сидел в тупом одиночестве, уговаривая Григория быть человеком и вылезти из-под лавки в потребном виде. Уже и ветераны жизни ушли домываться, и два новых девичьих и плоских недомерка, раздевшись, что, правда, их нисколько не украсило, убежали полоскаться, а я всё сиднем сидел на лавке в угрюмом напряжении, словно кот перед закрытой банкой со сливками.
И лишь когда одним духом опростал все остатки в поллитровке, заместитель унялся и принял вполне сносный и сонливый вид.
В тот же миг я быстро скинул остатки одёжки и сунулся в отделение для мытья, а там, не пяля глаза по сторонам, схватил ближайшую свободную шайку, налил воды и пристроился в укромном закутке, поставив, на всякий случай эту лохань прямо себе на колени. И лишь после этих мер техники безопасности позволил себе расслабиться и оглядеть окрестности.
Народу было не ахти, и все поодиночке заняты привычным банным делом.
Стал плескаться и я, но без мыла и мочалки, вроде как бы привыкая к жаркой обстановке в привычном кругу действующих лиц.
Почти против мен мылась здоровенная, пудов до восьми, бабища. Но тут ничего интересного не было, потому как обвислый животина надёжным капотом прикрывал передок этого телесного агрегата.
Зато поодаль, лицом ко мне и поставив одну ногу на лавку, шампунилась молодая деваха, при которой всё было такое упругое и ясно различимое, что я начал беспричинно волноваться. А уж когда она стала намыливать свою разомлевшую горлицу, да ещё теребить её пальчиками, вылизывая ими каждое телесное крылышко, то мой Григорий с такой силой упёрся головой в дно шайки, что чуть не скинул её с коленей на пол. Поэтому мне снова пришлось отправить его под лавку, чуть не переломив неразумного пополам.
«Какое уж тут к чертям собачьим мытьё. Мне, новобранцу, до греха рукой подать, а старожилы как побитые градом ходят. Выходит, один в поле не воин, а шуму наделать могу надолго. И потому придётся мне сидеть гагарой на яйцах пока не закроется заведение. Причём, с шайкой на коленях и с Григорием под лавкой» – горько думалось мне посреди голого пассивного народа.
В это время из парилки к душевым кабинкам, вся розовая и блестящая, прошла Анна Ивановна. И две полуокружности её кратера, скользя друг о друга и плавно перекатываясь в такт шагам, прямо-таки потянули меня за собой в пропасть грехопадения помыслов. Я утратил бдительность и рассупонился. Воспользовавшись моей минутной слабостью, Григорий выпростался из-под лавки и, со всего размаху ударившись своею глупою башкой о дно шайки, потерял остатки слабого сознания.
Это и помогло мне.
Пока Гришка не успевал опамятоваться, я вскочил со своего насеста и опрометью кинулся в душ, чтобы малость обмыться, да и удрать отсюда без позора души и со спокойствием во членах.
Кабинки были без дверей и почти все свободные, но едва я залез под холодные струи, как услышал:
– Молодой человек! Будьте любезны, потрите спину.
Я обернулся. Передо мной, вся в мыле и пене, стояла Анна Ивановна с мочалкой в руке. Сердце у меня провалилось в живот, язык прилип к зубам, а поэтому я лишь молча кивнул и взял протянутую мне банную ветошь.
Анна Ивановна вошла в мою кабинку и, опёршись о трубу с холодной водой, наклонилась. Я же, стоя с боку и уперев глаза в потолок, стал елозить мочалкой где-то выше её лопаток.
– Что же вы мне всё шею-то мылите? – пробился до разума недовольный голос женщины.
Я опустил глаза на широкую спину Анны Ивановны и, крепко взяв себя в руки раздумьями о будущих урожаях на колхозных нивах, стал исполнять свои обязанности, согласно банных требований. Но так как исполнять эти самые требования сбоку было не с руки, то я зашёл с тыла далеко отставленной задней части культработницы. Увлёкшись посильной работой и с думой об уборке урожая, я и не заметил, как Григорий, почуяв близкую подружку, воспрял безумным разумом и стал своей упрямой головой исследовать среди мыла и пены пути проникновения в привычную обстановку горячего уюта и скользкой дружбы.
И я не стал ему перечить.
А он, собака, не сбился с пути, даже не заскочил второпях на второй этаж, а сразу с размаха и целиком радостно впёрся во внутренне содержание Анны Ивановны и стал там, во тьме и сырости, суетиться, отыскивая сокровенные, только ему известные тайники щемящего желания.
Посочувствовав Григорию в его безудержном желании отдаться милостям соблазнительницы, я стал механически помогать ему, и очень скоро мы вошли в единый трудовой ритм. Да и сама Анна Ивановна поспешила облегчить нашу упоительную работу. Прогнувшись и двигаясь нам навстречу, а то и от нас в положенный момент двухтактного цикла, она демонстрировала хорошо слаженную работу возвратно-поступательного механизма голого тела.
И вот, когда Гриня уже почти был готов брызнуть слезой умиления от встречи с новой знакомой, а Анну Ивановну начала пронимать лёгкая дрожь, кто-то костлявой лапой ударил меня по спине, и старческий голос засверлил в ухо:
– Прекратите безобразный разврат! Мы, общественность, не потерпим совращения нас и наших внуков!
Я резко повернулся на этот скрип изношенных тормозов и увидел перед собой одного из тех древних старцев, чья безобразная демонстрация распущенного бессилия возмутила меня ещё в предбаннике. Анна Ивановна, потревоженная этим злобным окриком, непроизвольно дёрнулась вперёд, а бедный Григорий, выпав, как желторотый птенец из гнезда, вновь травмировался, ударившись гордой головой о мокрый кафель душевой кабины…
Что было дальше, я вспоминать отказываюсь, но с той поры ни в какие бани не хожу, а зимой и летом пользуюсь речкой. Змей Петька через месяц после меня тоже посетил райцентр, но другой альтернативы не нашёл и был бит прямо в раздевалке старческой общественностью. Так что плохо ещё приживаются в глубинке древние обычаи западных племён и народов.
ДЖЕНТЛЬМЕНЫ НЕУДАЧИ
Океан стонал и метался, придавленный низким небом. Угрюмые волны в безысходной тоске выбрасывались на прибрежные скалы, сгоняя гагар и чаек с насиженных мест, а наша десятипушечная шхуна «Летучий лапландец», закончив кренгование и радуя душу моряка чисто выскобленным днищем и свежепросмоленными бортами от ахтерштевня до форштевня, готовилась к отходу из Тарбека, что на юго-западном побережье Эспаньолы.
Но что может быть лучше плохой погоды для флибустьера? Только гнилая верёвка.
Солонина и ром, абордажные крючья и команда были загружены в трюмы ещё с вечера. Так как наши кошельки были полностью опустошены портовыми притонами на курсе от Тортуги до Маракаибо и требовали пропитания, как ненасытное брюхо кашалота, то с берегом нас уже ничего не связывало кроме горестных воспоминаний, и мы были полностью готовы заступить на привычную трудовую вахту.
Команда прямо-таки рвалась к торговым путям Карибского моря, чтобы вновь наводить ужас на купеческие посудины – от испанских сухогрузов из Кадикса до колониальных кораблей Вест-Индии и китобойцев Нантакета.
– Бром-брам-гол-штанга, – прогремел с мостика голос Однорукого Билли, нашего стойкого капитана, которого не раз протягивали под килем ещё на службе Её Величеству.
Взмыли якоря, кливер и клитор наполнились свежим бризом, и мы отвалились от пирса. «Весёлый Роджер» гордо реял на гроте, сверкая голым черепом, рангоуты и такелаж желали не внушать опасений, а свежезалатанный грот-марсель, даже отчасти зарифлённый, сразу добавил шхуне скорости в несколько узлов.
Раскинув для устойчивости ноги циркулем, я уверенно стоял у штурвала, крепко держась за румпель, и умело управлял ходом «Летучего лапландца» в крутом бейдевинде при западном ветре. Как квартирмейстер и помощник капитана, я был незаменим у руля и при дележе добычи. Знание основ азбуки и счёта позволяли мне не только справедливо поделить приз между членами экипажа, но и не обидеть себя, поэтому прозвище Косоглазый Дьявол я носил с достоинством и честью. Да и мои шесть с половиной футов, облачённые в дорогой тёмно-синий колет из фламандского бархата, внушали корсарам неподдельное уважение и лёгкий трепет…
Близился к концу двадцатый день нашего похода, но горизонт по-прежнему оставался пуст, как ладонь прокажённого. Запасы солонины подходили к концу, анкерки с пресной водой тревожили вышибленными днищами, и лишь только ром ещё поддерживал наши угасающие силы и изредка позволял трезво оценить ситуацию.
Поэтому мы легли в дрейф в десяти милях северо-восточнее острова Ла-Ваш, надеясь в стороне от основных караванных путей неторопливо выверить дальнейший курс шхуны, а заодно позволить команде справиться с плясками святого Витта, трепавшими её уже вторую неделю.
На исходе тридцатых суток запасы рома иссякли, джентльмены перешли в первобытное состояние, а бездействие командного состава начало обеспечивать скорый бунт. И даже всему покорный гальюнщик, рыжий ирландец Пит О’Харя, стал время от времени хвататься за мушкет с целью обустройства в моём черепе кингстона для беспрепятственного пропуска туда забортной воды.
Однако, мы с Одноруким героически сносили подобные оскорбления, отечески призывая подчинённых к долготерпению, лишь изредка вздёргивая на нок-рее наиболее строптивых. Но, в целом же, команда на шхуне подобралась не плохая. Всего лишь трое не имели опыта каторжных работ, да кок, Брюхатый Дик, был излишне начитан и знал грамоту в объёме двух псалмов. Зато остальные самоучки достигли мыслимых высот специфического образования морских бродяг. Но всё же пришлось бы нам с капитаном вскоре прогуляться за борт по не прибитой доске, не ударь в рынду салинга вперёдсмотрящий Глуховатый Остив на рассвете тридцать второго дня плавания, оповещая этим наш сброд о появлении на горизонте незнакомого корабля.
Вскоре на траверсе в нескольких кабельтовых от нас из серого туманного марева одиноко выползла под испанским флагом бригантина «Счастливое избавление». И мы без колебания приняли единственно верное решение, предписываемое законом морского братства, и приготовились к атаке. Тем более, что испанец был плохо вооружён и не имел сопровождения. Видимо, туман поспособствовал рассеиванию каравана по глади океана, тем самым позволив купеческим судам надеяться лишь на слепое Провидение.
Подняв паруса и приблизившись к неприятелю на расстояние пушечного выстрела, мы произвели залп брандскугелями из бортовых кулеврин, а когда бригантина загорелась, взяли её на абордаж. Часть команды с помощью крючьев и багров намертво пришвартовали испанца к шхуне, а остальные, вскарабкавшись на фок-реи, низвергнулись прямо на головы врагов.
Бой был скоротечен и жесток. Противник, в силу своей плохой боеготовности, не смог оказать достойного сопротивления. Правда, ослабевшая из-за нехватки рома команда шхуны понесла значительные потери живой силы, но увеличившаяся по этой причине доля приза в одни руки, скрасила нашу скорбь по убиенным.
Таким образом, под моим разумным руководством с мостика шхуны, бригантина скоро полностью оказалась в руках джентльменов удачи, а незадачливые защитники её согнаны на шканцы и незамедлительно отправлены со шкафута за фальшборт для знакомства с обитателями пучины.
Без суеты закончив это привычное дело, команда во главе со мной бросилась исследовать трюмы захваченного корабля. К нашему огорчению, бригантина оказалась доверху набитой скобяными изделиями и пенькой. И, поскольку этот груз не привлекал моего внимания, то я первым поспешил в каюту капитана, надеясь найти там судовой журнал или, на худой конец, рундук с более ценными документами.
Взломав дверь капитанского апартамента, я обнаружил там сундук, набитый дублонами, пиастрами и прочими луидорами старинной чеканки. И, спеша опечалить команду висельников скорбным известием о скудости золотого запаса испанской посудины, устремился было на палубу, едва успев набить карманы образцами золотых монет. Но вдруг в шкафу с каким-то барахлом раздался подозрительный скрежет.
Мгновенно обнажив шпагу, я открыл дверцу этого гардероба и в неверном свете медной лампы увидел прячущуюся там девушку, а может, и женщину в годах, но по нашим меркам необыкновенной красоты, то ли китайской, а, возможно, и португальской крови, но явно не эфиопку.
В силу своей суровой профессии, я не часто общался с хилыми и обиженными природой существами противоположного пола. Правда, года полтора назад в таверне «Поющий на верёвке», где-то в бухтах Ямайки, я имел дело с недорогой, но хорошего воспитания женщиной. И даже неплохо зарекомендовал себя. С год мурашки по телу и зуд до крови донимали меня воспоминаниями, пока наш кок не помог уксусом и молитвой. Но в этой ситуации я непростительно растерялся и вместо положенного женщине знакомства со шпагой, спровадил этот сомнительный трофей в свою каюту под замок, заглушив ропот команды некоторой частью испанского золота.
Бригантина пылала вовсю, когда мы от неё отвалили.
Флибустьеры мирно занялись дележом скудной добычи, вяло постреливая и изредка хватаясь за ножи. Я же приступил к осмотру напитков и провианта, доставленных с испанской посудины. Однорукий терзался выбором нового курса шхуны, а океан дремал.
И вот тогда, в минуты умиротворения природы и отдохновения экипажа, француз-канонир, Лысый Батист, вдруг некстати вспомнил шестую статью устава нашего братства.
– Всё поровну, – заорал он, явно намекая на мою пленницу.
Я, естественно, был против, так как добыл женщину в одиночку и с оружием в руках. Но капитан, старый пёс, давно завязавший рифы своих обвисших парусов и не желавший дальнейших осложнений с оголтелой бандой пиратов, рассудил нас по-своему. На сутки сеньора отдавалась на милость победителя, а в дальнейшем переходила в собственность команды.
Возражать на виду всего сброда было бесполезно и я, чтобы не терять времени зря, отправился в свою каюту. К тому же и склянки оповещали о приближении вечера.
Спустившись в своё логово, отделанное сандаловым деревом, я застал пленницу вольно возлежащей на моём рундуке, служившем постелью. На ней была лишь лёгкая накидка из кашемира и сандалии на босу ногу. Золотистые волосы, разметавшиеся по жёсткому ложу, такого же оттенка глаза, как фунты стерлингов притягивали возгоревшийся взор, словно шлюпку к берегу во время прилива. Но я одёрнул себя и, не обращая внимания на собственный кнехт, нагло рвущийся из панталон на волю, решил сначала самоутвердиться отбитой у неприятеля малагой.
Лишь осушив добрые три четверти бутыли и почувствовав прилив сил к голове, я смело направился к своей походной постели. Закалённый боями и, знающий толк в обладании собственностью, старый морской волк вознамерился расправиться со своей добычей!
На ходу сорвав с себя лишние одежды, оставляя для приличия лишь колет и на всякий случай оружие, я рванулся на приступ, может быть, испанки. Однако, непонятливая женщина красноречивым жестом охладила мой порыв, чем вызвала в моей крови ураган возмущения, а из уст поток отшлифованных кабаками выражений. И в порыве справедливого гнева я выхватил из-за пояса пистоль. Ещё миг, и душа этого неразумного трофея покинула бы кров гостеприимного «Летучего лапландца», но как раз этой малости и хватило для того, чтобы с сеньоры слетели не только гордыня и накидка, но и сандалии.
Под женским кашемировым одеянием не было ничего, если не считать голого тела, которое мягкой волной струилось по рундуку, вздымаясь двумя белопенными гребнями на груди и плавно стекая к розовым ступням.
Мой взор покорно заскользил за этой волной, пока не прибился к тому месту, где треугольный стаксель женщины, оплетённый рыжеватыми кольцами телесных водорослей, гордо вздымался опрокинутой вершиной в широко раздвинувшемся створе янтарных берегов тугих бёдер. И здесь мой взгляд уже не поспевал за приливом и путался в этих ржавых зарослях, и терял ход, как парусник в южных морях без кренгования. А затем и вовсе лёг в дрейф посреди двух розовых коралловых рифов, упруго окаймлявших укромную лагуну, в которую хотелось броситься вниз головой без пробкового пояса и надежды выплыть. А тут ещё и два белых перста златокудрой богини пошире раздвинули податливые алые створки атолла, как бы указывая курс моему обезумевшему кораблю, уже поймавшему в свои паруса знойный ветер вожделения.
Обратного пути с поворотом оверштаг не было. И я задраил этот росный и пропахший кампешевым деревом иллюминатор, плотно загнав туда с первого же наведения, свой, захиревший было в морских походах, но ещё вполне приличного калибра ствол.
И сражение началось! Словно битва великого Моргана за овладение Порто-Белло.
Мой восставший галион, подняв все паруса, неудержимо рвался вперёд во влажной ночи тропических широт испанской плоти, страстно желая произвести прицельный залп из всех сорока восьми пушек по ускользающей из-под его бушприта заветной илистой банке в недрах извивающегося тела женщины. Но чем ближе подкрадывалось предчувствие победы, тем яснее проступала для меня необходимость отдаления её сладостного мига. Ведь скоро вступит в силу проклятая шестая статья, и мой приз навсегда поглотит пучина мужской голодной неприхотливости.
И я перебрался на барк. Подняв только бушпритные паруса и постоянно меняя галс на малом ходу, я при томительном штиле начал прогулку по слабой волне в пьянящей близости от безоружного неприятеля.
Скоро настала пора сменить манёвр. Я взмок под колетом, да и шпага несколько стесняла в движениях. Пренебрегая условностями нашего сурового быта, я скинул остатки одежды и оружие и уже более проворно стал авралить испанскую палубу, чувствуя собственным телом её шпангоуты.
Трудился я с прилежанием юнги добросовестно и до той поры, пока вновь не возвысился до капитана галиона под всеми парусами при попутном ветре. И теперь уже никакие течения и мели не могли сбить меня с намеченного курса. Мой стойкий флагман уже не только бушпритом, но килем и форштевнем зарывался в заветную отмель, днищем и бортами осязая смыкающиеся своды трепетного мира женского лона. И я дал залп из всех орудий, не пожалев накопленный вынужденным простоем боезапас, а потом ещё несколько раз накатил орудия, как бы в поисках недобитого противника, а не найдя его, вывел свой корабль из тесной гавани, оставляя за ним белесую, кильваторную струю, рвущуюся из кингстона побеждённой…
Грозные удары сапог в дверь каюты оторвали меня от привычной уже работы. Я как раз в очередной момент примеривался твёрдой рукой раздвинуть кожаные фартуки на запальном отверстии испанской мортиры, чтобы прочистить её своим упорным банником. Но труд мой был напрасен. Команда уже врывалась в покои и требовала выдачи остатков трофея. Оказалось, что шхуна бросила якорь у какого-то острова, и подошло время шестой статьи.
Я горевал у бутылок с малагой двое суток и по тому, как без перерыва веселилось на палубе отребье висельников, ясно представлял тяжкую долю моего длинноволосого приза, переходящего из рук в руки по жребию.
На третьи сутки, уняв печаль потери и просветлев разумом, я выполз на корму, чтобы внести свою обычную и посильную лепту в пополнение запасов вод мирового океана. Но не успели первые капли оросить волну, как меня с головы до пят пронзила острая боль, словно в ствол моего мушкета, так славно отстреливающегося пару суток назад, кто-то вгонял раскалённый шомпол.
Тут же прервав необходимое организму занятие, я внимательно осмотрел свой обессилевший линёк, но явных следов порчи и износа не обнаружил. Вторая попытка завершила-таки прерванный обряд очищения, но прошла, как говорится, в родовых муках и с натуральной слезою в глазах.
Надо ли говорить знающему человеку, что страдания мои не прекратились и на следующий день?
Я впал в тяжёлое и мрачное настроение, словно поп перед совершением казни через повешение, и стал подумывать о собственном пеньковом галстуке, но к счастью для моей шеи заметил, что многие мои собратья мучаются тем же.
Эти горестные наблюдения натолкнули меня на мысль о возможной эпидемии на шхуне, и я припомнил, как некогда страдали всем экипажем от Жёлтого Джека. Однако, новая хворь была незнакомой, а потому более пугающей. А когда вся команда, за исключением Однорукого и кока, стала рыдать и метаться по палубе в предрассветное время, я пошёл к капитану за советом в надежде услышать слово мудрого утешения. Однорукий же в ответ, подло трясясь за свою шкуру, собрал на шкафуте всех страдальцев «Летучего лапландца» и скомандовал: «Концы в воду!», тупоголово полагая, что морская соль поможет нашему горю.
Просидев за бортом около суток, мы не почувствовали облегчения. И тогда старый осёл Билли без обсуждения вынес приговор: «Рубить концы!».
Не знаю, чем бы всё это закончилось, не снизойди до наших страданий Брюхатый Дик. Этот чёртов праведник посвятил нас в историю недуга и указал на его источник.
Оказалось, что в своё время кок сам страдал этой немочью и едва избавился от неё у монахов-бенедиктинцев где-то на берегах французской Европы, заодно переняв от них кое-какие лекарские навыки взамен обета непрелюбодеяния. Дик даже согласился поспособствовать нам в излечении, посчитав, что своими муками мы искупили грех блуда. А за это старый канонический сектант и женоненавистник потребовал от нас клятвы безбрачия и полного отказа от женских и питейных утех. И сверх того – увеличения его доли в общих прибылях. А под самый конец своей проповеди он ещё и больно ударил по нашему мужскому самолюбию, повелев высадить на остров сладкотелый источник наших мук, хотя верёвка с петлёй уже болталась на рее.
Мы с овечьей покорностью приняли все условия, согласившись на это под злобным ударом судьбы. Но, дьявол побери! Чем же утешить бушующую плоть после удачного разбоя? Ведь рукоблудием сыт не будешь, как не прокормишься и шпагой в трясущейся руке!
ГРИБНОЙ СЕЗОН В МАЛИННИКЕ
Как-то на днях призадумался я среди производственного досуга: почему это в самый сенокос гриб в лесу полез, словно перед заморозками? До сей поры таился, а тут шагу ступить не даёт, словно навоз в коровнике. И хоть я до гриба большой знаток, но объяснение этому факту в своей голове не нашёл, как ни копался. Хотя ещё тогда подумал, что не к добру это, но к внутреннему голосу не прислушался. Боровиком, видишь ли, соблазнился, как главный специалист во всей деревне по этому продукту лесной жизнедеятельности.
Вот, к примеру, что в грибе самое главное? Простой любитель сразу скажет, что вкусовая категория, а на другой день сам же и отравится этим подарком леса. Потому как хоть и по науке собирает, но простого понятия не имеет, что главное в грибах – это разумное наличие червяка! И чем этого паразита больше, тем категория выше. Иной гриболюб его из продукта выколупывает, словно на рыбалку собирается, а в толк не берёт, что это смирное животное, когда в кастрюле с кипятком за жизнь борется, непременно само на поверхность выныривает. Тут-то его, любезного, хватай голой рукой и за порог. Да ведь если этого слизняка внимательно понюхать, то и с дефектом обоняния можно определить, что перед тобой не опарыш непотребный. И даже если этот червяк заблудится в тарелке, то проскакивает в организм так стремительно, что никакого урона человеку не приносит.
А вот ежели эта беззащитная тварь в грибе отсутствует, то сразу бей тревогу и проходи мимо, избегая соблазна отравления. Я всегда так поступаю, поэтому обхожусь без больничного присмотра почти весь урожайный сезон. Ведь это ушлое насекомое, из-за отсутствия высшей материи сознания, что ни попадя жрать не будет!
Словом, раз гриб полез, то мне на сельских работах особо прохлаждаться не приходится. Да и не рожь молочу. А когда дожди зарядят, на травостое даже работать сподручнее – укос хороший. Так что, как говорится, перо в зад и через Нюшкин брод, только меня и видели. Я уже с утра по чащобам круги нарезаю.
Однако, сбился я тогда с правильного пути, как и внутренний голос предсказать не мог.
Поднасобирался я в тот горький день изрядно и стал лагерем под сосной, чтоб в светлое время не мотаться по деревне и не напрашиваться на лишнюю работу. Только закусил, как на моё становище выперлась баба не нашего уклада. Видать, гостила в наших краях. По годам в меня, не перестарок, а в самом призывном возрасте, до сорока не дотягивает. Да и постороннему глазу есть на что опереться. Что спереди, что сзади не соскальзывает. У меня прямо руки зачесались дойти с ней до полного телесного контакта. Тем более, что языком молоть я мастер. Газету читаю, как псалтырь по покойнику. И если тебе время не жалко, обшелушу любой вопрос до голого ядра. Вот, думаю, возьмусь да и уговорю женщину к склонению, и начал с положения дел на местах. Но не успел дойти до международной обстановки, как она, не клюнув на мой кругозор, перевела разговор на грибные места. Мне-то всё едино, что сбор грибов, что выборы президента – одна надежда на удачу, поэтому сразу переключился на сказки о засилии даров природы на дальних валежниках. Лишь бы, мыслю, молодицу подальше от жилья заманить для своих законных интересов в качестве проводника и охранника. Собеседницу мою лесная жизнь заинтересовала, но, однако, не настолько, чтобы сразу под кусты. Наоборот, она вдруг завела теоретическую беседу про малину.
Тут-то и я сообразил, что ягоду будет собирать повеселее, по причине кучного произрастания, а, значит, и нам гоняться друг за другом по зарослям не придётся. Чтобы даром времени не терять, решил сразу же увлечь ягодницу в какой-нибудь малинник, но подальше от лесных троп. Чувствую, женщина попалась грамотная, поэтому со мной не пропадёт. Однако и тут новая знакомая не загорелась мгновенным желанием сразу же топтать малиновые угодья, а пригласила меня в следопыты на следующий день с утра пораньше. Да и правда, спозаранку-то разгона больше, и до вечера можно столько наворотить, что за год не расхлебаешься. Я и согласился с пониманием момента нашего обоюдного согласия.
На другой день, с первым рассветным лучом, я уже поджидал свою спутницу на краю леса. Весь в волнении, как засидевшаяся невеста или лиходей под следствием. Даже красненького прихватил, чтоб залётную подругу к месту угостить. Словом, ухажёр да и только! Хоть я не крупного помола, но и не поскрёбыш из последних сортов.
И не подвела меня лебёдушка, а даже наоборот, все ожидания превзошла. Явилась к сроку, как ружейный штык, да ещё с сопровождением в виде попутчицы в самом разгуле пенсионных лет. Я, было, тут же разгорячился оглобли назад повернуть, так как на решения скор. Вон, дома, утром как встану – сразу за молоток и по хозяйству порядок навожу, чтоб потом весь день в спокойствии пребывать. Однако, как не раз женатый человек, тут же о прикрытии хвостов подумал. Ведь не зря моя подорожница этого жилистого ветерана прихватила. Тоже, видать, о грядущих последствиях подумала. А затеряться в малиннике всем места хватит. И до чего же бабий ум изворотлив, когда шлея под хвост попадёт или на чужое хозяйство позарится! Прямо иной раз диву даёшься ихней, не к месту для мужика, сообразительной пакостливости.
Словом, так и повёл я свой выводок гуськом по бездорожью подальше от жилья, хоть сам-то и не большой знаток бабьего ягодного промысла. А кругом сосна стеной стоит, птица по кустам в полный голос поёт – иди нетоптаной природой в любую сторону и горя не знай!
Час идём и не знаем, а малинником и не пахнет.
На другом часу собирательницы в сомнение впадать стали. Но я ихнее томление ума, как истинный местный житель, пресекаю на корню, хоть рук и не распускаю. Да и малина не подберёзовик какой-нибудь, где придётся не растёт. Даст бог, со временем и на её злачные места наткнёмся.
А на третьем часу и гриб пропадать стал. Мхи пошли. Даже я призадумываться стал, но вида не подаю, а всей харей в такую позу встал, что и не подступись с глупым вопросом, ну чистый якут на шаманстве. А с другой стороны – не в городе и находимся, блудить особо не приходится. У меня хоть и ориентир в голове с измальства слабый, но наш народ заблудящего никогда в беде не оставит. Ведь в прошлом году даже под снегом нашли, когда я за зайцем пойти отчаялся. А сейчас-то, думаю, чего в волненьи колотиться? До первых заморозков, как до монголо-татарских выгонов. Чёрт-те знает, как далёко.
Однако всё же решил – пока не поздно, надо стать табором и одуматься.
Выбрал место повыше и объявил привал перед скорым сбором обильной ягоды. Девки мои повеселели, но красненького не приняли, в чём я и без них преуспел, перед тем, как умом пошире пораскинуть. Но как ни раскидывай, куда-то двигаться надо. Решил не отступать. День-то длинный.
Идём дальше. Я впереди, как путеводная звезда северного сияния, подруги сзади след в след. Болото, как-никак. Будто на минном поле – головой идёшь, а ноги лишь для опоры тела. Но обратной дороги нет, как и впереди не просматривается.
Правда, мои сударушки пару раз возвернуться нацеливались. Да куда там! Сей путь, считай, во мраке и мне самому не ведом. Так и прошли без памяти топкие места. Слабенькое болотце оказалось. Вот в позапрошлом году меня за клюквой соблазнили. Так потом всей ватагой во мшаннике вылавливали и всю дорогу до дома берегли как кусок золотого запаса, забывши, зачем и в лес-то пошли. Но зато уж, когда мы с нынешними сборщицами на твёрдое место вышли, я и вовсе полным командиром стал. Бабьё самостоятельно и пикнуть не смело, так как совсем в природе запуталось. А я без оглядки вперёд шпарю. Даже интерес взял – куда ещё вопрёмся?
Ближе к вечеру и впёрлись. На этот раз в малинник, хотя я его из головы давно выкинул. А тут и ягода не тронута – собирай, не хочу!
Ну, это я не хочу, а у моих приятельниц глаз загорелся, и вся усталость слетела, как первоцвет в заморозки. Пенсионерка и передохнуть себе не позволила, а как ударница каждодневного труда в малинник трактором въехала, только её и видели.
Тут уж и я, не чаявши узреть таких видов на урожай, гордым индюком перед приотставшей, как оказалось, Лидией, прошёлся. Мол, знай наших, и мы не подведём! Мол, для своего семейства это место припасал, а тут нате вам – задаром отдаю, не считая будущего женского внимания, да ещё и собирать помогу ради ускорения тесного знакомства.
Лидия, видя собственными глазами моё твёрдое слово, тоже развеселилась, мол, за ценой не постоим и, понятное дело, от них не убудет, но сначала урожай снять надо. Оно понятно, куда в глухом месте спешить, тем более, что от старой перечницы я и вовсе ничего убавлять не собирался.
Пошла Лидия в кусты, а я помогать стал и, отойдя в сторону, залез на дерево, чтобы обозреть стороны света и незнакомый горизонт.
Глядел долго, но кроме беспросветной пропасти лесного богатства ничего не увидел. Ни тебе лесоповала, ни другой дороги к человеческому жилью. И окуляра никакого под рукой нет, такой вот кругозор полного затмения. Часа два сидел я, как глухарь на суку, аж сам себе надоел, но так никакой людской жизнедеятельности и не приметил. А когда слез, укрепившись сознанием, что навеки заблудился, мои подруги уже затарились, и даже с расчётом на мою тягловую помощь, о чём при уговоре не было сказано ни слова.
Ладно, пошли домой. Я дорогу прокладываю, вроде, как по старому следу. А со стороны посмотреть, так ни за что не угадаешь, что у меня в голове и по какому плану иду. Иду себе и иду. Так до ночи и двигались без особых происшествий. Конечно, если бы я все бабьи нападки близко к сердцу принимал, то ещё до захода солнца лапти откинул от неестественной смерти, а так выдюжил. К тому же, путешественницы с темнотой малость приструнились, да и я свои потери ориентира ко времени разъяснил повсеместной мелиорацией почв и незаконным самообразованием болот и трясин. А бабам на ночь глядя деться некуда, кроме как поверить моему слову и смириться с природой.
Вскорости стали на ночлег.
Я шалашик разбил, костерок раздул, а на ужин малинки с остатками красненького приготовил. С тем и полегли. Я обочь Лидии. Жду ответной женской благодарности и тёплого слова. Думаю, особо стесняться не приходится, да и ей выбирать не из кого. Условия походные, не до перин с подушками.
Лежим, притаившись. Ночь самая русалочья, месяц сквозь шалашик проглядывает, я звёзды пересчитываю, а мои труженицы бессловесно отдыхают. Утоптались после перехода в пешем строю.
Сколько-то времени прошло, и начал наш старый тетерев переходить на носовое песнопение, да так яростно, словно на все свои воздуховоды осердилась по причине их многолетней непроходимости. Прямо душу рвёт. Я когда сам этим делом увлекаюсь, и то себя осаживаю, до срока просыпаясь. А тут никакого самоконтроля. Редко такой талант и у мужика встретишь. Ежели, думаю, теперь на нас какой зверь и польстится, то, услыхав эту иерихонскую трубу, убежит в страхе прочь, запутавшись в собственных лапах.
Но с другой стороны, в моих условиях выжидания, этот концерт был как раз к месту. И я задремать раньше времени не мог, и понятно было, чем рядом с тобой лишний человек занимается.
Так и спим втроём. Ночи-то короткие. Думаю, пора и честь знать, ведь и Лидия живой человек. Небось, заждалась покушения на телесное знакомство. И начал я ручное дознание её доступных мест. Остался доволен. Везде полный комплект и соответствие наглядной агитации. Главное, никакого гласного сопротивления. А и как иначе, если я с ней уже двое суток как договорился ясным намёком? Вот так, с молчаливого согласия Лидии, да под визгливое переключение изношенной коробки передач носоглотного механизма её товарки, подразделся я всем своим нижним ярусом. А чего, думаю, в подштанниках-то путаться? Ночь тёплая, можно и на босу ногу праздник справить.
В таком готовом виде я к Лидии и подступился, но будить её до конца не стал. Думаю, сначала растелешу, где придётся, а там уж пусть порадуется моей сообразительности, когда полностью в память придёт.
Начал с ближних подступов, и со штанами вволю намучился. Не хватило ей сообразительности юбку напялить. Ведь не картошку шла собирать, могла бы догадаться, какой наряд в лесной глухомани сподручней носить при моём-то сопровождении. Прямо скажу, не с руки незнакомый размер с чужих окорочков стягивать, но всё же осилил ситуацию. Ну, а как всю эту сбрую до колен сволок, так и остолбенел от обрисовавшейся картины, которая и по сей день проносится в моём мозгу лунными ночами и вызывает разносторонние и необъяснимые споры с самим собой.
А увидел я, что на том самом месте, где у порядочной бабы и даже у несмышлёной девки в годах находятся буйные заросли пошире любой ладони, у моей Лидии была лишь полоска в мелкий завиток размером в два пальца по самой посадочной гряде. А кругом сплошная гладь и никакой продуманной природой растительности, словно на лысой голове, так что даже больно глядеть знающему человеку. Я понимаю, под старость всякие места вытереться могут. Но как же постараться надо, чтоб такая плешь в самом расцвете возраста проступила? Я даже засомневался: не иноверец ли какой передо мной лежит? Или, может, какая новая мода до таких глубин опустилась? Вот ведь измывается над собой народ от безделья. На всё идёт, лишь бы себя полезной работой не занимать. А если мужики этого достигнут? Страшно подумать! Вот когда прошлой осенью, в самую распутицу, супружница по недоразумению меня через всю деревню от кумы голиком гнала, так народ с месяц всего и поговорил об этом. А ежели бы я при том же успехе, да с бритым блудом и кисетом навыкате прошествовал? Да мне бы стар и млад до гробовой доски руки бы не подали, не то что в баню пустили! Горькие слёзы, если вникнуть умом в такой факт бритого разврата.
Однако, в тот момент думать мне не приходилось, а надо было скорей доводить дело до разгромного конца. Ведь главное не форма внешности, а содержание внутренней утаённости. Ещё со школы помню. С тем и полез на приступ. Дело знакомое. Это не по лесу скитаться. Попутно думаю, надо и Лидию в чувство привести, а то проспит человек всё царствие небесное.
Только будить подругу не очень-то и пришлось. Едва я свой интерес почувствовал, как Лидия не то что в память вошла, а прямо из ума вышла. Я и слова не сказал, как она, не посоветовавшись со мной, вдруг заверещала недорезанным подсвинком, да и стряхнула меня с себя, словно предмет неодушевлённого значения. И прямиком на отдыхавшую в непорочном сне старушонку. Да ещё огорчила меня кулаком по морде. Я и сопли не успел вытереть, как под моим телом продукт древних цивилизаций пробудился и, подумавши о моём извращённом к нему отношении, одной старческой клешнёй пустила мне юшку со второй ноздри, а другой ухватилась за все мои мужичьи принадлежности, да с полным обхватом, словно заскорузлое путо коровью оконечность. И ведь выдрала бы старая ведьма все мои стебли и побеги, не успей я прытко усохнуть всем телом и вовремя вылететь шелудивым псом из этого гадючьего гнезда прелюбодейства. А карга в догон разродилась такой старорежимной словесной напраслиной в мой адрес, что даже Лидия перестала голосить, уйдя во внимание к нецензурности мата.
До утра сверкал я голым задом среди деревьев и кустарников и кормил оголодавших комаров. И не было мне пути ни назад, ни вперёд. И даже заплакал я, севши ненароком на муравейник, о своей горькой любви к сладкой ягоде. И чуть было не повесился на суку, как герой-полюбовник, несмотря на свой неприбранный вид. Но не успел. С восходом солнца просветлел бабий ум, и стали звать они меня, приглашая в дорогу. Знать, взяли в толк, что без моего сопровождения не выбраться им из лесных завалов, а иначе придётся остаток дней дичать среди осин и берез, отнимая пропитание у лисиц и зайцев. Помягчел я тогда душой и вышел на их печальный зов.
Одевался я уже безо всякого стеснения, словно в кругу семьи. А когда перекусили всё той же ягодой, то снова тронулись в путь. Воспоминаниями, понятное дело, не делимся. Так, молчком, и шли до полудня. Да в штанах-то мне чего не двигаться? Гнус не донимает, и шаг широкий, ничего по колену не стукает.
Пообедали малинкой. Идти стало легче, хоть песни пой на свежем воздухе. Но тут как раз новый бабий бунт подоспел, так как я их к давешнему шалашику вывел. Такая вдруг памятливость во мне объявилась. Шуму, конечно, было много, но до драки дело не дошло. Всё-таки не ночное время, и я им не дался, отбежав на полверсты.
Когда страсти поутихли, бабьё командование на себя взяло. А мне и легче, хоть голова отдыхает от маршрута. Так далее и продвигались. Они путь выбирали, а я ягоду отсыпал, чтоб корзина рук не оттягивала.
Под вечер вышли к знакомым местам. Я шалашик малость подновил. Малинкой, хоть и не лезла, поужинали и спать завалились. Подруги внутри, но и про меня не забыли. Тоже лапок постелили, но снаружи. Ладно, не гордый. Калачиком свернулся и стал строить планы, как Лидию из укрытия выманить. Только слышу, они дежурство устанавливают, чтоб от меня вовремя отбиться как от психически-маньячного паразита. Хотел было в ответ на этот сговор уйти в одиночку куда глаза глядят, но пожалел длинноволосых. Всё-таки не мало дорог вместе пройдено и сколько ещё предстоит.
Утром ягоду пожевали и снова в путь. У баб отношение ко мне хорошее, как к пустому месту. Да и я не нарываюсь на задушевный разговор. Держусь независимо, словно вожак в стае. Правда, они пару раз меня на деревья загоняли, чтоб я ситуацию окрестности прояснил, но я ничего интересного не усматривал, а потому верхолазничать впредь отказался. Как-никак не мартышка шимпанзе, да и силы экономить надо.
Под вечер вышли к шалашику и даже обрадовались знакомому месту. Малинку прикончили да и полегли. Меня под крышу пустили. Ясное дело, ослабели. Тут уж не до игрищ и забав.
Под утро выступили. Налегке идём, но медленно. Командиров нет, достигли полного равноправия в правах. Грибы собираем. Старушка их жарить навострилась, знать не скоро ещё помрём. Малость пообносились и что в мире делается не знаем, а в остальном всё хорошо. Заночевали под ёлкой, как Новогодние подарки. Промазали к шалашику-то.
Днём шли слабо, но сроднились как одна семья. Я старую мамой называть стал. Поём что-то церковное. Полная задушевность и покой. Встретили зайца. Ничего путного ушастый не поведал, да мы и не настаивали. Мало ли без него хлопот…
Нашли нас пожарным вертолётом. Меня прямо с ольхи сняли, яблоки рвал.
Сейчас уже родную речь понимаю и свояков признаю, но не всех, а кто поближе. Жена объявилась. Говорит, что последняя, но я не верю. Больно рука лёгкая и язык придерживает. А может, пока ещё хворь мою уважает? Пердикулёз у меня с выгинальным синдромом. Правда, синдром-то я уже дома подцепил, когда в подпол свалился, спасаясь от куриной нечисти в виде стаи. Однако, надежда на выздоровление есть. Уже картами интересовался. Аж в целых тридцать шесть листов. Хороший знак.
Спутниц моих самоблудящих тоже по родственникам разобрали. Но мы связей не поддерживаем. Кто старое помянет, того и с глаз долой.
РИМ, СЕРЕДИНА ШЕСТИДЕСЯТЫХ
Благодатное солнце Рима уже перешло на сторону храма Юпитера Капитолийского и стало глядеть на Форум искоса. Зной спадал, и в воздухе разливалась бодрящая прохлада наступающего вечера.
По пространству Форума и примыкающим к нему площадям Цезаря, Веспасиона и Августа величественно следовали носилки со знатными горожанами Вечного Города. Этот поток, вливаясь в улицу Аполлона, устремлялся к Палатину – дворцу божественного императора Нерона. Рабы, нёсшие носилки, в основном, чёрные нумидийцы с кольцами в ушах, невольники и невольницы, следовавшие рядом: лугийцы и свбы с севера, серы с далёкого востока, парфяне и эфиопы с юга, а также эллины с запада – ступали босыми ногами по священной земле Рима осторожно, количеством своим предполагая степень знатности хозяев. Многие носилки сопровождали почётной стражей ликторы с топориками в связках прутьев, что говорило об особой важности их господ.
На носилках со скучающими взглядами полулежали августины и трибуны, консулы и сенаторы, знаменитые поэты и философы, жёны знатнейших граждан и признанные красавицы Рима. Весь цвет города неспешно вливался в Палатин на очередной пир императора.
Миновав внутренние галереи и дворцовую площадь, окаймлённую колоннадой из нумидийского мрамора, гости, сойдя с носилок, направлялись в большой триклиний, где должно было состояться пиршество. Огромных размеров низкий стол с яствами из языков фламинго, жареных рыжиков, саранчи в меду и других изысканных блюд уже готов был насытить прибывших, а бутыли кефалленского и филернского вин в вазах со снегом и наполненные ими мурринские чаши из плавикого шпата обещали веселье и забвение скуки унылого дня. Мягкий и неназойливый свет серебряных и золотых ламп на стенах триклиния неярко отражался от драгоценных ваз с вербеновым настоем для омовения, а густой запах цветов и аравийских курений так плотно заполнял зал, что, казалось, мешал падать лепесткам роз, которые сыпали с потолка, укрытые от взглядов рабы.
Гости свободно возлежали вокруг стола в ожидании Нерона. Женщины, в белоснежных пеплумах из дорогой ткани с острова Кос поверх вышитых пурпуром туник, с волосами, присыпанными золотой пудрой, томными взорами окидывали присутствующих, выбирая себе мужчин на эту ночь. И хотя их ножки, в вышитых серебряной нитью туфельках и удерживаемые закреплённой на лодыжках крест-накрест золотой тесьмой, уже влекли не только взгляды, но и очищенные от волос и с золотыми браслетами руки мужчин, никакого игривого сближения не происходило. Все боялись нарушить заведённый грозным императором порядок пиршества. Даже самые нетерпеливые щёголи, в тончайших туниках без рукавов, уложенных рабами красивыми складками, и со свежими венками на ещё трезвых головах, возлежали спокойно, изредка перебрасываясь малозначительными фразами.
Нерон, в тунике аметистового цвета, появился в триклинии со своей новой любовницей, вольноотпущенной гречанкой Эвникой, и возлёг с нею во главе стола. Сразу же зазвучали кифары и лютни, рабы поднесли гостям первые чаши с вином, и пир начался.
По мере того, как опустошались чаши с вином, в триклинии всё смелее звучали мужские голоса и призывной смех женщин. И вот уже стареющий наместник Вифинии, седой Сеницион, возлежащий рядом со знатной патрицианкой Кальвией, женой претора Ватиния, начал искать в складках её пеплума на груди якобы обронённый перстень, чем вызвал недовольство императора, не позволяющего нарушать традиции пиршества.
Когда же наступило первое опьянение, Нерон приказал поэтам и философам показать своё искусство в стихосложении и диалогах. Победу одержал молодой ритор Виниций, за что был удостоен права находиться рядом с императором.
Затем выступили мимы, изображая приключения возлюбленной Зевса Ио, дочери Инаха. Своими бесстыдными жестами и телодвижениями комедианты вызвали бурное одобрение гостей, а когда рабы-корибанты, наряженные фавнами и сатирами, и юные сирийские невольницы, представляя нимф и дриад в накинутых на голое тело зелёных сетках, начали исполнять вакхические пляски, многие знатные женщины обнажились до пояса, демонстрируя совершенство груди, не уступающее ещё непорочной красе бюстов рабынь.
Чаши без устали наполнялись вином, голоса и смех звучали всё громче и развязнее, а когда, окончив пляски, сирийские девушки и, допущенные к столу полуобнажённые рабыни со всех концов света разместились среди гостей, пир начал вливаться в привычное русло оргии.
Тем временем рабы внесли украшенные бараньими головами бронзовые сосуды и жаровни с раскалёнными углями. На жаровни рабыни ссыпали измельчённые кусочки мирра и карда, тем самым ещё более облагораживая воздух триклиния, а шафрановым настоем из сосудов обрызгивали пол, не занятый пирующими. Наступало время определения сильнейшего борца этой ночи.
К месту борьбы вышли лапист-наставник гладиаторов Гемелл и пленённый галл Ланкал. Их могучие торсы, словно изваянные богами, вызвали восхищение зрителей, а предстоящая схватка заставила забыть чаши с вином и притягательность разгорячённых доступной близостью тел.
Под звуки музыки противники сошлись в смертельной схватке. Обхватив друг друга могучими руками, они боролись молча и озлобленно, стараясь, сломав рёбра, удушить противника. Пирующие, затаив дыхание ждали исхода поединка. И вот, под чудовищной силы руками Гемелла раздался глухой хруст костей, изо рта Ланкала хлынула кровь, и галл бездыханным рухнул под ноги победителя.
Рёв восторга пронёсся под сводами триклиния. Каждый желал выпить с победителем, указывая ему место с собой, но гигант возлёг рядом с юной весталкой Негодией, отдавая дань её свежести и красоте.
Пир продолжился с новой буйной силой. Звуки кимвал и флейт утратили своё сладкозвучие. Шум и гам не позволяли слышать соседа, женщины манили скорой доступностью, и лишь непорочные весталки, служительницы богини Весты, да охрана из солдат-преторианцев, сохраняли трезвость рассудка и спокойствия.
* * *
– Клянусь бёдрами Киприды, – заплетаясь языком, говорил наместник Сеницион, обращаясь к Кальвии и ощупывая её обнажённую грудь. – Ты достойна изваяния в мраморе, а твои сосцы, подобные двум нарождающимся бутонам розы, ввергают меня в священный трепет желания.
И он, продолжая одной рукой шарить по груди Кальвии, другой уже рылся под подолом её туники, находя там ласкающий пальцы пушок плотно сомкнувшейся раковины с пухлыми и мягкими створками.
– Сеницион! А ты ещё способен на любовные подвиги? – со смехом спрашивала красавица, переворачиваясь на спину и раздвигая ноги.
– Да, моя божественная, – уверял наместник, пытаясь взгромоздиться на женщину.
Когда же ему это удалось, он к своему искреннему огорчению обнаружил, что его надменная палица, бывшая угрозой для всех жительниц Вифинии, не готова к схватке, а презренным червяком укрывается в редких зарослях межножья. Тем не менее, Сеницион начал не забытые ещё мужские движения, упираясь остатками былой роскоши в ждущее лоно прелестницы. Но желаемого результата не последовало, поэтому Кальвия, возгоревшись от знакомого трения, но не чувствуя пользы в поддержании огня от старого истопника, непочтительно сбросила его с себя и повернулась спиной.
Перед ней, утомлённый вином, раскинувшись на ложе лицом вверх, спал молодой воин-всадник Авл. Кальвия бесцеремонно задрала его тунику и руками начала исследовать свежий и упругий даже во сне побег воина. Ещё не вполне готовый к действию, он выглядел так соблазняюще аппетитно, что женщина решила попробовать его на вкус. Начав от корня, она, перебирая губами по стеблю, достигла его вершины, а затем, погрузив его до половины в рот, начала языком щекотать и гладить эту круглую, отполированную природой вершину, наполненную жизненными соками отдыхающего всадника. Одновременно, скользящими движениями руки вдоль горячего стебля, она заставила его окрепнуть до твёрдости древка копья. И тогда, сорвав с себя мешающую ткань, стала медленно садиться на это копьё спиной к лицу Авла. А когда мужская плоть полностью утвердилась внутри женского лона, Кальвия начала упоительную скачку на ещё дремавшем воине, лишь иногда сдерживая прыть, чтобы продлить очарование этой верховой езды.
Старый наместник со слезами на глазах наблюдал это действо, правой рукой пытаясь расшевелить свои поникшие под бременем лет чресла, а левой вливая в себя вино. Но бывшая гроза Вифинии не подавала признаков жизни, выскальзывая угрём из-под пальцев. Сенициону ничего не оставалось, как утопить горе в одной из чаш с вином и впасть в сон, предварительно исторгнув из себя изрядную порцию рыжиков и саранчи.
В это время достойный муж Кальвии Ватиний, лёжа головой к ногам на голой рабыне-нумидийке, ртом исследовал, чёрные снаружи и ярко-красные внутри, мало изношенные временем и хозяевами тайные прелести негритянки. Она же, гибкими движениями бёдер, усердно помогала более глубокому проникновению языка Ватиния внутрь своего естества и так преуспела в этом, что даже губы свободного гражданина Рима стали полностью заползать во влажный и широко открывшийся зев меж её длинных ног. Да и сама она все ртом наслаждалась тугой мужской плотью и вкусом семени.
Знатный трибун Петроний, освежившись в струях одного из фонтанов триклиния, сбросил мокрую тунику и на четвереньках, для большей устойчивости, продвигался вдоль стола, отыскивая своё место рядом с прекрасной Поппией.
– Клянусь светом Гелиоса, – бормотал он, вглядываясь в свободные или уже занятые и почти сплошь обнажённые задницы гостей, – среди этих разноцветных холмов не сыскать мне Поппии.
Окончательно поняв тщету своих поисков, он остановил свой взор на двух белых полушариях, соблазнительно покачивающихся из стороны в сторону призывными стараниями их обладательницы.
Петроний, не раздумывая направился между предусмотрительно разошедшимися ногами к вожделённому объекту исследования. А уже лёжа на спине женщины, он уверенно вонзил своё жало в ждущую и широко развёрстую плоть соблазнительницы. Слившиеся тела пришли в движение, посильно помогая друг другу. Петроний благодарно целовал плечи и шею женщины, а когда та полуобернула к нему лицо, узнал в ней свою жену Рубрию.
Столь неожиданная встреча мигом охладила их пыл, а соединившиеся части тел замерли, ожидая решения супругов.
Бросив, далёкий от восхищения, взгляд на мужа, Рубрия произнесла:
– Петроний, я даже не стану напоминать тебе о том, что ты уже не в первый раз забываешь всякие приличия и ведёшь себя как варвар. Ты что, не можешь найти себе хотя бы рабыню? Мне порядком надоели пробелы в твоём воспитании.
– Но не станут же меня каменовать за этот промах? – резонно вопросил Петроний. – Закидать путника камнями лишь за то, что он в полутьме сбился с пути? Да мне сейчас легче стать брадобреем или лудильщиком, нежели прекратить наши игры до срока. Ведь я уже готов оросить твоё чрево! Лучше не привлекай общество очередным скандалом и опусти голову.
Рубрия не посмела возражать этим справедливым словам, сама готовая взлететь к вершине наслаждения, а потому покорно опустила голову. И супруги с ещё большим рвением принялись за единственно любимую ими разновидность работы.
Да и кому было обращать внимание на такую мелочь семейного недоразумения? Ночь давно перевалила за свою половину, пир уверенно перешёл в оргию, а гости удовлетворяли свои прихоти по своему усмотрению и сообразно желаниям.
Эвника, оскорблённая невниманием Нерона, а более, по причине беременности, давно покинула пирующих. Сам же император, соблазнившись невинностью мальчика-раба, увёл его на удобное ложе в свой отдельный кубикул для отдохновения.
Уже все присутствующие, кроме весталок и стражников, полностью обнажились. Голые тела, за исключением уснувших, двигались и сплетались во всевозможных комбинациях и сочетаниях. Женщины, постоянно меняя партнёров, порой завладевали двумя, а самые проворные и пятью мужчинами. Молодые воины-всадники с криками гонялись за сирийскими танцовщицами и рослыми, искусными в любви, нумидийками, которые грациозно убегали, принимая игру, но и вовремя останавливались, боясь слишком испытывать терпение солдат. Обилие обнажённых тел, вынесенное на всеобщее обозрение, откровение разврата, аромат плоти, умащённой аравийскими маслами, розовая полутьма триклиния, смешанный запах цветов и результата любовных утех, обилие вина и изысканной пищи – всё это вливало новые силы в разгорячённые тела гостей, воспаляя в сознании болезненную страсть к вошедшему в привычную потребность наслаждению.
Даже суровые стражи порядка и безопасности, не покидая своих постов, но не в силах вынести пытку соблазном, самостоятельно развлекались доступной лаской собственных рук. Да кое-кто из более пылких весталок, украдкой просунув руку между складок обрядового одеяния, горячими пальчиками теребил своё, не распустившееся в непорочности, нежное соцветие.
– Клянусь белыми коленями Харит, – говорил, стоя у стены триклиния, сорокалетний претор Друз юной Хрисотемиде. – Твоё тело, сотканное из жемчуга и роз, омываемое по утрам молоком ослиц, достойно богини. Но когда я представлю, как твой стан, подобный телу Дианы Эфесской, и украшенный гирляндами цветов и трав, по вечерам в публичном лупанарии обвивает мерзкими руками какой-нибудь квирит, а его ядовитый червь точит твой благоуханный плод, то готов схватить острую сику и пронзить своё страдающее сердце. О, великолепная! Я изойду слезами, если твоё великодушие не утолит моей печали.
И с этими словами Друз, тайно слагавший по ночам жалостливые поэмы, вместо того, чтобы за несколько сестерций посетить Хрисотемиду в лупанариях притонов Субура и давно утолить свою страсть, наконец-то добравшись до бесплатного угощения, немного присел и начал рукой вводить свой, восставший как родосский колосс, родопродлевающий орган в ещё не очень потрёпанное житейскими ураганами уютное гнездо юной жрицы продажной любви. Девица, привычная к такому роду занятий и не понимающая просительной робости клиента, лишь поудобнее расставила ноги и для напускной скромности, выдернув шпильки из волос, распустила и прикрылась ими словно плащом.
А Друз наконец-то проник в желанный приют мышиной норки своего кумира и начал прытко разрушать её своею сикой до достижения сладких судорог тела и колотья в ногах от неудобства позы.
Тем временем Кальвия, несколько раз доскакавшая на Авле до вершин блаженства, отдохнувшая и уже утомлённая одиночеством, заметила пробегавшую мимо стройную рабыню-фриглянку и, жестом подозвав её к себе, указала на свою, уже славно потрудившуюся и помятую баловницу. Рабыня поняла госпожу и, опустившись между разведёнными и согнутыми в коленях ногами Кальвии, начала вылизывать языком слегка привядшие лепестки и падкий на нежности пестик пышной орхидеи патрицианки.
Возбуждение не заставило себя долго ждать. И тогда Кальвия, повернувшись на бок и уложив фригиянку рядом, но ногами к своей голове, сама уткнулась лицом в её, с жёсткой порослью лоно и, как сразу поняла, никем ещё не востребованное в эту ночь.
Рабыня словно ждала этого и, обхватив пышный зад партнёрши и погрузив голову в пространство между её бёдрами, начала с упоением целовать соцветие Кальвии, полностью обхватывая его губами и проникая языком глубоко вовнутрь.
Римлянка не оставалась в долгу. Лишь когда перехватывало дыхание от слишком долгого и глубокого погружения ртом и отчасти носом во влажные глубины сбережённого в эту ночь заповедника рабыни, она отстранялась от ароматного источника, давая себе передышку, и тут же начинала холёными, с золотыми перстнями пальчиками рук скользить по нежным створкам грота негритянки, и, чувствуя такую же ответную ласку, вновь устремлялась к высотам телесного наслаждения.
Сеницион, пробудившись от стонов и телодвижений развлекающихся женщин, но ещё не вполне пришедший в себя, вдруг обнаружил, что его Вифинийская гроза, его зачахший родовой корень, покоившийся в руке, начал подавать признаки жизни и приобретать вполне осязаемые размеры. И чтобы полностью восстановить не только в помыслах, но и в теле затухшее желание, наместник с величайшим усердием принялся мять и дёргать взбодрившуюся плоть.
Достойное похвалы прилежание не пропало даром, и скоро капли влаги оросили трудовую длань, однако, не вызвав привычного сладкого трепета тела. Эта досадная поспешность любимого органа повергла Сенициона в такое злобное уныние, что с трудом приподнявшись на ложе, он готов был тут же оторвать виновника. Но, взглянув в направлении натруженной ладони, он с печалью и болью обнаружил, что доставил сомнительное удовольствие вовсе не себе, а претору Ватинию, не вовремя оказавшемуся под рукой и уже пресытившемуся спящей подле него девочкой-парфянкой. Сей скорбный факт поверг старика в такое отчаяние, что он, тут же залив в себя две чаши кефалленского, вновь уснул, спрятав под себя блудливые руки.
У лаписта Гемелла общение с весталкой Негодией не переходило границ незначимых разговоров. Её правильные черты лица и фигура танагтской статуэтки околдовали гладиатора почтительной робостью восхищения совершенством. Но с разгулом пиршества, выпитое вино и царящий вокруг хаос грехопадения начали толкать его к посягательству на непорочность весталки и нарушению тем самым всех мыслимых запретов для смертного. Привычный более к действию, нежели к размышлениям, всегда надеясь на силу и всепрощение победителю, Гемелл схватил на руки слабо сопротивляющуюся весталку и устремился с нею во внутренние покои дворца, но на беду, на выходе из триклиния, столкнулся с возвращающимся к гостям Нероном.
Ярость императора не знала границ. Оргия была прервана, а немедленная казнь Гемелла в последний момент заменена на смертельный бой со звероподобным и непобедимым лигийцем Уртом. Да и то лишь потому, что сам Нерон любил кровавые зрелища и потчевал ими плебеев при всяком удобном случае. Вот как раз такой случай и подворачивался.
* * *
Предвечерней порой весь Рим спешил к Большому цирку, что находился за домом Августа у стыка Остийской и Аппиевой дорог.
Все знали, что кроме обычной программы зрелищных развлечений, на сей раз ещё и состоится смертельный поединок двух непобедимых спектатов – Гемелла и Урта, до сих пор не встречавшихся друг с другом на арене.
Ворота амфитеатра были открыты, и свободные граждане Рима неспешно занимали места, согласно знатности и общественному положению.
Цирк, заново отстроенный после недавнего пожара, поражал размерами и великолепием. Даже поручни вдоль скамей зрителей были отделаны золотом и панцирями заморских черепах, а около рядов проложены канавки для поступающей с гор воды, несущей прохладу. Пурпурный веларий над зрителями защищал их от солнечных лучей. Стоящие между рядами курильницы с благовониями заглушали запахи пота и крови. Специальные устройства над зрительскими местами и управляемые замаскированными рабами, кропили на публику настойками шафрана и вербены. Гирлянды роз и анемонов украшали арену, посыпанную цветами и листьями благоухающих деревьев.
Амфитеатр давно был заполнен, когда в центральном проходе показались носилки с императором и сопровождающей его знатью. Под многоголосое приветствие толпы Нерон и свита не спеша расположились на специальных местах рядом с ареной.
Вскоре префект города подал сигнал к началу представления, и человек, наряженный Хароном, перевозчиком умерших через реки Аида, трижды стукнул в противоположные от входа ворота, которые распахнувшись, впустили на арену андабатов – бойцов в глухих шлемах без отверстий для глаз.
Они являли не очень захватывающее зрелище, так как размахивали мечами вслепую и беспорядочно, и не столько разили насмерть, сколько калечили один другого, выходя из-за этого раньше времени из боя. И если бы не мастигофоры, направляющие и подталкивающие андабатов длинными вилами друг к другу, зрелище затягивалось бы до неприличия, нагоняя на зрителей тоску и скуку. Правда, черни это побоище нравилось, и она громкими криками помогала направлять удары бойцов, бурно приветствуя каждое смертельное попадание. Но знати этот вид программы не нравился своей безликостью.
После боя андабатов, из которых мало кто уцелел, рабы убрали с арены трупы, засыпали кровь свежим песком и вновь украсили арену цветами и листьями. Рабыни в это время разносили прохладительные напитки и угощения по рядам, а зрители ударяли по рукам, делая ставки на победителя предстоящей смертельной схватки.
Но вот прозвучали трубы, и из ворот появились шеренги гладиаторов. В этот раз выступали галлы и фрикийцы. Они двумя шеренгами выстроились по бокам арены, а на середину выступили лапист Гемелл в высоком шлеме с забралом и тяжёлом панцире, прикрывающем его спереди и сзади, вооружённый мечом и щитом, и ретиарий Урт в одной набедренной повязке с сетью и трезубцем в руках. Они громко прокричали императору: «Привет тебе, Цезарь! Идущие на смерть приветствуют тебя!» и сошлись в беспощадном поединке.
Гемеллу, в его тяжёлых доспехах, было нелегко увёртываться от кружащего по арене и всегда готового набросить свою сеть Урта. Но всё же в одном из удачных выпадов лаписту удалось поразить руку ретиария, который в свой черёд нанёс несколько ударов трезубцем по Гемеллу, но не поймав в сеть, так и не сумел пробить панцирь.
Смертельный поединок продолжался довольно длительное время. Оба противника были столь искусны, что не раз сумели обмануть собственную смерть, но с истечением крови из раны на руке, всё заметнее убывали силы Урта. И, наконец, Гемелл сбил ретиария на песок. Приставив к горлу поверженного меч, победитель посмотрел на императора. Нерон держал вытянутую вперёд руку большим пальцем вниз. Тогда лапист, подчинясь воле богоподобного, надавил на своё оружие и отправил душу Урта к праотцам.
Последовавший за этим бой рядовых гладиаторов был по обыкновению кровав и беспощаден, что доставило народу Рима много приятных и волнительных минут.
Гемелл по приказу Нерона всё же был изгнан из Рима. Тем более, что император сам давно присматривался к Негодии и, в конце концов, сделал-таки её своею наложницей. Но кто может перечить власть предержащим на любом витке истории?
ЦИРЮЛЬНИК БЕЗ ДИПЛОМА
Обычно, предсказания газетных колдунов и телевизионных астрологов мне не вредили, но когда не повезёт, не оберегут и они.
– Саша, – душевно сказала мне жена, собираясь на недельку уехать к родителям. – Саша, у тебя весь гороскоп на эту неделю про любовь, так что смотри у меня, без глупостей. А не то!..
А я и без предсказаний уже два дня жил свободно и успел договориться с Танькой из соседнего подъезда. Главное – недалеко и по очень старому знакомству. И как только моя за порог, я, прикончив свои сантехнические дела, уже названивал под покровом ночи в знакомую квартиру.
Дверь почему-то открыл железнодорожный супруг Татьяны, и мы с ним громко поговорили. Он из своей квартиры, а я из подъезда и слегка прилёгши на цементном полу. Хорошо был первый этаж, и бутылка в моём кармане не пострадала. А то пришлось бы переживать по поводу утраты продукта, а может быть, и резаной раны тела.
Из-за отсутствия следов насилия на лицевой части головы, весь следующий день я отработал играючи, а на последнем вызове познакомился с очень обходительной женщиной. Звали её Юлия, была она юристом, а муж и вовсе еврейской национальности. Словом, баба попалась из хорошей семьи.
Мы попутно разговорились, а так как я был в хорошо приподнятом настроении после ремонта унитаза в соседнем доме, то даже условились с юристом о встрече на следующий же вечер под предлогом замены какой-то прокладки. Тем более, что Танька юристкой не была, и я на неё ещё обижался всей душой за незнание расписаний по железным дорогам.
Оттянув положенную смену, с рабочим чемоданчиком для отвода постороннего сглаза, я в условленный вечерний час прибыл к Юлии в полной парадной готовности, то есть почти без запаха.
Хозяйка встретила меня с приветливым ожиданием, предложила присесть, и мы для начала поговорили о всяких жизнеистечениях прямо на кухне.
Не прошло и десяти минут, а мы уже беседовали как старинные друзья забытого детства. А после обещания укоротить длинные руки Танькиному локомотивщику, Юлия так прямо и сказала:
– Ну что же вы? Приступайте, пока не очень поздно.
Я сразу понял этот тонкий женский сигнал, но спросил:
– Прямо здесь?
– Нет, в ванной, – с намёком ответила законница, и улыбка взошла на передней части её понятливой головы.
Так как я мужик тёртый и битый при всяком случае, то быстро вник в её прямое желание и без лишнего прикрытия ложной скромностью прямиком сиганул в означенный объект. Дело знакомое, так как и с Танькой с этого начиналось. А уж там, в привычной для меня трудовой обстановке, я быстро привёл себя в готовый рабочий вид. И даже трусы разложил на видном месте, чтобы каждому было понятно, что здесь обосновался не какой-нибудь затёртый вахлак, а вполне способный к тесным юридическим связям культурный мужчина в соку. Не снял только рубаху, так как гордился её свободным покроем и яркой цветастостью. Да она и помешать-то не могла ни с какого боку. И мой внешний половой организм не болтался сбитым гаечным ключом, а смело веселился из-под рубахи свежим, как со склада, разводным второго номера.
Тут открылась дверь, и хозяйка Юлия робким от первой застенчивости голосом произнесла:
– Вы забыли свои инструменты.
– Да что ты как маленькая! – С игривостью отозвался я и задрал рубаху. – Наш инструмент на месте и давно готов, как молодой пионер.
Юристка, понятное бабье дело, с опаской опустила глаза на мои достоинства, а приценившись, припадочно заорала:
– Яша, Яша, скорей сюда!
Такого поворота развращённости дальнейших действий я, прямо скажу, не ожидал. Мало того, я даже не успел опустить руки, как передо мной, оттолкнув эту горластую стервозу, возник её мужик, который без предупреждения прохлаждался дома об эту пору. И он, не разобравшись, а как дикий и бессловесный зверь, ударил меня своей еврейской ногой прямо по оконечности тела промеж ног. И про это надругательство над братским народом нельзя говорить словом, а надо плакать неутешной слезой побитого самолюбия.
Одевался я на лестнице, а, взяв себя кое-как и чем попало в руки, побрёл в летний мрак с отравленной иноверцем душой в своём пораненном теле.
Забегаловка ещё работала, поэтому, уже с твёрдостью во взгляде и походке, я попёр к ней, где в знакомой обстановке залил душу, а потом выплеснул её недавние обиды на незнакомую девушку Галю, которая кстати подвернулась под руку и не брезговала моим угощением. А твёрдо установив, что она свободна от всяких мужей, как и я от супружеского ложа, мы решили совместно утешиться, не отходя далеко от места этой роковой встречи.
Близкие кусты заманили нас приветливым затишьем без постороннего вмешательства. Разлёживаться и распутствовать было не с руки, поэтому оголив, что требовалось, мы прилегли на травку. А нащупав у девушки Гали её уже раскапустившийся отстойник, я сразу пустился своим исстрадавшимся болтом исследовать давно сорванную бесплановой жизнью резьбу гнездовья этой приблудной залётки. И вот, когда я стал забывать свои страдания под воздействием блуда, какая-то скотская свинья, будто ей другого дела нет, начала громко справлять свою малую потребность из всех своих больших нужд с другой стороны куста, не задерживающего мелкие брызги и звук. Как раз этого мне и не хватало для полного краснорожего счастья в бледноликую лунную ночь. Я увял всем своим молодым телом и, плюнув на все мирские утехи внутренним плевком, покинул девушку Галю, уже спавшую и, видать, без меня давно придавленную жизненным гнётом.
Дня полтора я трудился над производством спокойным образом и более не испытывал судьбу любовным фронтом, решив дождаться надёжной любезности от законной жены. Но на третий день я стал вдруг знойно чесаться в промежности собственных ног.
Обследовав на досуге свои животные волосы, я нашёл причину неисправности организма в виде мелкой вшивости по всему подбрюшью. Эта паразитная живность ела меня заживо без перерыва и отдыха и вызывала ярую почесуху, так что я почти не вынимал рук из карманов и не мог плодотворно трудиться на вверенном участке.
Про такие природные издевательства над человеком со стороны насекомого животного я слыхивал, но удовольствовался этим в первый раз, а потому готовым к сражению с паразитом не был. Ясное дело, не в очереди стоял за этой пакостью, чтобы ещё до прилавка привыкнуть к гостинцу.
Я ушёл в отгулы и попробовал бить эту нечисть ручным способом, но из-за её мелкого вида и бесперебойной плодовитости с задачей не справился, а потому скоблиться стал уже в полную силу своего усердия, не отнимая рук от места гнездования неуёмного гада. Даже работал по дому своими конечностями в очередь.
Городок наш небольшой, если не сказать маленький, и потому ходу мне в аптеку за советом не было. Я страдал в одиночку, как смертник в камере, а время подпирало со всех сторон и уже готовило ценный подарок моей супружеской половине.
Ту приветливую Галину я пару раз хотел встретить на месте нашей ночной свиданки, чтобы малость освежить её личность воспоминаниями с безопасного расстояния, но не нашёл и следа. Видать, не первый я обозлился благодарностью за дармовую награду с долгой памятью.
Отравы дома, кроме водки, никакой не водилось, а эта прожорливая живность, опьянев от примочек, духарилась ещё круче, закусывая моим свежим мясом безо всякого природного страха перед венцом творения. Правда, после бутылки я спал спокойно в полном забвении от горя, зато утром чесаться во всё удовольствие не мог по причине нарушения нежности кожи, поэтому с полной ответственностью подготовился впасть в последний одинокий загул конца жизненного пути, но до предела не успел.
К обеду, отпросившись с работы, навестил меня, как не вышедшего на трудовую вахту больного страдальца, мой давний друг Петька. В присутствии жены наша дружба, обыкновенно, даёт трещину, но уж когда супружницы на дух не сыскать, мы с ним сразу отношения налаживаем, бывает, и на полные сутки. Тем более, нам всегда есть, что вспомнить, хоть и не ветераны.
И вот, когда мы добрались уже до второй Петькиной, я и открылся другу в своей неизлечимой в нашем городишке болезни. Товарищ сразу впал в сочувствие стал приводить знакомые примеры по распаду семьи из-за этой неприметной гниды, которую не то что рукой прихватишь, а даже и при самолётном зрении не всегда разглядишь.
Конечно, будь у нас неделька-другая в запасе, можно было бы в райцентр смотаться, какой гадости приобрести, да и поправлять здоровье потихоньку, без огласки по всем углам. А тут я непростительно свою хворь довёл до хронической стадии, когда моя уже через сутки должна нагрянуть с ревизией. Какое уж теперь единоличное лечение при совместном ведении хозяйства и нажитом общем имуществе в виде одной кровати на двоих? В первый же вечер всё неприглядно откроется, если брать по-справедливости всю вину на себя. И тогда уже вся слава до конца дней достанется мне одному. И если даже не скандальный развод по своим углам, то и в третьем колене мужским наследникам спуску не будет. Моя же не юристка и интеллигентным молчанием себя мучить не будет. Ей бы только волю дать словам, а там хоть трава не расти и воробей не летай! Вот ведь как закапканился, голубок.
Так мы судили-рядили до первых петухов, но выход всё-таки нашли.
Уезжаю, мол, я, вроде по какому-то спешному известию, к брату за Урал. И пока тут на месте Петька эту видимость создаёт, я в райцентре высаживаюсь, отовариваюсь лекарством и где-нибудь в стороне от проезжих трактов раскидываю себе небольшой шалашик. И в этом полевом лазарете провожу самостоятельный курс лечения до полной победы. А потом, здоровый-то, я как-нибудь выскользну с объяснительным материалом. Время придумать правду будет.
Как мы порешили, так и собрали чемодан и кой-какие пожитки, налаживаясь на первый автобус. Я даже побрился перед дорогой, чтоб в глаза не сильно бросаться и не пугать народ своей чугунной от горя мордой.
Тут-то Петя и сказал, как сплясал на могильнике:
– Сашка, а давай-ка всю твою заразу изведём под корень бритьём, чтоб ей жить негде было. Тогда и отлучаться никуда из дому не надо, и всю чесотку как рукой снимет.
Я поначалу даже и сомневаться не стал:
– А что же, – говорю, – я на эту лысину моей-то скажу? Мол, волосы лезть стали от тоски по супруге, вот и сбрил для укрепления корней, так что ли?
– А то и скажешь, – стал растолковывать Пётр, – что, мол, поспорили мы с тобой по пьяной лавочке по какому-нибудь теперь уже прошедшему по телевизору факту либо на ящик водки, либо на бритьё. Ты и проиграл. А где тебе силы взять, чтобы целый ящик приобрести? Вот и пришлось порешить всю растительность. Твоя посовестится про такую беспросветную дурь язык по округе распускать, хоть на тебе вволю отыграется. Правда, наша дружба после этого манёвра совсем в подполье уйдёт, да что уж тут, и на нейтральной территории перебьёмся.
Битый час обсасывали мы эту проблему со всех сторон, а под конец совещания всё ж-таки оголился я как глупый подросток, и уже в таком первобытном состоянии мы с другом продолжили беседы, благо магазин к тому времени открылся. А я и впрямь перестал жилы рвать по карманам и дал отдых рукам. Это облегчение моего переживания вполне стоило будущих насмешек и тычков жены.
Но ведь что интересно получилось!
Всё наше мероприятие сошло у меня с рук, как не думалось и не гадалось. Когда моя заявилась, я был в весёлом состоянии и здоровый с головы до пят. А чтобы не тянуть кота за хвост, всю информацию выложил ей прямо с порога. В ответ на признание, жена, не сходя с места, добилась самоличного обследования места происшествия.
И вот, когда я скинул свежие трусы, так как старые сжёг по случаю инфекции, и уже приготовился к последним словам, а, может, и другим плачевным действиям со стороны моей половины, жена, ни слова не говоря, рухнула у порога, как куль с мякиной. И только я подумал, что слабую на нервы женщину хватил удар от непривычного в своём непотребстве мужицкого вида, как она зашлась таким смехом, от которого у меня встали дыбом все уцелевшие на теле волосы.
Ржала она долго и до слёз, знаками не позволяя мне прикрыть свой голый срам. И я начал уже опасаться за её помутнение в рассудке по причине видимости такого семейного горя и насмешки судьбы над собственным мужем. Но всё обошлось.
Немного успокоившись, жена моя в тот вечер никаких хозяйственных работ по дому не производила, а, не отходя от меня ни на шаг, временами требовала показать новоявленную плешь и опять разражалась непотребным гоготом. И даже ночью в постели, уже впотьмах и на ощупь, она проверяла мою тифозную облезлость и прыскала в подушку.
Одним словом, понравилась ей моя искусственная невинность, как в спокойном состоянии, так и в ударном действии. И с той поры регулярно, как под присягой, приходится платить мне за грехи и, как говорится, точить бритву, потакая бабьей прихоти. И всё бы ничего, привыкать стал, но какая же теперь Танька, ежели отрастать не успеваю?
Даже песню такую полюбил:
«Придёт цирюльник с бритвой острой, Обреет голову и грудь…»Сны снятся постные. Вот и думай – кто же кого вокруг пальца обвёл? А, мужики?
АЛЛЕРГИЯ
(БЫЛЬ)
Служил я тогда под Псковом. И как раз в это время перевели в нашу часть с Дальнего Востока Виктора Яковенко. Был он тоже капитаном с неярко выраженным рвением к службе. Поэтому мы быстро сошлись на общей любви к книгам и преферансу. Сближению помогло и то обстоятельство, что наши жёны стали работать в одной больнице.
Примерно через год в нашу часть приехал в служебную командировку бывший сослуживец Виктора Олег. Естественно, мой нынешний приятель решил встретить дальневосточного однополчанина как полагается и в тот же вечер пригласил его на домашний ужин.
Приём, видимо, прошёл хорошо, так как весь следующий день Виктор маялся головой и был далёк от всяческих уставов. А вечером этого же дня моя жена поведала мне о странном недуге Олега, симптомы которого описала супруга Виктора.
По её словам, когда хозяин с гостем уже сидели за накрытым столом и готовились пропустить по первой рюмке, она внесла в комнату аппетитно дымящееся блюдо сибирских пельменей. И вот тут-то, едва почуяв, а затем и увидев это угощение, Олег позеленел, зажал ладонями рот и, едва не сбив хозяйку, бросился в туалет, где его полоскало и выворачивало чуть ли не с час. А выполз он оттуда только, когда хлебосольная жена Виктора по просьбе страдальца унесла пельмени на кухню.
Бледный и смутившийся гость уже за столом объяснил своё поведение пищевой аллергией на сибирское блюдо, которая стала досаждать ему с недавних пор.
Странную реакцию организма и новую разновидность аллергии наши жёны-медички обсуждали в своём коллективе целый день и пришли к выводу, что это, возможно, следствие каких-либо потрясений, связанных с нелёгкой воинской службой.
Через неделю Олег уехал, и случай этот забылся.
Прошло, наверное, с полгода и, как-то раз за преферансом, в нашей постоянной компании зашёл разговор о медицине. Я и припомнил странный случай дальневосточной аллергии, связав её с возможным отравлением каким-либо компонентом ракетного топлива. Но не успел я развить свою мысль до конца, как Витька стал прямо-таки умирать от хохота. Минут десять он не мог прийти в себя, а когда, наконец, успокоился, то и поведал нам тайну хвори бывшего сослуживца.
* * *
Олег был парень хоть куда. Природа и спорт наделили его прекрасным телосложением, а гитара и склонность к поэтическому слогу делали его душой любого общества. И так как обзаводиться семейством он не спешил, то полковые и цивильные дамы, а равно и девицы на выданье, не обходили его вниманием и лаской. Олег платил им той же монетой, правда, стараясь избегать тесных контактов с замужним контингентом городка, что и позволяло ему не наживать врагов.
И вот, на одной из вечеринок он познакомился с Людмилой. Это была женщина притягательной и броской красоты, но с одним существенным недостатком – ранним замужеством.
Люсин благоверный был из породы служак. Самозабвенно любил эту самую службу и трепетно нёс её к какой-то, лишь ему ведомой цели. А поэтому не очень-то баловал молодую жену вниманием. Он и это застолье, как обычно, променял на прелести казармы.
Людмила, впервые близко столкнувшись с Олегом, в тот вечер приложила все усилия, чтобы приручить весёлого красавца. В плену известной женской гордыни, ей не очень-то думалось о последствиях лёгкого, казалось, флирта. И она добилась своей цели. К концу вечера любимец компании, презрев собственное табу, потянулся к ней, как подсолнух к солнцу.
А по сути, они очень подходили друг к другу. И по внешним данным, и по внутреннему содержанию.
Вот так и начался этот роман, наполнившийся истинной любовной сутью почти с первых же страниц.
Сначала отношения складывались дружески-невинно. Но уже через недели две они переплавились в высокую страсть, когда пропадает всяческая рассудительность, а осторожность становится постыдной обузой. И лишь строгие условности жизни военного городка пока что препятствовали им принять кардинальное решение поворота судеб в единое русло.
Летом, уже уходящим летом их знакомства, особых проблем с редкими свиданиями не было, но с наступлением раннего осеннего ненастья дело усложнилось. Гостиницу, где жил Олег, как место встреч, пришлось исключить сразу, а квартира Люси могла служить приютом лишь в дежурства да в редкие командировки мужа. Поэтому каждая, крайне уже редкая встреча без свидетелей, выливалась в яркий праздник и души, и тела.
В тот ноябрьский вечер, ставший памятным Олегу на всю жизнь, рьяный Люсин служака заступил в караул. Любовники, не видевшиеся наедине почти месяц, ждали этого богоданного праздника, как живительный огонёк заблудшие во тьме путники.
Олег заранее подготовил коньяк и шампанское, зная, что будет заботливо накрытый стол, уютное мерцание свечей и томный блюз магнитофона. Но время тянулось тугой вечностью и не спешило доползти до заветных десяти вечера…
Дверь в квартиру была приоткрыта, и Олег, по этому условному знаку, уверенно вошёл в прихожую, где уже в ярком халатике и с новой для него причёской ждала Люся, вся искрящаяся радостью встречи с кружащей голову распахнутостью голубых глаз.
Гость не успел раздеться, а хозяйка уже, обвив руками шею, тянулась к нему трепетными губами, выдыхая одно лишь горячее слово:
– Олежек…Олежек…
– Люсенька, ну подожди, ведь я холодный, – шептал в ответ Олег, мягко отстраняя любимую, и всё же касаясь губами её лица, как бы ловя и вбирая в себя слова женщины.
Людмила нехотя повиновалась, позволила Олегу снять шинель и китель и за руку провела в комнату.
И был стол, и были свечи, и труба Армстронга щемила душу недосягаемой высью звука, и сердца плавилось в любви и нежности. Но вот уже губы встретились и, сначала слегка соприкасаясь, затем нежно и поочерёдно охватывая друг друга, слились в единое целое долгого поцелуя, и языки встретились в трепетной ласке, и время послушно застыло единым сгустком любви. Так они стояли посреди комнаты, и не было ни сил, ни желания вернуться на грешную землю.
Наконец, Люся открыла глаза и, слегка отталкиваясь от Олега, произнесла:
– Олежек, ещё вся ночь впереди. Давай я тебя покормлю.
Есть не хотелось, но он знал, что Людмиле очень нравится кормить его, что она будет расцветать женской гордостью хозяйки, когда похвалит её кулинарные способности. Поэтому Олег согласился, и Люся выпорхнула из объятий, устремившись на кухню.
Гость раскупорил коньяк, решив, что шампанское будут пить в постели, и присел на тахту, у которой был накрыт их праздничный стол.
Скоро вошла хозяйка с большой тарелкой пельменей. Олег как-то признался, что любит это блюдо, и Люся не упускала возможности собственноручно приготовить его для возлюбленного.
Поставив тарелку на стол, она села рядом с Олегом, но так, вполоборота, чтобы видеть и хотя бы ногами, коленями, но чувствовать его.
Олег разлил по рюмкам коньяк. Они выпили и немного поговорили о чём-то незначительном, но месяц разлуки уже требовал своего, уже толкал их навстречу, поэтому все эти разговоры, и этот стол, и коньяк становились ненужными, и даже лишними.
– Люсенька, иди ко мне, – позвал Олег.
– Милый, а пельмени? Ведь остынут, – продолжала заботиться Людмила.
– Да ладно, холодные даже вкуснее, – лукавил Олег, привлекая Люсю к себе.
Поцелуй с привкусом коньяка всё длился, а левая рука Олега уже расстегнула лёгкий халатик и ласково легла на Люсину грудь. И упругие, с уже напрягшимися сосками груди, доверчиво льнули к мужской руке, и поток желания конечной возможной близости, возникающий в них, заструился по телу женщины, накапливаясь в горячем и влажном лоне, требовательно призывая к слиянию с мужским началом.
Олег, оторвавшись от губ Люси, начал бережно покрывать поцелуями эти два милых и притягательных женских чуда, воспламеняясь страстью до головокружения, до бездонной обострённости чувств. Время вновь размыло границы реальности, и даже труба Армстронга уже истекала невозможно высокой нотой где-то за пределами восприятия.
Долгожданная, а потому скорая любовная прелюдия подходила к концу. Жажда любимого горячего тела волной катилась по крови Олега, проявляя себя в нетерпеливом трепете рук и в напряжении до боли жизнетворящего мужского естества. И он осторожно уложил любимую на тахту, и одежды как-то сами собой освободили их тела от ненужных пут.
Олег мягко вошёл в Людмилу и замер, а его жаждущая плоть уже сама упруго и властно запульсировала в тугой и горячей глубине женского лона, близя предстоящую и невозможно желанную агонию наивысшего наслаждения согласованных друг с другом тел. И Люся устремилась навстречу Олегу, хотя, казалось, что теснее сблизиться уже невозможно. А он, левой рукой обняв её за плечи, правую подвёл под пружинящую в прохладной свежести попку, ещё крепче прижимая любимую, как бы сливая плоть в единое целое и сам растворяясь в женщине. Два тела, тесно сплетаясь, замерли, прислушиваясь друг к другу и вкушая первый глоток из переполнявшего их чувства любви. Но вот они не выдержали сладостной пытки телесной немоты и, сначала плавно и осторожно, а затем всё более настойчивее и яростнее, начали извечный танец алчущих предельной любви тел, понимая один другого высшей мудростью чувств, дарованных природой живущим.
Люся сквозь стон впивалась в губы Олега. Её тело не находило места на ложе и упругой волной набегало на любимого, поднимая его на своём прибойном гребне, в то время как руки, судорожно сжимавшие его напрягшиеся ягодицы, прижимали это драгоценное тело, подчиняя его движения своему ритму буйства крови.
И разрядка была бурной и запредельно сладостной.
Потом они лежали, не разъединяясь, оглушённые последним аккордом блаженства тел и отдалившимся от восприятия бытия сознанием. Ещё не принимая этот мир, плывущий куда-то мимо них по волнам космической вечности…
– А-а, суки, – вдруг врезался в сознание Олега жёсткий в своей злобе вскрик, а тренированное тело уже ставило его на ноги лицом на этот голос.
Посреди комнаты стоял муж Людмилы. В шинели, сдавленной портупеей, с побелевшими от ярости глазами, а в его руке вздрагивал, нацеленный в грудь Олега пистолет.
«Вот и всё», – горячечной струёй страха обожгло мозг любовника, парализуя волю и способность к сопротивлению.
А Людмила обречёно оставалась лежать на постели в ещё раскинутой позе. Ужас отнял у неё всякую способность двигаться. Она лишь руками закрыла лицо, как бы отгораживаясь от зрелища предстоящей расправы.
А муж всё стоял суровым возмездием посреди комнаты, и всё так же в нетерпении дёргался пистолет в его руке. Но, видимо, устав и законопослушание уже начали брать верх над безрассудством попранного мужского самолюбия.
– Садись, – сказал он, как плюнул, указывая Олегу на стул с другого конца стола.
Любовник повиновался, всё так же затравленно глядя на наведённое в грудь оружие. Супруг тоже протиснулся за стол и устроился возле ног Людмилы на тахте, но по-прежнему направляя пистолет на врага. Женщина шевельнулась, пытаясь свести ноги и приподняться.
– Лежать и не двигаться! – рявкнул мститель голосом полного хозяина положения. Затем он внимательно осмотрел сервировку стола, скользнул взглядом по почти полной бутылке коньяка, и, уперев пистолет, направленный по-прежнему на Олега, рукояткой о стол, левой налил спиртное в обе рюмки. После чего медленно, но не сводя глаз с противника, выпил и, взяв вилку, подцепил ею пельмень.
– Жаль, остыли, – как-то вяло произнёс он и мельком взглянул на жену.
Людмила лежала в прежней позе, широко разведя ноги и закрывая лицо руками, а белесый ручеёк любовной влаги уже начал истекать из её не закрывшегося лона и первыми каплями орошать сухую гладь простыни.
– Выпей, Олег, за встречу, – вдруг предложил обманутый супруг. – Давненько мы с тобой не виделись. – А когда любовник выполнил неожиданное требование, приказал: – А теперь закуси, – и, поднеся пельмень к межножью жены, смочил его вытекающим оттуда соком, а затем подсунул к губам недруга.
Олег всем телом дёрнулся назад.
– Жри, сволочь, а не то пристрелю обоих, – выкрикнул мститель и насильно впихнул в рот Олега приготовленную закуску.
Голый и деморализованный противник, не жуя, проглотил. Спазм брезгливости до боли сжал его желудок, а во рту появился гадливый привкус неудобоваримой приправы.
Муж Людмилы снова выпил, но теперь уже в одиночку, а потом уверенно и даже с наслаждением стал кормить Олега пельменями с изобретённой им специей, иногда ухитряясь чуть ли не всю длину вилки погрузить очередную порцию внутрь полной этого нектара Люсиной соусницы.
Олег давился, но глотал, на всю оставшуюся жизнь наживая себе пищевую аллергию на пельмени. И даже быстро последовавший после этой трапезы перевод в другую часть, и смена обстановки, и климата не излечили его от недуга. Как и не пробудили в нём тягу к семейному очагу, хотя, по слухам, Людмила скоро стала свободной и уехала к себе на родину, куда-то под Полтаву.
КРАСНОЕ СОЛНЦЕ В ПУСТЫНЕ
Близилось время намаза. Муэдзин медноголосо вознёс хвалебную песнь Аллаху с балкона минарета, и правоверные, упав лицом ниц и уронив головы в песок, нацелили свои тощие зады в драных халатах на запад. В едином порыве они славословили своего бога и по привычке просили у него защиты от жестокого и сластолюбивого правителя – шейха эль Бесолома Абы-с-Кем, прозванного в народе Ненасытным-оглы.
Мало того, что непомерные налоги и вечные долги не позволяли рядовому дехканину скопить пару-тройку тугриков на приличный халат или малоношеную тюбетейку, так ещё визири шейха еженедельно умыкали из приглянувшейся им родительской палатки чью-нибудь юную, но успевшую распуститься девушку в гарем развратника Бесолома.
Народ нищал, деторождаемость, несмотря на посильные потуги старых дев, падала, а шейх справлял свои удовольствия. Поэтому среди песков подспудно зрел стихийный бунт, хотя неграмотное население, не охваченное теорией свободолюбивых потрясений, всё ещё уповало на милость Аллаха и слепое привидение из райских кущ. Но носители искры светлого будущего с севера до сей поры всё никак не могли пробиться по верблюжьим тропам сквозь барханы, чтобы оплодотворить заброшенный народ идеями борьбы противоположностей.
Вот и ныне. Из населённого сельскими пролетариями пункта Чурбани была насильно увезена, притороченная нуреками шейха к сёдлам скакунов, прекрасная Гюльчёдай, единственная дочь башмачника Ахмеда Ильича-заде. Певунья и хохотунья, худая как тростник под кипарисом, она давно служила утехой всем джигитам селения в межсезонье полевых работ на хлопковых плантациях. Даже паранджа не могла скрыть притягательной угловатости её стана, позволяющей отдохнуть усталому взору путника от однообразия восточной пустыни. А о скромности красавицы ходили смелые легенды среди акынов далеко за пределами родного ей кишлака. И лишь папа с мамой могли любоваться совершенством своего творения при совместных омовениях в турецких банях по-чёрному.
Утрату Гюльчёдай оплакивала вся округа. Дехкане хватались за кетмени, аксакалы за бороды, а остальное народонаселение за что придётся.
* * *
Повелитель округи шейх эль Бесолом и прочее возлежал на топчане, убранном атласными подушками, во внутреннем дворике своих чертогов. Бессловесные рабы нагоняли лёгкий ветерок перьевыми опахалами птицы страус на его жирное, едва прикрытое коврами ручной работы тело. Перед повелителем на восточной табуретке стоял поднос со сладостями, пряностями и овощами бахчевых культур, а рядом был припасён кувшин с шербетом и, покрытый затейливой чеканкой, кубок.
Ленивым движением руки деспот периодически наливал вино в дорогую посуду, не морщась, выпивал и закусывал халвой. От безделья пил он постоянно и много, но до арбузной браги не опускался, а поэтому, несмотря на свои слегка преклонные года, не плохо сохранился для местных засушливых условий. И только лёгкая сизоватость в лице да тонкая мешковатость под глазами выдавали его возраст стороннему наблюдателю.
По периметру дворика били фонтаны и резвились павлины. У стены напротив топчана незатейливо, но громко, выводили свои трели на тамбуринах бродячие музыканты. Слева от них придворные поэты вслух слагали нетленные газели, а справа на помосте готовилась исполнить томный танец живота несравненная Эбаниссо, много гастролирующая протеже тирана. Верхняя половина знойного тела танцовщицы была прикрыта китайской выделки шёлком, а сквозь розовые, старинной работы шальвары, легко просматривалась её завлекающая стать.
И Эбаниссо начала свой чарующий танец.
Сначала ожили и взлетели окольцованными птицами руки и под переливы восточного напева затрепетали, переплетаясь между собой, а затем свободно упорхнули в разные стороны. И, подчиняясь их воле, накидка танцовщицы распахнулась, а из-под неё выскользнули две созревшие тяжёлые грозди, с каждой из которых стекала, но никак не могла сорваться крупная и алая, словно в лучах утренней зари, капля росы. Грозди искрились под солнцем, выпукло выделяясь на смуглом теле, и, включившись в завораживающий танец, то поднимались рвались вперёд своими набухшими каплями-ягодами у краёв, то плавно ниспадали, касаясь одна другой и образуя как бы два, наполненных терпким вином, кувшина с широким верхом.
Рождённая верхней частью тела танцовщицы трепетная волна, повинуясь её воле, заструилась вниз по упругому, с глубокой лункой пупка, животу к выпирающему и смутно различимому под шальварами треугольному мыску, где почти угасала манящей пульсацией бёдер. Но вдруг, вновь возродившись, устремилась вверх, ещё более крутым и бурным потоком. Тело Эбаниссо выгнулось назад, упруго натягивая ткань шальвар, и чётко обрисовывая под животом две отчаянной смелости струи, стекающие вниз и сливающиеся где-то в глубине между ногами. Этот источник манил взор доступностью и обещал утоление жажды неизбалованному оазисами пилигриму. Однако, правая рука артистки прикрыла этот мираж, а её средний палец, почти утонув в укрытом под шёлком роднике, начал плескаться там, нагло заманивая взгляд шейха на скользкий путь близкого соблазна. А Ненасытный, тем временем, истекая потом и похотью, уже сбросил с себя ковровые покрытия и, потеряв приличие, бросился к соблазнительнице.
– Затмевающий солнце! – остановил его на полпути голос вошедшего во дворик евнуха. – Доставлена новая наложница Гюльчёдай. Не изволите ли взглянуть на товар?
Этот бесстрастный голосок служителя гарема, кастрированного ещё в колыбели, вернул шейха к государственным делам. Он широким жестом удалил челядь и, не показавших всю программу, лицедеев со двора, а сам вернулся в исходное состояние.
Со стоном распахнулась калитка, и младший кастрат за руки приволок очередную невольницу к господину пустынь. Для этого скорбного свидания Гюльчёдай была обряжена в новый, подбитый мехом, халат, шальвары из бархата и расшитую бисером чадру.
– Оставьте нас! – приказал евнухам шейх. – И передайте высокому дивану, что я буду занят почётным делом улучшения породы моего народа.
Прислуга, сгибаясь в поклоне, удалилась, а изувер, поправ восточные приличия и не спросивши о здоровье близких у девушки, сразу устремился к ней, потрясая развратным чревом. Его потные руки и наглые глаза бесцеремонно проникали под чадру, надеясь, что этот персик послужит украшением любого достархана.
– Гюльчёдай! Обнажись телом перед лицом господина, – слюняво прохрипел Абы-с-Кем и повалил бедняжку на смрадное ложе.
Восточная женщина, не привыкшая прекословить, покорно разлеглась на подушках, но не спешила выполнить волю разнузданного хозяина положения.
Тогда владыка близлежащих пустынь и барханов в бешенстве сорвал с девушки чадру и остатки одежды и обмер, увидев совершенство очередного творения Аллаха. Даже блудливый огонь нечистого желания померк в его тучном теле пред ясным пламенем небесного костра голой красоты.
А луноликая лежала с закрытыми очами и плотно сжатым бутоном пунцовых уст. И лишь ресницы трепетали нежными крыльями бабочки-капустницы, являя безграничные возможности женского организма.
Смоляные косички, источавшие запах хны, разметались там и сям по двум, ещё не вполне созревшим, райским плодам её груди. Эти два, разошедшихся и отвернувшихся друг от друга телесных конуса, печально никли и выжимали невольную слезу у шейха своей беззащитной покорностью судьбе. Но Ненасытный быстро взял себя в руки привычной заботой опекунства над незрелой молодёжью и отроковицами знойных широт.
А тело восточной богини, сравнимое ароматом и негой с лилией, трепетало в предчувствиях мерзоблудного насилия, и по впадине живота, по его бархатной и упругой поверхности, сбегали к завязи пупка, торопясь и обгоняя одна другую, прозрачные капельки пота, полные страха и униженного достоинства человека, хотя и женского пола.
И вот тут, с хищным безумием в глазах, шейх бросился на колени у разомкнутых ног юной девы, а его алчущий взгляд, разящим жалом осы, впился в трепетное и алое соцветие между ними, безупречно выкатанное ещё в нежном детстве от первого пушка срамной растительности. Эта обнажённая девичья гордость, созданная прихотливой фантазией излишне усердной природы, своими неплотными створками влажной раковины и пробившимися между ними розовыми лепестками источала тонкий мускусный аромат, принятых благовонных ванн, и вытравляла запахом остатки сознания из головы шейха. Толкая его к свершению привычного акта полового вандализма.
И тогда эль Бесалом Абы-с-Кем, издав шакалий рык, бросился на девушку, придавив её своей тучной тяжестью, а она, обвив его тело робкими руками, всадила в спину насильника, припрятанный в складках халата и доставший до чёрствого сердца, обоюдоострый кинжал.
Так было положено начало феминистскому до крайности движению жительниц этой части Востока. Юная мстительница, мечтавшая о лучшей доле в кругу моногамной семьи, чей светлый облик и до сей поры реет над барханами, своим безоглядным подвигом неумолимо приблизила розовый рассвет белого солнца над однообразием дикой пустыни.
ПОДРАНОК
Однажды, как говаривал поэт, в студёную зимнюю пору я из лесу вышел, а может, вошёл. Гляжу, поднимается, но медленно. Гадаю – с чего бы это? Женского полу вокруг – шаром покати. Ведь ягода и гриб, когда под каждым кустом баба на бабе чернику собирает и свежему человеку мимо не пройти, об эту пору не произрастают. Кругом один мороз. А тут, на тебе! Мыслю, может съел чего кислого или это к перемене погоды.
Однако, зимой-то какая перемена, кроме оттепели? Но, замечаю, стужа оттяжки не даёт. Уж на что у меня зипунишко, не на живую нитку слепленный, а ещё до революции надёжно сработан, поди, до французской, и то телом чую, как на меня январь сквозь прорехи собачьим холодом оскаляется. Ну да я, слава те господи, мужик калёный. И на все эти погодные выверты – ноль внимания и фунт презрения. Знай, чешу себе по просеке, ружьишком поигрываю. Не с удилищем же в лес переться на ночь глядя! А у меня старенькая такая берданочка. Ещё когда в школьных краеведах ходил, ненароком выкопал. Вот и мечтаю, то ли зайца пристрелить, то ли кого другого под горячую руку.
В прошлом году о такую пору тетерева влёт бил, так потом от соседа еле-еле бычком отбился. Настырный сосед. Он, видишь ли, по кабаньему следу шёл. Так не ходи в полный рост, ежели по кабаньему. И тишком не крадись, а голос когда-никогда подай, чтоб народ знал, кто кого.
Или вот ещё, некоторые повадились по болотам шастать. Утятинки им подавай. Так утей-курей и в домашнем уюте воспитать можно. Чего за ними на торфоразработки переться? А я как раз рябчика на взлёте доставал. И достал. Утятник тот до Покрова с костыльком пробегал. Но и я себя в обиду не дал. Вёрст десять по камышам пластался. Да где же пораненному птицееду за мной угнаться!
Ему после сквозного прострела в холодке бы полежать, а не мотаться в горячке по трясине. Всё равно ведь не признал, хоть я и оглядывался.
Да что тут говорить! Охотник я знатный, а как переберу, мне и целиться не надо. Пули одна в одну ложатся, и следов не найдёшь.
А летом и грибком люблю разговеться. И тут против меня никто не устоит. Бывало, вся деревня ещё до свету в лес высыпет, а как к вечеру домой потянутся, то и показать нечего. В одной руке несут. А я к обеду налажусь, и пока моя щи варит, уже назад обернусь. В двух руках по ведру и на любой вкус – ешь, не хочу. А всё потому, что дуроломом за сотню вёрст не прусь и по сортам продукт не раскладываю. Гриб, он и есть гриб. Чего на него обижаться? А чтоб с грибка взять да помереть, так я в это ещё с детства не верю. Правда, случается, что организм не выдерживает и прослабления даёт. Так это у всякого может быть от нервов.
С ягодой та же песня. Киселёк сборный сварганишь, так домашние нос воротят. А для меня любой плодоовощ полезен. Будь то хоть волчья ягода, хоть иной корнеплод, но если отваром от него запивать можно, то, значит, никакой ядовитости нет и пользуйся им на здоровье хоть в сенокос, хоть в посевную.
Да, как не прикидывай лапоть к носу, но при лесе жить одно удовольствие, если, конечно, к делу умеючи подходить и руки на месте. А голову приставь, так и цены тебе нет и не будет, коль на меня равняться.
А я всё нарезаю по просеке и не ухайдокался ещё. Но тут что-то в темя треснуло. Мол, не далеко ли запёрся, голубок, при такой тёмной видимости?
Пока размышлял, день совсем к ночи скатился. Ведь ни шиша почти не видать, не то что мелкого зайца. Задумался я крепко, аж к бездорожью примёрз задней ногой. Что делать? То ли два шага вперёд, то ли один, но назад.
Тут-то и приблудилась она ко мне. Я впотьмах сразу и не сообразил, что баба. Вот она, задним умом думаю, примета моя к чему была! Ну ладно, баба так баба, не с пустыми же руками из лесу домой возвращаться.
Слово за слово, всё с намёком и ничего лишнего не обещая, сгрёб я её в охапку да под сосну. Она тоже молчком. Да и всяк бы подумал, что ему дороже, перед тем как среди леса глотку драть. Опять же – как военному человеку при ружье сопротивление окажешь? Может, он на часах, может, по иной солдатской надобности в лесу ночью околачивается? Ведь всякие могут быть учения с использованием местности и её обитателей.
Значит, так. Винтовочку я к стволу прислонил, зипунишко скинул, а уж поверх его и мадам пристроил. Не жалко амуниции. Ведь женщина не птица перемётная, чтоб голым огузком да об снег. Особых разговоров, да и вовсе никаких на ночь глядя не разводим. К тому же морозец поджимает. Того и гляди, что в колос пошло, пустоцветом отвалится. Тут некогда хороводиться и песни играть. Да и попутчица оказалась с душевным пониманием, и на холоде, видать, нежиться не привыкши. Слышу, копошится в тех местах, где и надобно. Я ведь нюхом чую, что к чему. В парнях ещё всю голую науку прошёл, и до сей поры износа не наблюдалось. Даже моя домашняя обиды не таит, хоть я у неё и третий. Так ведь прикипела баба, лопатой не отскребёшь.
Чувствую, и эта подоспела. Темновато, правда, да нам и не картины разрисовывать. Я прицелы свои на ощупь навёл и, господи, воля твоя, вспомнил – надо же за осинку какую отскочить, ведь с дому ещё терпел. Это у всякого калибра осечка случается, хотя и дело-то плёвое, разговоров больше.
Я портки в охапку да намётом за ближнее дерево, словно молодой стригунок.
По дороге думаю, хорошо хоть рассиживаться не приходится, а то с наветренной стороны так бы и примёрз к почве всеми кореньями при таком суровом климате.
Назад я возвернулся петушком с лёгонькой походкой. Глядь кругом – а ни бабы моей, ни одежонки. Словно, корова языком. Я мигом к оружию – и там след простыл. Вот, мыслю, опростоволосился, вот, разумею, и доверяй всякому. А главное – синею и волосья по всему телу дыбом. Уже в полголовы думаю, ладно, разбойник повсеместно встречается, но с чего бы на всё согласная баба лютовать стала? Довели народ до пределов гласности. То есть в открытую человека обирают и на закон с размаха плюют. И обидно мне стало за власть, как за свой пустой карман.
Стою, горюю, но жить-то надо.
А как? Если вскачь припустить, то, может, и выживу, хоть и не весь целиком, а ежели гуляючи, то до срока осиротею на погосте. Словом, как ни выбирай, но от инвалидной коляски не отпихнёшься.
И в этот мой горький раздумный час выкатывается из ельника та чёртова полюбовница с моим ружьём наизготовку, словно всю жизнь просидевши в партизанах. И как герой гражданской войны промеж нас, этот новоявленный насильник, погнала меня пленным манером в родную деревню, будто нам больше и делать нечего. И такая в ней стервозная непреклонность объявилась, словно она в казармах на военных уставах все зубы сточила или весь свой цветущий век гоняла по трактам уголовный элемент. А ни в побег удариться, ни в сговор вступить. Одним словом, полное поражение в моих человеколюбовных правах.
С первого своего подневольного шага догадался я, чем наш этап закончится. Поэтому, зная горячий до знойных боёв норов своего домодельного жандарма, мороза я уже не чуял, как и прочих превратностей последнего в собственной жизни пути. И было мне всё равно, где сгинуть, хотя в тепле отойти было бы куда как пристойнее.
Однако, всё обошлось почти миром.
Как сдавал меня ослабевшим трофеем этот поганый террорист бабьего пола на руки родному освободителю – помню. Какой был дан супостатом военный отчёт домашней власти, с похабным намёком на моё лесное заблуждение, тоже помню, но уже с провалами. Ведь слова вставить не позволили, словно я враг нашей народности или вовсе безъязыкий арап. А вот как мои бабы в четыре руки крушили об меня моё же ружьишко – не помню, хоть застрели без следствия.
Правда, до конца не прибили. И головой я не тронулся. Но лишь только пошёл на поправку и стал подумывать о своих законных правах кормильца, моя неуёмная домашняя жена принялась ровнять о мои же бока совместно нажитые удилища. А они у меня, надобно сказать, сработаны на совесть. Хорошо ещё, что не расстарался заготовить их на всю жизнь, а то не вылезать бы мне из-под лавки на свет божий до второго пришествия. Ненасытная мстительница даже бредешок ко мне примерила. Но слабоват оказался. Не выдержал поругания. Сломалась снасть. И ведь ни с чего баба взъярилась. Всего-то делов, что соседку за полночь сопливым карасём угостил. Со всяким бывает от любвеобилия к женской среде обитания.
И с той поры катится моя жизнь под уклон заката. И существую я как мерин в хомуте. Ни охоты, ни рыбалки, ни, упаси господь, грибков в любой погодный сезон. Чахну на подворье. Тем более, что в рабочее время отлучиться по своим интересам почти не успеваю. Не кролик всё-таки.
Правда, наладился было ивняк заготовлять да корзины плесть ради душевного равновесия. Так ведь и тут моя хозяйка те угодья выследила. А ведь я и в мыслях ничего, кроме семейственности, не держал, всё о прибытке пёкся. То есть без злобного умысла.
Соседушка-то моя, наверно, так теперь всю жизнь мимо ивняка в косынке проходит, малость прихрамываючи. Ну а с меня, как с гуся вода, даже фельдшерицу, и ту только на третий день для моего обследования вызвали. Переломов не нашли. Не под трактор же попал.
А сейчас пребываю в полном сонном угаре, словно клещ за пазухой в летний день. И от тоски надумал в следующее лето домашних зайцев разводить. Но, говорят, они едоки дюжие, и им всякого разнотравья с дальних лугов подавай. Ничего, думаю в одиночестве, стерпим всё, да и приварок для семьи, как тут ни крутись и с оглоблей не бегай.
ВОПРОС ПОД РЕБРО
Вот и всё. Закончилась моя командировка в этом небольшом, но с одним значительным заводом городе. Не зря мне так не хотелось ехать сюда. С первых же дней понял, что здесь, кроме работы, делать нечего, поэтому и выполнил её за неделю до срока. И сейчас, когда билет на завтрашний поезд лежал у меня в кармане, я впервые бездумно и легко бродил по вечерним улицам, присыпанным первой листвой увядающего лета.
Вот тогда и столкнулся я с Андреем.
Мы вообще-то не были большими друзьями, но сейчас эта встреча, спустя десятилетие после окончания института, вызвала в наших душах неподдельную радость. Оказалось, что однокашник живёт в этом городе, а потому, на правах хозяина, он потащил меня в ресторан, где мы и просидели до закрытия, всё глубже погружаясь в дни юности с каждой новой рюмкой.
Вернула нас в серые будни официантка, объявив таким же серым голосом об окончании её рабочего процесса, чем очень огорчила наши размягчённые сердца.
– Максим, возьмём пару бутылок и поедем ко мне домой, – родил дельную мысль мой приятель. – И никто нам не посмеет помешать, тем более, что жена с дитём у тёщи.
Я немедленно согласился, так как тащиться в опостылевшую гостиницу не хотелось дьявольски, а перспектива продления праздника излияния душ весьма и весьма прельщала.
Без всяческих торгашеских кривляний и изысков официантка выдала нам две бутылки коньяка по умеренной в пределах этого города цене, и уже через полчаса мы были в двухкомнатной квартире сокурсника на значительном удалении от места моего постоя.
Нехитрая холостяцкая закуска, наполненные рюмки да мужской разговор – что ещё человеку надо?
Оказалось, надо! И проявилось это «надо» после первой же бутылки, когда разговор наш опустился до бывших институтских подруг. И тогда-то светлая голова Андрея родила, может, и недоношенную, но жизнеспособную мысль:
– Макс, – изрёк друг. – Я сейчас звякну моей знакомой, чтобы она прихватила одну из своих подружек и топала сюда. Ты не против?
Сопротивление моё не знало границ, поэтому я сразу согласился, выразив, однако, сомнение, что будет маловато.
– Да в доме где-то есть бутылка водки, – быстро разрешил проблему моей печали хозяин и стал накручивать диск телефона.
Раздумья о том, что полночь не то что близилась, а уже несколько отдалялась, нас особо не томили. Да и затевался-то не загородный пикник на лоне!
Вскоре настойчивость моего друга в борьбе с аппаратом, достойная всяческих похвал, была вознаграждена положительным ответом абонента.
За рьяными поисками бутылки время проскользнуло мимо нас незаметно. И нашёл её Андрей где-то за холодильником, а когда водрузил оную на стол, раздался звонок, и мы ринулись открывать дверь.
В квартиру вступили две дамы. Первая, довольно приятная и фигуристая блондинка наших лет, ещё с порога начала выговаривать Андрею за столь поздний звонок, и по этой непринуждённости я тоскливо понял, что сей презент не для меня. А тот, что предназначался мне, поверг в лёгкий трепет, несмотря на выпитое и высокий аморальный дух.
Эта мадам, с обликом певицы народных песен очень позднего расцвета таланта, с излучаемой неприступностью министра обороны крупного государства, в строгом без изысков костюме и гладкой причёской, враз напомнила мне о кодексе чести и заблудшей овце. Вспыхнувшая было в душе искорка юношеских проказ, в момент потухла под её ледяным взглядом, а язык самостоятельно перешёл на «вы», когда я был представлен этой монументальной Дарье Ульяновне.
Тем не менее, уселись за стол. Андрей разлил, и все выпили, а Дарья Ульяновна, что называется, пригубила.
Где-то после третьей, в этой расцвеченной женщинами компании, я отмяк сердцем настолько, что стал находить Ульяновну приятной и даже начал несколько игриво на неё поглядывать. Ведь не для надзора за нравами она припёрлась сюда среди ночи!
Андрей со своею Нинкой весело щебетали о чём-то своём, магнитофон, включенный с приходом подруг, что-то томно по-французски пел, общий разговор не клеился, и меня дёрнуло пригласить Ульяновну на танец с целью более тесного контакта.
Топтались мы с партнёршей минут двадцать, но выдерживаемое ею расстояние между нами, не позволяло сблизиться даже духовно. В конце концов, я утомился и, поблагодарив Д.У. за оказанную мне честь, спровадил её на место, с которого так необдуманно поднял.
Часа в три ночи Д.У., прекращая эти глупые посиделки, засобиралась восвояси. Подлый Андрей, расчищая себе плацдарм, тут же выдвинул мою кандидатуру в провожатые этого инспектора колонии для малолетних преступников.
Д.У. пошла на выход, а услужливый хозяин сунул мне почти полную бутылку водки. Мол, ему будет не до этого. Можно подумать, что я сам не догадался бы прихватить её, уходя в ночь с таким грузом ответственности.
Процесс провожания свёлся к тому, что мы спорым солдатским шагом допёрли задворками до её панельной девятиэтажки, благо, было недалеко. Когда же стали подниматься по лестнице, я воспрял духом и даже восхитился логичной конспиративностью Д.У. Однако, остановившись на одной из лестничных площадок между этажами, этот дредноут в юбке, дал залп:
– Спасибо. Я пришла. Вы свободны.
Это был крах. Это был конец ещё не родившейся фольклорной песни.
Да чёрт с ней, такой любовью без особого желания! Но куда я попрусь ночью по незнакомому городу? Где же та вшивая гостиница? Где тот Андрей, если шли мы сюда какими-то задами и пустырями, и я ему сейчас вовсе не подарок?
Всё это я униженно размазывал словесными соплями, преданно заглядывая в глаза и ожидая спасительного круга от всё-таки, что ни говори, но женщины.
– Ко мне нельзя. У меня дома ребёнок, – бросила она мне вместо круга кирпич.
Вот тогда-то я и вспомнил богатые возможности родного языка и шагнул к ней, чтобы изустно нарисовать портрет балерины слоновьего стада. Удержала меня бутылка в кармане пиджака, которая нежно толкнулась в грудь при моём порывистом движении.
– Мадам, давайте на прощанье хоть выпьем, – галантно предложил я.
Д.У., конечно, возражала, упирая на отсутствие приемлемой посуды, но под конец, вняв моей горячей просьбе, сделала несколько, нельзя сказать, что неумелых, глотков. Я себе тоже позволил, и это несколько сблизило нас.
Мы о чём-то начали говорить. Якобы увлечённый пустой беседой, я, взяв за плечи собутыльницу, начал медленно с ней сближаться. Ожидаемого сопротивления со стороны Д.У. не последовало. Я совсем осмелел и, когда всем телом почувствовал её гордо выступающий живот и два мягких и объёмных полушария сверхроскошного бюста, послушно прижавшихся к моей груди, поцеловал женщину. Своим лобзанием я попытался выразить страсть и любовный трепет, но губы подруги остались глухи к моим телячьим потугам. Эта мороженая рыбина треска, по всей видимости, не токмо слыхом не слыхивала о всяческих «Камасутрах», но и «Дворянского гнезда» в руках не держала. Тогда я прекратил всяческие попытки лобызания этой иконы с районной Доски почёта, а мои работящие руки, скользнув по спине и крутым бёдрам, возлегли на широкий, но отнюдь не плоское задище Ульяновны, так как попкой назвать этот мощный агрегат нельзя было даже мысленно.
И вот тут-то, друзья мои, женщина ожила. Глаза её заметались по моему лицу, как бы заново изучая его, кончик языка заскользил по раскрывшимся губам, а вся она напряглась ожиданием.
Чутьём опытного механика я понял, что нащупал слабое место застоявшегося механизма и начал с возможной осторожностью старого наладчика плавно прохаживаться умелыми руками по тяжёлым ядрам осадного калибра, распирающим юбку Ульяновны пониже спины. В ответ женщина всколыхнулась всеми своими телесами и, слегка всхлипнув, бросила меня в свои объятия.
Это был не поцелуй. Она впилась в меня почти зубами и с производительностью пожарного насоса стала подливать масла в воспламенившуюся страсть, в чём я усердно помогал и, несмотря на явные признаки кислородного голодания, продолжал вручную охорашивать урожайные закрома Дарьи, прижимаясь из возможных сил своим воспрянувшим брандмейстером к её податливому животу.
Наконец Дарья, утомлённая первым бурным порывом, отвалилась от меня. Я же понял, что нельзя терять инициативы наступления. Так как с фронта и с ходу мой верный солдат вряд ли смог бы перейти в штыковую атаку и покорить эту цитадель павшей нравственности по причине значительной объёмности не утрамбованного плацдарма, который горным карнизом нависал над главной амбразурой неприятеля, то я решил пробиться с тыла, начав тактичным манёвром разворачивать Дашу. Как ни странно, она поняла мои стратегические планы и свою ближайшую задачу. Проворно развернувшись, моя пассия наклонилась и, твёрдо опёршись руками о низкий подоконник, представила мне полную свободу действий.
Дальнейшие события понеслись ударным, боевым темпом кавалерийского наскока. В порыве атакующего вдохновения я задрал юбку Дашеньке почти до шеи, обнажив прекрасного покроя панталоны небесного колера, и пока одной рукой сдирал эти китайские доспехи с её матовых плафонов дворцового значения, другой, уже выпустив из стойла своего гарцующего рысака и схватив его под уздцы, толкал влажной мордой в поистине королевские ясли.
Очень скоро мой упорный интервент, ступив на путь прямой агрессии, начал медленно, но уверенно внедряться в сырую тьму логова неприятеля. Я как мог помогал, корректируя его передвижения, а он по-пластунски умело и проворно обследовал жаркие дебри своего приюта, тем самым взвалив на свои покатые плечи всю полноту ответственности за проведение операции.
«Бедняжка, давненько, видимо, ни с кем не дружила», – тем временем мысленно сочувствовал я Дарьюшке, ощущая неослабную крепость тисков её чудесного инструмента, в которые попал мой верный рядовой незримого фронта.
Прямо скажу – не долгой была яростная сеча моего витязя на распутстве с потаёнными силами сопротивления в лабиринтах женских чертогов. Ещё один судорожный рывок вперёд и, достигнув полной виктории на этом, изобретённом ещё Евой турнире, мой безупречный рыцарь разразился сладкой слезой умилённого ликования, заставив меня затрепетать былинкой на ветру и обессилено опуститься грудью на уютную спину Дарьи Ульяновны.
Впрочем, упадок сил скоро прошёл, и я, приняв достойное вертикальное положение, начал неспешно вызволять из никчемных теперь сетей женского соблазна своего гладиатора, немного ослабевшего от пережитого потрясения нервных рецепторов, но ещё не охваченного заморозками осеннего увядания.
И вот тут-то, братцы мои, опустив очи долу, я с омерзением узрел, что этот сукин сын и недобитый стрелец с самодовольным видом выползает совсем не из тех ворот, как говорится, откуда и весь народ. Оказывается, этот безмозглый иждивенец и интриган прогулялся по верхнему этажу внутренних покоев Ульяновны! И хоть моё мироощущение от этого не пострадало, но, господа и даже дамы, надо же иметь какой-то такт, дорожить оказанным доверием и, в конце-концов, придерживаться каких-то моральных и этических норм! Хотя бы в начальный период.
Пока я соболезновал своим попранным принципам, Дарья Ульяновна привела себя в надлежащий вид и, как бы вопросительно, посмотрела на меня.
Я же, поскорее упрятав наглого проходимца в подполье штанов, виновато, но с оттенком укоризны, спросил:
– Что же не подсказала, ведь промазал?
– Я подумала, что тебе так привычнее, – со смирением ответила Д.У. и добавила:
– А вообще-то пойдём ко мне, попробуем по-настоящему.
Видимо, я сумел-таки, несмотря на огрехи, раскочегарить эту, застывающую было доменную печь, раз она, позабыв про дитё, позвала меня за собой. Но когда мы вошли в прихожую, у Дарьи Ульяновны вновь проснулся материнский инстинкт.
– Тише, там ребёнок спит, – указала она на одну из дверей трёхкомнатной квартиры. – Пошли на кухню.
Сначала мы допили бутылку, которую я, конечно же, не забыл, и о чём-то поговорили, как друзья. Потом отведали како-то самодельной наливки, а перед отходом к недолгому уже сну, мне приспичило, согласно правилам личной гигиены, принять душ, пока хозяйка будет готовить нам постель.
Я принял банный вид прямо на кухне, так как стесняться уже не приходилось, и проследовал в ванную, дабы смыть распутный грех с тела, а заодно и ополоснуть своего супостата.
Под душем я, помятуя о ребёнке, особо не шумел, разве что поголосил о тореадоре, да и то, в основном, без слов, затем, заглянув на кухню, принял положенную после бани порцию настойки и отправился в опочивальню Д.У.
И вот тут-то, едва я вышел из кухни, на меня обрушился здоровый мужицкий храп с переливами и посвистом, вырывавшийся из спальни моей подруги. Очень не люблю я эту человеческую распущенность, особенно наглую у крупных особей, и поэтому устремился на рык этой полковой трубы с ярой решимостью Отелло на семейном совете с Дездемоной. Однако, возле двери так называемой детской, я притормозил, решив взглянуть на спящего ребёнка, так рьяно опекаемого дрыхнувшей сейчас мамашей. Но когда я вошёл в комнату, то в неверном свете уличного фонаря увидел…
На кровати лицом к стене спала девушка, явно не школьного возраста. Одеяло было где-то в ногах, рубашка её задралась, и круглая белая попка полной луной нагло светилась в сумраке комнаты. Я враз ошалел от такого натурального реализма и, влекомый инстинктом к прекрасному, лунатиком двинулся к незнакомке. А мой башибузук, напрочь забыв недавний инцидент, враз вздыбился в почётном карауле, салютуя новой шахине.
«Сестру, поди, ребёнком прикрывала», – с неприязнью подумал я о Д.У. и прилёг к девушке.
Продолжавшийся храп в соседней комнате вселял надежду, что начальный период моего, ещё не совсем ясного плана, проходил нормально. В дальнейшем, если дело примет крутой оборот, естественно, можно будет сослаться на пьянку, провалы в памяти, снохождение и прочую ересь, а пока что моей безопасности ничего не угрожало. И так как ни время, ни место к задушевной беседе не располагали, точно так же как и к прямой атаке, то я, решив создать изначально о себе хорошее впечатление, стал робко, но с дружеской убедительностью, поглаживать шелковистую и сочную попку сестрички Дарьи Ульяновны, иногда легко касаясь мордочки её пушистого зверька, таившегося между ляжками поджатых ножек.
Девушка по-прежнему не проявляла беспокойства, хотя её любопытная киска, доверчиво уткнувшись в мою ладонь, ощутимо напружинилась под своею мягкой шёрсткой, уже готовая заглотить подвернувшегося ко времени мышонка. А этот самый мышонок, если можно так обозвать моего ударника постельного труда, уже суетился вокруг да около, тыкаясь своей глупой головой меж упругих полушарий неутомлённой сидячей работой девичьей попки, но не лез напролом, памятуя о недавнем конфузе.
– Ты ко мне пришёл или к маме? – Вдруг воткнула мне ножом под ребро вопрос юная особа совсем не сонным голосом.
«Вот и конец голубку. Разорвут!» – Обожгло меня, и я выдохнул первое попавшееся:
– К тебе. В гости.
Тогда она, не оборачиваясь в излишнем любопытстве, просунула меж своих ног руку, уверенно схватила моего дорогого друга за хобот и направила прямой дорогой в нужном направлении. Я понял, что он был в этих гостях далеко не первым, но нежная упругость ещё не сбитого инструмента так взбодрили нас, что мой всеядный путешественник своим буйным весельем в молодых недрах девицы скоро одарил меня лёгким ознобом разрядки межполовых отношений.
Но как раз в этот ответственный момент юная леди вдруг опытно дёрнулась вперёд, мой селезень неожиданно вывалился из уютного, так умело обживаемого гнезда, и его бальзам, предназначенный для нормального развития птенцов, бесцельно излился на белый саван простыни.
Я всё же благодарно поцеловал девушку в плечо и прошептал:
– Я, пожалуй, пойду.
Она не ответила, а в окно уже стучался невзрачным петухом рассвет.
Я осторожно прокрался на кухню за одеждой, а Д.У. по-прежнему спала, похрапывая уже совсем не по-военному.
Плетясь в гостиницу, я ломал голову над неожиданным вопросом девушки, но ответа не нашёл и до сих пор.
РЫБАЛКА КАК РЫБАЛКА
Как поётся в старинной песне: из-за острова на стержень, на простор речной волны выплывают расписные. Как будто тут и ночевали. И чего дома-то не сидится в такую рань? Рыбнадзор, вишь ли, наблюдение учиняют над сельскохозяйственным рыболовом. Своё кровное что ли сберегаешь? Так ведь щурёнок какой или налим завалящий и сам знает, на чей крючок насаживаться да под какой бредень бросаться.
Я всегда душой маюсь, когда этот самый надзор вижу. Сетей порезанных, само собой, жалко, но ведь и надзирать с умом надо. Сегодня, скажем, надо мной, на завтра над соседом, а там и праздник какой отметь совместно с народом. А то навалятся на одного, хоть святых выноси для заступничества. К тому же у меня и динамит-то почти весь вышел, который тятя, считай, всю войну копил, несмотря на партизанское движение. А что до электричества, то после Антошкиных похорон, мы всей деревней уже с год как пользоваться опасаемся. Такая незаметная зараза оказалась – хуже блохи и кусает насмерть. Что ты! Куда ни сунься – кругом лампочка Ильича. Ещё по первому классу, пока не закурил, в память врезалась.
Словом, не уважаю я рыбное начальство. А за что любить-то после всяческих пакостей по изъятию незаконных, по их отсталым понятиям, орудий труда лова в заповедных местах? Не нравится, так ты их узаконь – и дело с концом.
Правда, в запрошлом году хороший надзор был, грех обижаться. Всё по справедливости и никакого браконьерства. Хоть с сетью, хоть с острогой на нересте, но закон один – ты им по совести, и они с ответной дорогой душой. Ещё и присоветуют, в каком затоне пересидеть при повальной облаве. Так ведь разогнали разумных мужиков в разные стороны. А Самсоныча старшего, так и вовсе под негласный надзор на далёкие реки сплавили. И как теперь браконьерству не процветать? Нету, одним словом, справедливости на наших реках и озёрах до такой степени, что хоть на собственных задворках карасей разводи и не думай о вольных просторах. Если ты, конечно, рыболов или рыбак. Но это как кому.
Но нынче я с удилищем расположился. И по мне – хоть трава не расти, не то что ихний надзор над рыбаками. По мне сейчас хоть довоенный лещ взыграй, я не почешусь. Да какая тут рыбалка, если я вчера в саду за резедой с соседкой переморгнулся. К тому же, и жена моя рыбку уважает. Вот я так, не помню, сколько лет, и стараюсь. Пока причинным местом к земле примерзать не начинаю, всё рыболовлю. Соседка на всю зиму довольной остаётся, я, вроде бы, по утрам при деле, а жена краснопёрок и ершей чистит – не начистится.
Так вот сижу при спокойных поплавках и плюю с берега на рыбоохрану, что хоть и косится на меня, но коровьей лепёшкой мимо проплывает. Знает, что в светлое время меня голой рукой не ущучишь.
Прикидываюсь я этаким застенчивым битый час. Уже и приложиться успел. А что за рыбалка без обогрева души? Сплошное баловство и потеря самоуважения. Однако, соседки моей, дубины стоеросовой, как не было, так и нет. Каждый раз всю координацию местности и план мероприятий ей подробно разъяснишь, а баба непременно с пути собьётся, время перепутает и обязательно придёт с другой стороны. Ты ей хоть мировую карту рек нарисуй, но толку от этого будет мало. С отрочества уже не девка, но женский заскок никак не выветривается. А, главное дело, понимает, что времени всегда в обрез, а удовольствий по этой причине, как на молотьбе при общей толоке. Сейчас-то приемлемо, не заморозки, погода до трусов облегчиться позволяет, но дождь грянет ни с чего – дело труба. Вот и сидишь, как лунь, бабью непотребность склевавши. Горюешь бессловесно.
Но тут, вроде, и у меня клевать стало. Однако, на голый крючок, что речной рыбёшке и в пасть не взять, разве что лягушку поймаешь, а всё равно – какое-никакое, но развлечение рыбацкому уму. И только я так развеиваться стал, слышу – кто-то крадётся со спины. И шаг, чую, не наш, не местный – земля не играет. Значит, думаю, дачник. И понапрёт же их за лето! Будто в городе на асфальте места мало. Ведь не дают спокойно отдохнуть местному человеку. Но надеюсь, что мимо пронесёт проезжего странника. Ан нет, слышу, сзади затаился и на мою рыбалку любопытствует.
Я такое кино враз пресекаю понятным словом. Мне с дачниками в очередях и по митингам не шастать. Ать, два – и гуляй дальше с левой ноги. С матом действует хорошо. Кто послабее, так всё лето потом дальше своего стойбища отойти боится, хоть я и не злопамятный и всего пару-тройку раз за сезон городских по деревне гоняю. Да и то по праздникам и при холостых патронах.
Я бы и тут не сплошал, но всё-таки промашка вышла. Видать, из-за тёплой погоды. Словом, только я оскалился и воздуха в свою личность побольше захватил, чтоб языку просторнее было, глядь, а передо мною особа женского пола. И даже две. И возраст мой любимый. И телом, что одна, что другая, как гирьки на весах. И безо всяких излишеств – в одних купальниках на голое тело. И я это понимаю правильно. Хорошо, когда всё навыкат, как на прилавке. Зачем скрывать, если много и не жалко? Ведь не грудной возраст. Вон, куда ни глянь по заграницам, целые берега для голого времяпрепровождения отводят, будь то хоть мужик, хоть иной разнополый человек. И ничего! Оглядятся, притрутся друг к другу и давай мячик или иной предмет гонять безо всякого уголовного преследования. Да и голому-то человеку ой, как не с руки закон нарушать. Сам попробуй – разденься до нитки да и ограбь ларёк или сопри портоманет на транспорте. То-то и оно – не решишься!
Так вот, как глянул я на этих приблудных, так сразу вся моя тоска по боку. А что зря время терять, если моя ротозейка не явилась? Пусть и дальше скитается одиноким туземцем по своим чуланам. Моё дело – полюбовно предложить, а верность я лишь жене обещаю в моменты интимного течения жизни.
Словом, стал я к этим залётным лебедям мелким бесом подкатываться и склонять в нужную сторону взаимопонимания. Что ни говори, а я на это дело сызмальства дерзкий.
Начал разговор с сенокоса и погоды, а потом и присесть пригласил, благо, не всё приголубил да и огурцы на закуску остались.
Вижу, заинтересовались дамы моим ухажёрством, а я, если не перебивать, век с мысли не собьюсь, что думаю, то и вещаю, тем более на солнцепёке.
Слово за слово – разговорились. Почти душевно. Вижу, девки здоровые, потому как всё время хихикают и от угощения носы не воротят. Да и обличием приятные, смотреть можно. Правда, одна личиком подгуляла, но всё равно не медный кувшинец. Клювиком не обидел, но не совсем, чтоб уж очень развесистым. Терпеть можно.
Зато другая – прямо картинка – носик рыльцем, а глаза как пуговки у магазинной игрушки. Понравилась она мне, а особо тем, что буковку «р» при разговоре придерживала, словно дитё неразумное.
Да, повеселились мы тогда через край! Часа не прошло, а я уже совсем неженатым оказался. А когда под кувшинки голиком подныривать стал, то мы и вовсе породнились, как город и деревня при совместных взглядах на светлое будущее. Правда, я всё больше под свою курносенькую подныривал, слабинку нащупывал, но и подругу её, когда под мокрые руки попадалась, не забывал. Тоже ведь живой человек! Однако, когда обсохнуть повылезали, я всё внимание на мелкоглазенькую обратил и нежным обхождением завлёк её поближе к низкорослой кустарниковой растительности. Оставшаяся в одиночестве вторая игрунья свой медный рукомойник от нас отворотила. Вроде как в оцепление подрядилась, очереди дожидаючись. Тут мы и не растерялись. Я-то ведь на природе живу, дело знакомое да и не замшелых ещё годов.
Подробности особые расписывать нечего. Поди, каждому, если не враг себе, случается случаться в разных условиях жизненных неудач и потрясений. Словом, проворонила клювастенькая неприятеля. Видно, ей носик весь обзор затмевал. А мы едва травку пообмяли. И только моя дачница начала своими голыми местами лишних жуков давить, как по моим оголённостям так вжарили каким-то суковатым дубьём, что я в момент свёргся со своего живого насеста, словно мокрый лапоть с печи во время пожара. И, главное дело, оприходоваться-то не успел, хоть и стремился к тому со всех сил тела и души. А где успеешь, если купанье не ко времени затеяли, словно век воды не видавши.
Так вот. Скатиться-то я скатился с городской свежести, от которой сразу и след простыл, видно, что учёная, но от палки ускользнуть не вышло. А главное, подняться не дают, с двух сторон рукоприкладствуют. И оттяжка мужская, хребтом чувствую. Знать, мужики своих баб выследили, а мне за их разврат отдуваться приходится. Думаю, может, до конца не прибьют, но хозяйство повредить могут. Затаился калачиком. Тут ведь поднимись, так подковырнут таким образом, что до безвременной старости будешь малолеткам в церковном хоре подпевать, да выхолощенному кабанчику соболезновать.
Однако, голос я подал. Со всей мочи и на всю округу, чтоб врага оглушить или тот же рыбнадзор к месту убийства привлечь. Спасибо, подействовало. Да и как не подействовать, если потом говорили, что от этого рёва народ по деревням в ополчения начал сколачиваться и спички с солью раскупать?
Как только перестали надо мною насильничать, собрал я последние недобитые силы, да и взглянул, считай, смерти в глазка. Взглянул я и заплакал, с места умом не сойти. Свежевали-то меня собственная жена и милая сердцу соседка. Вот тебе и близкая родня, вот тебе и верная подруга!
ЖЕРТВА ИСКУССТВА
Произведя в умственных родовых муках на белый свет новый нетленный шедевр, поэт Илларион Затуманов отбыл за город, чтобы в послебредовой горячке пустоголово побродить среди злаков и трав и впитать иссохшей душой девственные прелести лона природы.
Истекал месяц май, и солнце было тугим лучом с голубого поднебесья, даруя ликование флоре и фауне. Лёгкий ветерок, рождаемый природным естеством земли, шелестел в кущах зелени и разглаживал многодумные складки на челе поэта. Даже венчик волос, достойно окаймлявший степенную плешь Иллариона, трепыхал от вольной радости умиротворения в бережной волне воздушного потока. И хотелось полногрудо жить и зачинать её в чьём-то таинственном лоне живой природы посреди тенистых дубрав или заливных лугов.
Но зачинать было не с кем. И Затуманов пожалел, что не увлёк с собой давнюю почитательницу его дивного таланта Инессу Игоревну, женщину интеллигентную и легковоспламенимую, словно сухая доска, которая притягала поэта постоянным полыханием огня любви в сосуде своего мелкого тела. А поэтому мысль о ней всегда горячила блудом пылкое воображение поэта, придавая лёгкость походке и спортивную цепкость взгляду.
Иллариону было за цветущих сорок, но несмотря на малоподвижный образ жизни и приступы ишимии, он ещё пленял дам изысканностью суждений и гранями поэтического дара. Однако всегда, после очередного пленения, возвращался к Инессе Игоревне, моля о снисхождении к его лирическим слабостям. И женщина, ценя талант в разносторонних проявлениях, снисходила. Ах, Инесса!
Илларион медленно брёл под сенью лиственных деревьев, вспугивая пернатых и прочую наземную живность, устраивающую в эту пору свою понятную жизнь ради потомства. Но скоро лесополоса закончилась, и поэт упёрся в заборы дачных участков, так некстати засорявших природную красу на его задумчивом пути. Людей, и так порядком надоевших своим суетливым мельканием в городе, видеть не хотелось. И чтобы не сбиваться с радужного следа одинокой мысли, Илларион хотел было повернуть назад под уютную тишь деревьев, как вдруг увидел невдалеке у кустов, лежащего со стороны солнца, человека. Человек лежал на спине и без стеснения загорал, потому как был совершенно голым и открытым для светила и постороннего взгляда. И по чисто внешним признакам раскинувшегося тела, Затуманов опознал в человеке женщину и застыл в немом восторге созерцания, изгнав из памяти уже лишнюю Инессу.
Женщина лежала естественно просто, с закинутыми за голову руками, безо всякого расчёта на эффект для постороннего взгляда, и, казалось, спала. Черты её тела были свежи и чисты, как этот день раннего лета, а формы, своим содержанием плотной упитанности, устраняли всякое желание сопоставления не то, что с засушливой стройностью Инессы, но и с недавней, урожайной лишь бюстом Викторией Павловной. И Илларион стоял каменной бабой, постепенно окутываясь розовым туманом вожделения и обладания, а услужливое поэтическое подсознание уже нашёптывало планы достижения вполне определённой цели. Поэтому, спустя отмеренный для принятия решения срок, он уже уверенно двигался к манящему соблазном одинокому телу, на ходу внутренне молодея и внешне подтягиваясь до пристойного вида.
Затуманов остановился в нескольких мелких шагах о спящей незнакомки и неспешным взором оценил подарок судьбы.
Подарок не был так юн, как казалось издали, но и не имел на себе грустных отпечатков бессистемного употребления бурным потоком времени. Это была женщина вполне средних лет, не красавица, но с приятной мягкостью черт лица и не увядшей припухлостью ещё ярких губ. Её груди, под солнцем разбежавшиеся в дрёме, ещё круглились полнотой жизненных соков, а соблазнительная родинка на левой позволяла предполагать, что они хорошо знали себе цену. Живот не скрывал талии и не стекал по бокам, но и не проваливался пупком до позвоночника, а покоился в своих природных границах уверенным обещанием мягкого и удобного ложа. Он сбегал к чёткой границе смоляных колец, которые плотным треугольником начинали тесниться на его нижней части, не оставляя надежды нескромному взору лицезреть даже дальние подступы к заветной лазейке женского естества. И только явно возросшая длина волос с противоположной завивкой в два ряда на нижнем углу кучерявой фигуры опытному человеку указывала на наличие под ними следа потаённого разделения лепестков телесного бутона, раскрывающегося лишь при нужном положении женских ног. Но как раз ножки-то были сведены, поэтому пытливый взор поэта, стекая с крутых бёдер и возвращаясь вновь к чернеющему в защитном одеянии мыску, лишь елозил по его поверхности и цеплялся за воронёные кольца плотной маскировки.
– Ну, что уставился, козёл? – вдруг дошёл до его сознания спокойный грудной голос. – В первый раз видишь голую бабу?
Илларион испуганно повернулся на голос. Женщина уверенно и насмешливо смотрела на него большими карими глазами, не меняя позы и не показывая суетливого стыда.
Затуманов смешался под прицелом этих очей, чувствуя почти забытую неловкость школьника, застигнутого при подглядывании за переодевающимися на урок физкультуры одноклассницами. Он что-то промычал, пытаясь объяснить ситуацию нечаянностью его задумчивого пути.
Но вдруг женщина неожиданно сама пришла на помощь.
– Ах, Затуманов! Извините, я вас не узнала сразу, – запела она. – Здесь никто не ходит… Поэтому мой вид… Я сейчас… – и потянулась рукой к одежде.
Эти слова моментально вернули Иллариона на уверенную стезю бытия, и он, оправляясь от смущения и удерживая женщину рукою за плечо, как бы в творческой рассеянности произнёс:
– Не извольте беспокоиться, я вам не помешаю. Да и что может быть прекраснее невинной обнажённости? У меня уже невольно родились строки об этой нечаянной встрече, об утверждающей силе жизни и женщине, дарующей её.
Говоря это, Илларион в творческом порыве опустился возле незнакомки, а она, с умелой зачарованностью от встречи с поэтом, более живописно раскинулась на покрывале, пренебрегая мелочной условностью, принятых простыми смертными бытовых норм стеснительности.
– Ах, прочтите! Я давняя поклонница вашего таланта, – залепетала она, томно поводя плечами, от чего груди заволновались, тоже выражая готовность приобщения к высокой поэзии.
– Вы знаете… Извините, ваше имя? Вы знаете, Алла, сонет ещё сырой, – не стал отнекиваться Илларион, отыскивая в дебрях памяти подходящие к случаю стихи, – но так и быть. В знак вашего прощения за моё неуместное вторжение, я дарю эти строки вам. Они навеяны одиночеством и неожиданностью встречи.
И он, усевшись поудобнее, со скорбным подвыванием тунгуса над павшей собачьей упряжкой, начал струить отроческие стихи с любовным уклоном.
Постепенно рука поэта, отмахивающая размер, начала опускаться всё ниже, пока не накрыла своей ладонью притягательную родинку на левой груди Аллы.
Проверенные годами строки извергались из недр памяти поэта ровным и тягучим потоком, не требуя напряжения ума и трепета сердца. Рука же, в забывчивой истоме вполне самостоятельно ползала по податливой и нагретой солнцем груди, изучая её шелковистую выпуклость до дрожи в пальцах, а её хозяйка, без намёка на сопротивление, впитывала поэтические словеса уже как бы в забвении отуманенного стихом сознания. Но когда Илларион перешёл к исследованию второго, уже без родинки, объекта, стихи иссякли, что принудило его к возвращению в прозу жизни и необходимого поиска предлога для снятия собственных штанов. И пока Илларион сумеречно раздумывал, Алла вновь пришла ему на помощь, предложив иной и несколько окольный путь.
– Прочтите ещё, – прошептала она, разрешая сомнения поэта.
Илларион с жаром принялся за следующее сочинение того еже смыслового заряда, но значительно более протяжённого по времени. И всё стало на свои места. А поэтическая рука, как по лирическим волнам, поплыла по женскому телу и мягко вползла в кудрявые заросли, явно угрожая дамскому интимному одиночеству.
Алла, внешне завороженная стройностью рифм и нежным трепетом написавшей их руки, внутренне уже прощалась с девственной чистотой ускользающего покоя. Поэтому ноги её, уставшие от тягот ожидания, бездумно разошлись, позволяя вслед за лучами светила, скользнуть руке лирика к источнику навалившегося на него вдохновения. И под его пальцами ясно проступил, как строчка в памяти, умело слепленный природой и взбухший желанием соблазна, живой венчик лепестков женской цветочной завязи. Острая жажда наслаждения телесным нектаром этого бутона, жалом медоносной пчелы ударила в рифмообильный мозг, до боли напрягая мужскую суть поэта. И он был готов сорваться с насиженного места, но мешал автоматически струящийся стих и углублённое внимание к нему слушательницы. Поэтому было бы, рассуждая здраво, кощунственным моментально лишать её радости парения в заоблачных дебрях словоблудия. К тому же, Иллариону давненько не встречалась столь поэтическая натура, способная долго выдерживать напор его таланта.
Но вот стихи выплеснулись полностью, и автор застыл в сладкой истоме разрешения от бремени исторгнувшихся словес и готовности к земной и грешной любви.
Однако, рифмовместительная Алла вновь призвала к священному алтарю поэзии блудливого стихотворца. И Илларион не смог перечить, видя перед собой такую благодарную почитательницу и ценительницу прекрасного. Он вновь погрузился в стихотворные чащобы, впадая в азарт творца, и рука его беспокойно ожила на нежных дольках дамского соцветия, погружаясь меж ними своими тонкими перстами на достойную глубину в такт стиха.
Внемлющая Алла, казалось, даже телесной оболочкой своею погружалась в мир поэтических грёз. А уже при чтении следующей, начатой Илларионом по собственному почину поэмы, она содрогнулась от прилива полноты чувств глубинного понимания стихотворного текста и тягот сопереживания лирическому герою, а затем больно стиснула напрягшими бёдрами руку поэта, сопровождая лёгким стоном взлёт удачной рифмы.
Иллариона к этому времени пронял авторский зуд, и он без передышки явил слушательнице ещё одну грань своего могучего таланта, начав было читать элегии. Однако Алла, достигшая стадии пресыщения словесным потоком и разгорячённая поверхностным снятием напряжения тела, бесцеремонно прервала его.
– Ларик, возьми меня, – просто предложила она, готовностью тела призывая к окончанию пустых поэтических забав.
Илларион принял этот призыв к действию и, мигом скинув одежду, в молитвенном коленопреклонении опустился на освободившееся от разбежавшихся женских ножек место, внутренне вполне готовый к любовным безумствам. Но каково же было его трагическое изумление, когда он вдруг постиг визуально, что его внешняя готовность никак не фиксируется, а истомлённая безжалостным ожиданием, являет собой предмет рабского подчинения силам гравитации. Он недоумённо смотрел на своего падшего до жалкой сжёванности ангела и, напрягая мысль в нужное русло, пытался помочь ему видением соблазна светлого и облегчённого будущего. Увы, истощённая стихом мысль не давала стойкого результата.
– Ларик, ну что ты там застрял? – бросила Алла пригоршню соли на нежданно открывшуюся рану поэта.
И Илларион, моля о снисхождении превратную судьбу, закрыл своим обмякшим телом амбразуру изготовившейся воительницы, насильно вклинивая в сознание надежду на благополучный исход предприятия. Но чем больше напрягалась мысль, тем менее соблазнялось тело.
«Перегорел», – с тоскливым ужасом стукнуло в мозгах Затуманова.
– Ты что, не можешь, старый козёл? – рухнул с поэтических высот визгливый голос Аллы. – Так бы сразу и сказал, лесбиянин хренов. А ещё писатель! Слезай, гладиатор недобитый!
И Илларион, ни слова не говоря в оправдание, повиновался, внутренне понимая обоснованную ярость женщины, обманутой в своих лучших надеждах.
Сумрачно плетясь домой, поэт Илларион Затуманов безо всякой нужды искал рифму к оскорбительному, но мало понятному слову «лесбиянин», а не найдя достойной, махнул на всё рукой и вспомнил Инессу Игоревну с её тонким пониманием жизненных коллизий. От этого на душе порозовело, и во всей природе почувствовалась перемена к лучшему.
НА ГРАФСКИХ РАЗВАЛЕННЫХ
Увы и ах! Едва князь Эпполет с расторопностью младого гусара на постое скинул тесные рейтузы и обнародовал свою голую стать, а графиня Лизаветта, урождённая фон Крендельброд, грациозно задирая подол и сминая кринолин наряда, спиной низверглась на кровать, широко развалив свои полноватые конечности, как дверь в будуар без стука отворилась, и вошедший дворецкий, с бесстрастным и сухим лицом беспробудного постника, произнёс, скользнув взглядом по набухшим прелестям хозяйки:
– Госпожа, граф ждёт вас к обеду.
Это был жуткостный удар по светлым чувствам князя, и он, с пожарной поспешностью облачась в мундир, не выдержал:
– Лизаветта! Сколь долго можно страдать из-за пробелов в воспитании вашего супруга и его холопов? Уже не в первый раз наглое вмешательство прислуги в наши с вами светские беседы оканчиваются плачевным итогом столбнячного надругательства над моим организмом! Ангел мой, немедля поедемте кататься по моим дубравам и пажитям. Я умчу вас в светлую даль с нежным шелестом листвы в укромных гнёздах интимного разгула. Карета уже ждёт у заднего крыльца.
– А что я за ужином скажу любимому супругу? – ломая персты и пуская на бюст слезу, вскричала графиня.
– Обмолвитесь, что вы провели время в обществе подруги детства, делясь воспоминаниями о паломничестве в святые места или, на худой конец, сошлётесь на прощание с дорогим кузеном, отбывающим с оказией в Сызрань, – немедленно надоумил Эпполет.
– Но ведь придётся пройти через людскую, а это чревато оглаской среди черни, – резонно заметила графиня, впадая в размышление о соблазне и последствиях такового.
– О, мон шер, – проворковал соблазнитель. – Что нам молва при наших дружеских сношениях? Натужный гром средь ясного неба. А наиболее говорливым просто пригрозите самосудом на конюшне.
– Но ведь на дворе ненастье, а мне так не хочется мочиться, – из последних сил сопротивлялась разуму Лизаветта, накидывая вуаль на чело.
На улице шёл дождь, унылый дождь отлетающего лета. Тяжёлые капли глухо бились о стёкла окон и, нехотя скользя по ним, с покорной безысходностью устремлялись к сырой земле. В будуаре веяло тоской.
«Низменное наслаждение падением. Вот так и мы – бьёмся, устремляясь к чему-то возвышенному, а упадём, никто и не вспомнит, кроме обездоленных наследников», – грустно и не к месту подумалось князю, но вслух он бодро произнёс:
– Душа моя, карета укроет нас от осадков. Решайтесь же!
В экипаже было уютно, как за пазухой у епископа. Полутьма влекла к чему-то потаённому и первобытно-дикому, и князь, вспомнив своё неуёмное отрочество с вольными игрищами в кругу сенных девок, твёрдой рукой обнял плечи графини, позволив другой отправиться в увлекательное путешествие по телесным резервациям прелестницы.
Лизаветта трепетала всеми фибрами души, а когда игривая рука князя своими ловкими и в перстнях пальцами упёрлась в её мшистую поросль, окаймлявшую мягким орнаментом два сомкнутых и влажных лепестка не изношенного ещё бременем воспроизводства органа, она с великосветской непосредственностью прошептала:
– Ах, князь! А не поспешествуете ли вы моему бедному супругу на выборах предводителя местного дворянства на ближайшем собрании?
Боевой задор князя упал с высот вожделенного блаженства к ногам грубой обыденности, руки опустились, как плети загулявших ямщиков, а в голове проклюнулась мысль: «Всё повторяется с непристойностью долговой ямы. И эта, как все мои дворовые пассии. То им мужа подавай, когда понесёт от меня необузданной кобылицей, то отправь на дальние отруба, чтобы могла вести натуральное хозяйство, излишне не мозоля незаконными плодами любви».
Эпполет тяжело вздохнул, но сказал примирительно:
– Радость моя, вне всякого сомнения, я приложу свои недюженные силы не только к вам, но и к вашему супругу. Он, пребывая безымянным перстом длани, в скором времени будет попечителем богоугодных заведений, вплоть до публичных. А посему, не будем более отвлекаться по мелочам от нашего разговора интимного толка.
Лизаветта незамедлительно приняла к сведению прозрачный намёк князя и спешно разложилась в карете, как пиковая дама при удачном пасьянсе. И Эпполет безоглядно бросился в объятия её точёных ног, как под копыта кобылицы, то есть со страстью преднамеренного самоубийцы. И родовое княжеское достоинство нацелилось полностью отдаться растерзанию цепким недрам горячих телес графини, а сам князь приготовился к взлёту к вершинам постижения основного природного смысла бытия.
Но вдруг, в этот сладостный миг общения, под экипажем что-то трескуче хрустнуло, и импровизированное ложе любовников потеряло под собой шаткую опору. Трепетные и влажные ножны графини испуганно исторгли любезную шпагу князя, а её ноги лебедями взметнулись вверх и упёрлись в крышу кареты. В распахнувшуюся дверцу ударили струи дождя и омыли не только разгорячённые чресла князя, но и белопенные купола холёных лядвий графини.
Со стороны кучера послышались вопли о сломанной оси и воспоминания о матери.
Князь, кляня судьбу и озверев от вынужденного перерыва в достойнейшем для мужчины деле, схватил на руки Лизаветту и рысью углубился в недалёкий лес.
Мокрые ветви в припадке банной ярости больно хлестали бегуна и его ношу по беззащитно оголённым местам, колючий кустарник рвал разгорячённые тела, а жгучая крапива и терновник неотступно терзали ноги Эпполета, доставая аж до раскачивающегося на неровном бегу и бившегося о жилистые ляжки скромного кожаного кисета с его благородным семенем. Но князь мчался вперёд, ухватившись за свою жертву мёртвой хваткой утопленника, озирая на бегу дикий ландшафт в поисках подходящего места для продолжения диалога с дамой сердца.
Наконец, в горячечном нетерпении он низложил графиню меж корней векового дуба и бездумно овладел её звонким телом до полного истощения своих скромных сил…
С той памятной поры графиня Лизаветта напрочь отказала князю Эпполету с визитами, вполне справедливо считая, что в тот, подмоченный осенью день, было верхом безнравственности и невежества укладывать её ухоженное и неприкрытое причинное место отхожего промысла на мокрый муравейник. Так что, увы и ах!
САДИСТКА
Алексей не терпел одиночества и пустоты жизни. Так, в свои двадцать пять, малость поистрепав себя слабостью к женскому полу и частой сменой рабочих мест, он успел второй раз жениться и обзавестись потомством от обеих дам.
Вторая спутница оказалась женщиной серьёзной – с ребёнком на руках и царём в голове. Она быстро повесила на шею Алексея хомут и, умело понукая, заставила тащить семейный воз к будущему благополучию со смирением.
Алёша было посопротивлялся, но супруга без долгих раздумий посадила на этот шарабан ещё одного, уже его собственного, спиногрыза, и счастливый отец сдался окончательно, поведя оседлый образ жизни.
Работа, пелёнки и ожидание новой беременности загнали Лёшку в такое беличье колесо, что он, на удивление всего райцентра, допрыгался до сверхурочной безотказности и возделывания огорода под картошку. И душа его не воспаряла теперь звонким жаворонком, а ползала зелёным крокодилом по болоту жизненной суеты. И лишь в редкие минуты отдохновения в кругу прежних друзей, он умывался скупой слезой, не стыдясь товарищей, и вспоминал первую отходчивую жену Светку и иных нежных представительниц городка.
Так и катилась сплошными буднями дни, лишённые соблазнительной свежести, к уже недалёким, как казалось, преклонным годам и внукам.
И докатились бы, не повстречай он как-то раз в очереди за чем-то съестным Светлану.
Нельзя сказать, что они не встречались всё это время. Алексей, например, знал, что она так и не вышла замуж, видимо, насытившись прежним супружеством, что живёт с родителями в доме на окраине и что их трёхлетняя дочь растёт ухоженной и развивается нормально. Знать-то знал, но вот такого близкого контакта, который создаёт очередь, избегал. Да и Светлана никогда не стремилась к сближению, всегда обходя бывшего мужа стороной при встречах на улице. И сейчас они вряд ли бы оказались рядом. Просто, впереди стоящая тётка, держала для Светланы место в очереди, а когда бывшая жена подошла, то им уходить от близкого уже прилавка было не с руки. Такая вот вышла игра случая.
Очередь змеилась медленно, и в душе Алексея так же медленно, но напористо, прорезывалось тёплое чувство полузабытой нежности к этой, уже давно посторонней, женщине. Может, в этом было виновато знакомое платье на ней, а может, не менее знакомые каштановые локоны, струящиеся по худеньким плечам, кто знает?
– Как ты живёшь, Светик? – неожиданно для себя, когда до прилавка оставалось всего ничего, выдохнул прямо в волну волос Алексей.
Светлана замерла и добрую минуту томилась желанием ответа, прежде чем произнесла, вполоборота повернувшись к некогда любимому:
– А тебе-то что? У тебя давно свои и, говорят, немалые заботы.
– Да, Светик…Дочка наша…Я давно хотел…Замотался вот… – путался Алексей, ловя её взгляд, а не найдя в нём враждебности. Зачастил дальше: – Боялся, что прогонишь. Я зайду, если можно.
– Заходи, коль не оробеешь, – просто пригласила Светлана и слегка улыбнулась, если и насмешливо, то чуть-чуть.
– Чего бояться-то? Сегодня вечером и зайду, – уже радостно и громко заверил Алексей и почувствовал своё сердце, заспешившее вдруг ударами, чего, признаться, давно уже не случалось.
Домой Алёшка шёл легко и упруго, как не хаживал уже с год и более. И только перед дверью собственной квартиры напустил на себя озабоченный и деловой вид.
– Начальство встретил. Просят выйти на вторую смену. Что-то у них не клеится. Даже в выходные человеку отдохнуть не дают, – недовольно и устало сообщил он жене Таисии с порога.
– Что ж, надо, так надо, – справедливо рассудила супруга. – Поешь только перед работой-то.
* * *
Побродив по городу до сумерек и купив бутылку хорошего вина, Алексей кружным путём добрался до знакомого дома и тихо постучал с той стороны, где жила Света.
Ждать не пришлось. Дверь почти сразу же открылась, и Алексей переступил порог в прошлое. Здесь всё оставалось знакомым и прежним, одна лишь хозяйка, встретившая его в лёгком халатике, выглядела по-новому: притягательно и, вместе с тем, недоступно.
– А доча где? – спросил гость, когда они после слов приветствия вошли в комнату.
– На родительской половине спать будет, – ответила Светлана, и Алексей понял, что его ждали и что всю свою мнимую рабочую смену он проведёт здесь.
Бывшие супруги расположились на диване, немного выпили за встречу, и разговор, вначале спотыкаясь в упрёках, постепенно выровнялся и повёл в прошлое, ибо о настоящем и будущем, в общем-то, говорить не хотелось.
Они сидели рядом, и Алексей чувствовал, как в него переливается доверчивая теплота худенького плеча женщины. Захотелось обнять и прижать её к себе, как когда-то, защищая от невзгод одиночества, ими же запутанной жизни.
Он так и сделал. Светлана не противилась, а лишь, повернувшись к нему лицом, заглянула в глаза. Тогда Алексей, проваливаясь в карюю бездонность, уже обеими руками обнял её, привлекая к себе, и поцеловал мягко и бережно. Светлана ответила, и их губы, так и не забывшие друг друга, надолго соединились в нежном трепете обретения былой чувственной радости.
Поцелуй длился праздником весеннего первоцвета, а левая рука Алексея ласково приняла в свою ладонь по-прежнему упругую, защищённую лишь тонкой тканью халатика, грудь, которая оказалась такой юной и удобной для ладони, как в то, уже упущенное время. Но ткань мешала. И тогда Алексей сверху, а Светлана снизу расстегнули ненужный теперь халатик, и бывший муж, припав губами одной из чаш женского чуда, начал покрывать её лёгкими, словно осыпающимися лепестками роз, поцелуями. И грудь доверчиво льнула к его губам, а взбухший желанием сосок уже торопил события, уже пылал нетерпением в ожидании перехода от любовной прелюдии к началу всепоглощающего действа.
Светлана, соскучившаяся по нечасто достающейся мужской ласке, руками отвела от груди голову Алексея и, сбросив халатик, легла на диван. На её теле осталась лишь узкая полоска плавок, которые, как помнил Алексей, надлежало снять ему. Этот ритуал его бывшей жене почему-то доставлял особое удовольствие.
Он быстро снял с себя всю одежду, бросил её кучей возле дивана, и опустился на колени между ног Светланы, и память чётко подсказало дальнейший порядок действий.
Алексей плавно и нежно, начиная от бёдер, стал гладить знакомое шелковистое тело, а затем и прикрытый тонкой материей участок его, чувствуя под пальцами необузданность густых кудряшек, обильно прикрывающих явно выпуклый треугольник женского обаяния. А завитки весело выбивались и выглядывали из-под плавок, призывно красуясь по внутренней стороне бёдер дерзким орнаментом. Перебирая эту непокорную вязь одной рукой, Алёша другой начал с трепетом поглаживать нагревшуюся и в лёгкой влажной испарине ткань трусиков в том месте, где чётко обрисовались две выпирающие и едва разомкнутые по середине апельсинки извечного преклонения перед женщиной.
Светлана недолго выдерживала эту сладостную пытку как тела, так и взгляда, прикованного к пульсирующей в нетерпении, с проступившей каплей влаги на крутой и розовой поверхности, живой игрушке Алексея, так ею любимой в былое время. Она выгнулась, помогая Алёше стянуть плавки, и, направляя рукой, приняла в себя, в своё влажное и жаркое таинство тугую плоть мужчины, которая входила медленно и глубоко, как бы струясь внутри её тела и наполняя его первой сладкой болью наконец-то исполнившегося желания. А почувствовав в себе этот сгусток энергии чужого тела, его ритмичные движения, и с каждым новым погружением физически ощущая возрастающее томление каждого нерва, она сама рванулась навстречу мужчине, то выгибаясь и прижимая его к себе, или, не находя места для ног, то сводила, то поднимала, а под конец и вовсе скрестила их на спине бывшего мужа. И тогда самоё тело её, уже не подвластное рассудку, содрогнулось волной вулканизирующей страсти полузабытья, прочувствовав и жадно поглотив в себя исторгнувшуюся жизненной влагой, началополагающую силу мужчины, и невольный вскрик вырвался из распахнутых уст женщины.
Они долго лежали, не разъединяясь, опустошённые и счастливые. А потом Алексей благодарно поцеловал Светлану в плечи и шею, а когда их тела успокоились, они уснули, полные гармонии и покоя.
* * *
Рассвет давно уже заглянул в окна, когда сладкий сон вновь испечённых любовников прервал громкий стук во входную дверь.
– Лежи тихо, это мамаша. Она сюда не зайдёт, – полушёпотом произнесла Светлана и накинув халатик, выскользнула в прихожую.
Алексей, оставаясь в постели, спокойно разглядывал знакомый потолок и тихо ожидая окончания утренней встречи бывших ближайших родственников. Да и покладистый нрав первой тёщи, её природная деликатность старой учительницы, не предполагали скандального начала дня.
Однако, дальнейший ход событий быстро внёс свои коррективы в мирный ход визита предполагаемой мамаши.
В прихожей послышалась некоторая возня, затем злой стук уверенных каблуков по кухне, и вот уже на пороге неожиданной реальностью проступила Таисия, полная благородного до пунцовости гнева и праведного возмездия.
Лёшка от вида законной по паспорту супруги враз занемог душой, а когда она, чеканя шаг, подошла к дивану и от всего щедрого сердца врезала мужу не дрогнувшей рукой увесистую оплеуху, то и тело его предательски ослабло, подчинившись напору чужой и яростной воли.
Ещё раз пройдясь натруженной дланью по морде муженька, Таисия разродилась небольшой, но содержательной речью, суть которой знакома каждому истинному, но потерявшему бдительность, мужику. Во время ораторствования в свой полный и визгливо-громкий голос, она успела собрать в охапку всю нехитрую одежонку супруга, а безвольного страдальца, почти пинками, выгнать из дома.
Может быть, это странно, но к Светлане Таисия как будто претензий не имела, ибо кроме словесного поносительства, рукоприложения к всё ещё возможной разлучнице не применяла. Видимо, примерив к себе блудодейство покинутой жены, приняла это как неизбежную, но вполне пресекаемую бытовуху. С тем и удалилась, как герой.
Лёшка же, оказавшись на свежем воздухе в непотребном виде, всё ещё не приходил к ясности сознания. Но всё же легко взял след и, подгоняемый уверенными командами Таисии, спешно потрусил к родному очагу. И лишь только различив кой-какое испуганное людское шараханье на утренних улицах, а краем сознания постигнув всю незавидность своего голого положения, он взбунтовался разумом и сиганул в ближайшие кусты.
Огородами и пашнями выбирался Алёха к лесному массиву, изредка вспугивая излишне утренних хозяйственных сограждан. Крапива и колючие кустарники терзали его молодое тело в скорбном пути оголтелой сохранности от взгляда. А виновник этого позора печальным маятником бился о голые ноги хозяина и своим жалким и грязным видом, от частого залегания между гряд, вызывал каркающее сострадание даже у ворон.
Весь день, как первобытный обезьянин, таился Лёха среди неухоженной природы, питая собою комаров и прочую гнусь. Весь день его душа, так подло попранная близким человеком, стонала и содрогалась под неумолкаемый пересуд лиственных деревьев. И лишь глубокой ночью, до смерти пугая влюблённые парочки, добрался несчастный до родного порога и сдался на милость победителю…
В настоящее время Алексей Петрович скромно живёт в лоне семьи, избегая посещения людных мест и сборищ праздного народа. Таисия не может нарадоваться домовитости и хозяйственности супруга, а дети растут в любви и строгости нравов.
И лишь иногда ночной порой мучает Алёшу один вопрос: почему Таисия, получив чей-то из столь памятной очереди соболезнующий донос на него, избрала для своей акции возмездия светлое время суток?
НАУЧНЫЙ СЕКС
Дела с беременностью у Натальи протекали хорошо. Что ни год, то аборт. Бывало и по два, но это редко, разве что в високосный. А так как она была человеком свободным от трудов и прочих уз, то лихо поплёвывала на укоризны матери и пересуды соседей. Независимость требовала платы, поэтому периодическая скоблёжка её воспринималась как суровая необходимость. К тому же природа здоровьем не обидела, и в свои двадцать четыре Наталья выглядела кругом вполне прилично и постоянно чувствовала интерес со стороны мужиков.
Но как-то раз, в очередной раз представив для обозрения свою мохнатую дуру немолодой уже врачихе, она узнала, что абортирование ей в дальнейшем противопоказано по причине опасного истончения стенок матки и что для сохранения возможной репродуктивности необходимо поберечь себя и покончить с дикой любовью.
Это был удар значительно ниже пояса. Знакомые Натальины мужики не пользовались известными резиновыми изделиями, а о других способах предупреждения последствий любовных игрищ она имела весьма смутное представление. Вот тут и думай! Но замуж выходить желания не было, как, собственно, не было и предложений к этому.
Наталья, памятуя приговор врачихи, боязливо сносила условия монашеской жизни месяца два, но, когда полностью оклемалась и первый испуг прошёл, природа и привычка стали требовать своё, упорно подталкивая к знакомому соблазну.
Вот тут-то и попалась ей на глаза научная книжка про любительский секс для начинающих, в которой было много чего поучительного, а, зачастую, и неизвестного Наталье.
Сроду не дочитывала она книг до конца, но эту осилила и очень просветилась теоретически в вопросах, доступных ей ранее лишь на грубой практике. Многое узнала она о своём внутреннем устройстве не раз пользованного врачами органа, оказавшегося более сложным, чем у мужиков, хотя на взгляд и ощупь можно бы было предположить обратное. Даже кое-какие названия отложила в памяти и уже могла отличить кастрацию от мастурбации. Правда, последнее ей было известно под другим словом, и к действию этому она питала презрение, как вредному для здоровья, справедливо, на первый взгляд, полагая, что для развлечения есть мужик, которого использовать в своих целях всегда легко и просто. В этой же учёной книге онанизм, наоборот, не ругали, а даже иногда советовали, как средство разрядки, впавшим в одиночество особам…
А вот разрядиться-то, ох, как хотелось! И книга с научной точки зрения учила навыкам самообслуживания без нанесения вреда здоровью и психике. А тут ещё и сны – косяком голые мужики и в очередь.
Словом, как ни крепилась Наталья, но всё же решилась-таки поиграть сама с собой и посмотреть, что из этого получится. А вдруг и нормально? А вдруг, таким вот образом можно будет некоторое время перебиться? Ведь должны же эти стенки когда-нибудь нарасти и окрепнуть!
Мать как раз собиралась во вторую смену, как обычно перед уходом попилив дочь насчёт работы, но не так настырно как бывало, заметив затишье в Натальиной буйной жизни. Да и то – отец Натальи слинял, бог знает, в какую пятилетку, а ей что, одной горбатиться при здоровой нахлебнице? Давно пора доченьке приносить какую-нибудь, но регулярную зарплату. И так уже не первый год не слезают они с языков в своём городишке.
Дочь привычно, но без ругани, выслушала старую, а затем, закрыв за нею дверь, даже и на цепочку, зашла в свою комнату и присела на кровать, задумавшись – с чего начать? Но кроме голого, расплывчатого очертания мужика, в голову ничего не лезло. Наталья вздохнула, встав, задёрнула шторы на окне и пошла на кухню, вымыть на всякий случай руки, как того требовала книжная научная гигиена собственноручных половых отношений.
Покончив с туалетом, она вернулась в комнату и остановилась перед большим настенным зеркалом. Из его глубины на Наталью смотрела миловидная, но грустная женщина. Халатик скрадывал формы, поэтому она его скинула вместе с лифчиком, позволяя своему отражению предстать во всей натуральной красе.
Внимательно вглядываясь в зеркало, Наталья, чуть ли не впервые, стала придирчиво оценивать себя. И что же? В формах была зрелая приятная округлость, но без лишнего жирка, и талия эффектно выделялась за счёт тугой крутизны бёдер. Груди хоть и не стояли наивным торчком, но и не висели молочными полиэтиленовыми пакетами, а резво разбегались упругими даже на взгляд полушариями со светло-коричневыми фасолинами сосков на вершинах.
Наташа понравилась себе, но как-то по-новому, как бы со стороны оценив свою стать. Она повеселела и, ласкательно проведя руками по бёдрам и талии, подвела чашечки ладоней под груди, сонно-тёплые и бархатистые на ощупь. Слегка сжимая ладони, Наташа начала их гладить вкруговую, захватывая соски пальцами и мягко их сминая, а они в ответ твердели в приятной истоме. А внутри её зародился и медленно струился вниз по телу поток подступившего желания. И вслед за ним, правая рука Наташи, оставив на попечение левой обе груди, заскользила по животу, а достигнув бедра, замерла на шелковистой внутренней стороне его, лёгким перебором пальцев рождая зыбкую мелодию страсти во всём теле.
Наташа, переступив, стала пошире и, выгибаясь, взялась рукой через розовые трусики за свою, смело выпирающую сквозь ткань, непокорную нахалку. Женщина почти до боли сжала её по всей длине чувственных складок и, ощущая ладонью их горячую рельефность, стала двигать пальцами, ласково щекоча и поглаживая, а в ответ эти, жаждущие любовных прикосновений губы, оживая в первозданном инстинкте, рождали в груди новую, ещё более требовательную к первым робким ласкам, трепетную волну, которая понеслась жгучей пульсацией крови по всему телу, увлекая каждый нерв в круговорот чувственности и жажды пьянящего наслаждения телесным восторгом.
Теперь ткань уже мешала, и Наташа, скользнув рукой под резинку трусиков, сразу наткнулась на мягкие завитки волос, которые стала разглаживать, как бы причёсывая, как бы готовя свою невесту под очередной венец. И благодарное женское лоно, как розовый бутон под бережным солнцем, начало расцветать, влажно раскрываясь в готовности отдать свой сладостный нектар усердным в нежности медосборщикам. И пальцы, влекомые страстным плотским призывом, коснулись припухлых лепестков, и мягко скользили по ним вверх и вниз, заставляя тело Наташи напрячься ожиданием наплывающего оргазма.
Трусики становились всё большей помехой, да и стоя было не очень-то удобно отдаваться самой себе в полную сласть, поэтому женщина совершенно обнажилась и легла спиной на кровать, согнув в коленях и широко разведя ноги.
И вновь левая рука начала ласкать спелые груди, а правая уже уверенно и знакомо легла на чуткие створки Наташиной искусительницы. Пальцы женщины начали бережно массировать их, а средний, раздвигая внутренние лепестки, устремился вглубь раскрывшегося бутона и, скользя по его выступающему пестику, неумолимо приближал агонию желанной разрядки.
Наташи, слегка постанывая, закрыла глаза. А палец уже полностью проник внутрь лона, погружаясь по мокрой и ребристой стенке влагалища и касаясь клитора. И тогда, уже неосознанно, пришла в движение попка и начала свои привычные маховые движения, помогая руке, которая уже двумя пальцами вошла в послушно раздвинувшийся проём влагалища.
Рука и попка быстро согласовали свои движения, а пальцы с каждым новым погружением наполняли тело женщины чудным состоянием невесомости и полёта в сказочный мир земного блаженства. Но вот с последними, почти судорожными движениями тела, с невольным вскриком, рвущим пелену одиночества, наступил желанный, всепоглощающий миг счастливого освобождения от сконцентрированной плотью энергии и сладость умиротворённого расслаблением сознания.
Наталья медленно освободила руку из объятий своей утешительницы, ласково погладила её и, засыпая, подумала, что, в принципе, можно и без мужика. На первых порах.
Во сне она увидела Его, стоящего одиноко и грозно на фоне малинового рассвета. И, кажется, искусственного.
ДРАМА ИЗ СТАРИННОЙ ЖИЗНИ
Всё смешалось, как определил когда-то классик, в доме Обломских: сам граф Грегорий, отцы и дети, дамы с собачками и человек со стороны – свояк. Готовились к встрече маркиза Мусьена де Профурье, француза и либерала, знатока балета и скачек, который ещё прошлым летом, будучи на водах Скандинавии вместе с графом, обещал последнему нанести ответный визит в российскую глубинку.
Графиня, обольстительная Нижеголонария, урождённая в княжеском роду Белоконских, сбилась с ног, накрывая столы. Граф беспрестанно воскуривал фимиам, глядя в дверной проём и роняя пепел под ноги домочадцам. Свояк разносил подносы с графинами и снимал пробу. Челядь моталась по сусекам в поисках съестных припасов. Дети и недоросли дичали по углам, а работа кипела лавой.
В суете грянул вечер. Росы упали на жнивьё, и чуткое ухо графини уловило звон бубенцов издалёка. Все затаились в предвкушении встречи с далёким другом по шапочному знакомству.
Вскоре у парадного заскрипели тормоза пролётки, и ямщики ввели в сени приезжего маркиза под руки. Общество тут же облобызалось, и француз, негодуя на дороги, слегка преставился, скромно прислоняясь к косяку А, показав галантные манеры, он скромно прислонился к притолоке.
– Кушать подано, – не растерялась хозяйка и зарделась маковым цветом.
– Мерси, ля фам, – с поклоном ответствовал иноземный гость, садясь под образа.
– И я причащусь, – поддержал беседу граф, развалясь в креслах у камина.
Ужин был обильным – из трёх блюд, не считая овсяного киселя. На десерт мужчины пили шампанское. Дамам подносили розы в бокалах и яблочное, а дети угощались сбитнем.
Во время приёма пищи много шутили, вспоминая былое, а также свежие новости про турецкую кампанию. Граф самодовольно улыбался в усы, а графиня местами алела.
После обильного ужина, сдвинув в угол столы, приживалки с упоением играли в фанты на интерес. Дети являли живые картины из великосветской жизни. Графиня с наперсницей исполнили в четыре руки прелестный пасьянс на рояле. Маркиз же показал забавный фокус с исчезновением столового серебра. Граф бурно и продолжительно впадал в аплодисменты, а свояк много пел.
– Уж полночь близится, – вспомнила некстати Нижеголонария и стала отходить ко сну.
Достойные господа, чтобы не мешать домашним отдыхать с миром, перешли на кухню, а свояк прихватил графины и посуду с закуской. И вечер продолжился без дам и свидетелей.
Освежившись напитками, граф предложил сыграть в рулетку. Остальные господа бурно поддержали почин и, объявив ставки, поставили на кон, что могли.
С первыми петухами поспешили с антрактом ради подсчёта выручки. Маркиз благородно прослезился, а свояк смотал рулетку на локоть.
– Пройдусь по кулуарам. Я чтой-то занемог в голове, – на ломаном полурусском языке вымолвил де Профурье.
– Ступайте с богом, – с готовностью напутствовал хозяин жилища и уточнил: – Наши кулуары в конце усадьбы за будуарами.
Маркиз немедля откланялся и пошёл вон, освещая себе путь лучиной.
Проходя мимо чьих-то покоев, иноземец уловил лёгкий и призывной храп, выдававший своей тональностью хозяйку. Тот же час шампанское и домашние наливки ударили по нервам невоздержанного француза, и праздная кровь с головы до пят бурно заструилась по жилам.
Не разбирая дороги и путаясь в мыслях, маркиз устремился в опочивальню, где предрассветная мгла не помешала безумцу различить широкую двуспальную кровать под балдахином, а на ней – в истоме и дрёме раскинувшуюся женщину без исподнего. Её приоткрытые и влажные уста сонно трепетали, а разлёт вскипевших грудей излучал сиреневое сияние своей беззащитностью. А откуда-то из чуткой глубины расхриставшихся в забытье бёдер, выбегали игривой пеной завитки волос цветом вороньего крыла, и смело растекались по треугольной выпуклости той части божественного тела, которое и во сне старалось прикрыть двумя перстами рука графини.
Увидев сей притягательный соблазн, маркиз бросился к нему, потеряв в пути голову и французскую честь. Он ястребом слетел к своей жертве, срывая на бегу одежды и заплетаясь в подвязках и жабо.
С проворством дикого вепря вспрыгнул инородец на невинное ложе и припал на колено между раскинувшимися в почивающем утреннем неведении ногами графини. Дрожащими и потными от неуёмной страсти пальцами левой руки он стал перебирать и гладить персты женщины, а затем, скользнув под них, и сам пушок на влажных дольках телесного розмарина. Робкая рука графини медленно и безвольно соскользнула на белоснежную простыню, она сладко вздохнула, объятая всё ещё девственным сном, и ещё шире и удобнее развела свои безгрешные бёдра. А француз более не сдерживался и покрыл своим волосатым телом живот и грудь Нижеголонарии, уронив свою тугую мужскую честь в истекающую мускатным ароматом таинственную бездну женского лона.
С первыми судорожными движениями инородного, но обещающего блаженство тела, графиня пробудилась и, не открывая глаз, жадно обвила руками и ногами мужчину, а влажным ртом прильнула к его губам. После жаркого и долгого поцелуя, женщина откинулась на подушку, тело её выгнулось из последних сил и плотно прижалось своим, уже слегка увядшим от частого употребления бутоном к грубой поросли, обрамлявшей мужскую алчную стать.
Почувствовав такую действенную помощь, заграничный блудодей взъярился и резко увеличил количество прицельных выпадов своего обезумевшего и приличных размеров клинка. Когда же количество ударов плоти вот-вот должно было перейти в агонию сладко испепеляющего тело качества, графиня вдруг до срока застонала, трепетная волна прокатилась по её нежному телу, и она открыла глаза.
Увидев перед собою безусое лицо маркиза, Нижеголонария сразу поняла, что так её смутило при первом поцелуе. Глубокое чувство вины перед уже рогоносным мужем наполнило до краёв её естество, и, собрав остатки женских сил, она резким движением тазобедренных суставов освободила свою ветреницу от всё ещё рыскавшего в ней и уже почти нашедшего телесное облегчение незваного и наглого гостя.
Презрительно оттолкнув маркиза коленями, графиня обмылком выскользнула из-под него и стыдливо заголосила:
– О, Грегорий, честь вашу попрал иноземец.
Едва маркиз, прикрыв бренное тело пледом, задумался о бренности жизни, в комнату влетел граф. При виде не совсем одетого гостя и совсем голой супруги, Грегорий пришёл к грустному выводу. Да и супруга помогала ему в этом, как умела.
– Безвинна я, незваным он явился, – возопила она, ломая руки по локоть и роняя непроизвольно слёзы благодарности к стопам маркиза.
– Сам зрю, – отчеканил граф и, сняв с печи сушившиеся там перчатки, бросил ими в побледневшее лицо растерявшегося от местных обычаев француза.
Дуэль назрела.
Обговорив детали, маркиз хлопнул дубовой дверью и отправился на антресоли точить шпагу, а граф и, пришедший на шум, свояк стали составлять завещание, одновременно утешая графиню каплями датского короля и мятными лепёшками. Постепенно, благодаря притираниям по некоторым частям белопенного тела, виновница ранней побудки успокоилась и даже пожелала кофею в постель.
Утро выдалось пасмурным. Дождь поливал озимые, дамы мыли посуду, а свояк горевал у подносов. Ближе к полудню гувернантка поднесла мужчинам по шкалику. Хозяин дома принял, и не один мускул не дрогнул в его справедливых руках.
Отобедав без маркиза вчерашними отбивными и чем бог послал ещё, граф приоделся в походный сюртук и велел закладывать жеребцов. Свояк, охотно согласившийся услужить родственнику судейством на поединке, уговорил Грегория пропустить по маленькой для твёрдости глаза и верности руки.
Ближе к вечеру, запряжённые цугом кони, уже рыли копытами землю у крыльца. С их губ клочьями слетала пена и с шумом билась о мокрую землю. Поезд был готов тронуться в скорбный путь.
Граф с далёким родственником легко вскочили на облучок, возница взялся за шлею, и лошади помчали. Конюх во след и по обычаю послал их аллюром в три креста, а графиня перекрестила нательной иконой.
Долго ехали яровыми. От вида родных и унылых угодий ямщик запел. Граф подхватил, и песня разнеслась широко.
– Вот мчится тройка почтовая, – констатировал граф, окончив петь и указывая кнутовищем на обгонявший их возок.
– Ямщик, не гони лошадей! Нам некуда больше спешить! – встрянул в разговор свояк и обратил внимание графа на удобную для ристалища поляну с четой белеющих берёз.
– Тут и обождём супостата, – согласился Грегорий и велел осадить каурых.
Карета стала, господа спешились и пошли разминаться. Кучер же, разнуздав меринов и сев в сторонке на хомут, приготовился наблюдать развязку житейской драмы.
Через полчаса подоспела кибитка с супротивником. Из неё вышли секунданты из местных помещиков в чёрных кафтанах и сам маркиз в защитной душегрейке с позументами.
«Когда он кинется на грудь, сумею ль я его проткнуть?» – грустно засомневался граф, оглядывая доспех недруга, но быстро взял себя в руки, вспомнив поруганный очаг и нежную супругу.
Тем временем арбитры расставили барьеры и дали свисток. Соперники начали неумолимо сходиться.
Бились долго по всем фронтам. Граф ушёл в глухую защиту, а маркиз делал ложные выпады, норовя перейти в рукопашную. Когда же ночь повеяла прохладой, и луна отразилась на клинках, граф Грегорий изволил поскользнуться на куче сырого валежника. Это и предрешило исход встречи. Маркиз прямым уколом приказал графу долго жить.
– Чистая победа! – невольно сквозь горькую слезу подвёл итог встречи свояк, а секунданты откровенно всплакнули.
Граф лежал вытянувшись, как живой. И всем стало ясно, что он уже не гость на этом празднике жизни…
Хоронили Грегория всем поместьем. В соборе негде было упасть яблоку не то, что в обморок. Кругом горели свечи и чадила кадила. Граф покоился пред аналоем с епитимьей на челе. Вдова рыдала, утираясь гарусным шарфом. Свояк тихо точил слезу и творил молитву.
В конце панихиды из-за притвора вышел архиерей с образами и огласил с амвона весь послужной список графа. Ко всенощной началось отпевание. Прихожане затянули на разные голоса. Вышло громко и благолепно. Обряд закончили к обедне.
После похорон гости съехались в усадьбу на поминки. Мужчины пили горькую на помин души, мирянам подносили кутью, и все вспоминали графа добрым и крепким словом. Свояк опять безутешно молился, а душеприказчик огласил завещание. Это скрасило скорбь. Убиенный никого не забыл и все получили по заслугам.
Через месяц, на святки, графинята устроились в приют получать образование. Вдова коротко постриглась и ушла в монастырь на службу. Свояк же, присмотрев за недвижимостью и пустив её с молотка, продолжил бдения в богадельне.
Так печально оборвалась древнейшая ветвь Обломских, ибо сыновей к тому времени свояк не завёл по причине плодовитой бедности.
ПЛОДЫ ВОЗДЕРЖАНИЯ
Николай почти неделю не употреблял и потому к выходным дошёл до состояния скотской трезвости. Такой воздержанный расклад жизни очень угнетал его нервную систему и травмировал рабочую психику.
А всё дело было в Валентине. Это она по своему бабьему и упрямому недомыслию воздвигла перед ним слабоумную альтернативу – или она, или похмельный синдром по утрам. И этот подлый удар был нанесён как раз в момент его бурного сватовства к вышеупомянутой особе.
Николай умом не понимал противоречия между женщиной и водкой. Наоборот, воздав должное напиткам, он чувствовал прилив неуёмной любви к слабому полу и запросто мог начать с одной, закончить со второй, славно отдохнуть на третьей и при этом не опоздать на работу.
А тут на тебе, новости: и угроза будущему потомству, и крах семейного бюджета, и грядущий цирроз печени с размягчением мозгов. Словом, дикие женские фантазии на почве недопонимания исторических путей развития мужской ветви человечества, как наивысшего творения природы.
Николай горько тосковал в жёстких руках Валентины, возненавидел кинематограф, а заодно и всю эстраду, и лишь огонь любви подогревал кровь и озарял надеждой перемен остатки мужского самолюбия в тёмном царстве женской кабалы.
А в выходные Валентина упорхнула за город к родителям, чтобы обрадовать стариков скорым бракосочетанием и своими плодами перевоспитания их будущего зятя. Поэтому Колька, идя навстречу настойчивым пожеланиям трудящихся с ним товарищей и желая как-то светло и празднично отметить свою перековку и скорый брак, решил немного отойти от крутой диеты и посидеть в старой тёплой компании с общими интересами родного производства.
Сбор был назначен в пивной. И там, за кружкой доброго пива и принесённого с собою вина, прямой мужской разговор полился вольготно и задушевно, без оглядки на литературные нормы и условности общественных мест. О работе, начальниках, бабах и политике.
Пива и вина хватало, поэтому обмен мнениями затянулся до закрытия этого славного заведения и, покидая его, вся компания была уже очень уважительно к себе настроена, о чём не очень назойливо, но прямо в глаза, успела заверить обслугу этой питейной точки.
На свежем воздухе немного поговорили о планах. Мнения разделились. Посему, холостая часть общества в количестве трёх человек решила посетить пульсирующий ночной жизнью ресторан, чтобы ещё больше развеяться от тягот трудовых будней и культурно отдохнуть, на сколько хватит денег. Ресторан встретил гостей миролюбиво, почти без ругани, а финансов хватило не только на водку, но даже и на богатый салат из мятого горошка.
Холостяцкий вечер продолжился на новом и более весёлом витке своего развития, так как сквозь сигаретный дым и словесный гам пробивалась разудалая музыка, выделяясь громом барабанов, а дамы, блистая нарядами и броской красотой, не возражали против танго или иного, более огненного танца.
В одно из своих челночных путешествий между столиками в поисках достойной партнёрши, Николай заприметил даму очень соблазнительной стати. Она сидела, слегка склонившись к столу, а из глубокого выреза её платья прямо-таки рвались на волю в своей жажде обнажённости, два, размерами с хорошую папаху каждый, налитых тугой плотью шара, которые намертво приковывали взгляд и требовательно притягивали к себе крепкие мужские руки.
Николай, зачарованный этим видением, пригласил даму на танец, а когда та гордо впереди него пошла на круг, то враз понял, что помогало обладательнице таких весомых прелестей удерживать вертикальное положение. Ниже мощной спины, под туго натянувшимся платьем избранницы, перекатывались и волновались при ходьбе тоже два, но уже пушечных ядра грозного берегового калибра. Николай даже впал в некоторый транс от вида такого изобилия даров природы. Казалось, эти жернова скрипели, когда их неразделимые половины соприкасались при движении, перемалывая затуманившийся взор Николая.
Танец был медленным и вязким, как горячие Колькины помыслы. Парное тело женщины впитало в себя всю его податливую волю, а язык уже лепетал о снисхождении к страстному зову природы и нёс прочую околесицу с золотыми горами в придачу, опережая реакцию мозговых извилин.
Словом, сдерживающие центры Николая ослабели, выпитое звало на мужской подвиг, а дама была согласна на продолжение вечера в более интимной обстановке у неё дома. И, надобно заметить, безо всякой предоплаты, а из чистой любви к искусству человеческих сношений в период всеобщего озлобления и меркантильности.
Однокомнатная квартира встретила хозяйку и позднего гостя уютной тишиной. Мягкий свет торшера ласково осветил тахту, готовую к употреблению, а что до остальной меблировки, то Кольку, как истинного спартанца заводских общаг, она не волновала.
Дама велела чувствовать себя как дома, а сама, демонстрируя хорошее воспитание, отправилась принимать душ, чем крайне умилила Николая. И он тоже возжелал ополоснуться, но после неё и в ударном темпе. Это была трезвая мысль, так как ноги в почти новых носках, хоть и были упрятаны под стол, не то чтобы припахивали, после всех музыкальных топтаний, каким-нибудь естественным духом, а просто воняли, как два хорька.
Пока хозяйка шелестела в ванной водой, Колька разделся до трусов, аккуратно свалил одежду на пол и уселся на тахту в приятном ожидании водных процедур, будущих постельных развлечений и разгула страстей.
Время тягостно переливалось в пространстве, глаза гостя уже устали пялиться в полутьму комнаты, а тяжёлая голова так и норовила упасть на грудь и немного отдохнуть. Наконец Николай не выдержал и, упав спиной на тахту, задремал, скрашивая одиночество томительного ожидания голосистой песней расслабленных связок.
Пробуждение ухажёра было тягостным. Кто-то властно теребил его за плечо, приговаривая:
– Ну, чего разлёгся? Не для этого пришёл. И нечего было так надираться.
Николай разодрал набрякшие похмельем веки и, узрев перед собой женщину в белом, испугался видения.
«Допился, за мной пришла», – стукнуло в тумане головы.
И Колька в духовной депрессии покорно сволок своё тело с одра и приготовился к худшему из вариантов в карьере распустившейся жизни. Горемыка сиротливо высился посреди комнаты осенним приграничным столбом у роковой черты лета мирских утех, безвольно наблюдая, как привидение разбирало постель.
Довольно скоро, однако, жажда жизни и материалистически вбитое в мозги миропонимание взяло верх над первобытным томлением души. И Николай помалу очухался и даже вспомнил цель визита в этот вертеп для двоих. От души отлегло, и, вырвавшаяся из болота предрассудков мысль, спотыкаясь, побрела по известной дороге в тёмные кущи к греховным плодам блудной любви.
Но думалось скудно и не в охотку, тем более, что не стеснённые верхней одеждой тяжёлые формы хозяйки, обвисшие карнизами со всех сторон торса, внушали уважительный трепет, но, отнюдь, не тягу к немедленному обладанию ими.
Тем временем, справившись с простынями и подушками и видя смятение гостя, хозяйка приблизилась к нему вплотную и возложила свои руки на мужские плечи.
– Ах, ты мой пьяненький дурачок, – проворковала она и скользнула рукой, сняв её с покорного плеча, прямо под слабую резинку трусов в направлении скукожившегося тетерева Николая.
Пройдясь по кучерявому чубчику этой живности умелыми пальцами, она захватила в свою обширную ладонь всё мужское достоинство гостя, пребывающее в общем дремотном состоянии и как бы поздоровалась с этой опавшей листвой любовной осени.
Так как Николай стоял истуканом, то дама принялась гладить и массажировать его мужские отличительные особенности. Она, то перекатывала в ладони, видимо, для восточного сосредоточения, его мягкие и уютные шарики, то уделяла внимание главному заводиле любовных игрищ, который, впитывая тепло ладони и подчиняясь её настойчивому тереблению, стал проявлять признаки беспокойства, высовывать голову из-под своего мягкого крылышка, всячески бодриться, просыпаясь и потягиваясь, а потом даже стал проявлять нетерпение, слепо тычась сквозь ткани в мягкий живот женщины.
А рука хозяйки уже более радостно и задорно продолжала холить эту, так необходимую в хозяйстве женщины, часть тела, то сминая, то ласково скользя по ней ладонью. И такое панибратство продолжалось до той поры, пока Колькин игрун чуть было не плюнул куда придётся в ответ на эти нескромности, переступив свой порог чувственности.
Однако женщина, поймав этот момент своим тренированным чутьём, скомандовала:
– Всё, теперь работай ты!
С этими словами дама ловко взгромоздилась на тахту и, задрав исподнее, приняла знакомую в народе позу одного из знаков зодиака. Может, её формы требовали именно этого положения готовности, но, может быть, тут сказывалось просто привычка. Кто же поймёт женское сердце?
Николай не возражал. Тем более, что сам вид этого абажура, цвета увядшей лилии, удачно вписываясь в интерьер комнаты, требовательно будил, чуть дремлющие в подсознании, инстинкты живой природы. И он, скинув трусы, живо преклонил колени за обширным соблазном хозяйских угодий.
Открывшееся взору необозримое поле деятельности ещё более подвигло Николая на любимую трудовую повинность, и он стал настойчиво нацеливать своего настырного исследователя на путь проникновения вглубь этих пышных, но ещё не изученных дебрей.
После трёх-четырёх поверхностных и неудачных попыток полного контакта, Колька, поймав рукой своего непутёвого разведчика, направил его по скользкой, но верной дороге, и тот сразу провалился в жаркую тьму желанного омута, не встретив сопротивления берегов и опору дна. Раз за разом посылал Николай своего спелеолога во влажные недра, но тот, как ни рыскал там, но не находил надёжного сопряжения со сводами тщательно изучаемой расщелины и, как ни старался, ни разу не смог удариться головой о её основание.
– Не торопись, – вдруг приказала хозяйка, сама приходя в движение и навязывая Николаю нужный ей темп.
Гость повиновался и стал неспешным маятником отбивать поклоны на задворках империи женских телес.
Время шло, подтачивая силы, а бескорыстный и преданный дружок Николая уже отчаялся встретить что-либо знакомое и родное в этих царственных масштабами и истекающих обильной влагой внутренних апартаментах дамы. И хоть звуки липких поцелуев при контакте живота и бёдер с белопенными чугунами хозяйки уже утомили слух, а в желудке началось лёгкое брожение выпитых напитков, Николай всё продолжал монотонную деятельность соучастия грехопадению. Он крепко надеялся, что рано или поздно зной и влага щедрого источника благотворно подействуют на достойного члена его тела, и тот подарит острый и сладкий миг опустошения исполнившимся желанием. Поэтому, сжимая по краям, для более тесной и родственной близости разбегающиеся в истоме ожидания росные ягодные места партнёрши, Николай стоически приближал момент постижения наивысшей природной тайны слияния двух жизнеутверждающих начал.
И вот момент этот накатил. Тёплая судорожная волна прокатилась по телу Николая…и его слегка стошнило прямо на настрадавшегося, но ещё в полной боевой готовности милого дружка. Хозяйка же, за какие-то секунды до этого печального события, видимо, природным первобытным чутьём предугадав его, проявила не сообразную с комплекцией прыть и успела освободиться от любовных притязаний ухажёра, то есть, что-то рявкнув, почти телепатически перенеслась в центр комнаты.
Бесстыдно одураченный и попранный бывшим салатом, до недавнего времени полноправный член маленького, но дружного коллектива с общими интересами, быстро начал угасать, с нежностью вспоминая былую непорочность детства. Поникнув удалой головой, он полностью удалился в себя, роняя на снег простыни ошмётки когда-то зелёного горошка…
Свадьба Николая и Валентины состоялась под осень. Молодые сияли и светились обожанием. И муж до сих пор влюблён в хрупкий облик своей жены и в компаниях не разбавляет водку пивом, а салаты с горошком не переносит на дух.
ПРЕЗЕНТ ДЛЯ ДАМЫ СЕРДЦА
Обременённый потомством и долгами маркиз Орест де Сент-Селяви и смело вдовствующая маркизетка Сосанна Блямерси на рауте в аббатстве святого Панкратия во время полонеза столковались о рандеву тет-а-тет в родовом замке последней.
Сосанна блистала завидной лёгкостью ума и красой вздыбленного бюста, и потому Орест немедля потерял голову подле её прелестных ножек, напрочь позабыв про супругу у домашнего очага. Многие светские коты были не прочь отведать младой ещё маркизятинки, но лишь один де Сент привлёк её внимание несгибаемой окостенелостью военной выправки и смелостью суждений о земельных реформах в заморских колониях строгого режима. Они даже пропустили по рюмке бургундского на брудершафт, закусив анчоусами в спарже. Поэтому, когда оркестр грянул мазурку, то маркиз на радостях превзошёл все ожидания почтеннейшей публики, исполнив танец вприсядку и с помощью всего лишь двух лакеев. И Сосанна была навеки покорена смелой выходкой Ореста.
В целом, светские посиделки удались на славу и без рукоприкладства к дамам, несмотря на тревожные вести с азиатских фронтов.
Тайная любовная встреча была назначена в ближайшую от новолуния ночь. И маркиз начал к ней готовиться загодя, в полном объёме туалетных требований и персидских притираний. А чтобы заранее не утомлять свой организм, даже не выезжал на охоту за каплунами и спал отдельно от семьи в кругу друзей.
Сосанна тоже не знала альтернативы и прилежно готовилась к встрече. Примеряла новые наряды, умащивала телеса восточными благовониями и укреплялась духом, перелистывая восточные любовные трактаты с картинками.
В условленную ночь, одарив домашних приветливой улыбкой и сославшись на недомогание, маркиз покинул насиженное годами гнездо и на верном иноходце по кличке Россервант поскакал к замку возлюбленной.
Ночь дышала сладострастием некошеных полей и негой далёких морских прибоев. Спорый дождь и студёный ветер приятно холодили разгорячённое чело всадника, а под плащом покоился, согревая грудь, дорогой подарок даме сердца – входящие в салонную моду панталоны из тончайшего маркизета с кружевами ручной голландской работы.
Душа маркиза пела итальянской скрипкой Страдивари, острый ум услужливо рисовал упоительные картины предстоящего телесного загула, а восставшая дыбом плоть с такой силой упиралась в седло, что мешала пустить жеребца аллюром. Поэтому любовнику пришлось гарцевать рысью, а иногда и вести коня в поводу через луга и поймы, чтобы не надсадить до времени свои чресла.
Наконец неверный свет луны обрисовал очертания родовитого замка Сосанны.
Маркиз галопом проскакал во внутренний двор и, проворно вылетев из седла, сдал взмыленного коня дежурному конюху.
Окна усадьбы сияли призывным заревом свечей, и Орест без доклада лёгкой поступью устремился в покои маркизетки, мелодично звеня шпорами и блистая орденами в петлицах камзола.
Хозяйка встретила гостя приветливо и без жеманства, сразу предложив ему поцеловать руку выше перчатки. Де Сент, припав на ближайшее к даме колено, облобызал предложенную конечность со слезой восторга в онемевшем от страсти взоре.
– О, маркиз, – прошелестела Сосанна, – пойдёмте в столовую. Нас ждут вина и не обременяющие чрево закуски. Вы, верно, продрогли и проголодались в дороге.
– Отнюдь, – воскликнул пламенно Орест. – Возможно, пригубить спиртного и не помешает, но извольте сначала принять мой скромный дар.
С этими словами он изящным движением выхватил из-под полы подарок и с низким реверансом преподнёс его хозяйке замка.
– Зачем вы так потратились? – воскликнула зардевшаяся от такого внимания Сосанна, развернув свёрток и увидев столь прелестный подарок.
– Душа моя, – достойно ответствовал маркиз, – ваш бриллиант должен находиться в достойной оправе, но я немедля повешусь, если это не ваш размер!
– О, маркиз, – возопила женщина, – не пугайте меня столь жуткостно! Я сейчас же примерю ваш презент. Лизанна, – кликнула она то час же прислугу и вновь обратилась к дорогому гостю: – А вы пока присядьте в кресла рядом с канделябрами. Там же найдёте бутыль с бенедиктином, поэтому чувствуйте себя как на домашних палатях.
Лизанна не заставила себя долго ждать, и пока маркиз, расслабленно разложившись в креслах, уверенно наливал первый бокал, уже начала разоблачать госпожу из дорогих, в парче и жемчуге, одежд. Она привычно и без суеты скинула с Сосанны платье, расшнуровала тугой корсет, и отбросила его на стоящую рядом тахту.
И пред очами маркиза предстало почти в голом виде розовое тело возлюбленной. Её грудь, украшенная двумя литыми, не испорченными кормлением многочисленного потомства гроздьями, достойными украшать лучшие виноградники Бургундии, призывно сияли в свете люстр, а, не носивший утробных тяжестей живот, матово отражал трепетные лучи истекающих воском свечей. И лишь самодельные штанишки из домотканого сукна, простенько, но со вкусом вышитые гладью, мешали гостю насладиться полным откровением телесного чуда хозяйки.
Тем временем служанка, скромная девушка неброской красоты из крестьянской семьи среднего достатка, уже гладила груди своей госпожи, согревая их теплом своих натруженных ладоней, а затем, не спеша, стянула последний оплот целомудрия с пышных бёдер Сосанны.
Орест даже забыл про очередной бокал, наблюдая за умелыми действиями Лизанны. Он весь обратился в чувство зрения. И вот показалась мшистая поросль пониже обворожительного пупка, а по мере обнажения, она становилась всё буйнее и завлекательнее, пока полностью не предстала во всей своей клиновидной и рыжей красе в стиле Людовика XIV.
И маркиз возликовал в душе, воздав должное чутью и вкусу в выборе подарка. Он живо представил себе, сколь соблазнительно и грациозно будет выглядеть маркизетка в постели под одеялом и в модных панталонах, ибо полураздетая плоть всегда притягательнее в своей сокрытой тайне, чем полностью обнажённый и банный вид её.
Пока маркиз ликовал в дебрях своих умозаключений, Лизанна, в силу вышколенных обязанностей, в припадке нежной признательности обхватила госпожу руками за бёдра и, упав на колени, уткнулась лицом в её медноволосое логово, мгновенно подавшееся вперёд и преисполнившееся ответным дружеским участием любовного вдохновения.
И маркиз тут же потерял чувство умеренного любопытства, бесстыдно вперив свой взгляд в открывшуюся тайну интимного быта женщин.
А Лизанна уже покрывала поцелуями лоно хозяйки, захватывая губами медные кольца, а затем медленно выпуская их из своих пунцовых уст. Сосанне же, эта игра, без сомнения, нравилась, и она, переступив, пошире расставила свои точёные ножки. Губы служанки заскользили уже по опрокинутой вершине рыжего треугольника. И вот её язык, выпрыгнув из полураскрывшихся губ, заметался по этой вершине, иногда полностью и подолгу пропадая в её алом развале, а иногда лишь его розовый кончик ласкал что-то хорошо ему знакомое, где-то чуть выше того места, в котором он прятался полностью. Порой же служанка лишь кончиком носа раздвигала буйные заросли и тёрлась им в притягательном для обеих проказниц месте королевской бородки.
Сосанна уже полностью отдалась во власть любовной забаве. Она обхватила голову девушки руками и стала помогать ей встречными движениями своего тела, отчего язычок Лизанны стал всё чаще проникать в своё мохнатое убежище на всю возможную глубину. И Сосанна трепетала всем своим прекрасным телом, а её пышные груди вздымались и ходили ходуном в опасной близости от головы служанки. Но вот, наконец, любовницы одновременно издали лёгкий стон удовлетворённой плоти и отстранились друг от друга.
Тот час же и маркиз в истоме откинулся на мягкой мебели. Он как бы сам принял участие в этой игре, сопереживая и мысленно помогая участницам. Ведь это было, поистине, упоительное зрелище для чувствительного мужчины. Тем более, во многом просвещённого дальними военными походами.
Между тем, Сосанна с помощью служанки примеряла обновку. Панталоны подошли в самый раз и были весьма к лицу.
Полностью одевшись, хозяйка вновь пригласила гостя к столу, накрытому уже на два куверта.
За десертом она задумчиво сказала:
– Дорогой, какие всё-таки испорченные нравы у наших простолюдинок!
– Да, уж! – согласился Орест, чувствуя бурный прилив сил и готовность к попранию моральных устоев даже имущего сословия. – Я и сам давно это заметил.
И с этими словами благородный маркиз обеими руками полез под подол дамы сердца.
ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
Еремей Потапыч Блохастов, что из Мокрых Хвостов, мужик был видный. Но не статью и удалью, по причине кротости нрава и лёгкости мысли, выделялся он не только среди односельчан, но и жителей далёкого Захвостья. А славился Еремей Потапыч по всей округе исключительным умением игры на трёхрядной гармонии любимых народом произведений. Причём, без устали и в любом состоянии трезвости.
Кто бы другой, с высоким о себе личным мнением или, скажем, с городской заносчивостью, давно бы зарыл такой талант в единоличную землю, а то сушил бы его в кругу семьи, но вот Потапыч бережно взрастил свой дар и поставил его в услужение простому трудовому человеку.
Обладая отменным нюхом на всякого рода крестины и свадьбы. Еремей являлся на торжества без особых приглашений и, как правило, к разгулу веселья становился самым желанным из непрошеных гостей, наяривая на трёхрядке всё, чего требовало застолье или его собственная душа. Вот эта оборотистость и позволила ему прославиться как музыканту и свойскому человеку, но с другой стороны даже к сорока пяти годкам не допустила до обзаведения хозяйством и прочей семейственностью. Последнее, впрочем, не очень смущало Потапыча, так как трёхрядка раскидывала сети не только вдовам и перестаркам, но и прочей девичьей поросли в пору телесного томления.
Словом, музыкант жил играючи и припеваючи, пока не случился с ним большой конфуз по причине любовных игрищ и родственного кровосмешения на почве именин.
Случилось это непотребство в Старых Хвостах за неделю до Троицы.
В тот памятный день острый нюх не подвёл Еремея, и он уже к полудню заявился со своей гармонией, в самый разгар празднества по случаю новорождённого чада, к своему полузабытому родственнику четвёртого колена Михаилу.
Гости, числом в полдеревни, засидевшиеся за разговором и хлебосольством хозяина, враз взбодрилась при виде гармошки. Потапычу в момент освободили пространство за столом и, залив в него пару-другую штрафных стаканов, пожелали музыки и танцев. А гармонист и не думал кочевряжиться, а наскоро закусив, принялся за любимую работу, вливая в гулянье свежую струю веселья.
Пир шёл Лысой горой до глубокой ночи. Гости пели про степь и плясали вповалку. Еремей, для вдохновения мозгов и крепости рук, не упускал возможности перехватить лишнюю стопку, а Михаил с супругой уже давно перестали чаять душу в дальнем родственнике.
Но, что ни говори, тяжёлая усталость веселья начала многим напоминать о себе. И тогда более стойкие бабы принялись разносить родных и близких по избам, не оставляя, кстати, на произвол судьбы и соседей, пожелавших, вопреки разуму, добираться до своих углов своим же ходом.
Последним угомонился тесть Михаила. Жилистый, но сохранивший бойцовские навыки, старый хрыч Кузьма, хлебнув на посошок и прихватив с собой пол-литра, затребовал Михаила в провожатые. А тут и Степанида, законная жена Михаила, родительница первенца, неразумно, как потом выяснилось, присоветовала муженьку довести тятю до хаты и поглядеть, как управляется маманя с именинником, унесённого от всяческого сглаза ещё в начале праздника.
Михаил не возражал и, предупредив родственного Потапыча о скором возвращении, ушёл с тестем месить грязь до другого конца деревни.
И тут Еремей Потапыч неразумно снял с коленей инструмент и выпил со Степанидой по остатней, заведя, по недомыслию, разговор о покосах. В ответ на это хозяйка, уставшая от праздничной сутолоки, начала клевать носом.
– Умаялась я, – вымолвила она сквозь сон. – Вишь, какую свадьбу справили. Пойду в сенник прилягу. А ты, либо Мишку подожди, либо тут, в избе пристройся на ночь. Они с папашей, небось, до петухов проваландаются.
И, справная со всех сторон Степанида, тяжело ступая умаявшимися в беготне за день ногами, вышла в сени, оставив Еремея в полном одиночестве.
Где-то с час, пришедший ко двору гость, осоловело ждал хозяина, приканчивая бутылку, пока малая мужицкая нужда не выперла его из избы.
На дворе было вольготно и, вместе с тем, томительно для души и тела. Да и ночь шла к излёту, сиротливо серея нарождающимся днём.
Ерёма, справив свои дела, ударился в размышления о своей жизненной неуютности в этой, стекающей в былое, ночи. Но постепенно его раздумья устремились по прямому мужскому руслу и упёрлись в мысль о том, что раз баба пьяная, то, естественно, маргаритка её – чужая. И пока домыслы по этому поводу ещё дозревали в голове, ноги Еремея уже сами влекли его к сеновалу. К тому же корень, который и не позволял гармонисту развиваться свободно вверх, уже начинал путаться в широких штанах, мешая передвижению.
Дальний родственник осторожно вклинился во тьму сарая, ощупью и по запаху добрался до сложенного в дальнем углу прошлогоднего сена, а став на четвереньки, принялся исследовать эту небольшую копёшку. Скоро его руки нащупали край покрывала, на котором в сладком сне покоилось тело хозяйки.
Еремей, в целях экономии дальнейшего времяпровождения, быстро привёл себя в состояние боеготовности, оставив на себе лишь рубаху, и, ориентируясь на дыхание Степаниды, пристроился рядом на правом боку. Правда, покрывала ему не хватило, поэтому лежать было колко и неудобно, но приходилось с этим смиряться ради будущего знойного забвения.
Передохнув, Потапыч осторожно опустил левую руку на Степаниду. Ладонь легла на живот женщины и определила, что та спала прямо в платье. Тогда он, справедливо рассудив, что излишние нежности ни к чему хорошему не приведут, решил обследовать заповедник Степаниды, что несколько ниже живота. Однако, дотянуться до подола руки ему явно не хватало. Пришлось малость сползти по сену вниз. В результате этого манёвра заграбастая рука мужика всё же дотянулась до края платья и задрала его, благо, оно, по моде здешних мест, не было узким.
Оставив смятый наряд на животе спящей, Еремей стал неторопливо скользить рукой вниз, ожидая нащупать резинку трусов, но наткнулся прямо на жёсткие кольца волос этой самой чужой маргаритки. Панталончиков или каких-либо иных защитных штанишек не было, то ли по простоте душевной, то ли по причине погодных условий, но это значительно облегчило музыканту в выполнении дальнейшей задачи.
Он ниже опустил руку и уже всей пятернёй хапнул волосатое и выпукло-губастое обрамление родника жизни меж широко раскинутыми ногами женщины. Ерёма сжал ладонь, поймав в неё горячие и податливые створки этого источника, и стал их умело мять и тискать, пока они не стали влажными и ещё более увеличившимися в размерах.
Степанида от таких блужданий по её оазису наглым захватчиком, всё же не попыталась пробудиться, но с ровного дыхания сбилась и вздрогнула.
«Музыка музыкой, но пора переходить и к пляскам», – тюкнуло в мозгу гармониста, и он проворно юркнул в пространство межножья хлебосольной хозяйки. А там, ухватив свой шкворень рукой, стал им раздвигать, полусомкнутые и в пушке, мягкие лепестки незнакомого бутона, а найдя горячий провал между ними, устремил своё орудие туда, всадив лишь до половины, так как из опыта знал, что глубина женского естества не всегда позволяет задействовать его на всю прекрасную длину. Однако, не почувствовав сопротивления, Еремей медленно, но настойчиво, до конца засадил свой корнеплод на чужой грядке и немало этому подивился, так как скважины такой глубины ему попадались крайне редко. Теперь стесняться было нечего, поэтому он принялся за приятную до одури работу, которую всемерно признавал, если не считать музицирования.
Уже после нескольких глубинных погружений ударного инструмента в податливое лоно, Степанида начала постанывать и прижимать ярого работника к себе аж обеими руками, и вряд ли это было во сне или бреду.
А Еремей поддал жару, и Степанида уже низом живота стала помогать ему с таким усердием, что скоро в обильных недрах её ущелья весело захлюпала влага, щекоча слух новоявленных любовников. Безумство плоти продолжалось с остервенением, достойным похвалы любого телесного умельца, а когда Степанида в порыве вдохновения закинула свои полные ноги на тощую спину гармониста, наступил конец света.
В последних судорожных толчках Ерёма достиг-таки дна телесного колодца Степаниды, вбирающего в себя всю жизненную суть мужика, и в конечном напряжении опустошился там всем, чем мог, вплоть до мыслей, а главное, заряжённым жизненной энергией потоком, который, ликуя, смешался с огненной влагой женщины. А эта, качественно новая влага, переполнив трепыхающие недра Степаниды, быстро нашла выход, устремясь вдоль рабочего поршня старателя, чтобы клейкой массой своей ещё на мгновение удержать и слепить желанием так хитро подогнанные друг к другу природой инструменты пылких тел…
– … мать, – вдруг взрывом вклинился в обмякшее сознание Ерёмы, пребывающего на Памире блаженства, грозный рык Михаила.
И тут же отдыхающий зад незадачливого любовника, вкусив ожогом кипятка хорошую плеть или палку, подал остаткам разума команду к действию. Потапыч одним прыжком из положения лёжа сверху переместился к двери сарая, поправ все законы земного притяжения, и был готов к самым отчаянным действиям по спасению своего бренного тела. Поэтому, предназначавшийся ему последующий удар, пришёлся по разомлевшим чреслам Степаниды, которая вынесла его стойко и безголосо, с чувством уже вполне осязаемого смертного часа.
Еремей Потапыч был уже на ближайших подступах к спасительной кромке леса, когда справедливая рука Михаила схватила его за ворот праздничной рубахи.
– Стой, сволочь! – вновь ударил по ушам беглеца трубный глас возмездия.
И обманутый муж тут же сграбастал дальнего родственника за грудки и поволок по бездорожью к избе. Ерёма обмяк и не сопротивлялся. Даже его корешок съёжился до небывало невнятных размеров и уже не болтался рукоятью нагайки, как бывало когда-то.
Ввалились в избу. Степаниды не было видно. Видимо, умолотила от супружеской кары под родительское крыло.
Михаил шваркнул гостя под порог, словно куль с мякиной, а сам вышел в сени, но то час же вернулся, сжимая в руках двустволку. Подойдя к столу и выпив стакан, он как-то буднично сказал:
– Сейчас тебя, падлу, стрелять буду, – и, подумав, добавил: – Насмерть.
Еремею Потапычу было всё едино. Он умер ещё по дороге к лесу, поэтому уже ничего не понимал умом, а лишь крупно вздрагивал и подмигивал левым глазом.
Песня была спета. И гармонь играла за упокой…
Долго шли лесом, а когда ноги Потапыча замедляли ход, он сразу же ощущал промеж лопаток холодок стволов, что немедля прибавляло силы, и смертник переходил на рысь.
– Стой, гад, пришли, – наконец зло сказал Михаил. – Становись вон под ту берёзу.
Потапыч покорно прижался худой спиной к стволу, как бы влипая в него, и уже без непутёвого подмигивания зацепился взглядом за направленные в грудь стволы ружья. В голове молотком стучало: «Господи, прости!» и «Господи, за что?»
Михаил напоследок обматерил родственничка, а заодно и собственный уклад жизни, и прицелился. Смертоубийство шло своим чередом.
И тут вдруг Потапыча прорвало и сверху, и снизу. На землю что-то по ногам потекло, а к небесам, набирая визгливую силу, вознёсся голос самобытного артиста, истекая словесами о родстве, а также о земной и небесной каре. Но морально пострадавший супруг продолжал целиться, выбирая наиболее ненавистную часть тела врага и опуская стволы всё ниже, пока не поймал на мушку затаившегося истинного виновника этой трагедии. Потапыч же, угадав точку прицела и кое-что прикрывая своё единственное, не считая трёхрядки, хозяйство, заголосил из последних сил отлетающего разума:
– Миня, не бери грех на душу! Сучка не захочет – кобель не вскочит!
Эта народная мудрость и спасла гармониста. Так как Михаил призадумался, качественно сплюнул на дальнеродственного блудника и, горяча себя бодрым словом, пошёл разбираться со Степанидой. Этим и закончилась родственная драма жизни, но без смертельного исхода и лагерных этапов.
Припозоренный муж до святок учил жену уму-разуму то вожжами, то чем-нибудь деревянным, но до серьёзного повреждения членов не дошёл, потому как Степанида на весь приход ревела белугой, причитая, что гармонист брал её сонную силой и не успел опечалить бабье нутро своим поганым семенем.
Еремей же, сперва с испугу ударился в подсобное земледелие, но так как в округе полюбился с каждым разом меняющийся рассказ о его смертельной схватке с Михаилом, то Потапыча вновь стали привечать на празднествах, справедливо полагая, что хоть избы и не крыты, зато звон больно хорош.
ПОНОС
…поношение, срам, позор.
Не мало ли поносу будет?
В.Даль.
В это росное, воспеваемое соловьями и прочей пернатой дребеденью утро, граф Мотнищев, Сигизмунд Карлович фон Штрипке по матушке охлаждал свои благородные чресла в ласковых потоках речушки, невнятно струящейся по его родовым угодьям. Склизкие налимы и проворные раки приятно щекотали разгорячённое гимнастическими игрищами тело, и слабая улыбка озаряла бледный лик Сигизмунда.
Светлые думы, отражаясь на челе, бесследно исчезали среди кувшинок и ряски, повинуясь его лучезарному взгляду. Всё дышало негой и сладострастием. Иногда мысль застревала на урожаях с озимых, порой соскальзывала на былое и думы или путалась в исторических дебрях родных окраин.
Вот, скажем, эта незатейливая речка. Сколько бурных событий свершилось на её замшелых брегах! Но она по-прежнему незлобиво катит свои волны, ласкаясь к стыдливо прикрытым осокой берегам.
Когда-то, в блаженные времена отрочества батюшки, Карла Гапоныча, выходил до ветру на заливные луга босоногий мужик в посконной рубахе и, учуяв сладкий запах варева, голосил через реку своему старому знакомцу:
– Пахом! А чегой-то стряпает твоя Палашка? Дух за версту. Ась?
– Уху, ядрит твою в лапоть! – зычно разносилось над водой в ответ. – Не ходи в гости до завтрева.
«Ухуя… ухуя…» – бездумно несло до дальних отрубов спорое эхо новое географическое название безымянной речушки. Вот так оно и прижилось среди простого народа, особливо в умах дворовых девок и баб. Да мало ли в отечестве еще более ловких и ласкающих слух названий!
Сигизмунд стряхнул нахлынувшие воспоминания детства и направился к берегу, по ходу дела отдирая от розового тела медицинские пиявки. От мигрени, после вчерашнего, и след простыл, поэтому дурная кровь более не распирала члены.
На беду, по крутому берегу Ухуи об эту пору прогуливалась в коляске княгиня Алевтина Ширеметрова, давняя пассия графа. В младые годы их бездумная любовь чуть ли не дошла до безумств с членовредительством девичьей плоти. Но Сигизмунд вовремя взял себя в руки и удалился от мирских соблазнов, проводя досужее время в тиши книжных кабинетов и винных погребов. Тем более, что Алевтина успела к тому моменту посадить графа в долговую яму.
Сигизмунд поднял очи в гору и сомлел, а княгиня зарделась. Сенные девки, плескавшись обочь графа по-домашнему, опрометью прыснули в кусты, прикрываясь лопухами и блюдя оставшуюся с девичества честь. Кобылы же, запряженные цугом в коляску, скосившись умным глазом на непотребный и неприбранный вид Сигизмунда, испугались вида голого человека и понесли по буеракам. Княгиня вывалилась из экипажа и, кляня графа, стала месить грязь пешим порядком до ближайшего почтового тракта.
В отместку за нанесённый ей урон души и тела, госпожа Ширеметрова поведала высокосветскому обществу о порочащих графа связях с простолюдинками, приукрасив их развратными сценами из французских романов, а попутно растрезвонила и о плачевном финансовом состоянии распутника. В результате этого поноса Сигизмунду было отказано с визитами в приличные дома, состоятельные господа не подавали руки, а ближайшие помещики зачастили в гости ради утоления срамного любопытства и обмена амурным опытом.
Граф от таких потрясений слёг, а вскорости и преставился в расцвете лет от старости, не приходя в общественное сознание.
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ
№ 1
Глубокоуважаемый господин редактор!Месяц назад с душевным трепетом я выслал на ваш праведный суд свой первый стихотворный опыт – балладу «Взблески на росстанях». Я свято верил, что положительная оценка этой лирической акварели таким маститым сочинителем, как вы, позволит мне оставить на литературной ниве свою глубокую и добротно удобренную поэтической мыслью борозду, способную дать обильные всходы семенам разумного и вечного, посаженным моим свежим талантом.
Однако, получив ваш непродуманный ответ, был безмерно удивлён поверхностным отношением к моему творению. Поэтому позволю освежить в вашей памяти некоторые, особо не приглянувшиеся вам строки:
«Цветёт урюк в базарный день, А под урюком чья-то тень. Мне про любовь, акын, не пой, Сегодня у меня застой. И женской раковины щель Меня уж не бросает в хмель…» Или другой кусок, не менее колоритный: «Держа в одной руке бокал, Другой в промежность я попал. И женщины горячий сок Меж пальцами на землю стёк…»Вам это высоколобо не понравилось. Но как можно ещё яснее и доходчивее описать любовные переживания моего лирического героя? Ведь испепеляющий огонь страсти так и полыхает между строк, воспламеняя и героя, и читателя, истинного ценителя высокого слога!
А вот и апофеоз конца метаний души героя, нашедшего, наконец, следы любви на Крайнем Севере Чукотки:
«А сумрак северных широт Ещё прибавил мне забот, Пришлось на ощупь и не в такт Нам совершать оральный акт. Остался песнею без слов На члене след её зубов…»И тут вам изменило поэтическое воображение! Ведь так ясно видится: снежная мгла, неровная рысь собачьей упряжки по сибирскому тракту и признание героя в любви юной чухонке на нартах.
Могу только выразить сожаление по поводу вашей невосприимчивости к хрустальной чистоте родника народного слова. Поэтому больше читайте классиков и учитесь у населения!
Надеюсь на взаимопонимание и высылаю вам своё новое произведение – новеллу «Взблески на росстанях».
Остаюсь искренне ваш – Тихон Столбняк.№ 2
Уважаемый редактор!Я, отнюдь, не уверен в правоте ваших концепций оценки моего литературного дара. Скорее наоборот! В разгуле стихийного разума, я своей новеллой обнажил замысловатое переплетение правды жизни и духовных устремлений героев. Ведь уже в самом начале произведения ощущается могучий смысловой заряд моей вещи. Цитирую:
«После обильных снегопадов грянула весна. Подоспело время посадки злаков. Посадили и Саню. Ни за что.
В тот вечер, окончив пахать озимые и перегнав сеялку на яровые, Александр прилёг отдохнуть на дальнем сеновале. После ударного труда приятно было раскинуть сомлевшие кости по жухлой и духмяной соломе летошнего укоса. Думы о будущем урожае теснились в голове и согревали душу. Саня запел.
Скоро сон сморил работника. И приснилась ему соседка Нюра, с которой порешили они после уборки хлебов справить свадьбу и жить одним хозяйством. Жених и во сне слышал, как журчали крепкие напитки, наливаемые в стаканы гостей.
От этого журчания он и проснулся.
Приподнявшись на локтях с соломы, Александр увидел в полумраке сарая свою Нюру, которая, присев на корточки голым задом к нему, неуёмной струёй поливала настил под ногами.
«Умаялась на покосах-то, до дому не донесла», – по-родственному подумал Александр и уже во весь голос окликнул:
– Нюрка! Как справишься, полезай ко мне!
Молодая крестьянка ойкнула и вскочила с насиженного места, опрометью натягивая трусы и не успевая закончить свои естественные потребности.
Обернувшись, она узнала суженого и стала выговаривать ему:
– Зачем пугал-то? Как теперь мокрая домой пойду?
– А ты лезь ко мне, – вновь предложил Александр, – тут и посушим.
Нюра стояла раскорякой и думала о женской чести, но так как дело было почти семейное, то решилась и, сняв трусы, полезла на солому. Там она пристроила свой туалет на ветерке под стропилами, а сама привалилась к Сане.
Жених крепко обнял подругу левой рукой, и они стали строить планы о совместном владении землёй, как частной собственностью.
Так они сидели и ворковали на житейские темы, пока правая Сашина рука не легла ей на колени.
– Санька, – строго сказала Нюра, – после свадьбы, хоть ложкой, а сейчас не дам, да и мамка заругает.
– А ты ей не говори, – подсказал любимой хлебороб и полез рабочей рукой под подол.
Нюра оставалась в сомнении и тревоге. С одной стороны хотелось горячего чувства, но с другой было страшновато – вдруг Сашка по пьянке разнесёт её грех по всей деревне? А пока она томилась выбором, ноги самостоятельно разошлись пошире.
И Саня уже гладил шершавой рукой ляжки избранницы, подбираясь всё ближе к её мокрой марфутке, которая, кроме как малой нужды, никаких других развлечений не ведала. Наконец пальцы ухажёра коснулись влажных волосёнок и стали теребить и разглаживать их, а затем и всю губастую, буйно обородатившую и выступающую мягким клином, будущую безраздельную собственность в хозяйстве Александра. И пахнуло на него из-под юбки чем-то любимым и близким. Вроде пива с рыбкой.
Нюра же затаилась чурбаном, ожидая и боясь того момента, о котором порой напрямик вздыхали замужние подруги в конце трудового дня. Но в крови уже зажигался огонь. Превращаясь в негасимое пламя под умелой рукой мужика.
Александр– таки завалил Нюру на солому, а потому как не раз утаборивался с бабами на задних дворах деревни, то дело своё знал исправно. Он быстро оголился и, навалившись на Нюру, стал рукой запихивать своего конягу в никем ещё не занимаемое стойло, а как только нащупал туда дорогу, то наскоком впёрся вовнутрь, ломая на пути все целкостные заслоны и иные природные хитрости.
Нюру проняла жгучая боль где-то в районе мочегонных путей. Она аж взвизгнула не своим голосом, понимая, что время беззаботного отрочества навсегда отлетело в туманную даль прошлого.
Бедняжка ещё билась и сучила ногами, но Александр упрямо терзал пораненное тело до полного оплодотворения матки…»
Как же вы, редактор и где-то литератор, не увидели здесь сгустка человеческих страстей в мире суровой действительности? Своим пером я в тесном общении с народом вытесал на развесистых склонах жизни монумент современнику. И мой Александр, отправившийся на отсидку по недомыслию будущей тёщи и прошедший хорошую воспитательную школу в колонии, своим возвращением под Нюрин кров, доказывает жизнестойкость всего произведения и необходимость его скорейшего печатания в целях улучшения воспитания сельской и другой молодёжи и школьников, а также и отдельно взятых представителей старого поколения со староверческим уклоном.
Я уверен, что отнесись вы более ответственно к исследованию моего творения, то время, затраченное на его детальное изучение, возместилось бы вам сторицей в письмах благодарного читателя.
Да и кому, как не нам с вами, нагружать поколения бременем размышления о путях становления?
Надеясь на растущее взаимопонимание, высылаю вам свой новый этапный труд – исторический роман с продолжением «Взблески на росстанях».
С дружеским приветом – Т. Столбняк.№ 3
Дорогой собрат по цеху!Негоже нам, попечителям души и наставникам разума, препираться у кормила святого искусства! Мы, мастера словесного резца, должны подпирать юные порывы, а уж нас-то, ветеранов художественной кисти, пусть рассудит грядущий потомок!
С чутким пониманием ознакомился я с твоей последней публикацией.
Есть, есть в ней зерно прострацизма! Особенно изыскан эпиграф. Какая исчерпаемая глубина связи с классицизмом, какая преемственность и приверженность! Хочется надеяться, что критика найдёт в твоей писанине свой краеугольный камень преткновения.
А теперь о наших творческих делах.
Отправляю тебе свой роман, я верил, что ты будешь по-человечески рад встретить на его листах так полюбившихся нам носителей естественного начала. Отнюдь! В гордыне своей, ты вновь опечалил меня поносительно отравленной стрелой. Особенно ты ударил меня нелестным отзывом об этом куске моей глыбы:
«Князь Алекс, закутавшись по ноздри в плащ, осторожно крался под балконом графини Нюрианны, юной супруги престарелого полкового командира. Страсть, вспыхнувшая на вчерашнем балу, толкала его на безрассудство и удаль. И лишь верная шпага под камзолом да кинжал за голенищем ботфорта сопровождали князя на пути к желанной, но гибельной цели.
Вот и увитая плющом стена.
Влюблённый, хватаясь за цепкое растение, начал уверенно подниматься к заветному балкону. А вокруг были мрак и тишина. Лишь цикады нарушали ночное безмолвие своим неумолчным пением.
Князь, преодолев перила, нашёл приоткрытую дверь балкона и, прильнув жадным оком к щели, стал осматривать помещение. Как он и предполагал, это была комната отдыха графини. И в неверном свете канделябров непрошеный гость различил у дальней стены величественную своими размерами кровать, а рядом низкий столик с не зажжённой свечой на нём.
На краю ложа, в прозрачном пеньюаре и чепце поверх златых кудрей, восседала графиня, ещё более прелестная и влекущая, нежели на балу. И сердце князя, наполняя желанием любви всё тело от камзола до панталон, затрепетало мотыльком, летящим безумно на пламя.
Заворожено смотрел ночной пришелец на эту восхитительную сцену, не смея полногрудо дышать и лишь часто сплёвывая по ветру набегавшую вязкую слюну. Он уже полностью созрел для безрассудного поступка.
Но тут Нюрианна встрепенулась от дум и порывисто расстегнула пеньюар, обнажив прекрасно налитую грудь и темнеющий курчавым волосом клин между широко разведёнными ногами. Затем юная прелестница опрокинулась спиной на кровать и, погрузив пальцы левой руки в мохнатые кущи межножья, стала мягко и умело перебирать там нежные струны своей трепетной лютни.
И князь уловил своим камертоном этот сладкозвучный мотив, а его умелый смычок уж был готов ударить по тетиве чудного инструмента и исполнить свою партию в минорном ладу с солисткой. Алекс трепетал чреслами и вперивался взглядом в пушистый соблазн Нюрианны. Но скупой свет в пару свечей не позволял детально рассмотреть чаровницу графини, усугубляя и без того стойкую позицию князя, что печалило и удручало, как отсутствие шпор у лихого наездника.
А тем временем младая забавница, разгорячив себя до томного стона, схватила со столика свечу и начала вставлять её в свой, раздвинутый пальцами и уже хорошо различимый со стороны наблюдателем, алый подсвечник.
По мере погружения свечи в уютное гнёздышко, тело Нюрианны начало выгибаться в томлении, как бы устремляясь навстречу этому равнодушному утешителю и суровому спутнику женского одиночества. Князь же на балконе стал впадать в тихое бешенство, воочию видя столь полное попрание мужских прав и обязанностей. Душа его не выдержала такого надругательства, и он влетел в будуар, громко стеная:
– О, мой ангел! Позвольте же мне поспособствовать вашим изысканиям, но предметом более достойным, нежели сей продукт цивилизации!
Нюрианна, не ожидавшая столь беспардонного вторжения в мир интимного рукоблудия, испуганно вскрикнула, закрывая лицо руками, а одинокая свеча, брезгливо выплюнутая розовыми и упругими створками холёной раковины, бездарно шваркнулась оземь и сиротливо закатилась под столик.
Князь с маху упал меж коленями женщины и покрыл жадными поцелуями её неразборчивую блудницу, пропахшую воском и мускусом. Сия рыцарская любезность и рвение были благосклонно восприняты доверчивым сердцем графини, а когда жаждущий язык князя зарылся в нежнейших складках мантии её обнажённого моллюска, она полностью раскрылась весенним цветком, подняв вверх, раскинутые в покорной капитуляции ноги.
Пока Нюрианна трепетала в сладком томлении, Алекс обнажил свой, разгорячённый страстью клинок и, прекратив бурные лобзания, по самый эфес вогнал во влажные ножны графини, как обычно оставив снаружи лишь два голых и беззащитных ядрышка в кошеле средневекового образца, которые, являясь по сути основой движущей силы начавшегося процесса, но не допущенные по досадной ошибке природы к празднику соития двух разнополых начал, стали сиротливо и безответно стучаться в запертую перед ними дверь.
А в открытую дверь спальни в это время спешил полковой командир, чтобы пригласить супругу на чашку шоколада…»
И что же возмутило тебя, мой редактирующий единоверец, в этой трагедийной истории? Голая правда жизни? Или тебя подвело неумение перестроить дряхлеющие взгляды на волну новых поползновений? Пора, брат, пора заглянуть бытию в оборотную сторону!
Но не трави скорбью своё отшумевшее сердце. В приятнейшем для нас будущем, я вышлю тебе краткий пересказ последующих шести томов моей эпопеи, и тогда ты, прикоснувшись к истинным ценностям культуры, непременно воспылаешь любовью к моим героям, героиням и окружающей среде.
Творческие планы жужжат и клубятся над моей головой напролёт денно и нощно. Ведь впереди необъятная ширь для неуёмного таланта и игры ума плодом воображения.
Успехов и тебе, мой побратим.
Обнимаю, твой Тиша.№ 4
Молодые друзья мои, члены редакционной коллегии!С безысходной печалью узнал я о безвременном оставлении стен нашего печатного органа моим духовным близнецом, чьё редакционное перо не раз ласкало страницы моих произведений. Лишь уверенность, что нашёл он свою тихую заводь среди вспоивших его односельчан, сушит мою обильную слезу на челе.
Но есть, есть кому нести вперёд хоругви печатных святынь и твёрдой ногой попирать кремнистый путь творчества! Нам ещё рано на интеллектуальный слом. Старые боевые лошади искусства ещё долго будут мчать по головам соплеменников, закусив словесные удила и копытя твердь переплётов!
Долго я разрешался бременем тяжких раздумий над уверенной судьбой моего свежего произведения – оперы «Взблески на росстанях». Во мне давно уже пели и клокотали все фибры таланта. И вот выплеснулись в чарующие звуки музыкальных стенаний. И всё это я решил доверить вам, моя смена. Ликуйте же под звон концертирующего разума!
Немного о планах. После балета «Взблески на росстанях», я думаю поделиться с вами и со своим поклонником критическим разбором моего творческого наследия.
Жму ваши честные руки – Антиох Тихостолбняцкий.№ 5
Редакции.Ваша бестолковость восприятия шедевров и неприкрытые намёки о тщетности моего писательского труда, принуждают меня к отказу от дальнейшего сотрудничества. Надеюсь, что встречу понимание в других органах. Вплоть до судоносных.
Т.С.ЛЮБОВЬ БЕЗ ПРИМЕСИ
Иду по улице. Никаких позывов к родопродолжительной деятельности, хотя в природе настроение легкомысленное. Кругом весна. Почка на почку лезет, а о представителях бродячей фауны и говорить нечего. Наглеют на глазах до скотской срамоты. Хорошо, что я человек разумный и могу сдержать страсти посреди улицы.
Смотрю, навстречу тоже человек двигается. По колыханию бёдер ещё издали узнаю Эллеонору, в переводе на наш язык – просто Люську. Знаю, что в общении она девушка покладистая и всё при ней. Посильно трудится проституткой около гостиницы, находясь в самом зените расцвета, и с лица далеко не африканский крокодил. Очень даже притягательная личность, не говоря уж о прочих достоинствах урожайной фигуры.
Но когда ближе подошла, замечаю, что во всём облике какое-то увядание и в глазах не видно задора пропавшей молодости.
– Что случилось, Нора? – соболезнующе интересуюсь после обмена приветствиями.
– Да вот, работу потеряла, – грустно отвечает труженица интимной сферы.
– Как же так? – продолжаю допытываться. – Неужели поголовно весь клиент ориентацию сменил?
– Да нет, – грустно отвечает, – с клиентом всё в порядке, отбою не было. Вот только заболела я.
– Вот тебе и на! – я даже отшатнулся. – Телевизор некогда посмотреть при твоей занятости, что ли? Там каждый день об опасности предупреждают, словно все жительницы страны по твоим стопам пошли. Или, может, резина некачественная попалась? Это случается при стихийном рынке, когда потребитель слабо защищён.
– Опять же нет, Петя, – со всем доверием отвечает Нора. – Я технику безопасности всегда соблюдала. С головой у меня что-то, ну, словно не полная колода карт.
Огорошила меня девушка. Я и на голову глянул. Ничего особенного, череп на месте и наружных повреждений не наблюдается.
– А что с головой-то? – осторожно спрашиваю. – Вроде, у тебя со школьной скамьи лишь нижняя часть тела исправно функционировала. Может, на каких курсах кройки и шитья ты верхнюю-то часть надсадила?
– Не понял ты, Петя, – и на меня жалеючи смотрит. – На работе посторонние мысли в голову полезли. Не до клиентов становится, когда о любви думаешь.
– О чём? – переспросил я, думая, что ослышался из-за порыва ветра.
– О высоком и чистом чувстве, Петя, – стала разъяснять, как ушибленному. – Живёшь по принуждению и, с кем ни попадя, а нет бы от чистого сердца и с желанием. И чтобы принц был, как в сказке. Чтоб на руках носил, а я об его кошельке не думала.
– Лицо королевских кровей – это хорошо, – въехал я в положение, – это возвышенно. Но какая тут к чертям Ассоль с Изольдой вместе, дорогая Эллеонора, ежели тебя, считай, полгорода в облупленном виде знает, не говоря уже о всех приезжающих в наш райцентр гостях? Тут тебе, наверно, в любовные сети не чистотой помыслов заманивать надо, а голой практической хваткой. Ты же мастерица, как я слышал, на все руки и прочие части тела.
– А то ты не знаешь! – обиделась Нора. – Никогда низкой ценой не обижал, хотя я и не брала по старой дружбе.
Это замечание я пропустил мимо ушей, как несущественное, и тут же отвлёкся злободневной для неё темой.
– Эх, – говорю, – Нора! К твоим сегодняшним запросам, да ещё бы современную телесную невинность. Так тебе бы и цены не было в дальнем районе сельской местности.
– Это как раз сущие пустяки. Я на днях операцию сделала, – потупила она взор.
– По новой оцелковалась, что ли? – посмел догадаться я. – И ниток хватило?
– Так ведь новую жизнь начать хочется. Тут уж за ценой не постоишь, – Нора вздохнула. – А тебе, Петя, спасибо за дельный совет о другом районе.
– Не за что, – вырвалось у меня. – И удачи тебе на новом поприще! – уже в спину крикнул я от всего сердца.
На том и расстались. Без пошлости.
Встретились мы со старой знакомой почти через год.
– Эллеонора, – заорал я через улицу, – здравствуй, дорогая! Как дела?
Подбежал вплотную и вижу – она вся цветёт и благоухает. Знать нашла своё женское счастье. Заколосился я от радости за ближнего.
– Я уже полгода как Людмила, – сразу сообщила мне новость. – С той поры, как замуж вышла.
Тут я ещё больше обрадовался и стал желать наилучшего.
– А лучше и не надо, – заскромничала Люся. – Я ведь и не думала, что любовь может быть такой чистой. До сих пор не верится. Муж с меня глаз не сводит, да и я в нём души не чаю.
Дальше за неё радоваться я не мог, достигнув предела ликования.
– Значит, скоро детки пойдут, старость скрасят, – предсказываю Людмиле. – Небось, старое, как кошмарный сон вспоминается.
– Почему это? – вроде, как и не поняла она меня. – Я давно на прежней работе восстановилась. Клиент косяком прёт.
Тут уж я ничего не понял. Думаю, определённо за это время кто-то из нас сильно головой прохудился. Спросил по инерции:
– Мужа не хватает, что ли?
– Да супруг тут ни при чём, – отмахнулась Люська. – Он мою деятельность вполне одобряет. Работа как работа. Даже совет может дельный дать, когда я с ним воспоминаниями делиться начинаю.
Следующий вопрос я задал одними глазами и отвалившейся на грудь челюстью.
Однако, собеседница поняла.
– Он у меня чистый теоретик, – снисходительно разъяснила. – Ему ещё в детстве где-то что-то прищемило, так он до сих пор в мальчиках ходит. Но зато какая возвышенная любовь! Безо всякой постельной грязи. И у нас дома всё как у людей. А здесь я в командировке.
– А он не… – выдохнул я, касаясь указательным пальцем виска.
– Да ты что! – возмутилась Люська. – Вполне современный человек. Начитанный как классик. Ведь любовь любовью, а производственные отношения полов совсем другое дело, – запела она с чужого голоса. – Кто не работает, сам знаешь, чем занимается. А я и мужа обеспечиваю, и на старость откладываю. Теперь-то у меня голова романтикой не забита.
– Зря, значит, операцию делала, – посочувствовал я на всякий случай, так как говорить далее было не о чем.
– Это как сказать, – вдруг оживилась бывшая подруга. – Калибр-то у меня изменился в сторону уменьшения. Значит, не зря страдала.
– Молодец, природу обмануть сумела, – уже напоследок ещё раз порадовался я за Люську. – Ну прощай. Даже не знаю, каких успехов тебе ещё пожелать.
– Да никаких, – искренне сказала она и добавила: – Хороший ты, Петя, человек и мужик. До конца женщину выслушать умеешь. А не то, пойдём ко мне, угостишься. Я тут недалеко комнату снимаю.
Так и пошли. Под руку. Она весёлая, а я почему-то задумчивый.
И что интересно, мы в тот вечер так и не опустились до телесной дружеской связи. Почему-то на платоническую любовь потянуло.
Домой шёл, и всю дорогу мысль терзала – вроде, я и ущемиться за последнее время нигде не успел, но почему же тогда такое пренебрежение к бесплатному приложению сил? Может, от того, что рога некому ставить, а потому и охотничьего азарта нет? Или с утра не с той ноги встал? Так до конца и не понял. Одним словом, очередная загадка природы человека вышла.
СОБАКИ ВАУЧЕРВИЛЕЙ
Туман сырым несвежим саваном смрадно накрывал Чёртбыбральские торфяные болота, неопрятно раскинувшиеся на многие мили окрест. Мёртвый лунный свет едва пробивался сквозь его вязкую пелену, смешанную с болезнетворными испарениями Бредбрехской трясины, непроходимая топь которой таилась где-то посередине здешних гиблых мест. Все звуки ночи вязли и растворялись в этом тоскливом и грязном мареве, превращаясь в неясные шорохи и вздохи, придавленной ядовитым смогом ночной жизни.
Вот уже трое суток, как я и мой верный друг мистер Шуррик Хломс находились в секрете от ещё неясного противника.
Уже трое суток, томясь в жидких зарослях вереска и хвощей днём или лёжа в придорожной канаве ночью возле единственной тропы, берущей начало у Ваучервиль-холла и петляющей по болоту к местам добычи торфа, мы пытались разгадать жуткую тайну этих проклятых богом мест.
Трое суток мы стоически переносили отсутствие горячительных и кофе, отхожих мест и овсянки, но грязные манжеты и нечищеная обувь уже начинали выбивать нас из колеи здравого смысла. И лишь тихий наигрыш на флейте отрывков из любимых опер Хломсом, да чистка револьвера и пересчёт патронов мною, позволяли на короткое время приобретать равновесие в умах.
– Дорогой Ваксон, – на исходе четвёртой ночи вымолвил мой друг. – Нам необходимо незамедлительно вернуться в Ваучервиль-холл и обследовать курятник.
Я, как обычно, не поймал нить рассуждений моего друга, но, зная его немногословность и причудливость логических умозаключений, не стал спорить, а лишь немногословно возразил:
– Какого дьявола мы валялись здесь колодами четыре ночи, а теперь спешно потащимся назад с остатками провианта? Не лучше ли не спеша позавтракать, а отдохнув после ланча, вернуться к хозяину Ваучервиль-холла налегке и объявить, что тайна болот погребена в трясине?
Мистер Хломс по своей вредной привычке не ответил, а лишь посмотрел на меня с сожалением, но любезно. Я тут же засобирался и, побросав в мешок нехитрые пожитки и схватив корзину с провизией, поспешил за другом по расползающейся под ногами дороге, к тому же истерзанной колёсами повозок, вывозивших торфяные брикеты от болот, куда они доставлялись вручную с места разработок каторжниками Йолкпалкинской тюрьмы. Шуррик Хломс невозмутимо шёл впереди, поигрывая тростью и на флейте, а в его голове, как обычно, раскручивалась пружина расследуемого нами дела. И у меня под шапкой волос роились мысли и не всегда пустые.
До Ваучервильского замка было часа три непролазной грязи и липкого тумана, поэтому я вновь попытался собрать воедино в своей крепкой голове факты, приведшие нас в эту глушь.
* * *
Недели две тому назад в пасмурное лондонское утро, когда мы с Хломсом, закончив завтрак в нанимаемой нами на паях квартире на Брокер-стрит, тринадцать, предавались размышлениям и хандре в связи с застоем в преступном мире, нас неожиданно потревожило посещение владельца Ваучервиль-холла – сорокапятилетнего сэра Гарри Пройддоха Ваучервильского. Взволнованный, с лицом цвета снятого молока, он поведал нам странную и таинственную историю.
Но прежде всего надобно заметить, что, как кстати утверждала и левая пресса, сэр Гарри, кандидат от партии либералов демократического толка на предстоящих выборах в правое крыло парламента, был хорошо известен среди скотопромышленников северной части Англии своим благородством и знатностью происхождения по материнской линии, урождённой сквайерши фон Гроссенблуд. В силу своей врождённой скромности жил он уединённо и безвылазно в родовом замке Ваучервилей, являясь наследником никем не слыханного состояния своих забытых предков, сколоченного от умной продажи торфа на торгах и имущества с молотка, а также прибыльных операций в Южной Африке по доставке рабочих рук в Новый Свет. Но сейчас сэр Гарри отошёл от дел, занимаясь политикой невмешательства, родовые земли сдавал в аренду местным аграриям, а за замком и оставшейся в местной скобяной лавке недвижимостью посильно присматривало минимальное количество прислуги: кухарка, она же экономка, пекарь и скотник, выполняющий нехитрые обязанности домашнего лекаря. И единственной привязанностью сэра Гарри были псы дворовых пород, с которыми он проводил всё своё время, свободное от бескорыстной тяги к труду на поприще.
И вот сей достойный джентльмен, сбиваясь на обильную слезу, поведал нам в то печальное утро, что несколько суток тому назад при весьма загадочных обстоятельствах с территории Ваучервиль-холла исчезли любимый кобелёк Ворфаломей мышистого колера и скотник Жлобс. Вызванный на место происшествия конный наряд полиции графства во главе с инспектором Клейстертом, детально обследовал каждый ярд усадьбы, но так ничего подозрительного и не обнаружив, достойно удалился восвояси, затоптав всякие следы. Правда, полисменов озадачили пятна крови, обнаруженные на собачьем домике с оставшейся там и сиротевшей в одиночестве сучонкой Серафимой, но не надолго, так как время близилось к вечернему чаю, а от свидетелей толку не было.
Ваучервиль-холл опоясывает высокая и, по словам сэра Гарри, полностью уцелевшая после недавнего пожара каменная стена с единственными и постоянно запертыми от посторонних воров глухими воротами. И факт исчезновения двух обитателей замка при несомненной целостности системы его защиты, что, кстати, засвидетельствовал и опытнейший в правонарушениях инспектор Клейстерт, принудил сэра Гарри с первым же попутным кэбом примчаться к нам за помощью.
– У кого ключи от ворот? – задал тогда мой друг свой первый вопрос.
– Ни у кого, – уверенно отвечал сэр Гарри. – Единственный экземпляр я всегда ношу при себе на цепочке.
– Не замешана ли прислуга в этом деле? – задал второй неожиданный вопрос мистер Хломс.
– Никак нет, – отчеканил хозяин замка. – Слуги вне подозрения, так как я вырос у них на глазах. Тем более, пекарь Джопс и кухарка Саломея в тот роковой день спали как убитые на сеновале курятника.
– Весьма печальная подробность, – пробормотал великий сыщик и задал свой последний вопрос, повергший меня в изумление своей проницательностью в суть захолустной жизни: – Кто живёт по соседству с вами?
– Мой замок стоит вдали от проезжих трактов, – со знанием дела пояснил владелец Ваучервиль-холла. – На десятки миль окрест и вокруг замка раскинулись одни болота и непригодные для земледелия пустыри. Правда, в милях четырёх от моих владений, где-то на краю болота стоит Трах-Бичская сторожка. Некогда там проживали егеря, охраняя наши родовые охотничьи угодья, но с ростом браконьерства и резким падением яйценоскости перелётной птицы, надобность в охране гнездовий отпала, и сторожка пришла в запустение. Лишь недавно с моего позволения там поселилась чета Дралсексов. Это молодые биологи, занимающиеся научными изысканиями в областях флоры и фауны болот и трясин.
Это была вся информация, которую мы тогда получили. Но по отрешённому взгляду моего друга я понял, что эта история калёным гвоздём засела в его дедуктивном мозгу. И целые сутки он предавался размышлениям, обложившись справочниками и покуривая трубку, а уже к вечеру следующего дня мы прибыли на место происшествия и занялись привычной сыскной работой.
Мистер Шуррик Хломс, вооружившись лупой, немедленно начал ярд за ярдом обследовать территорию Ваучервиль-холла, я же, бегло осмотрев неприступную ограду усадьбы и бурые пятна крови на собачьей будке, сразу пришёл к смелым логическим выводам. Мне, человеку, весьма поднаторевшему в вопросах сыска, было совершенно ясно, что бедный кобелёк похищен с целью получения выкупа, а верный Жлобс безвременно пал от руки негодяя, защищая хозяйское добро. Почему молчали собаки и, куда исчез преступник со свежим трупом на руках, пока что оставалось загадкой, но я был уверен, что мой пытливый ум разрешит эту мелкую проблему ещё до первых петухов на утренней заре.
С наступлением ночи мистер Хломс прекратил практическое изучение объекта, а с восходом луны предложил мне прогуляться по тисовой аллее вдоль стен замка и выкурить по трубке. Я немедленно согласился, и мы не спеша пошли под сводами вековых деревьев, мирно рассуждая о прелестях жизни в местах не столь отдалённых от границ цивилизации. Кругом были мрак и покой одичавшей природы.
– Что вы думаете по поводу этого дела, дорогой Ваксон? – в который раз нарушил тишину мой друг почти риторическим вопросом.
– Что-то надо делать, – слегка подумав, ответил я, не сомневаясь в правоте этого вывода.
Однако далее продвинуть остановившуюся мысль я не успел. Вдруг со стороны болот раздался дикий, душераздирающий вой. Он ночным кошмаром пронёсся над пустынными болотами, то яростно нарастая, то с заунывными стенаниями пропадая в их недрах. В нём явственно слышались безысходность страдания и ужас обречённости. Этот жуткий вопль отлетающей жизни длился несколько минут, но врезался в мозг навсегда. Кровь застыла в моих жилах, а волосы на всех частях тела встали дыбом.
Мы, не теряя хладнокровия и с истинно джентльменской невозмутимостью, бросились в замок к сэру Гарри за разъяснениями, причём, я не забыл предупредительно обогнать своего старого друга, спеша принять возможный удар на себя.
Хозяин замка, меланхолично выслушав наш рассудительный в пределах комнатной логики рассказ и придирчиво вникнув в суть, поведал нам, что этот вой периодически доносится со стороны болот с незапамятных для него времён и давно не пугает обитателей замка.
– Видимо, это вопят души каторжников, упокоившихся на торфоразработках, – как мог, успокоил он нас.
Долго не мог я сомкнуть глаза в ту ночь, поминая души усопших словом и делом привычного воздержания от злоупотребления. А утром, когда отяжелевшая от ночного бдения голова жаждущее думала одной ей понятную думу, великий сыщик и принял решение об устройстве засады на краю этих чёртовых болот. Я не возражал, но сомневался, о чём и высказал мистеру Хломсу прямо по-английски, как друг и соратник. Вот так и было положено начало нашему великому бдению на болотах.
* * *
Пока я предавался тягостным размышлениям о напрасно убитом времени среди трясины, мы наконец-то дотащились до Ваучервиль-холла. Но не успели приблизиться к воротам на расстояние прямого выстрела из револьвера, как из них выскочил сэр Гарри и с горестным криком бросился к нам. Зная его обычную сдержанность, я удивился такой прыти джентльмена, а когда же заметил, что приближающийся сэр одет весьма небрежно и без монокля, сердце моё трепетно забилось предчувствием новой возможностью сидения на болотах.
– Мистер Хломс, – ещё издали заголосил несчастный. – Новая трагедия. Пропали мой верный Джопс и любимая Серафима. Я в трансе, а Саломея требует расчёт по всем статьям.
Успокоив сэра Гарри тем, что оказалось под рукой, и оставив беднягу скорбеть в одиночестве на проезжей части дороги, мы поспешили на место происшествия.
То, что мы увидели, даже наши криминально закалённые органы чувств выносили с трудом. Рассчитанным цинизмом и жестоким надругательством веяло от каждого дюйма представшей перед нами картины. Каменело сердце, кровь стыла в жилах, а перед мысленным взором являлась сцена совершения преступления со всеми её мерзкими и глумливыми подробностями. Я мужался, сглатывая солёную слезу, друг крепился, смахивая такую же, но слов не было, несмотря на нашу общительность в иные роковые минуты.
Да, было от чего помутиться и менее стойкому чем мой разуму. Вокруг последнего прибежища бедных псов более чем столетний газон был зверски вытоптан. Словно именно здесь взбесившееся стадо индийских боевых слонов преследовало доблестные колониальные войска, попирая вместе с зеленой растительностью и наши вековые традиции. Клумба за собачьей юдолью скорби была и вовсе превращена в растерзанное место погребения невинных хризантем и милых сердцу рододендронов. А сама пёсья колыбель опрокинутой страдалицей безмолвно молила об отмщении за насилие над жилищной неприкосновенностью.
Долго стояли мы с другом в траурном молчании подле останков логова домашних животных, свесив головы на груди. И не было сил оторваться от печальных дум о превратностях земного бытия.
С наступлением сумерек, верный своему слову мистер Хломс, отправился обследовать за каким-то чёртом курятник. Я же, слегка проанализировав доступные мне факты, вновь пришёл к прежнему выводу. И сомнения меня не грызли. Двойное убийство с похищением самого ценного – любимых животных сэра Гарри, было совершено, судя по манере исполнения, одним преступным серийным маньяком с целью получения выкупа или на развод для последующей продажи с аукциона. В мою трезвую голову иное объяснение хищения никому не нужных в округе четвероногих друзей сэра просто не влезало. Верные же слуги, несомненно, пали от руки злодея, защищая редкопородное хозяйское добро, что посмертно свидетельствовало об их высоких моральных качествах. Псы в обоих случаях молчали, видимо, по веским причинам. Либо от испуга, в силу незрелости возраста, либо с связи с их лёгким удушением безжалостной рукой негодяя. Так как общая картина преступления мне была предельно ясна, то разгадку бесследного исчезновения трупов я оставил на совести мистера Хломса и отправился в замок, унося с собой разгадку трагедии. Поимка преступника, по моим расчётам, была не за горами.
Сэра Гарри я застукал в столовой у камина с бокалом бренди в руках и тот час же составил ему компанию. И не успела ещё взойти луна, как хозяин, распечатывая с горя очередную бутылку, поведал мне жуткую тайну семьи Пройддохов, владеющих с исторически далёких времён Ваучервиль-холлом.
Злой рок уже несколько поколений терзал мужскую ветвь знатного рода. И дед, и отец, и, по преданию, прадед сэра Гарри, доживая до сорока с небольшим лет в родовом замке, вдруг навсегда исчезали из здешних мест при весьма загадочных обстоятельствах. Причём, этому всегда предшествовало не раскрываемое убийство кого-нибудь из обслуживающего персонала, а заодно и ограбление поместья. Распускаемые впоследствии некоторыми кредиторами слухи о, якобы, периодически встречаемых на просторах Латинской Америки пропавших владельцах Ваучервиля с их убиенными слугами, реальной почвы под собой не имели, в силу невозможности проверки этих наветов местной полицией. А что до имеющих быть место приватных домыслах кое-кого из неудачно власть предержащих о возможной причастности пропавших Пройддохов к незаконным махинациям с казной графства, то и этот постулат никогда не был доказан основательно.
Женщины в замке тоже не приживались. И, обычно, счастливо разрешившись от бремени малюткой, как правило, мужского пола и сдав его на руки кормилице, незамедлительно спешили под родительский кров. Причиной тому, как я понял, если что и понял из сумбурной речи сэра Гарри, была наследная строгость в характерах их супругов и беспробудная тяга последних к поискам истины в тиши личных библиотек и погребов. И эта родовая черта передавалась по наследству, как и место в парламенте, с постоянством смены дня и ночи.
А вот сейчас, как плакался сэр Гарри, после пропажи самого ценного его имущества в виде бессловесных тварей, он и сам почувствовал нависшую над ним возможность исчезновения, несмотря на отсутствие наследника и некоторые стеснения в средствах из-за высокого закладного процента и долговой ямы. Однако, неумолимый рок всё же толкал Гарри Пройддоха Ваучервильского за границу. То есть, за грань реалий здешнего мира, тем более, что появись вполне возможный наследник от леди Аннабель, то сему родовитому преемнику, с пропажей собак, ничто более не напоминало бы о селекционной деятельности и неисчислимом богатстве папаши Гарри. Да и дела в казначействе графства пришли в упадок.
И вот пока таким образом изъяснялся хозяин, а я ему сочувствовал, перелистывая расписание морского транспорта с пометками сэра, из курятника в приподнятом настроении вернулся ни с чем мистер Хломс. Мы с моим новым другом попытались заострить внимание сыщика на вечерней трапезе с бокалом доброго вина, ибо все теоретические вопросы расследования были мною завершены и одобрены сэром. Но мистер Хломс, с присущим ему неуёмным энтузиазмом, наложил вето на наши мирные посиделки, сказав:
– Дорогой Ваксон, нам необходимо навестить Дралсексов в Трах-Бичской сторожке. Собирайтесь в путь.
Излив на Шуррика весь специфичный для сыскного дела словарный запас, объясняя поспешность в столь незамысловатом деле, а заодно восхитившись игрой его недюжего ума, я простился с дорогим сэром и, согласно правилам маскировки, по касательной к окаймлявшим дорогу деревьям, устремился за Хломсом в Трах-Бич.
* * *
Ночь, набросившая свой звёздный плащ на болота, угрюмо сопутствовала нам на неуютной дороге к сторожке. Чахлые деревца по краям разбитого дождями просёлка бесприютными странниками таились в загустевшей тьме, пугая путников. Но мы, как уверял великий сыщик, вопреки моему здравому смыслу, приближались к разгадке Ваучервиль-холла.
– Шуррик, а что мы забыли у Дралсексов? – в который раз пытался я завести задушевный разговор с другом. – Не лучше ли нам вернуться к бокалу старого вина и, всё взвесив, где-то через пару недель с помощью полиции и регулярных войск обшарить болота?
Сыскных дел мастер по обыкновению промолчал, зная мой гордый характер и обильный словарный запас родного языка. К тому же он был уверен, что я не оставлю его без литературной опеки, ибо лондонский читатель уже устал ждать моего очередного писательского отчёта о нашей криминальной деятельности. Ведь мой скромный пытливый зуд сочинителя сопровождал Хломса во всех его начинаниях. Поэтому, отхлебнув из походной фляги и тем самым восстановив равновесие мысли в голове, я продолжал следовать за мистером Хломсом, сжимая в потной руке револьвер и готовясь отразить любое нападение с тыла.
Мы, молча и споро, крались к логову биологов. И не успело утро вступить в свои законные права, а я ради придания лёгкости шагу опустошить флагу и в пятый раз исполнить боевой шотландский гимн, как наш малочисленный отряд уже стучался в дверь сторожки, ломкий свет в окнах которой свидетельствовал о наличии хозяев.
Дверь почти сразу распахнулась, и мы уверенно вломились внутрь довольно обширной комнаты. Хломс задержался у входа, я же преисполненный отваги и инерции, свойственной преследователю, проскочил вперёд и упёрся в грубой работы стол с двумя скамьями по бокам. Впереди у дальней стены пылал камин, неверным светом заполняя этот разбойный притон, слева виднелся платяной шкаф, а справа за ширмой угадывалась кровать.
Пока я надлежащим образом и в считанные секунды оценивал обстановку предстоящего места сражения, Хломс за моей спиной зачем-то представился незамеченным мною обитателям этого вертепа и сказал, что хочет видеть мистера Дралсекса по неотложному делу. Вместо того, чтобы сразу применить оружие на немедленное поражение, сыщик опять начал свои дедуктивные игры.
– Мистер Хломс! Какой сюрприз! Я вас неоднократно видела в Лондоне, – вдруг услышал я за собой глубокий грудной голос. – А это, если не ошибаюсь, доктор Ваксон?
Я почти стремительно обернулся, как старый боевой конь, услыхавший призывной клич полковой трубы. Передо мной стояла…Нет, это была не женщина! Передо мной возникло белокурое и пышногрудое с огромными и карими, словно бренди, влажными, словно свежая бутылка из погреба сэра Гарри, глазами, в тёмную бездну которых я погрузился сразу же, потеряв ощущение пространства и времени. И лишь где-то в глубине естества, подспудно пульсирующее чувство долга, с огромным трудом вернуло меня к реальности, и я смог, наконец, оценить опытным взглядом всю стать бесподобной хозяйки. Строгое, рельефно вырисовывающее бюст платье тёмного тона плотно охватывало фигуру молодой женщины, а переливчатый огонь камина игрой света и тени создавал иллюзию постоянного волнения здорового и влекущего к себе тела. И меня проняло осознанием глубочайшей ответственности за ход проводимой операции, так кстати возложенной на мои плечи самим Провидением.
– …доктор Ваксон? – наконец, скорее догадался по движению её сочных и обворожительных губ с немного грустным изломом в уголках рта, нежели расслышал я вопрос молодой женщины.
– О, да! И доктор, и Ваксон, и друг Шуррика, – залепетал я, томясь предчувствием близкой разгадки тайны расследуемого дела и надеждой обладания ослепительным гонораром.
– Можем ли мы видеть мистера Дралсекса? Миссис… – вновь послышался хладнокровный голос моего друга.
– Мисс, мисс Розалинда, – поправила хозяйка, слегка приседая в реверансе. – Брат, как обычно, ночь проводит на болотах, изучая сумеречную жизнь их обитателей. Поэтому явится лишь утром.
– Очень жаль, – голос моего друга выражал досаду, – придётся подождать его на краю трясины. Ведь джентльмены не могут находиться ночью рядом с незнакомой леди без присутствия её родственников.
– Господа! – смущаясь девственной невинностью и заливаясь краской стыда до подбородка, вскричала Розалинда. – Вы можете остаться в сторожке до утра, нисколько не стеснив меня. Столичные предрассудки вряд ли уместны в провинциальной глуши, тем более, что я уже пробудилась, чтобы протопить камин, да и Миккаэль обидится на меня, узнав, что я не задержала вас. Снимайте плащи и присаживайтесь к столу. Я же приготовлю кофе.
Так как я уже давно не видел ничего предосудительного в присутствии дам среди достойных джентльменов, а тем более ночной порой, то моментально ринулся к порогу, увлекая за собой щепетильного Хломса. Когда же мы приблизились к платяному шкафу, я услышал горячий шёпот моего друга:
– Ваксон, да спрячьте вы, наконец, свой револьвер, неудобно при даме бряцать оружием.
Я тут же ощутил в руке тяжесть неуместного здесь куска металла. Вот что значит долг и честь! Видимо, подсознательно я ни на минуту не расслаблялся и всегда был готов к любым действиям во славу правосудия. Но, идя навстречу пожеланиям друга, проворным движением засунул оружие за шкаф.
Сняв плащи, мы чинно уселись за стол напротив друг друга, готовые к любым неожиданностям.
Спустя некоторое время перед нами появился до блеска начищенный кофейник. Поданы чашки, а аромат кофе, заполнив помещение, предрасположил нас к уютной предутренней беседе.
Мисс Розалинда присела рядом со мной и, разливая кофе, завела разговор о погоде, ценах на торф и прочих мелочах жизни. Мистер Хломс односложно отвечал, покуривая трубку, я же больше молчал, искоса поглядывая на точёный профиль хозяйки и строя радужные планы, однако общая беседа явно не клеилась.
– Какой удивительный нож, – вдруг сказал Хломс и, встав из-за стола, направился к каминной полке.
– О, это подарок брату от сослуживцев, – туманно разъяснила мисс Розалинда.
– Прекрасная работа, – похвалил Хломс неизвестного мастера, рассматривая нож, и неожиданно вскрикнул.
Я успел заметить, как неосторожным движением, что было свойственно Шуррику и можно было отнести лишь за счёт внезапно охватившего сыщика волнения, когда он нападал на верный след, мистер Хломс порезал себе руку, и его левая ладонь обагрилась кровью, тяжёлыми каплями падающей на пол.
– Как вы неосторожны! – укоризненно воскликнула хозяйка, тут же оказавшись подле сыщика. – Доктор, помогите мне сделать перевязку раны, – уже ко мне обратилась она.
Я бросился к другу, на ходу доставая ещё вполне пригодный носовой платок. Вообще-то, проходя службу в Индии, я всё больше имел дело с лошадьми и считался неплохим коновалом, но время от времени мне приходилось пользовать и местное, дикое население, от которого я не успевал услышать жалоб. Поэтому остановить жгутом кровь или произвести небольшую трепанацию для меня большого труда не составляло. Да и Розалинда оказалась на редкость умелой помощницей. Мы ловко сделали перевязку, а возвратившись на свои места, я сказал несколько справедливых слов о бдительности при пользовании режущими предметами и пользе прививок от жёлтой лихорадки, приведя многочисленные примеры из моего военного опыта.
– Господа, позвольте предложить по капле джина, а то доктор слишком взволнован случившимся, – вмешалась мисс Розалинда, прерывая мой небольшой экскурс в славное боевое прошлое.
Я моментально согласился, тем более, что давно ощущал потребность освежиться. Мисс упорхнула за ширму, а я прочёл в ясных глазах Хломса приказ к собранности, что и выполнил, приготовившись на деле доказать непотопляемость старого вояки как в вине, так и в женских чарах. Правда, связи между трагедией в Ваучервиль-холле и нашим ночным нашествием на Трах-Бич я по-прежнему не видел, но ведь не ошибается тот, кто ничего не делает, а мистер Хломс уже давно что-то делал, не говоря уже обо мне.
В это время появилась хозяйка, и на столе завеселилась бутылка джина. Я разлил пахучую жидкость в бокалы и предложил выпить до дна за успех нашего предприятия. А когда выпили по второй, уже без благородно отказавшегося Хломса, разговор вновь завязался, но уже куда более оживлённый и непосредственный. Розалинда попыталась растолковать нам основы биологии, но я ударился в героическое освещение моего значительного места в индийской кампании, а уж когда коснулся криминогенной обстановки в Лондоне и на всём острове, то даже близко знающий меня Хломс не выдержал подробностей бытоописания уголовной среды и посоветовал уделить внимание слегка заскучавшей хозяйке, чья горячая близость бедра, собственно, и толкала меня к словесному разгулу.
Я тот час же налил, а когда в голове наступила полная ясность мысли, предложил расписать пульку, если дама будет согласна. Дама не возражала, и карты из моего походного джентльменского набора оказались как никогда кстати.
Хозяйка убрала кофейник и чашки на полку за моей спиной, и мы раскинули карты. Ставки не превышали фунта, и ночь незаметно потекла навстречу утренней заре.
Мне, да и Розалинде, не везло с самого начала. Хломс же смело вистовал, так как прикуп был полностью на его стороне. Очень скоро я понял, что мне не хватит наличности, чтобы расплатиться. Видимо, и мисс, почувствовав то же самое, решила сделать передышку и сбить карту.
– Мистер Хломс, – сказала она своим чарующим голосом, – позвольте осмотреть рану. Мне кажется, у вас сбилась повязка.
С этими словами она прогнулась через стол и, взяв сыщика за руку, начала осторожно перебинтовывать её.
Я выпрямился на скамье и почти прямо перед собой увидел не слишком обтянутую платьем, но вполне достаточно различимую для заключения определённых смелых выводов, оборотную и не менее притягательную сторону нашей хозяйки. Вид этого полновесного богатства, развернувшегося в непосредственной близости от моих внимательных глаз, заставил мою кровь горячими толчками ударить в голову, а левая рука помимо воли, подчиняясь лишь врачебному инстинкту практикующего медика, уютно устроилась на одной из половинок округлостей тела Розалинды. Почувствовав ладонью ответный, задорный трепет женского тела, я многоопытной рукой принялся от края и до края на ощупь обследовать эту привлекательную с медицинской точки зрения мышцу, являющуюся, как подсказывал мне многолетний опыт, предметом гордости для многих прямоходящих особей класса млекопитающих в период репродуктивного расцвета.
Розалинда, занятая милосердным делом, и, видимо, глубоко понимавшая мой пристальный научный интерес, не взбрыкивала необъезженной кобылицей, а, наоборот, несколько выгнулась, припадая грудью к столу, тем самым пододвигая и как бы ещё шире разворачивая передо мной своё, так сказать, поле для моей контактной деятельности. Я не замедлил воспользоваться благорасположением понятливой мисс и незамедлительно полез своей умной рукой под подол платья. Прекратив несерьёзное поверхностное ёрзание в доступных и для взгляда местах, я, говоря строгим медицинским языком, приступил к непосредственному пульпированию голого тела.
Моя опытная в диагностике ладонь медленно поднималась по внутренней стороне бедра Розалинды, пальцами чувствуя нежную шелковистость здоровой кожи, вызывающей нетерпеливый зуд исследователя во всём моём теле, и особенно ниже поясничной его части. Мисс, уловив моё пламенное стремление к познанию малодоступных частей телесной субстанции, пошире расставила свои нижние конечности, позволяя моей руке беспрепятственно достигнуть кружевного начала, утепляющих и защищающих от пыли и грязи органы размножения, панталон. Продвинувшись ещё выше по ткани, я пальцем упёрся в горячую ложбинку наипервейшего женского полового признака. Затем, обхватив весь этот губастый признак всей пятернёй, начал применять к нему основы мягкого массажа с целью скорейшего выделения оным влажных продуктов внутренней секреции, что свидетельствовало бы о здоровой реакции организма на внешние раздражители. Так как чистоте проведения эксперимента мешала защитная ткань панталон, то я, встав со скамьи и задрав подол платья подопытной до талии, уже сверху и по голому телу заскользил тёплой рукой к обжитому ранее месту, продолжая прерванный акт познания, но уже более качественно и без излишней спешки, дабы не нарушать растительный покров и в целом физиологию диагностируемого органа.
Скоро ладонь увлажнилась, а выступившие между набухшими и слегка разошедшимися наружными кожистыми наслоениями вышеозначенного органа малые и, в чём я искренне убеждён, рудиментарные губообразующие складки, попадая между пальцами, своей беззащитной распущенностью и сырой негой всколыхнули во мне первобытные желания спаривания, чего, собственно, и следовало ожидать, согласно слепым законам природы, но никак не осознанным стремлением к родопродолжению. Моих медицинских познаний вполне хватало, чтобы грамотно и с должным усердием совершить требующееся полосливающее действие, как для практической научной пользы, так и для закрепления полученных ранее навыков. Я всегда старался добросовестно и на допустимую глубину исследовать подвернувшийся под руку объект, чем и заслужил определённое уважение в кругу сподвижников и естествоиспытателей. Поэтому, непринуждённым движением руки я спустил надоевшие панталоны мисс до её же колен, оголив таким образом, радующую глаз белизной и опрятностью отлично развитую седалищную мышечную массу и, освободив от одежд собственный инструментарий, пребывающий в сносном рабочем состоянии, ввёл его в скользкие и тугие, разомлевшие в ожидания, недра телес Розалинды. А затем, с яростным пылом истинного природоведа приступил к выполнению естественных функциональных обязанностей по отношению к препарируемому объекту половой связи. Начав работу в поспешном темпе, я несколько раз терял контроль над амплитудой колебания своего тела, что приводило к выпадению моего щупа из предмета зондирования и невольному травмированию его с разбега о край стола, а это, естественно, не способствовало развитию процесса ознакомления с внутренним миром покорной мисс и даже наоборот, отвлекало от дела своим, до слёз болевым, эффектом.
В очередной раз, вплотную соприкоснувшись с грубым деревом столешницы, я в немом укоре к злостным проискам Провидения обратил свой взор в пространство и только тут заметил и осознал, что, как-никак, но нахожусь в помещении, даже отдалённо не напоминающее мою лондонскую лабораторию, да к тому же с ассистентом, весьма далёким от медицинской практики.
У меня от обиды за не содеянное к горлу подступил ком специфического синдрома, Розалинда обессилено пласталась на столе, видимо, сгорая от стыда за меня. Хломс невозмутимо следил за пляской языков пламени в камине, а где-то на болотах, разрывая рассветную дрёму природы, ударил выстрел. Пора было что-то делать в пределах разумного. Быть может, ловить преступников, раз ситуация так счастливо и без объяснений разрешилась сама собой.
* * *
Изо всех сил мы поспешили на звуки стрельбы, продираясь сквозь хвощи и клочья утреннего тумана. Мисс Розалинда, двигаясь впереди, указывала нам путь, я, как обычно, замыкал наш отряд, контролируя тылы. Наша группа продвигалась по старой и заброшенной тропе, обнаруженной Дралсексами во время их экспедиций по болотам. И по словам сестры, Миккаэль как раз и ушёл ночью по этой дороге.
Не прошло и получаса, как мы выдвинулись на край бывших торфоразработок. Из-за тяжёлых испарений Брехбредской трясины видимость ухудшилась, и следы былой деятельности каторжников, в виде ям и холмов, едва различались впереди. Я немного приотстал, взбадривая себя остатками джина, на бегу прихваченного из сторожки, а когда догнал спутников, то застал их молча стоящими на краю какой-то впадины и прислушивающимися к утренним вздохам болот и трясин.
Преступная бездеятельность мистера и мисс потрясла меня, а на предложение устройства окопов и траншей, великий сыщик произнёс:
– Уймитесь, Ваксон! Ваша никчемная суетливость лишь мешает делу.
Не успел я обидеться на необдуманные слова Шуррика и впасть в печаль по поводу отсутствия на привале освежающих напитков, как где-то впереди вновь послышалась ружейная трескотня.
Хломс и Розалинда суматошно бросились вперёд, не разбирая дороги, я же проворно и по-военному грамотно залёг в ближайшей яме и приготовился к отражению неприятеля. Правда, особо отражать было нечем, так как револьвер в спешке я забыл в сторожке за шкафом. И всё из-за неумелого планирования операции великим сыщиком. Теперь меня мог взять в плен последний вражеский лазутчик, а может и завербовать на всю оставшуюся жизнь. От таких мыслей я впал в кому и приготовился к наихудшему, выбрав место посуше…
Сколько прошло времени, пока я лежал с оцепеневшими членами в укрытии, я точно не помню, но зато когда, презрев опасность, выполз из ямы навстречу судьбе, она уже неумолимо надвигалась на меня огромными прыжками в образе двух волкодавов с пенным оскалом на чудовищных мордах. Мгновенно придавленный близостью страшного и недостойного джентльмена конца, я даже не смог полностью встать на ноги, чтобы встретить смерть лицом к лицу. Пройти с обозами через сотни сражений и быть растерзанным дикими животными почти на своей земле – это ли не издёвка судьбы!
А твари меж тем, сделав последний бросок, уже впивались своими когтистыми лапами в мои бока. И я рухнул среди папоротников и мха, вновь угасая сознанием, как муха в паутине…
Когда я опамятовался, меня ели псы. Один из бешеных зверей рвал моё тело ниже пояса, другой добрался уже до головы, слизывая с утробным рыком, видимо, кровь с лица. Находясь в глубоком шоке, боли я уже не чувствовал, а когда приоткрыл не съеденные ещё глаза, то увидел перед собой развёрстую, кровавую пасть с огромными клыками и не умещающимся языком в ней, снова впал в прострацию, краем сознания улавливая неясный говор ангелов и тяжёлую поступь апостолов, идущих за моей душой…
В следующий раз я очнулся от прикосновения холодной воды к моему истерзанному лицу. «Видимо, совершается омовение перед страшным судом», – в последний раз, нехотя, подумалось мне. Но тут чьи-то пальцы силой разлепили мой левый глаз, и я вновь увидел ненавистную мне морду, злобно оскаливающуюся и принюхивающуюся к моим бренным останкам. И я стал снова тихо и безропотно впадать в спасительное беспамятство, готовясь к новым обрядам над душой и телом, всё прощая врагам и близким…
Голова моя несколько раз непроизвольно дёрнулась, и я почувствовал боль ожогов на своём многострадальном лице. Эти насильственные действия пробудили во мне тягу к жизни. Под черепной коробкой заскреблась какая-то мысль, заставившая открыть глаза и даже приподнять обезображенную голову. И я в который раз увидел перед собой двух монстров псовой породы. Один из зверей, кровожадно помахивая хвостом, опять примеривался облизать мою не до конца обглоданную голову, другой стаскивал с меня штаны, силясь добраться до самого нежного мяса. Их садистские намерения чуть было вновь не помутили мой неокрепший разум, но я вовремя расслышал отдалённо знакомый голос:
– Ворфаломей, Серафима, к ноге! Мистер уже пришёл в себя.
Подняв глаза на голос, я узнал в говорившем мистера Хломса, который всё ещё тряс своей рукой, видимо, переусердствовавшей при выводе меня из коматозного состояния. Рядом с ним стоял невысокий господин, в котором я с трудом, из-за буйного рыжего парика и не менее рыжих накладных усов, распознал инспектора Клейстерта. А из-за их спин выглядывали полные неподдельного сострадания прекрасные глаза Розалинды. Они жалостливо и участливо смотрели на меня, призывая к здравомыслию и дееспособности.
Под магическим воздействием этого взгляда силы начали возвращаться ко мне. Я, превозмогая постыдную, но объяснимую слабость, сел и начал проверять свою целостность. Внешних разрушений на теле не обнаруживалось, как и следов крови и мозгов на голове. В недоумении я взглянул на своих спасителей и только тут заметил сидящих невдалеке двух потрёпанного вида джентльменов со следами истязаний на лицах синюшной расцветки. Поймав мой изумлённый взгляд, мистер Хломс, кивнув на сидящих, произнёс:
– Господин Жлобс и Джопс, собственными персонами, – и продолжил: – А это инспектор Клейстерт и сержант Мэгги Попкинс, они же сестра и брат Дралсексы.
От обилия столь неожиданной информации моя бедная голова вновь пошла кругом, и, не найдись у предусмотрительного инспектора глотка виски, я бы точно отправился в путь по известной дороге предков.
Видя моё плачевное состояние, мисс Розалинда, она же сержант Мэгги, что менее влекуще, обратилась к присутствующим со вполне разумными словами:
– Господа, – сказала она, подходя ко мне и помогая подняться, – доктор ещё очень плох, не утомляйте его разговорами. Лучше проследуем в сторожку. Кофе и капля джина не помешают нам всем.
Скоро я с помощью Мэгги и остатков инспекторского виски уже уверенно продвигался по тропе, путаясь среди не в меру разросшихся хвощей. Мистер Хломс по-мужски, но дружелюбно и ощутимо корректировал направление моего движения, а развеселившиеся собачки, со свежими подпалинами от неосторожного обращения с огнём, видимо, пекаря, предупредительно кружили возле ног, вспугивая болотную дичь.
По прибытии в Трах-Бич я забился в лихорадке и вынужден был слечь в постель с признаками бреда от нервного истощения. Мужчины с собаками под вечер отбыли в Ваучервиль-холл к сэру Гарри с докладом, я же остался на руках у Мэгги, не отходя от неё ни на шаг.
Джин и ежевечерние беседы с сержантом в постели больного, не затрагивающие криминальную тему, позволили мне уже через месяц цепко встать на ноги и быть готовым к дальнейшим сыскной и писательской деятельностям. Лечение можно было бы и продолжить, ибо Мэгги оказалась большим знатоком анатомии и физиологии, а мой индийский опыт служил хорошим подспорьем при искусных способах древнейшей терапии. Однако запасы провианта и прохладительных подошли к концу. Долг призывал к обязанностям, да и силы были на исходе. Поэтому, заколотив сторожку, мы отбыли в Лондон, так и не затронув в разговорах тему Ваучервиль-холла. Мне было как-то недосуг разъяснить сержанту полиции очевидные факты этого запутанного для несведущего человека дела. Тем более что Мэгги, занятая хозяйством и собственным мнением, не приставала ко мне с расспросами.
По прибытии в столицу, мы нежно распрощались на вокзале Ватерлоо. Я обещал Мэгги руку и сердце чуть ли не к следующей встрече, она же – хранить верность, насколько хватит сил. Ещё раз поцеловав избранницу, я поспешил на Брокер-стрит, унося в своём сердце теплые воспоминания и оставляя под ее сердцем ощутимую тяжесть, если возлюбленная оказалась права, хотя лично мне верилось в лучшее. Но такова суровая правда будней и праздников сыска. Со слабыми нервами и здоровьем здесь делать нечего!
* * *
Спустя года полтора, в суровые крещенские морозы, я сидел перед пылающим камином в нашей уютной квартире на Брокер-стрит, отдыхая после трудового для народа дня. Мой друг мистер Хломс курил трубку и проводил химические опыты, я же потягивал молочный коктейль, любезно приготовленный миссис Хватсон, и просматривал последний номер «Таймс». На глаза мне попалась заметка о сэре Гарри Пройддохе, владельце Ваучервиль-холла. Он уже заседал в парламенте и под его председательством готовился новый билль о правах ирландских квакеров. Я порадовался за политические успехи старого знакомого, а его имя, помимо воли, вновь вернуло меня памятью в далёкие дни ваучервильского расследования.
– Дорогой Шуррик, – обратился я к Хломсу, отрываясь от газеты. – Редактор «Морнинг Стар», мистер Гуго Шпингельсон, давно намекает мне о возможности публикации каких-либо воспоминаний о наших былых расследованиях. Хотя я до конца и не закончил свои наброски о Чёртбыбральских болотах, не будете ли вы столь любезны, чтобы прочесть мои черновики об этом деле и осветить некоторые тёмные, уже ускользнувшие из моей памяти, стороны его?
– Любезный Ваксон, – немедля откликнулся мой друг, пробуя какой-то реактив на вкус. – В третий раз вы пытаетесь отвлечь меня от работы своим литературным опусом, который по полёту фантазии сравним разве что с трудами барона Мюнхгаузена. Однако, – минут через десять продолжил он, приняв что-то болеутоляющее, – я в третий раз готов ответить на все вопросы, видя ваш серьёзный подход к проблеме молочных коктейлей добрейшей миссис Хватсон уже на протяжении почти что десяти дней. Тем более, что в первый раз, поднимая очередной бокал за здоровье сэра Гарри, вы опустили его на стол вместе с собой и всей нашей картотекой, пролежав затем с неделю на вытяжке. А во второй – не дослушав до конца, бросились на вокзал Ватерлоо в поисках мисс Розалинды, и вас потом месяц разыскивал весь Скотланд-Ярд. Правда, однажды вы сами изложили мне суть тех событий, перенеся их в Индию и увязав с поисками мальчика Маугли в непроходимых джунглях. Но это всё в прошлом, потому смело задавайте ваши вопросы.
Несколько обескураженный цепкой нетактичностью памяти старого друга, я вознамерился было воздержаться от дальнейшей беседы и удалиться к себе в комнату для принятия, может быть, какого-либо решения. Однако природное любопытство литератора взяло верх, и я спросил:
– Дорогой друг, так как воспоминания о мисс Розалинде с постоянством морских приливов терзают мне душу тоской неизвестности, то не изволите ли вы приподнять занавес над полицейским маскарадом незабвенной мисс и инспектора Клейстерта?
– Всенепременно, – откликнулся великий сыщик. – Однако сначала позволю себе заметить, что если бы не ваши непомерная жажда и неукротимое упрямство, вы уже после первого моего инструктажа должны были постичь цель и задачи нашего пребывания в Ваучервиль-холле.
– Какой инструктаж и иные цели, помимо спасения жизни дорого сэра Гарри? – справедливо возмутился я.
– Сэр Гарри тут ни при чём, – огорошил меня мистер Хломс. – Его визит был навеян бредовой идеей воссоединения с родственниками в Южной Америке и отсутствием материальных возможностей для достижения этой цели. И я его ещё тогда направил на истинный путь, послав подальше в департамент к моему брату Майнкафтану. И только лишь усилиями дипломатов всех рангов удалось вернуть хозяина Ваучервиль-холла в лоно церкви родного ему графства и направить его стопы в парламент через лечебницу и беспроцентный кредит.
– Тут я ничего не понимаю, – невольно вырвалось у меня.
– И не мудрено, – грустно улыбнулся Шуррик. – При вашем усердии, достойном лучшего применения, нам бы давно следовало вывесить жёлтый фонарь перед домом. А вам, как никому должно быть известно, что иные напитки пагубно отразились не только на литераторах и врачах, но и на многих полицейских чинах любого ранга.
Я очень не люблю, когда начинают обсуждать маленькие человеческие слабости в моём присутствии. Поэтому довольно резко оборвал разглагольствования сыщика на далёкую от него тему.
– Хломс! – гневно воскликнул я. – Мне не до сплетен вашего прихода! Поэтому я попросил бы вас вернуться к нашим баранам.
– Чудесно! – невесть чему обрадовался сыщик. – Вы уже склонны воспринимать критические замечания. А посему продолжим. Итак, как раз во время бредовых идей сэра Гарри, в Йолкпалкинской каторжной тюрьме, что на противоположной стороне Бредбрехских болот, намечалась амнистия в связи с близящимися именинами одной из царствующих ныне особ. И в этой праздничной неразберихе из тюрьмы сбежала, чего вы вероятнее всего не помните из газет, шайка местных матёрых преступников.
– Надо же, – невольно вырвалось у меня, – такая ложка дёгтя к королевскому столу.
– Вот именно, – воскликнул Хломс, как всегда радуясь моей врождённой сообразительности, – и даже более чем дёгтя. Ведь руководил этой бандой не кто иной, как внебрачный сын кухарки Саломеи и скотника Джопса Хулио Амадей Геноссе. А ведь они из окружения достопочтенного сэра Гарри.
– Это скандал, но откуда такие анкетные подробности? – перебил я подозрительно плавное повествование друга.
– От верблюда, – уточнил сыщик и продолжил: – Многие местные крестьяне, почти все из числа секретных сотрудников полиции, не раз ставили в известность Скотланд-Ярд о посещении Ваучервиль-холла праздношатающимися лицами с явными уголовными признаками. А задолго до этого, те же источники настойчиво оповещали о тайной связи Саломеи со скотником, а также о появлении наследника их скудных богатств. И хотя местное население эту связь не осуждало, уважая права человека, но всё же, когда малютка дорос до срока, своевременно помогло полиции упрятать за решётку этот плод любви.
– Прекрасный образец народного сыска, – не удержался я от похвалы тамошних земледельцев и скотоводов.
– Полностью с вами согласен, – поддержал меня и Шуррик. – Однако продолжим. Исходя из вышеизложенного, любой здравомыслящий человек был бы способен сообразить, что с помощью свободно гуляющих до новой отсидки правонарушителей, между нерадивыми родителями в Ваучервиль-холле и преступным сынком в Йолпалкинской тюрьме была налажена хорошая связь. Следовательно, зная заранее сроки побега и место сбора шайки головорезов, Саломея, как детородная мать, должна была направить Джопса на болота, чтобы тот провёл через гиблые места беглецов по одной из возможных троп или к Ваучервиль-холлу, или к Трах-Бичской сторожке. Что и попытался сделать скотник, прихватив с собою в качестве ночного проводника пса Ворфаломея. И как только полиции стало об этом известно, мы с вами и выдвинулись к старой дороге торфодобытчиков. Чтобы там, помаячив на виду у всех, направить преступников по тропе в Трах-Бич к месту более удобному для засады.
– Гениально, – вскричал я, забыв о тяготах бдения на болотах, и тут же логично предположил: – Значит, Жлобс со второй собакой тоже наши люди и были пущены на перехват незаконного отца.
– Никак нет, – по-военному отчеканил Хломс и пристально глянул на меня. – Наоборот, напрасно прождав отца и сына с товарищами, Саломея, истинная вдохновительница преступного сговора, отправила пекаря с сучонкой на поиски пропавшего не ко времени проводника. То есть, умной игрой на зачатках отцовских чувств первого и умелого алкогольного отравления дешёвым портвейном второго, последствия чего вами были ошибочно приняты за следы крови на будке, она толкнула мужскую часть обслуги Ваучервиль-холла на путь пособничества правонарушителям. И если бы, снабдив своих посланников в достаточном для всей шайки джином, Саломея не поскупилась бы на тоник, то преступникам, возможно, удалось бы избежать наших сетей.
– Роковая ошибка дилетанта, – вставил я.
– Архироковая, – согласно кивнул Хломс. – Сначала Джопс не выдержал испытания сухим пайком, а уж когда к нему присоединился Джопс, не имеющий даже представления об обете воздержания, план кухарки полностью рухнул, превратившись в обычный, свойственный не одному поколению слуг Ваучервиль-холла, пикник на болотах с распеванием псалмов и гимнов давно забытых предков, которое местные жители давно воспринимают как вопли душ умерших в мучениях каторжников, и кои так напугали вас за стенами владений сэра Гарри.
– Не надо излишних подробностей, Шуррик, – остановил я рассказчика и продолжил уже за него: – Вот тогда-то мы и показали себя во всей красе военного мастерства. Соединившись с основными силами у пункта Трах-Бич, наша группа захвата умелым манёвром обошла засевшую на болотах армаду противника и, смяв жестокое сопротивление, смелой атакой выбила её на сухое место, где и принудила к позорной сдаче в добровольный плен!
– Как бы не так, – охладил мой пыл мистер Хломс. – Не дождавшись проводника, тюремные беглецы двинулись в обход трясины и болот, а напоровшись на засаду королевских гвардейцев, действовавших по отдельному плану, сложили головы под их прицельным огнём, что, собственно, мы и слышали. Первоначальный же выстрел, привлекший наше внимание, произвёл Клейстерт, наткнувшийся на проводников во время ночного патрулирования.
– Уж не хотите ли вы сказать, что инспектор в одиночку произвёл задержание наших прожжённых следопытов? – усомнился я.
– Именно так. Жлобс и Джопс несказанно обрадовались встрече с инспектором, ибо ко времени их поимки, бедняги потеряли всякую ориентацию во времени и пространстве.
– А где же бедолаги сейчас?
– Говоря нашим языком, парятся на нарах невдалеке от Саломеи.
– А где же собачки?
– Если избежали живодёрни, то благополучно дичают где-то на болотах в окружении перелётной и зимующей птицы.
– Хломс, а за каким чёртом вы полезли в курятник к несушкам? – поддел я всезнайку, устав от его прямолинейных ответов.
– Именно в служебных пристройках я нашёл неопровержимые доказательства ведения тайного совместного хозяйства скотником с кухаркой, а допросив без пристрастия Саломею, убедился в правильности своих выводов относительно преступной роли прислуги в расследуемом деле. Тогда же, без особого нажима с моей стороны, она призналась в погроме собачьего гнезда и потраве растительности вокруг него. Тем самым недалёкая женщина хотела придать делу видимость похищения столь любимых сэром Гарри, во время его умственного застоя, собачек. Да и вы, кстати, тогда пели о выкупе с её слов.
Слова друга о моих музыкальных способностях были не далеки от истины, насколько я помнил, но крайне обидны.
– Мистер Хломс, – еле сдерживая себя, обратился я к сыщику. – Я не буду говорить о ваших концертмейстерских способностях, но ваша игра на флейте и меня не всегда приводит в восторг. Мог ли я подумать, что, деля с вами кров, должен буду ещё и разделить любовь к сольным концертам?
– Полноте, дружище, – пошёл на попятную зарвавшийся меломан. – Я не хотел обидеть вас отсутствием слуха. Это уже сделала природа. Да и у сэра Гарри, насколько я могу судить по вашей последней вечеринке, напрочь отсутствуют музыкальные способности.
– К вопросу о сэре, – смягчился я душой, понимая, что не один в компании тугоухих, – неужели он не подозревал о творящихся в его владениях беззакониях?
– Сэр Гарри, – осторожно ответил Хломс, – никогда не опускался в гущу народной жизни ниже винных погребов, поэтому ему всё было до канделябра. Это сейчас, после всех потрясений от общения с вами и лечения на принудительных водах, он, заседая в парламенте, не берёт ничего лишнего из специфичных хранилищ и предостерегает от этого других.
Это известие повергло меня в шок. Ведь какой был несгибаемый человечище! Сколько лет в одиночку – и всё бросить! Не дай бог, дурной пример окажется заразительным! Но я отогнал зряшные мысли и вновь обратился к Хломсу за очередным разъяснением:
– Скажите, друг, а как же Жлобс и Джопс смогли покинуть владения сэра Гарри при постоянно запертых воротах?
– Вот это, действительно, элементарно, – и Хломс удивлённо посмотрел на меня. – Ведь как раз за хозяйскими пристройками стена замка полуразрушена…
– Не хотите ли вы сказать, дорогой Шуррик, – въедливо перебил я рассказчика, так как и сам знал об этом факте, – не хотите ли вы сказать, – вновь повторил для убедительности, – что джентльмен полезет через стену?
– А кто вам сказал, что пекарь и скотник были джентльменами? – в свою очередь удивился и Хломс.
И это было истиной, роковым образом не принятой мною в расчётах.
– Но Шуррик, – слегка побагровев, попытался я оправдаться, – в сыскном деле интуиция не всегда приходит на помощь, и всего не предусмотришь. Помнится, на что уж вы опытный человек, и то сумели травмироваться при неосторожном обращении с холодным оружием в сторожке, – не удержался я от такой чувствительной для самолюбия сыщика шпильки.
– Мистер Ваксон, – помрачнев, посмотрел на меня Хломс, – если бы не моя реакция и воля счастливого случая, вряд ли бы мы вели эту разумную беседу. Показывая мисс Розалинде своё искусство владения кинжалом в джунглях Индии до невозможного совершенства, вы едва не снесли бедной девушке голову. Так что порезанный палец – сущие пустяки по сравнению с отсечённой головой.
Это была сногсшибательная для меня новость. Но, ведь, сколько жидкости утекло за это время! А издержки неизбежно возникают при любом нормальном производстве даже качественных работ.
– Тогда мы квиты, – всё же нашёлся я, – ведь вы так здорово обыграли меня в карты.
– А вас обыграть не составляло особого труда. Находившийся за вашей спиной кофейник прекрасно позволял мне отслеживать карту, которую, по правде говоря, вы и так едва различали, наполнившись джином до краёв.
Ядовитые слова Хломса заставили меня задать совсем уж нейтральный вопрос:
– Шуррик, а к чему весь этот маскарад с Дралсексами?
– Мой друг, – Хломс снисходительно окинул меня взглядом, – на расширенном совещании в Скотланд-Ярде, где и вы присутствовали в качестве наблюдателя из бара, был разработан план поимки беглых каторжников. А так как инспектор Клейстерт уже лично проводил рекогносцировку местности и осмотр Ваучервиль-холла, было решено направить его на операцию вместе с сержантом Мэгги Попкинс в несколько изменённом виде, что по ходу дела оправдалось полностью. Вот, собственно, всё и сказано об этой незамысловатой истории.
Мы замолчали, каждый о своём. Мистер Хломс, вскипятивший какую-то взвесь, добился своего – миссис Хватсон, таящаяся за нашей дверью, грохнулась в обморок, а мы, закалённые уголовным смрадом, лишь горько и непроизвольно всплакнули, борясь с удушьем.
Слёзы вспенили во мне новую розовую волну воспоминаний.
– Мистер Хломс, – обратился я к экспериментатору, накидывая на лицо марлевую повязку, – а не известна ли вам дальнейшая судьба сержанта Мэгги?
– О, мой терпеливый друг, – начал оживать Шуррик, как всегда пренебрегший средствами индивидуальной защиты, – мисс Попкинс пошла на повышение и в настоящее время сотрудничает с полицией нравов в качестве доступной приманки. А родившийся у неё сравнительно недавно младенец, явился приятнейшим сюрпризом и весомым приданым для жениха – сэра Гарри Пройддохи. Будущий супруг безумно рад наследнику и скорой возможности посмотреть мир за пределами графства, чтобы показать себя со всех возможных сторон.
– Мой малютка, – простонал я и разрешился риторическим вопросом: – Когда же они успели снюхаться?
– Это случилось ещё в сторожке, которую сэр Гарри посетил во время вашего лечения чистым джином от белой лихорадки, перемежающейся тяжёлым бредом плотского толка, – невозмутимо констатировал сыщик и вдруг озадачился: – А при чём здесь вы и безгрешное дитя? Насколько я знаю, вы не оставляете материальных следов в подолах у дам?
– Ах, Шуррик, – продолжал я стенания, – но не на ваших ли глазах я позволил себе забыться рядом с прекрасной Розалиндой?
– Что было, то было, – в голосе друга зазвенел металл, – я впервые тогда не знал, что предпринять и где укрыться от уколов совести, когда вы начали склонять юную мисс к замысловатому разврату, приводя примеры свального греха и заявляя, что «Камасутра» для вас – уже забытая азбука церковноприходской школы. И лишь питаемые к вам дружеские чувства с моей стороны, да хозяйская гостеприимность мисс, не позволили применить к вам более грубое насилие, чем кляп и наручники, – и Хломс умолк, предаваясь, видимо, приятнейшим воспоминаниям о насилии надо мной, как личностью.
Мне стало дурно, как в похмельное утро вдали от стойки бара. Даже мой взгляд залубенел, отвердев до тупой первобытности. Я почувствовал себя неоперившимся новичком клуба любителей инфлюэнцы. Одно меня лишь утешало – я всегда был искренен в своих заблуждениях. Хоть заостряй на голове кол или воздействуй на неё иными подручными средствами.
– Дорогой и даже очень, Шуррик, – взмолился я, – не добивайте меня сплеча своими реалиями чужой жизни. Ведь талантливый творец, в конце концов, может позволить себе выдать желаемое за действительность. Так у нас, маститых литераторов, заведено испокон веков.
– Может, – согласился-таки друг и назидательно заметил: – Но только на бумаге, а не во всеуслышание с применением рук.
И он был, как всегда, прав. Ведь пробилась же моя искренность чувств правдивой строкой к читателю в повествовании о собаке Баскервилей безо всяких эротических изысков. Правда, может быть, потому, что тогда фигурировал лишь один пёс? Но ведь зато какой! В этом же случае, четвероногих друзей была разнополая пара, и они, что вполне вероятно, мешали друг другу.
И я без всякого сожаления бросил настоящие записки в камин, заранее зная, что рукописи не горят. Особенно, если в них много талой воды.
РАЗМЫШЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЮ
Проснулся. Утро. Солнце. Дай, думаю, и я подумаю о чём-нибудь светлом. Оказалось, нечем. А то! Мозги ведь на 70 процентов из воды состоят. Чем мыслить? Только рептилиям раздолье, а я ползаю редко и недалеко.
Попытался встать и вспомнить былое. Так как дум нету. Сходу не получилось.
Разум где-то между ушей завяз и сигналы оконечностям не подает. На всякий случай суконным языком пересчитал зубы, ибо рукам веры нет. Вроде бы всё жевательное оборудование на месте. Полегчало. Видать, вчера в дискуссии не вступал. И на том спасибо. Однако, жить-то надо, хоть и в полсилы. Собрал волю в кулак мысли и встал в полный рост, как примат когда-то. Принял не нюхая, что у дивана не тронутым оставалось. От ума отлегло. И уже, как царь природы, выдвинулся на балкон перекурить.
Внизу люди снуют, тротуары, чем попало, полируют. Присмотрелся… и как колуном по башке: у мужиков шаг более широкий, чем у супротивного пола. А должно быть наоборот! У длинноволосых-то промеж ног пусто, как ни шарь. Что же мешает шагу ушириться? Ведь, никаких особых грузил, а тем более щупалец сантиметров в пятнадцать по утру и натощак. Вот какая загадка природной эволюции!
Весь в думах возвернулся на кухню. На сей раз обнаружил что-то прозрачное в стеклотаре под столом. Засандалил без дегустации. Слава богу, что не вода. Теперь точно выживу до обеда. Даже дальше думать захотелось. Выперся опять на балкон и стал наблюдать природу и человеков в ней. Присматриваюсь к женскому полу и замечаю, что и у них шаг разный по длине. Какое тут объяснение этому феномену? Я ведь в расчёт недомерков не беру, а наблюдаю за созревшим элементом. В голове, около затылка, непонятность мысли засвербила. Пошел снова на кухню уже вольной походкой, как благородный олень. Но ни под другим столом, ни по углам ничего достойного внимания не обнаружил, кроме пива. Ополоснулся и снова на балкон думать, как естествоиспытатель древних лет. Размышлял долго, пока не вспомнил начальную анатомию и число «пи» – здание науки ведь ещё со школьного фундамента в черепушке цветёт и зиждется. А не тут ли разгадка женскому шагу, если арифметику правильно помню? «Пи» больше – шаг шире и наоборот!
Пошёл в комнату и по порнушному журналу на глазок, но в масштабе, прикинул расстояние между двумя нижними женскими точками общего пользования. Попал впросак между тремя и четырьмя сантиметрами. Получилось, что если сам собой напросившийся вывод правильный, то это революция в понимании мироустройства женского опорно-двигательного аппарата тела в своей репродукции. Волосы дыбом! Ведь тут и до мировых премий недалеко. Однако, как ни крутись, но без экспериментов с живым организмом не обойтись! То есть, нужна лабораторная практика. А вот как к потаённым ихним местам с циркулем подступиться? Если в домашнем уюте и подопытной сбежать некуда, то, ладно, совладаем. А если, скажем, на лоне лесопарковых неудобств? Тогда и со штангенциркулем не всякую уговоришь. Вот ведь какая задача за пределами умственного разума. Это тебе не законы Гея-Люссака пером по бумаге выводить! Тут такие муки первопроходца претерпеть придётся, что без магазина, нутром чувствую, в ближайший обозримый период не обойтись.
В сознательном состоянии сходил в лавку. Дома подкрепился и послушал радио за-ради отвлечения от насущных изыскательских проблем. Лучше бы не включал приёмник! Ведь опять по голове кувалдой! Какой-то учёный в моей радиоточке говорит, мол, солнце погаснет через каких-то пять миллионов лет. Или через десять, но закатится навечно. Я тут же стал всесторонне размышлять о новой напасти. Нет, ты послушай! Это что же учёные удумали? Вскорости по всей Земле вечную темень учредить? Как в чёрной дыре? Ну, ладно, мы не в Африке. Человек разумный, да ещё неприхотливый, он и впотьмах дорогу к продолжению рода нашарит, если в полной боевой и без предварительного употребления излишеств. А тварь бессловесная? Одним инстинктом хорошего племенного стада с высоким удоем не сработаешь, когда подъездные пути нащупать нечем. Одним кротам раздолье! А какой с них прок? Одно слепое недоразумение без пользы обществу. Не-ет, прошляпили где-то учёные. А луна на что? Хоть в полглаза, но прелесть нижних бабских конечностей разглядишь! То есть самое нехитрое место, откуда они произрастают.
В конце завтрака с ветхой закуской поругался с радиосигналом и сам с собой. Что это, мол, я, как безмозглая рыба-моченосец загодя рассопливился над всеобщей погибелью? А потому, как человек, имеющий опыт жизненных проблем воздержания, бросил ко всем чертям рассуждать о вселенной и её частным сектором – женщиной. Вплоть до следующего мудрёного утра…
КАК МЫ ГУЛЯЛИ
Начали прямо после обеда. А чего время тянуть, если как раз об эту пору необходимый для веселья продукт Петька на своём тракторе привёз? Ехал-то мимо магазина. Так с какой стати друзьям не поспособствовать, да и самому не приложиться? Слава богу не лётчик, да и товарищи не на государственных постах, а самый что ни на есть трудовой народ. То есть меру ответственности понимает, и как до конца рабочего дня от начальства утаиться знает не понаслышке, а из собственного производственного опыта, которого не занимать.
Правда, начали не на рабочем месте, а немного отойдя ради соблюдения техники безопасности. Это чтоб каким шпинделем или кривошипом ненароком стакан из рук не выбило. Да и не совсем как бы на виду. Как-никак совесть имеем, чтобы не приглашённых в наш круг примером не соблазнять, да на иные трезвые мнения лишний раз не оскаляться лаем. А и прятаться особо нечего. Нас всего трое, да друг Петро. Вот за его трактором попарно и затаиваемся. Издали смотреть, так сплошное кипение работы и трудовой порыв. Кто с гаечным ключом за технику спешит, а кто и с кувалдой! Все за работой, не придерёшься. Вот когда половиной мастерских гуляем средь бела дня, тогда конечно! Тогда считай на двое суток урон нашему коллективному хозяйству. А четыре-то человека, да при молотках, да за трактором-это вполне переносимая вещь для любой артели.
Так мы и сновали от верстаков к укрытию, считай, до конца смены. Уже и мастер невдалеке прошёл, но не приблизился, заметив наше упоение трудом, уже и разговоры пошли о продолжении рабочего банкета, уже и Петька что-то было запел, когда вклинилась в нашу тёплую компанию малярша Таисия.
– Что, ребята, празднуете? – спросила, намётанным глазом сразу оценив обстановку.
– А у Пашки именины, – почему-то соврал сосед мой Фёдор и указал на меня пальцем.
– Тогда святое дело, – поощрила нас Таисия и остановилась в явном ожидании.
Тайка баба хорошая. Во-первых безмужняя и компанейская, а во-вторых, если с подходом, может откликнуться всей своей широкой душой, тем более, что и телом бог не обидел. Сзади, что твой телевизор «Горизонт» первой ламповой модели в штанах таскает, но всем назло в цветном исполнении, так как садится куда попало на всякую краску и белила. Ну и спереди висит у неё для равновесия, считай, по ведру и тоже в разноцветье охры и олифы. Вот на лице краски нет, но почти всегда одна суровость и нос. Не то чтоб очень уж развесистый или наоборот целеустремлённый, а какой-то размашистый и больно наглый. Словом, тот ещё шнобелёчек, который вечно лезет не в свои дела, как и вся Таисия. Я на неё в бане или, на худой конец, в каком купальнике очень полюбопытствовать хотел бы, но вот нос-то как раз и удерживал. Может ещё и язык, хотя она на другом конце деревни живёт и меня как бы не касается.
Словом, пока хихоньки да хаханьки, плеснули и ей. Не отказалась, добрая душа, залпом осушила. А тут и рабочий день закатился за положенный трудовой срок.
Продолжили уже на свежем воздухе за коровником, чтоб подальше от чужих глаз. Тем более, что Тайка к нам двух доярок присоединила. Зойку и Люську. Эти слабее в теле, но смешливые до дури. Палец покажи-обхохочутся, а когда им на спор Петька кое-что из штанов показал под весёлый разговор, то так зашлись, что мне за нательный неурожай тракториста даже обидно стало, хоть он и вовсе потом оголился, приглашая всех купаться в чём мать родила. Лишнее на себя взял, так как до речки, считай, две версты и через всю деревню.
Но это уже потом было. А поначалу-то всё благородно, то есть не по целому стакану, а с закуской в одну конфетку и под шутки без обид. Кто Зойку за ляжку ущипнёт, кто Люську за бочину, а я ближе к Таисии примостился. Видать, осмелел с литра ещё до захода солнца, и даже нос не мешает, а за вырез платья заглядываю, как к себе за пазуху. Однако, от взгляда в ту сторону одно расстройство. Руки сами собой потеют и на контакт просятся. Но терплю и ногой для незаметности вертикальную позу в колене принимаю. Ведь на травке сижу, а если нижние оконечности вольно раскинуть, то всю компанию в развязной показушной стойкости от главного дела отвлечь можно. А мне это пока ни к чему. Мне бы только до Тайкиных потайных закромов добраться, да прежде времени не угаснуть, как Петька, что так без штанов и заснул в клубок свернувшись. Но мы не переживаем, ведь время знойно-летнее, сам пробудится при луне. Всё равно не поднимешь утомлённого работника, ни лишним стаканом, ни другой какой оглоблей.
Тут и нам пришло время расходиться, так как добавлять уже никому не хотелось. Сосед Федька с Зойкой ушли обнявшись, а Степан с Люськой. Тоже обнявшись и тоже не в деревню, а мы с Таисией за ближайший куст, что пораскидистее.
Сидим. Что-то делать надо, а она, дура, в штанах. И никаким приказом их с таких окороков не снимешь. Видимо, как с неполноценной придётся время на ласки изводить, раз прямого намёка не понимает. А то чёрт знает, что у неё на уме при таких-то объёмах! Хорошо, если рукой отмахнётся. А если ногой взбрыкнёт? Я хоть и не поскрёбыш какой, но таких весовых категорий не достиг. Раздавит, как комара.
– Таисия, – говорю в задумчивости и кладу руку повыше её колена. – Тая, давно хотел тебя спросить: а если белила с охрой смешать, то какой колер получится?
Сказал, и волосья дыбом по всему телу. Куда это меня понесло? Ведь от таких слов в лунную ночь под кустом за сто вёрст дурдомом пахнет. Чувствую, и Таисия закостенела в неприятном ожидании дальнейших моих слов и действий. А меня бессознательно понесло дальше, словно несвежего объелся:
– Таисия, – говорю и передвигаю руку значительно выше колена. – Таисия Михайловна, – и тут я начал обращаться к ней во множественном числе, что считается в нашей деревне дурным знаком, – а как вы относитесь к внебрачным половым связям?
Ну, это была уже чистая водка, а не осознанная речь здорового человека.
– А никак, – грубо ответила женщина и стряхнула мою руку с ляжки.
Долго сидели молча. Мне домой до утра пути не было, так как сразу попадал под перекрёстный допрос жены и тёщи. Только при дневном свете да на трезвый глаз и сумею смелой выдумкой оправдаться. А Таисия, видать, ждала моего первого смелого полюбовного шага, который я и сделал, сравнительно легко поднявшись с земли.
– Пойдём на стог, – уже уверенно скомандовал я, – а то, глядишь, тракторист проснётся и всю обедню испортит. А может и роса ляжет, вымокнем до простуды.
Таисия сразу вникла в суть, и мы спорым шагом двинулись к заготовленным скотам на зиму грубым кормам. Подруга в конце пути даже повеселела, видя во мне такую прыть дееспособности. А то, видишь ли, в разговоры пустился, когда у обоих, поди, одни развратные действия утех в головах в такую-то ночь прелюбодеяний страсти.
На стог лезли по очереди. Сперва она, а я её подсаживал руками и плечом, так как полуприцеп моей лебёдушки был не только мягким, но и увесистым. Пару раз она со стога соскальзывала, низвергаясь мне на голову и припечатывая к земле. Но, слава богу, всё обошлось без увечий, а лишь лёгкой помятостью моей лицевой части и ушных раковин.
Однако, посильно помогая один другому, вскарабкались-таки мы на этот сеновал и сразу к делу. Ночи– то короткие. Даже раздевались, как в бане, каждый сам по себе, чтоб в чужих пуговках не путаться. И скоро стали мы как новобранцы перед врачом в военкомате. Оба голые, аж серебримся под луной, и глаз друг от друга оторвать не можем. У неё заросли чуть ли не до пупа, так что под ними ничего серьёзного не просматривается, да и у меня считай что до того же уровня животный инстинкт соблазна наружу выпер. И вот, когда моего такого вольного вида Таисия не выдерживает и бухается на спину посреди всей этой, как оказалось, соломы, то я, словно на беззащитную бройлерную курицу, хищной птицей сверху стремглав слетел. Но хоть и ястребом кинулся, всё же гнездовища в её зарослях не достиг, только клюв поточил у порога, потому моя свежая полюбовница сразу и предложила:
– А давай ты снизу.
Я немедленно согласился и, скатившись с обширных телес Таисии, безмятежно раскинулся на соломе, как самый что ни на есть беззащитный молокосос. Вот тут-то Тайка и навалилась на меня деревенскими жерновами, да так отмолотила меня в прыгучем состоянии и без моей помощи, что я сомлел душой и телом, словно побывавши нечаянно под мотоблоком с собственного подворья. Правда, до полноценного трактора ей далеко было, но раздавить мой кисет запросто могла, не раскинь я свои лапы пошире, да не амортизируй руками, обхвативши со всей силы её ядрёную репицу. А у неё всё широкое было, что снаружи, что внутри. Снаружи-то нормально, есть где рукам разгуляться, а вот внутри-никакого ущемления органу, одно болтание в тёплой сырости, как одинокому огурцу в трёхлитровой банке. Поэтому ей вздохи и крики на всю округу, не помню сколько раз за ночь, а мне лишь под утро облегчение от напряжения, да и то через собственную волю и возможное шевеление под Тайкиной необъятностью.
Но как бы то ни было, к рассвету работу свою пошабашили, хоть Таисия и настаивала на продолжении безумства её плотских желаний. Однако, я был непреклонен, тем более, что моторесурс свой выработал-пот ручьём и на работу скоро. Словом, отряхнулись, наскоро оделись и разбежались к своим верстакам и вёдрам с краской. Что ни говори, но трудовая дисциплина у нас на высоте. Я даже опохмелиться с друзьями отказался, так как весь день какой-никакой рабочий аврал для жены с тёщей придумывал. А под конец рабочего дня что-то у меня спину и всё что ниже зудеть начало. Словно комар тело точит, а рукой не достать. Еле-еле конца смены дождался и намётом домой, рассмотреть, что за зараза к человеку привязалась. Вдруг, не дай-то бог, клещ энцифалитный.
Ближайшим родственникам в лице жены и её мамаши едва про аврал вякнул и сразу про клеща. Мол, проверьте мой весь накожный покров, а там и в медпункт под руки сопроводите, чтоб под наблюдением фельдшера отойти. И это ещё цветочки, ведь заразный клещ из человека может полноправного инвалида сделать…
И сделал. Только не клещ, а любимая жена и ненаглядная тёща. Особо лютовала тёща, как более опытная во всех делах. Видать и сама соломы не миновала. Ведь как я только рубаху скинул, так она сразу и определила по царапинам и соломинам на спине, а тем более ниже, так как и под трусы без разрешения заглянула, в каком аврале я ночь проводил. Даже правильно предположила с кем и каким образом. Только копной ошиблась, на другой конец поля показала, что ближе к магазину. Ведьма! Я не зря подозревал её в связях с нечистой силой, как только она мои заначки даже в подполе находить стала.
Словом, побили они меня в четыре вооружённых чем попало руки. На другой день на работу пошёл раскорякой и трудился стоя, как последний ударник. И Таисия меня за версту обегать стала, надвинув платок до подбородка. Может, думаю, с кем из моих беседовала
Но я не спрашивал, не сыпал соль на раны, как поётся в знакомой песне.
ОБОРОТНАЯ СТОРОНА МЕДАЛИ
Закончив с заметным отличием Рязанское мореходное училище имени Петра и Павла по классу баяна, я долго бороздил волны седой Балтики на сухогрузе «Сельский сход» в качестве зюйд-вест кочегара у руля. Штормы, ураганы и скоропортящийся сухой груз закалили меня до стальной степени несгибаемости и беэоглядного жизнелюбия в среде обитания себе подобных морских волков. Я был ловок и храбр и, случалось, едва заслышав команду «аврал», первым кидался в пучину за борт, чтобы поправить какую-нибудь снасть или гребной винт, чем вызывал светлую зависть команды и скупую улыбку капитана.
По списании на берег, из-за прогрессирующей морской болезни в опорно-двигательном аппарате, я начал свою концертную деятельность по городам и весям. Однако, предпочитал последние, так как был очень близок к народу. Афиши того времени пестрели моей фамилией, а оркестр, в котором я подвизался в качестве концертирующего суфлёра, во мне души не чаял, позволяя солировать где придётся. Особенно легко мне давались фуги Баха и хоралы Глюка. Поэтому в кулуарах театральных уборных благодарные слушатели нередко рукоприкладствовали в аплодисментах до изнеможения и истомлялись в чувствах сопричастности к действу до крайности слезотечения. А я едва успевал раскланиваться в пояс на авансцене.
Однако, жажда перемены мест слагаемых жизненного уклада влекла меня на своём поводке с неистовой силой. А посему вскоре, достигнув невозможных высот в мире музыки, я повёл скитальческий и созерцательный образ жизни келейных старцев, устроившись проводником товарного вагона на перегоне Сызрань-Усть-Калым. И мне посчастливилось исколесить всю Европу вдоль и поперёк Уральских гор. Но и тут я не нашёл покоя сердцу и отдохновения души. С упорством, с коим курица точит на себя нож, бригадир поезда некстати начал делать мне прилюдно всевозможные замечания по поводу моей сторонней наблюдательности в ущерб сохранности груза. Эти придирки меня крайне возмущали и задорили на скандалы в станционных буфетах. И вскорости я очутился на вольных хлебах и повёл свободный образ жизни осёдлого волонтёра.
Я пахал, сеял и молотил языком на Алтае, околачивал груши чем придётся в предгорьях Кавказа, занимаясь самым обычным делом вездесущего агрария. В жару и холод не просыхали мои ветхие одежды от солёного пота, руки пузырились от кровавых мозолей, а всё тело ломила сладкая истома физического труженика. Так я постигал жизнь во всех её извращённых проявлениях, непреодолимо тяготея душой к прекрасному. И я тут имею в виду не поэзию и женщину в целом. Не это сумеречное, взбалмошное и, по большому счёту кое-где никчемное создание, а её, так сказать, главный элемент, её бессловесную пятую точку. Ведь сколько грациозности и зрелищной привлекательности в этой седалищной массе! В этой, отстранённой от ума головы животрепещущей и резвой мышце, будь она хоть в штанах, хоть вовсе без оных, что, несомненно, притягательнее всякому наблюдательному взору вплоть до гипертонии и трепетания всех органов внутренней секреции. Ведь всяк, положа руку на сердце, может честно признаться, что даже без контактного осязания, а только при созерцании вихляния и перекатывания этого чудного достоинства впереди вас идущей женщины, понуждает опустить руку в собственный карман и нащупать там пачку сигарет или что-нибудь похлеще в виде курительной трубки и кисета с табаком!
Однако, хватит скупо угощать читателя вышеизложенной преамбулой и пора вплотную переходить к основным положениям, выявленным эмпирическим путём прогрессирующего мыслительного процесса априори в нижеследующем моём колоссальном труде…
Многолетние наблюдения за толпами идущих, бегущих, и фланирующих женщин, позволило нам сделать сенсационный вывод, что их, мягко говоря, попки, как и более увесистые телесные отложения, можно вполне научно классифицировать и произвести градацию с присвоением того или иного строго научного наименования и порядкового номера, как, собственно, это и сделано во всей зоологии, ботанике и микробиологии. И проделать это так тонко, чтобы даже неопытный естествоиспытатель мог слёту и на взгляд определить тип, вид и даже подвид созерцательно исследуемого объекта у любой его носительницы. Но тут мы столкнулись с определённого вида трудностями, так как не все дамы ходят в штанах или купальниках. Иные особи так глубоко прячут своё богатство под покровом платьев и в складках юбок, что даже не всякому практикующему проктологу удаётся даже мысленно заглянуть под подол. И здесь, казалось бы, вполне разумно было прибегнуть к пальпации, но дикое непонимание женским полом задач нашего изучения и следующий за этим лёгкий мордобой заставили нас остановиться лишь на созерцании доступных взгляду тыльных выпуклостей, так и не охватив научным подходом некоторую часть подопытного материала, хотя у иной даже сквозь солдатскую шинель можно лицезреть такой достаток телес, что невольно поражаешься непродуманной щедрости матери-природы. Но поспешим к делу и нижеизложенным выводам наблюдательного ума:
ТРАКТАТ О ПОЛУШАРИЯХ, НЕ УЧАСТВУЮЩИХ В МЫСЛИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССАХ, НО ТРЕБУЮЩИХ ПРИСТАЛЬНОГО ВНИМАНИЯ СО СТОРОНЫ
1. «Стандарт». Стандарт, он и есть стандарт, как тариф или плата по таксе, которые меняются по истечение отведённого времени или по иным объективным причинам. Представляет собой две, как правило, юные и упругие выпуклости небольшого размера, ещё не истёршиеся насиживанием собственного гнезда, а бездумно веселящиеся при ходьбе с явно выраженной кокетливостью соблазна. «Стандарт» встречается повсеместно, под платьем слабо различим и не может являть выдающиеся способности зрелого возраста. При похлопывании имеет звонкость мухобойки, при поглаживании-недостаток площади осязания. Весьма притягателен для впервые закуривших юнцов и отошедших от плотских утех старых козлов. Многообещающий при правильном вскармливании их носительниц, но если его не лелеять с юности, то превращается с годами в два злобных кулака старой девы. Как правило, взгляд зрелого и умного самца скользит мимо этого мимолётного удовольствия.
2. «Кругляк». Это единое целое и весьма выдающееся образование, вылепленное, как бы по окружности циркуля, без явно выраженной разделительной полосы, но нагло выпирающее из штанов. Живёт отдельной жизнью от обладательницы, то есть не скачет и не прыгает при ходьбе, а ведёт себя с достоинством и честью. Тут уже есть за что зацепиться взглядом и возникает сильное желание прикосновения, что весьма чревато, так как носительница этого достоинства обычно плотно сбита и среднестатическому человеку можно просто не выдержать удара. На «кругляке» можно измерить и диаметр, и окружность, но вряд ли это нужно делать с линейкой в руках и в людном месте. Но и при интимной встрече геометрические выкладки не стоит производить, как бы этого ни хотелось, так как можно прослыть никчемным ботаником и не только в своём районе. С годами «кругляк» истирается в своей вершине и превращается в удобное и широкое седалище. Но в юности любит носить обтягивающие юбки и красоваться в профиль. Гламурный же «кругляк» обожает длинные облегающие платья и на возможных вечеринках питается стоя и в профиль перед благородным собранием. В обнажённом и блестящем виде более манящ тёплой лунной ночью в беседке, нежели на копне сена при первых заморозках.
3. «Козырёк». Объёмный, но несколько приспущенный элемент наших исследований. Не столь покат по бокам, как хотелось бы, но берёт за душу двумя своими округлостями снизу, которые при ходьбе являют полную независимость друг от друга, правда, не до вульгарного безобразия самодеятельности. «Козырёк» любит помещаться в штанах в обтяжку и с любовью носится дамами среднего возраста. Правда, с годами имеет свойство перевоплощаться в один сплошной «карниз», портящий картину лицезрения для стороннего наблюдателя и навевающий тоску воспоминания о юной фигуристой вычурности форм. В молодости «козырёк» удобно ложится в протянутые руки, если последние знакомы хозяйке. Иначе можно протянуть собственные ноги, так и не познав мягкой прелести ниспадающих волн женского обаяния, ибо обладательницы этого достоинства, как правило, не кисейные барышни из дворянских гнёзд. Сей вид пользуется спросом у знатоков и очень хорош в пляжный сезон мужского гона.
4. «Холмогорье». Это уже поэзия женского телесного совершенства. Это и есть истинная оборотная сторона медали. Хочется плакать слезой умиления, исступлённо благодарить природу и мчаться за виагрой, если уже успел сработаться до срока. «Холмогорье» издали напоминает «кругляк» и «козырёк» вместе взятые, но в более ярко выраженной форме с отчётливой разделительной бороздой строго по середине шириной в один и более палец. Носится дамами крайне бережно, ибо при быстрой ходьбе, а не дай бог беге, имеет свойство гримасничать, перекатываясь шарами друг возле друга, колыхаясь в такт движениям и, кажется, даже поскрипывая, как новые сапоги. Порою это хитроумное женское устройство, даже пробует отнекиваться от первозданности придуманного природой искусительного шарма и экстравагантной привлекательности. Обладательницам этого чудного и не в меру озорного устройства, которое весьма обожает тесные брюки и юбки, невольно вползающие своею негрубой материей в свободное пространство между телесными ядрами адмиралтейского калибра, обретая при этом вполне обнажённый вид при штанах розового или кремового цветов. Разве что восточный скопец или закоренелый кандальник пройдут мимо этого совершенства твёрдыми шагами, не забуксовав взглядом возле ягодичной расщелины, порою так некстати встречающейся на нашем будничном пути. Поэтому всякому здравомыслящему сразу хочется, как приблизительно говаривал поэт, спустив штаны, бежать за этим комсомолом.
Очень опасно «холмогорье» на пляже и в стрингах. Вполне может произойти самопотопление при нырянии в прохладные воды. Ведь напрочь забываешь, что делать, когда перед мысленным взором постоянно маячит это небесное чудо, сработанное вполне земными матерью и отцом. И всё равно, «холмогорье» надобно видеть собственными глазами, так как слова путаются, мысли заплетаются и речь становится косноязычной при описании этой чёртовой музыки бабьих телес.
Однако, есть всё-таки одна ложка дёгтя, которая портит всю эту акварельную картину маслом. Описываемая нами форма в настоящее время весьма распространена и ширится не только в просвещённых странах Европы и Америке, но и в регионах третьего мира Африки. Поэтому есть сугубо научное мнение, что глобальное потепление, напрямую связано с этой телесной формой, ибо обладательницы таких достоинств, как правило, женщины не тщедушной конституции, что свидетельствует не только об их вполне достойном питании, отверженности от вегетарианства и кисло-молочных диет, но и сопутствующим этим факторам метеоризматическим излишествам естественного выхлопа так называемых парниковых газов. Но пусть этим малоизученным вопросом занимаются климатологи, метеорологи, проктологи и прочие специалисты среды обитания человека, исключая по здравой логике Азиатский поджарый континент.
«Холмогорье» не любит холода и ветра в спину, при посадке на посторонний незначительный предмет под собою его почувствует не скоро, а лишь при длительном ёрзании на объекте восседания, будь то хоть россыпь канцелярских кнопок или какая иная мелкая мужская надоедливость.
5. «Рюкзак». Всякий из нас видывал туриста, собравшегося сдуру в недалёкий поход, то есть наскоро и в одиночку. Так вот, если его рюкзак подвесить под спиной у худосочной женщины, это и будет квалифицируемая нами пятая точка объекта. «Рюкзак» не требует большого ухода и довольствуется первой попавшейся вещью из гардероба, поэтому любоваться им всё равно, что бриться в темноте. При кажущейся простоте в употреблении, он склонен с годами уподобляться обыкновенной торбе чуть ли не в половину ноги при коротколапости обладательницы этого подарка. Хотя при длинных конечностях это недоразумение смотрится ещё плачевнее. Помогают природному дефекту утягивающие шорты и массаж чем-либо увесистым. «Рюкзак» морозостоек и слабо отзывается на внешние раздражители. Старается как можно быстрее выдать замуж привязавшуюся к нему туристку.
6. «Клин». Заострённая форма всей ягодичной мышцы, сливающаяся как бы в единое целое наподобие колуна, хотя и не столь острое. Встречается не часто и вызывающе смотрится в штанах, как и хозяйка с лицевой части, которая непонятно на чём сидит, но пристраивается, как птичка, на любой жёрдочке. Пословица «клин клином вышибается» явно не про неё, так как с этим «клином» приходится идти по жизни до конца. Если же попробовать переусердствовать в питании, то может нарушиться вся балансировка тела, что чревато.
На пляжном песке оставляет то же клиновидное углубление, однако, бетон и доску не продавливает. Носит бикини, так как в большинстве случаев спереди тот же нагло выпирающий клин, но много завлекательнее, что кружит голову не одному юнцу в начале поиска смысла жизни. Имеет успех в легкоатлетических видах спорта.
7. «Плоскодонка». Это довольно обширное седалище, растущее прямо из спины безо всякого лукавства и игривости. Неплохо смотрится анфас, но в полутьме и сзади. Берёт за сердце размахом бёдер. Хозяйка весьма усидчива и склонна к бухгалтерии и вязанию на спицах. Очень неохотно снимается с насиженного места. Любит домоводство, читает полезные советы в печатных органах, ко всяким «камасутрам» и «эммануелям» относится крайне враждебно. Не любит брюк и платьев в обтяжку. Шагает широко, держится с лёгким наклоном, так как заднего противовеса нет. Не любит компании и девиц лёгкого поведения. С презрением относится ко всем формам и видам женского равенства. В пляжный сезон отдыхает в тенёчке и не любит барахтаться в воде, как и ездить на велосипеде. На ощупь мягкая и тёплая, словно пирог домашней выпечки.
8. «Нулёвка». То же самое, что и безалкогольное пиво. Одно название без содержания. Зато с амбициями. Часто показывается на подиумах, конкурсах красоты и в рекламных роликах истощающего похудания. Своими постными косточками выглядит соболезнующе в глазах истинных ценителей стати. Сам собой напрашивается вывод, что при этаком раскладе ценностей яблоневый скандал в раю никогда не возник бы. Обладательница сомнительного достоинства как правило сидит на диете, но непонятно чем. Однако, эта форма интересна пузатым денежным мешкам в виде олигархов и запевалам шоу-бизнеса. Работоспособна в постели, так как не приучена к иному созидательному труду. Легко прокармливаема, но трудно одеваема. Рядится дорого и модно, но всё равно смотреть не на что, ибо отсутствует напрочь то, из чего произрастают согласно природе все задние ноги. Достоинство в том, что между внутренними поверхностями так называемых бёдер имеется достаточный просвет, позволяющей при пользовании объектом по прямому назначению не тратить усилий на раздвигание конечностей в стороны. Почти не отбрасывает тени, любит стадность в среде себе подобных, но не искренне. На племя не годится.
9, 9-а и т. д. Не подлежат немедленному определению и классификации, так как представляют собой немыслимые комбинации всех основных вышеперечисленных форм и требуют подвидовой градации, более детальных и трудоёмких исследований, вплоть до специальных экспедиций в труднодоступные местности, чем без сомнения и займётся пытливый грядущий потомок.
Завершая этот казалось бы непосильный труд, мы льстим себя надеждой, что всё нами написанное и умом выстраданное не скоро ещё накроется медным тазом и тленом забвения. Однако, справедливости ради мы так же должны заметить, что расположись по прихоти природы всем известные женские гениталии возле, скажем, пупка, то никакому трезвомыслящему человеку не пришло бы в голову так пристально рассматривать дамскую пятую точку и её экипировку.







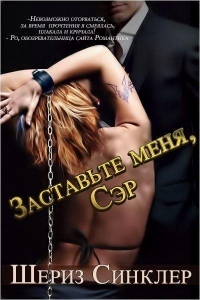
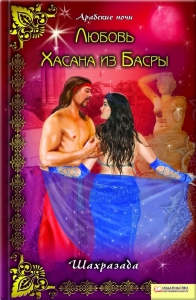

Комментарии к книге «Леди в бане», Виктор Евгеньевич Рябинин
Всего 0 комментариев