Шахразада Тайна визиря Шимаса
© Подольская Е., 2010
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», 2010, 2012
* * *
– Так, значит, дядюшка, халиф был не рад тому, что на свое место посадил такого несносного глупца?
– Ох, малыш… Он был и рад и не рад. Вспомни, для чего он это сделал?
– Чтобы побольше быть со своей любимой…
– Верно. Но любимая умерла…
– Да, дядюшка. Это так несправедливо. Умерла, не выдержав счастья разделенной любви…
– Не совсем так, но… Итак, она умерла, и, получается, долгие прогулки в сопровождении целой свиты халифу стали уже не нужны.
– Но ведь этот глупец опозорил имя халифа!
– Ничуть, мальчик мой… Ведь все видели, что это халиф подменный, не настоящий. И все, кто решился посмеяться над этим глупеньким напыщенным юношей, выставили дураками именно себя. И именно на себя поэтому навлекли гнев правителя и справедливую кару.
– Как замечательно, когда правитель мудр… Правда, дядюшка?
– О да. Это замечательно для каждого из его подданных. Но как же непросто для него самого! Редко случается, что его ближайшее окружение беспокоится о престиже халифа, о его добром имени, а не о собственных туго набитых карманах. Но если такое случается… О, это воистину величайшее благо для страны!
– А почему твои глаза вдруг стали такими печальными?
– Потому, о мой мудрый племянник, что случается это столь редко, что можно пересчитать по пальцам на одной руке. И увы, пальцев окажется более чем достаточно.
– Так редко?
– О да. Я знаю только об одной такой истории. А я много путешествовал по свету…
– Так расскажи мне эту историю. И вот когда я стану визирем… Нет, когда я стану халифом, я буду знать, как надо себя вести. И ты сможешь мною гордиться.
– Ох! – Дядюшка печально усмехнулся. – Боюсь, я не доживу до того дня, когда ты станешь халифом.
– А давай поспорим… на тысячу тысяч динаров! Давай поспорим, что доживешь!
– Я согласен, мальчик мой, даже просто на тысячу динаров!
Мальчишка примолк, а потом поднял голову и посмотрел на дядюшку.
– А теперь расскажи мне про этого мудрого правителя и про его благородных сановников. Ведь надо же мне у кого-то учиться…
– Тогда слушай. Лежала некогда у теплого моря теплая страна и звалась она Аль-Миради. И правил этой страной мудрый и справедливый Мустафа Ас-Юсеф…
Макама первая
Лежала некогда у теплого моря теплая страна и звалась она страной Аль-Миради, и правил этой страной род халифов Ас-Юсефов. Первого из них, Махмуда Ас-Юсефа, называли Избранным, ибо он воцарился не по праву рождения, а был избран всеми жителями как самый мудрый и справедливый военачальник.
Сын Махмуда Избранного взошел на трон, когда отец его решил, что наследник многое сделал для людей и что пришел его черед править, поощряя все лучшее и искореняя все худшее, что было в державе под его рукой. Скажем сразу, Махмуд Избранный был вовсе не стар. Но у него хватило разума и мужества уйти, дабы сын принял бразды правления, а не томился, зная, что многое мог бы сделать лучше, если бы не самодур-отец.
Так и повелось в прекрасной стране Аль-Миради – когда правитель понимал, что его наследник в силах принять ответственность за всех, от младенцев до стариков, то передавал ему трон и огромные полномочия вместе со званием халифа. И было это воистину мудро, ибо за долгие пятьсот лет, что правила династия Аль-Миради, не случалось под кровом дворца заговоров, сын не пытался отравить отца, а отец не подсылал убийц к сыну.
Не стал исключением и девятнадцатый по счету халиф, Мирза Ас-Юсеф. Он в свои юные годы взошел на престол и честно царствовал до того дня, когда его сыну, Салеху, исполнилось двадцать три года. О да, это возраст вполне зрелый для любого человека, но весьма и весьма юный для правителя. Халиф же Мирза отличался воистину недюжинным умом, и потому не только продолжил традицию рода, но даже и развил ее.
К сожалению, как бы ни был справедлив халиф, но за весь мир держать ответ он не может. Вот потому и пошел войной на мирную страну Аль-Миради их полуденный сосед – княжество Аль-Баради, под рукой тучного и громогласного, но, увы, не самого умного правителя.
Ума халифу Мирзе хватило на то, чтобы отправить своего сына в действующую армию. О, многие могут сказать, что хватило ему не ума, а безумия, что юного наследника могли убить в первой же схватке. Но это неверно. Ибо вместе с Салехом отправились и его самые близкие товарищи по юношеским забавам: Шимас, Фархад, Джалал-ад-Дин… Конечно, иногда забавы эти были не совсем невинны, но война превратила беззаботных юношей в настоящих мужчин. Главным же наказом (негласным, но оттого не менее суровым), который должны были выполнять товарищи Салеха, – во что бы то ни стало сберечь жизнь Салеха.
За два года, проведенных на этой войне, Салех сдружился со всеми – от солдата до командующего, приобретя себе множество друзей и каким-то воистину волшебным образом ухитрившись не нажить врагов (что иногда более чем трудно, чтобы не сказать, и вовсе невозможно).
Закончилась ли война победой, понять было непросто. Сопредельное княжество Аль-Баради понесло небольшие потери, но ни пяди страны Аль-Миради не получило. Войско же страны Аль-Миради понесло потери и того меньшие. Но чужая территория халифу Мирзе была без надобности, и потому, как только глупый и обширный чревом правитель Аль-Баради вернулся в свою столицу, Мирза Ас-Юсеф объявил, что наступил мир.
Войско народ встречал с необыкновенными почестями, а халиф, увидев среди триумфаторов своего сына, вновь похвалил себя за то, что совершил воистину мудрый поступок. Теперь, когда за Салеха готовы были отдать жизнь все солдаты, и наступило время для передачи власти.
О, для халифа Мирзы это было настоящее событие. И готовился он к нему долго и весьма вдумчиво. Почти целый месяц он составлял письмо, которое должно было бы, пусть и ненадолго, послужить шпаргалкой для начинающего правителя.
К сожалению, он не знал, что принц Салех вовсе не мечтает о престоле и с удовольствием оставит отцу все почести до самой смерти родителя. Хотя вряд ли бы знание это хоть что-то изменило в поведении Мирзы – он был приверженцем традиций и педантично соблюдал даже самые мелкие церемониалы, вроде ритуала отхода ко сну или торжественного похода в баню по вторникам, пятницам и воскресеньям.
И потому в заранее определенный день закончил халиф Мирза составлять длинное-предлинное письмо-подсказку. Перечитал его и… И конечно, остался недоволен. Ибо понял, что предусмотрел далеко не все. Более того, халиф убедился, что все предусмотреть, от всего уберечь, все подсказать просто невозможно. Но письмо не сжег, здраво решив, что даже неполная подсказка значительно лучше, чем полное ее отсутствие.
– Аллах всесильный, – вздохнул, потянувшись, халиф Мирза. – И ведь я вовсе не собираюсь умирать, передав трон мальчику. Если у него что-то пойдет не так, он знает, что всегда может спросить у меня совета.
О, халиф Мирза был мудр! Столь мудр, что не произнес, но подумал, что редко когда молодые прислушиваются к советам стариков, предпочитая «жить по-своему» и по своему набивать шишки на тех же местах, на которых их уже набили когда-то отцы и деды.
Итак, письмо было составлено, день передачи власти назначен. И оставалось только дождаться того мига, когда халиф Мирза станет просто почтенным Мирзой, а юный Салех станет халифом Салехом Ас-Юсефом, двадцатым халифом династии Ас-Юсеф, правителем прекрасной страны Аль-Миради.
Вечером того дня, когда закончил наконец халиф свое послание, в его покои вошел – о нет, воистину ворвался – Салех.
– Батюшка, – упал он к ногам отца, – прошу тебя, отсрочь коронацию. Ты силен и мудр, а я вовсе не стремлюсь воссесть на трон… Я задумал экспедицию… в дальние страны. Она может занять не один месяц и, быть может, растянуться даже на годы. Как же страна будет без правителя все это время?
– Мальчик мой! – Халиф посмотрел на сына из-под кустистых бровей. – Думаю, тебе придется отменить свое странствие. Или перенести его на более поздний срок. Ибо традиции нашей страны нерушимы и день коронации, назначенный единожды, перенести или отменить уже нельзя. Надеюсь, что ты, приняв власть и разобравшись с делами, сможешь найти того, кто поможет тебе править страной, когда ты все же соберешься в свою экспедицию…
И про себя подумал: «Если вообще такое случится…» Ведь когда-то и он, молодой Мирза, готов был просить своего отца о том, чтобы коронация была перенесена лет на пять… или десять. Ибо и ему, Мирзе, некогда хотелось отправиться в далекую полуночную страну, дабы насладиться несметными сокровищами ее природы и увидеть наконец огромных лохматых зверей, которые превратились в камень и теперь безмолвными громадами возвышаются там, где некогда паслись. Но, увы, его отец был столь суров и непреклонен, что Мирза даже не решился заговорить об этом.
Теперь же все его поступки, и глупые и умные, повторяет сын. Ну что ж, должно быть, есть в этом некая высшая справедливость… Но если она действительно существует, то и Салеху не время сейчас отправляться в долгое странствие…
И халиф вновь посмотрел на сына. О, тот отлично знал, что значит этот взгляд – так отец давал понять, что решение окончательное и ничего меняться не будет, как бы сильно он, Салех, ни просил.
И потому юноша лишь поклонился отцу и со вздохом произнес:
– Да будет так, повелитель! Я приму титул и буду править до того дня, когда смогу оставить страну на некоторое время, не опасаясь за ее благополучие.
– Благодарю тебя, мальчик! – Голос отца потеплел.
О да, Салех вырос настоящим наследником всей славы и всей мудрости правителей страны Аль-Миради. И воистину не должно растрачивать такие богатства на долгие странствия, которые могут увенчаться успехом, а могут и навлечь на голову странников несмываемый позор…
О нет, не время теперь думать о каком-то глупом позоре. Как не время думать вообще о чем-то, кроме, конечно, церемонии передачи власти. За двадцать поколений и пять столетий она была отработана до мелочей. Но все же халиф Мирза понимал, что сейчас ее следует слегка нарушить. Что бросать мальчика одного в бурные воды политики и интриг неразумно, да и нецелесообразно. Пусть ему предстоит испытать все это на собственной шкуре, но все же пара-тройка советов, надеялся халиф, помогут избежать совсем уж нелепых ошибок.
И потому он, усадив сына рядом с собой, проговорил:
– Мальчик мой, помни, что традиции помогают нам управлять страной мудро и справедливо. И потому следует их соблюдать для блага наших подданных, равно как и для собственного блага.
Салех кивнул. О, эти слова он слышал уже, должно быть, тысячу раз… А быть может, и дюжину тысяч. Но спорить с отцом не стал – время, надеялся Салех, все расставит по своим местам. И через пару-тройку месяцев сможет он отправиться в древнюю восходную страну, дабы… Но следующие слова отца столь сильно изумили наследника, что он позволил себе переспросить:
– Письмо, отец?
– Да, мальчик, не удивляйся. Вместе с прочими регалиями ты получишь и ключ от вот этого шкафчика. В нем не хранятся никакие драгоценности, кроме, быть может, драгоценной мудрости твоего отца, и его отца, и его деда, и…
– Но зачем письмо, отец? Ты собираешься покинуть меня? Покинуть страну? Ты…
Тут страшная мысль пронзила Салеха.
– Ты… болен, отец? Твои дни сочтены?
Смертельная бледность сына бальзамом пролилась на душу халифа.
– О нет, мальчик мой, – рассмеялся Мирза и потрепал сына по плечу. – Не тревожься за меня. Я здоров, хотя, конечно, и не молод. Я не собираюсь превращаться в отшельника, я буду жить рядом со столицей в доме отца твоей прекрасной матушки.
– Но зачем тогда все это?
– Все просто, мой друг. Каждый раз, когда жизнь будет ставить тебя в тупик, тебе придется принимать некое решение. Зачастую же подобные решения уже принимали и твой отец, и твой дед, и его отец… И потому я просто собрал вместе все советы, которые могут пригодиться начинающему правителю, для того чтобы ты каждый день по три раза не ездил ко мне советоваться…
– Ты запрещаешь мне это, отец?
Халиф улыбнулся и покачал головой.
– О нет, более того, я мечтаю о том, что ты будешь со мной советоваться. Но, согласись, если ты из-за каждого пустяка будешь отправлять ко мне гонцов или появляться сам… Подданные могут подумать, что ты не в силах принять разумного решения… Ты, двадцатый из их справедливых и мудрых халифов…
Салех подумал, что, безусловно, не стал бы из-за каждой мелочи отправлять гонцов к отцу. Но… «Аллах всесильный, – подумал юноша с облегчением, – отец просто оставил мне учебник!»
– Да, мой мудрый отец, это было бы неразумно. И я благодарю тебя за этот дар. Ибо подсказка всегда может пригодиться… Даже двадцатому из мудрых халифов…
И халиф Мирза Мудрый с пониманием улыбнулся будущему халифу Салеху. О, он всегда радовался, когда сын понимал его. И прекрасно знал, что юноше нужно время для осмысления каждого факта, что его порывы порой бывают несколько… опрометчивы.
– И еще одно… Завтра, в преддверие коронации, я не смогу сказать тебе этого… Могу забыть, а могу и передумать. Но… Прошу тебя, мой друг, перед принятием любого решения, повторяю – любого, всегда бери время на размышление. Даже у самого себя, даже для того, чтобы решить, желаешь ты жениться или еще походить свободным… Отвлекись от задачи, подумай… да о чем угодно, пусть даже о красавице, с которой провел ночь… Одним словом, отвлекись. И лишь потом, очистив разум от суеты, принимай решение…
Салех кивнул. О да, он знал за собой это, знал, что ему действительно следует брать время на размышление. Так, выходит, и отец таков, раз уж он дает этот совет?
– Благодарю тебя, батюшка… – Юноша склонил голову к руке отца.
– А теперь отправляйся отдыхать. Завтра тяжелый день…
– Повинуюсь, батюшка…
– А послезавтра утром мы вернемся к нашей беседе.
Юноша, еще раз поклонился отцу и покинул царские покои. Но халиф Мирза не торопился уходить. Ибо у него было еще множество дел…
Макама вторая
– Аллах всесильный! – почти простонал Салех, опускаясь на шелковые подушки у ног отца. – Никогда не думал, что могу так устать… И от чего? От церемонии передачи власти! Не от скачки, не от тяжкой работы, не от долгого перехода через горы, не от ночи с прекрасной пери! Просто от того, что буду стоять и повторять за отцом и имамом какие-то пустые слова!
– Нет, малыш, – покачал головой Мирза, уже не халиф, а лишь отец халифа. – Слова эти вовсе не пусты. Просто ты еще не понимаешь, что каждое их них выверено пятью сотнями лет царствования нашей семьи… С годами ты убедишься в этом. А сейчас с тебя должно быть довольно и того, что ты выучил их наизусть… Они тоже когда-нибудь станут подсказкой тебе, как многократно становились подсказкой мне в тех случаях, когда я колебался, не зная, какое решение принять…
Халиф же Салех сейчас почти не слушал своего отца. Он был утомлен долгим церемониалом и, конечно, еще не осознавал, какая ответственность легла на его плечи. Но уже понимал, что все мечты о странствии, вчера еще – почти настоящие планы, теперь сбудутся очень и очень не скоро… Что отныне его поведет по жизни не желание, а долг.
– Отец, – проговорил Салех в ответ на собственные мысли, – но что же это за письмо?
Мирза, уважаемый и почтенный отец халифа (о, как сладко и горько одновременно ему было произносить про себя свой новый титул!), торжественно встал и с поклоном вложил в ладони сына ключ от чинийского шкафчика, черного, расписанного драконами и райскими птицами, парящими среди облаков.
– Здесь, мой мальчик, вся мудрость, какую собрал я за долгие годы царствования. Она изложена, быть может, и витиевато, но я все же прошу дочитать письмо до конца. Думаю, сейчас ты не сможешь запомнить все, что нужно тебе будет для мудрого и справедливого правления. Но ты хотя бы будешь знать, куда подсмотреть, чтобы найти верный ответ…
– Благодарю тебя, отец, – проговорил Салех, вдруг осознав, что теперь он – правитель, верховный разум и честь страны. О, это ощущение было воистину пугающим – на его плечи словно возлег весь дворец вместе с поварами, слугами и наложницами.
– Не благодари меня, мальчик. Я переложил на твои плечи столь чудовищную ношу… И в письме этом просто пытаюсь оправдать такой суровый шаг.
Отец и сын улыбнулись друг другу, и внезапно халиф Салех почувствовал невероятную, удивительную душевную близость с собственным отцом. О, это было настоящее откровение – он в единый миг понял все: почему отец зачастую был неразговорчив, почему отсылал его, мальчишку, от себя, почему поучал его, должно быть, мечтая, что сын переменится от одних суровых слов родителя…
И халиф Салех склонил голову перед мудростью отца. И перед тем, сколь достойно нес он все эти годы более чем тяжкое бремя ответственности за страну и всех ее обитателей, от младенцев до стариков.
Закончились коронационные празднества, утихли песни и пиры. И после всего этого решился наконец халиф Салех развернуть длинный свиток, запечатанный синим сургучом и отцовской печатью.
«Мальчик мой! – так начиналось письмо. – Далее ты найдешь более чем длинный перечень советов, каждый из которых сможет пригодиться в трудную минуту. Хотя я бы предпочел, чтобы никогда мой сын и наследник не знал трудных дней, чтобы его решения приходили к нему как озарения и были осенены истинной мудростью и подлинной заботой о благе страны и ее подданных. Да и о твоем собственном благе, мой друг…»
Нет, слезы не навернулись на глаза молодого халифа. Отец, к счастью, был жив и здоров. Но эта забота, выраженная пусть и суховато, тронула сердце Салеха, и он принялся изучать письмо отца так, как совсем недавно изучал карты и планы военных действий.
Юному халифу сразу стало ясно, что прочитать все одним духом и запомнить он не сможет, да, пожалуй, и не должен. Что к письму этому следует обращаться неоднократно до тех пор, пока мудрость девятнадцати халифов не станет его, Салеха, мудростью.
«Мой юный друг, мой сын и наследник! Первый совет, какой я хочу тебе дать, поставит тебя в тупик. Не удивляйся глупости своего отца и не торопись назвать его выжившим их ума болтуном.
В тот день, когда ты взойдешь на трон, халиф Салех, я буду рядом. Но сказать тебе этого не смогу. А потому призываю тебя, юный правитель, после воцарения приблизить к себе друзей своей юности и им передать должности, которые сейчас занимают люди, прошедшие через эти двадцать лет власти вместе со мной. О, пусть они опытны и разумны. Но они привыкли к почестям, пусть не всегда заслуженным, к привилегиям, которые достались им не за их светлый разум и усердное служение, а лишь как атрибут власти. Они устали радеть о благе страны и теперь радеют лишь о благе собственного тугого кошеля. А потому тебе следует заменить их всех – и первого советника, и казначея, и визиря, и главнокомандующего, и… Всех, до последнего писца последнего из письмоводителей последнего из советников.
Ты также должен понимать, друг мой, что те, кто придет вместе с тобой к власти, будут всецело преданы тебе – ибо всем они будут обязаны двадцатому халифу Салеху. Разумно надеяться, что юноши эти не возмечтают воткнуть тебе нож в спину или подсыпать яду в шербет – ибо тогда они потеряют свои должности и все причитающиеся с ними почести столь же быстро, как и обрели их.
Разумно было бы и предположить, мальчик мой, что те, кого ты сместишь, могут воспылать гневом на несправедливость судьбы. И ты должен быть к этому готов. Ибо чем дольше ты будешь медлить с этим болезненным, но необходимым деянием, тем более сильный гнев вызовет оно у каждого, кто в единый миг лишится всех постов и почестей.
Провожай их с поклонами, но смести всех, решительно и неуклонно…»
– Ох, отец, как же это будет непросто, – прошептал халиф Салех. – Да и не смогу я, пожалуй, сразу изгнать и казначея, и первого советника, и всех смотрителей и попечителей… Ибо, к сожалению, не так многочисленны ряды моих друзей, как было бы необходимо для этого сурового деяния.
Увы, это было истинно. Ибо близкие его друзья, на которых всегда можно положиться, и впрямь были немногочисленны. Для столь всеобъемлющей замены даже одного дивана полагалось бы, чтобы друзья исчислялись десятками. А такого не может быть ни у одного живого человека, и уж тем более у наследника правителя.
– И потому, отец, мне придется менять каждого из советников лишь после того, как найду я на его место человека доверенного, молодого и достойного. А это, увы, потребует весьма и весьма немалого времени. Увы, куда большего, чем ты пишешь в этом письме…
Стражники, стоявшие за дверями покоев, конечно, слышали все – от первого до последнего слова молодого халифа. Должно быть, любой из советников дивана отвалил бы им немало золота, если бы знал, что их уютные должности им более не принадлежат. Что очень и очень скоро они услышат велеречивые слова церемониймейстера, которые будут провожать их на заслуженный отдых, отлучая тем самым от насиженных и таких хлебных мест.
Но, увы, ничего этого не знали ни казначей, ни старый визирь, ни первый советник дивана, ни смотритель закромов прекрасной страны Аль-Миради. И потому спали спокойно.
Халиф же вовсе не спал. Вновь и вновь перебирая воспоминания и придирчиво анализируя их, он решал, кто из его друзей сможет быть лучшим на том или ином посту.
И наконец к утру решение было принято. Фархад, сильный и мужественный, должен был сменить главнокомандующего. И это должно было стать единственным безболезненным шагом – ибо командующий был уже столь немолод, что давно мечтал об отставке, не стараясь удержаться на своем посту ни одной лишней минуты.
Джалал-ад-Дин, упорный и въедливый, должен был сменить на посту смотрителя всех школ страны. Ибо за учеными, как был свято убежден Салех, будущее государства. И потому неразумно, да и невыгодно, учить детей спустя рукава.
Шимасу же, отличному игроку в шахматы, самому изворотливому и разумному, халиф Салех отвел пост визиря. О да, иногда хитрость, умение интриговать и просчитывать ходы визирю нужны куда больше, чем знание сотен и тысяч законов, уложений и правил.
– А всеми остальными, отец, – проговорил Салех, вставая, – я займусь чуть позже…
Макама третья
Он стоял посреди комнаты и решал, кем же станет сегодня – пустым вертопрахом, отправившимся на прогулку в поисках новых приключений, или пиратом, ступившим на берег в поисках большой, но чистой любви до самого утра… Быть может, стоило бы одеться солдатом?.. И просто нести стражу у какой-нибудь харчевни, чтобы в нужный момент наказать воришку… Или, быть может, спасти из злых рук юную прелестницу, которая по недоразумению выйдет на улицу в поздний час без сопровождения…
О, он был воистину многолик. И пусть это была всего лишь игра, в которую он играл с самим собой, пусть о ней не знал никто, даже его самые близкие друзья… Правильнее будет сказать, что игра эта была именно тем и хороша, что о ней никто не знал.
Каждый свободный вечер он посвящал своей игре и своим прогулкам. Сейчас он был уже куда более умелым, чем даже самый умелый лицедей. Ибо он играл не так, чтобы поверила глупая легковерная публика, а так, чтобы он сам верил в каждый свой поступок и в каждое свое слово.
Его лицедейство воистину было лишь игрой – он не играл в разбойника, мечтающего опустошить сундуки богатого купца, он не играл в убийцу, получающего щедрое вознаграждение за то, что лишил жизни какого-то беднягу. О нет, ибо тогда, на войне, он видел вполне достаточно самых настоящих ран и смертей, чтобы навсегда воспылать отвращением даже к игре в убийство.
Более всего ему – вечернему – подошло бы имя справедливого разбойника, или, если угодно, Справедливого Мстителя. О, это была для него самая уютная и приятная маска. И, к превеликому его сожалению, почти каждый его выход в город под чужой личиной заканчивался потасовкой.
– Увы, – пробормотал он, натягивая черный, расшитый черным же бисером кафтан. – Род человеческий несовершенен… Но удивительнее всего то, что человеку удается это несовершенство скрывать днем. А вот вечером, должно быть, у него уже нет сил на то, чтобы быть добрым и справедливым… И пред светом вечернего фонаря или горящего костра предстает воистину отвратительная личина лжеца, подлеца или мздоимца. Или так действует на них красавица луна…
Не договорив, он надел перевязь со шпагой, превращаясь во франка-гуляку, решившего в этот вечер не сидеть в духоте постоялого двора, а пошататься по улицам прекрасной столицы великолепной и спокойной страны Аль-Миради.
Ибо не побродить по ярко освещенным улицам столицы было просто необыкновенной глупостью. Сотни и тысячи фонарей и фонариков окрашивали бархатный вечер во все оттенки синего, над головами сияла луна, полная и необыкновенно близкая. Распахнутые двери харчевен и постоялых дворов звали присоединиться к пиршеству или попировать самому. Речушка, протекающая через весь город и взятая в каменные берега, отражала это буйство света, но отвращала от сидения в четырех стенах, пусть даже самой уютной из харчевен. Ибо странно было бы прельститься запахом пылающих дров и подгорающего бараньего бока, когда благоухают магнолии и сотни цветов дарят любому прохожему головокружительные ароматы.
Ноги сами вынесли его на главную площадь – тихую в этот поздний час. Темен был дворец – ни одно окно не горело в церемониальных покоях, глядящих на площадь. Он знал, что вся жизнь переместилась во внутренние комнаты, куда вхожи лишь немногие посвященные и посетить которые может лишь человек, которому халиф и его стража доверяют всецело.
Он пожал плечами и неторопливо двинулся через площадь в сторону базара, не умолкающего ни в сумерках, ни даже ночью. Непонятно почему, но сейчас он вдруг пожелал найти новую перевязь к своей шпаге – с вышивкой побогаче и с каменьями повычурнее. Такое бывало и раньше, когда его личина становилась частью самой его натуры – у него появлялись желания, ему самому свойственные мало, но тому, в кого он обращался, свойственные всецело.
Но сегодня поиски были тщетны – все, что он видел, вызывало у него лишь брезгливое отвращение. Он даже позволил себе презрительные слова:
– Варварская страна… Варварские вкусы… Никакой утонченности…
И сам этим словам усмехнулся. О, сейчас он был франком куда более, чем могли себе позволить быть настоящие франки, уважающие, или делающие вид, что уважают, законы и вкусы той страны, которая дала им приют.
Он хотел было поразмышлять об этом, но его думы прервали звуки, менее всего свойственные и кожевенным рядам, и степенному базару вообще – неподалеку коротко вскрикнула женщина и раздались более чем торопливые шаги…
– Ох, друг мой, – прошептал он. – И вновь кому-то в этот час может понадобиться твоя помощь…
И это было прекрасно – ибо он был молод и силен как бык… И потому готов был вытащить из беды не одну девушку, а целую сотню… Кровь заиграла в его жилах, и он поспешил на звук.
Буквально через миг он увидел серый в сумерках чаршаф девушки, убегающей от двух дюжих иноземцев, не имеющих понятия о шариате и об уважении. Их грубые голоса звучали в тишине переулка более чем отчетливо, выдавая и без того вполне понятные грязные намерения.
– Фи, господа, – пробормотал он, почти бесшумно настигая преследователей. – Нехорошо быть столь грубыми по отношению к прекрасной незнакомке…
– Проваливай, вонючий франк, – развернулся к нему тот, кто бежал вторым. – Не видишь, красотка наша…
– Я вижу, мой друг, что ты непочтительно обходишься с женщиной, – проговорил он, достаточно легко уворачиваясь от удара могучего кулака. – А еще я вижу, что ты невежественен в драке.
Его поистине невероятная сила позволила лжефранку одним ударом свалить противника наземь. А тренированное настоящими битвами дыхание даже не сбилось.
– Да что тебе надо, урод? – развернулся в его сторону первый из преследователей.
– Друг мой, я призываю тебя отказаться от своего намерения… – успел проговорить он, но тут первый бросился на него.
Увы, и этот воистину вонючий наглец не имел понятия ни о красивой драке, ни об уважении к самому себе. Броситься-то он бросился, но подставил свой уязвимый живот под удар.
И конечно, лжефранк не мог не воспользоваться этим. Двух ударов, которым он научился в том, далеком уже походе, вполне хватило для того, чтобы утихомирить наглеца. Он не сомневался, что оба преследователя выживут, но надолго потеряют желание охотиться за девушками в темных переулках. Ему же предстояло догнать незнакомку и проводить ее домой, чтобы новые наглецы не захотели воспользоваться ночной тьмой с недостойными намерениями.
И вот серый чаршаф показался впереди. Он уже почти настиг ее, когда незнакомка вдруг развернулась прямо к преследователю и выпалила:
– Кто ты такой, вонючий бурдюк, и почему преследуешь меня?
«Ого, да девчонка-то не из трусливых…»
– Я просто провожаю тебя, уважаемая…
– Так, как провожали меня эти презренные, мечтавшие похвастать передо мной цветом своих исподних рубах?
«Да она и неглупа… Ах, как бы мне увидеть ее лицо… Быть может, здесь, в переулке у базара, встретил я свою судьбу?»
– О нет, уважаемая… Я не из хвастливых… Просто улицы вашего города освещены столь скверно… А ты столь слаба…
– Скверно? – В голосе девушки зазвенел гнев. – Улицы нашего города скверно освещены?
«Ну вот, теперь она рассердилась… Какое счастье – именно такую жену мне бы и хотелось найти!»
– Да как смел ты, ничтожный франк, так непочтительно говорить о нашем прекрасном городе? Да наша столица лучше всех в мире! Она прекрасна, богата… В ней живут счастливые люди…
– Прости мои слова, прекраснейшая… Но они же преследовали тебя!
– Эти шакалы, должно быть, такие же иноземцы, как и ты… Ибо только иноземцы могут преследовать женщин на улицах нашего спокойного города…
– Ну что ж, иноземцам дано и право защищать обиженных, ведь так?
И тут наконец девушка перестала на него кричать. Она подняла голову, и в ее голосе зазвучали слезы.
– Прости меня, уважаемый иноземец, Я так испугалась… И их, и тебя…
– Не плачь, моя греза. Позволь мне только проводить тебя до ворот твоего дома. Я не буду хвастать цветом своей исподней рубахи, даю тебе слово настоящего дворянина…
И они пошли рядом, мирно беседуя. Девушку звали Халидой, она была дочерью Рашада, мастера золотых дел, человека, знаменитого по всей стране. Он с удовольствием вспомнил, что рукоять его любимого клинка тоже сверкает золотой инкрустацией, созданной в мастерских уважаемого отца Халиды.
– А вчера занемогла моя матушка. Она долго упрямилась и не хотела звать лекаря.
– О да, – кивнул он, – матушки иногда упрямее сотни ослов. Они думают, что знают об этом мире все…
– О, как хорошо, уважаемый, что ты это понимаешь! И лишь сегодня вечером мне удалось ее убедить, что следует позвать хотя бы знахарку… Вот поэтому я и побежала к уважаемой Зухре, которая всегда пользует мою упрямую матушку…
– Но как же ты не побоялась ночной тьмы?
– Но почему я должна бояться ночной тьмы, глупый ты иноземец? Никто не оскверняет наших улиц. Кроме, увы, невоспитанных иноземных гостей с их низменными желаниями…
– Никто-никто?
– Никто, поверь мне…
– Должно быть, я живу в вашем городе совсем недолго. И потому поверить в такое мне совсем непросто. Ведь даже в столице мира, великом городе Константина, ночные улицы не предназначены для прогулок.
– Наша страна не такая… – с гордостью произнесла Халида. – Нет страны спокойнее и прекраснее нашей, как нет уютнее и чище города, чем ее столица.
Он не стал спорить, хотя отлично знал, что улицы ночных городов всего мира в равной мере не приспособлены для одиноких прогулок… Вместо этого он лишь склонился в поклоне, соглашаясь со словами девушки.
– Прости, прекрасная Халида, глупого иноземца, который посмел спорить с очевидным…
– Но ты так и не назвался, учтивый иноземец. Вот мой дом, через миг мы расстанемся, а я даже не знаю, как зовут того, кого следовало бы поблагодарить за спокойную прогулку и почтительную беседу.
– Матушка, добрая душа, дала мне много имен при рождении. Я же буду признателен тебе, прекраснейшая, если ты станешь звать меня Жаком-бродягой.
– Да будет так, – проговорила Халида. – Прощай же, Жак-бродяга. Я благодарю тебя за то, что ты заступился за меня. И прости мне неучтивые мои слова…
– Ты была напугана, уважаемая Халида. До скорой встречи.
За девушкой закрылась калитка в дувале. Он же остановился всего в двух шагах, радуясь, что, пусть и под личиной бродяги-франка, нашел, должно быть, свое счастье.
Макама четвертая
– …И потому я, имам Абд-аль-Рахман, объявляю этого достойного юношу Шимаса, сына Саида и жены его Феридэ, мужем прекрасной Халиды, дочери мастера Рашада и жены его Зульфии. И да пребудет над вами во веки веков милость Аллаха всесильного!
«Наконец я увижу лицо моей любимой! – подумал Шимас, визирь халифа Салеха и самый влюбленный из всех влюбленных безумцев мира. – Неужели Аллах накажет меня, не подарив умной и сильной Халиде лика столь же прекрасного, как ее душа?..»
У юноши едва хватило сил дождаться, когда все, присутствовавшие на тихой семейной церемонии, покинут комнату. Их ждал сад, уставленный столами с яствами и освещенный тысячами фонарей. Музыканты старались вовсю, радуя гостей веселыми мелодиями и приглашая пуститься в пляс. Но ему, Шимасу, не хотелось сейчас ничего – ни танцев, подаренных утонченными франками, ни лакомств со всего мира. Ему хотелось увидеть лицо любимой и наконец прижать ее к себе, ощутив сладость самого первого поцелуя.
Он решительно встал и подошел к девушке. Подал ей руку, помогая подняться, и с радостью ощутил, как ту бьет дрожь.
«Аллах всесильный! Какое счастье… Должно быть, она не менее, чем я, ждет этого мига…»
– Позволь же мне, прекраснейшая из женщин мира, прикоснуться к твоим устам!
– Я так долго ждала этого, о муж мой.
Девушка решительно откинула с лица вуаль. Дыхание Шимаса замерло, он не мог произнести ни звука. Ибо Халида оказалась не просто хороша. Она оказалась воистину прекрасна. Светло-карие глаза, большие и смеющиеся, были опушены длинными черными ресницами, бросающими слабую тень на персиковые щеки. Вишневые губы горели желанием. Но кроме совершенных черт лицо Халиды поражало и ярким характером. О, глядя в лицо своей жены, он, Шимас, не мог поверить в свое счастье. Ибо Аллах подарил ему красавицу с сильным духом и острым разумом.
– Здравствуй, моя греза, – проговорил потрясенный Шимас. – Нет и не будет в целом мире мужчины счастливее, чем я!
– Здравствуй, муж мой, мой любимый, мой защитник…
Шимас лишь улыбнулся этим словам. Да, некогда он защитил ее. И так обрел дом, семью и любовь. И единственного человека, посвященного в его сокровенную тайну.
Но сейчас вовсе не время было думать о каких-то тайнах. Он наконец мог насладиться ею, самой прекрасной, самой желанной, воистину единственной из женщин, и больше не собирался тратить на размышления ни секунды.
Он прикоснулся губами к губам Халиды. Она попыталась ответить, но, еще ничего не умея, лишь насмешила мужа.
– Не бойся меня, моя греза. И не торопись. Теперь мы вместе. И вместе пойдем по этой дороге до самого конца.
– Я не боюсь, мой суженый. Просто я… я ничего не умею.
– Доверься мне. Не пытайся что-то мне показать. Просто будь сама собой.
И Шимас вновь поцеловал Халиду. О, то был поцелуй куда более страстный, куда более зовущий, куда более жаркий. Ей показалось на миг, что умница Шимас исчез, а вместо него к ее устам жаждущим лобызанием прижался куда более опытный любовник. «Сколь много в тебе, о лучший из мужчин, скрыто разных людей…» – успела подумать Халида, еще не зная, что мужчины волшебно преображаются только в присутствии своих истинных избранниц. Для остальных они могут быть опытными любовниками, добрыми друзьями, но никогда не будут удивительно многолики.
– Халида, красавица… – едва слышно проговорил Шимас, когда девушка сделала попытку вырваться.
Халида сглотнула; ей показалось почти невозможным спокойно стоять, когда этот сильный и, о Аллах великий, такой красивый мужчина продолжил столь пылко целовать ее. О, если бы одни лишь поцелуи. Но сквозь тонкую ткань платья она почувствовала его горячие, жаждущие руки. Он прикасался к ней сначала робко, а потом все более пылко и смело. Конечно, Шимас желал куда большего, чем одни лишь прикосновения и поцелуи. И потому каждое его прикосновение становилось все более смелым. Кожа девушки показалось ему обжигающе горячей, и этот жар воспламенял его все сильнее. Теперь уже и ее платье стало мешать ему.
Он прикоснулся губами к шее Халиды. Девушка вздрогнула от вожделения. Потом почувствовала, что он бережно совлекает с нее платье. Скольжение ткани по разгоряченному телу словно выпустило все ее желания наружу. О, теперь пришел ее черед преображаться. Неизвестно откуда, но к ней пришли желания более чем смелые, более чем откровенные, более чем отчаянные… Шимас, должно быть, прочитал это на дне ее глаз. Ибо в его глазах зажглись огоньки и он стал сдерживать свой натиск. Кто знает, для того ли, чтобы охладить себя, для того ли, чтобы разжечь ее.
Его рука заскользила вверх по ее коже, лаская нежную шею.
– Моя несравненная, моя греза… Моя жена, пери моих снов…
Его голос бархатом услаждал слух, а пальцы наслаждением воспламеняли тело.
Да, Халиде было хорошо, она не могла этого отрицать. Возбуждающие ласки Шимаса заставляли ее трепетать от удовольствия, обжигая страстью, от кончиков волос до пальцев ног.
Шимас ласково провел пальцем от шеи к подбородку и заставил Халиду посмотреть ему прямо в глаза. Когда она встретила взгляд мужа, ее сердце забилось так, словно хотело выскочить из груди, кровь с бешеной скоростью понеслась по жилам.
Шимас снова прикоснулся к шее Халиды, слегка подразнив нежную ложбинку в основании. Затем, скользнув выше, провел большим пальцем по скуле. Халида вздрогнула от сладости своих ощущений.
Пристальный взгляд Шимаса приковывал к себе взор Халиды, а нежные пальцы дразнили горящую кожу. Девушка не в силах была отвернуться. Она зачарованно смотрела на любимого, отдаваясь нежной атаке его пальцев. Халида почти перестала дышать, когда Шимас большим пальцем провел по ее влажным, полуоткрытым губам, а потом надавил немного, чтобы проникнуть в уголок ее рта.
Сердце до боли отчаянно забилось в груди, и Халиде на мгновение показалось, что Шимас собирается поцеловать ее. Но его рука снова опустилась к шее. Его ладонь легко заскользила по обнаженной коже, даря восхитительные ощущения, оставляя за собой огненный шлейф.
Когда Шимас обольстительно повторил пальцем очертания ключицы, кожа Халиды воспламенилась. Однако он остановился, как только достиг возбужденно припухшей груди. Вместо того чтобы продолжить движение вниз, его теплые руки властно легли на плечи притихшей девушки.
Халида резко вдохнула, когда муж притянул ее к себе вплотную. Его тело было таким огромным, таким сильным, таким прекрасным! Чем более смелым делался Шимас, тем более робкой становилась Халида. Наконец она произнесла:
– Ты говорил, что не будешь меня торопить, что хочешь сначала просто прикоснуться ко мне.
Шимас удивился. О, он не помнил, чтобы говорил такое. Но сейчас не время выяснять, кто что сказал или кто о чем промолчал. И юноша принял правила игры.
– Объятия – это тоже прикосновение. Разве не дарим мы сейчас друг другу изумительных ощущений? Разве тебе это не нравится?
Было какое-то коварное наслаждение в том, чтобы прижиматься к его крепкому, надежному телу. Халида чувствовала, как стучит ее кровь, как дрожь пробегает по спине. Но она попыталась поиграть в эту игру чуть дольше, чем готова была выдержать.
– Нет, Шимас. Не нравится.
– Коварная лгунья, – тихо пробормотал он.
К удивлению и разочарованию девушки, муж отпустил ее. Но не отступил. Он просто легко провел тыльной стороной пальцев по кончикам грудей, заставив девушку затаить дыхание от сладостного ощущения, искрами рассыпавшегося по телу.
О, Шимасу приходилось куда труднее. Ведь сейчас он был опытным и смелым мужчиной, ведущим к вершинам страсти свою робкую неумелую подругу. Он делал шаг вперед и тут же мысленно сжимался в предчувствии, что сделал этот шаг неправильно. Что прекрасная девушка, наслаждающаяся его прикосновениями, исчезнет, и появится обиженная малышка и разъяренная фурия, оскорбленная смелым чувственным уроком.
И потому Шимас изо всех сил старался усилить ее желание, медленно скользя кончиками пальцев по нежной коже. Когда он бережно взял в руку одну прекрасную грудь, у Халиды подкосились ноги. Рука, обхватившая ее пульсирующую плоть, излучала жар, и этот жар разгорался с новой силой между ее бедрами. Халида никогда не думала, что ей дано будет испытать такие невероятные ощущения.
Оба они уже стояли на коленях друг перед другом. По их обнаженным телам скользили серебряные блики – даже сама красавица луна, царица небосвода, старалась помочь им в их нелегком пути.
Девушка закрыла глаза от удовольствия. Медлительность, с которой Шимас дарил ласки, сводила Халиду с ума, но ей не хотелось, чтобы он останавливался. Его прикосновение было таким нежным… таким правильным. Ураган ощущений заставил ее дрожать, разжег неутолимую боль глубоко внутри…
– А теперь, о несравненная, мы сделаем вместе еще один шаг, дабы насладиться прекрасным и столь желанным нам обоим искусством великой любви.
Сердце Халиды отчаянно забилось. В наступившем молчании Шимас пристально изучал выражение лица испуганной пери.
– Ты не боишься отдаться мне, прекраснейшая? Ты желаешь этого?
– Шимас… – вскрикнула Халида, когда он обхватил ее сильными и жаждущими руками.
Улыбка, которой юноша наградил ее, была такой прекрасной и такой сводящей с ума.
– Любимая, забудь обо всем, доверься мне.
Не дав девушке пошевелиться, Шимас перетащил ее к себе на колени и заключил в объятия. Халида хотела вскрикнуть, но юноша с пылкой осмотрительностью завладел ее губами. Удерживая твердой рукой затылок, Шимас стал медленно целовать ее, разжигая огонь в жилах, заставляя сердце биться в безумном колдовском ритме.
Халида задыхалась, когда Шимас наконец оторвался от ее губ, чтобы взглянуть в ее глаза.
– О Аллах милосердный, прекраснейшая. Сколько в тебе огня!
Юноша снова наклонил голову, на этот раз с гораздо большей нежностью касаясь губ любимой. Голова ее сладко кружилась, и в этот момент Халида почувствовала, что ее опускают на пышное ложе. О, это ложе… Его шелка в лунном свете так смущали Халиду. Она боялась даже рассмотреть его. Прикосновение прохладной ткани удивительным образом не остужало, а распаляло. Она чувствовала, что ею завладевают неведомые ранее, но более чем сладкие ощущения. Шимас растянулся рядом, наполовину прикрывая ее тело своим.
Халида уперлась руками в грудь мужа, надеясь слегка прийти в себя от этого головокружительно прекрасного падения, призывая на помощь силу воли, но он поймал зубами ее нижнюю губу и стал легонько покусывать и тянуть к себе. Когда Халида тихонько вздохнула, Шимас наконец подарил ей настоящий, полный страсти и бесконечно долгий поцелуй. Поняв, что сопротивляться бесполезно, Халида пусть не так умело, но пылко стала отвечать на поцелуи юноши.
«О, поцелуи Шимаса волшебны… Как и его прикосновения», – думала девушка. Теплые губы околдовывали, руки касались шеи, а потом заскользили ниже. Длинные пальцы ласкали кожу, повторяя контуры груди.
Вскоре Халида вздрогнула, почувствовав, что Шимас все смелее ласкает ее изумительную, такую ждущую грудь, но дразнящие ласки его пальцев успокаивали, ладонь нежно закрывала спелые груди, а горячие губы заклинали довериться. Халида обнаружила, что выгибается навстречу прикосновениям юноши, всем свои существом желая восхитительного наслаждения, обещанием которого горели его глаза.
Спустя некоторое время Шимас прервал обольстительные ласки и поднял голову, пристально глядя на любимую. Халида покраснела. Она лежала в сладострастной неге, принимая жадное внимание Шимаса.
– О прекрасная, изумительнейшая, я хочу смотреть, я хочу любоваться тобой.
Халида почувствовала, что ее возбуждает даже взгляд мужа. Она никогда бы не поверила, что простой взгляд может воспламенять, обжигать, обещать. Огонь, пылавший в глазах Шимаса, предал ее тело настоящей лихорадке. Даже ночная прохлада, льющаяся из распахнутых окон, не в силах была успокоить ее.
И тогда руки присоединились к взгляду. Шимас провел кончиками пальцев по твердым как мрамор соскам, заставив Халиду тихо вскрикнуть.
Глаза Шимаса загорелись от этого беспомощного ответа. Девушка почти стонала от сладкой пытки.
– Шимас… от твоих прикосновений мне так…
– Так – что?
– Жарко… Словно все мои чувства пылают огнем.
Он хотел ее, она это знала. Эта мысль принесла с собой изумительное ощущение силы, способное побороть чувство уязвимости, которое Халида испытывала, лежа рядом с мужем, оставаясь всецело в его власти.
Халида замерла, и Шимас снова прильнул к ее губам.
– Просто расслабься, моя греза, и позволь доставить тебе удовольствие, – прошептал любимый, обжигая дыханием нежную шею, а его руки бесчинствовали, лаская ноги, бедра, добираясь до самых потаенных уголков ее тела. И наконец розовая жемчужина ее страсти открылась ему, словно самая большая драгоценность этого мира. Страшное, горячее, обжигающее, лихорадочное пламя поразило девушку.
Щеки Халиды стали пунцовыми, она сладострастно облизывала губы. Пальцы Шимаса наконец нашли вход в ее потаенную пещеру и начали там дивный, сводящий с ума танец. Девушка извивалась и изгибалась, пытаясь облегчить сладкую боль, чувствуя, что вот-вот потеряет сознание.
– О да, прекраснейшая из женщин мира! Так будет всегда! – прошептал Шимас и с наслаждением вошел в ее горячее, источающее жажду лоно.
Захваченная неописуемыми ощущениями, Халида взглянула на мужа, не в силах издать ни одного звука. Шимас на миг вышел из ее горячих объятий и тотчас же вошел вновь, столь глубоко, насколько мог. Халида ахнула, пронизанная страхом и вожделением одновременно. Он принялся ритмично двигаться, все ускоряя темп своего желания, и постепенно девушка успокоилась и начала двигать бедрами в одном темпе с ним.
– Отдайся мне, почувствуй меня, звезда моя! Моя жена! – шептал Шимас.
Слезы чистой радости брызнули у нее из глаз при этих словах. Она замерла, наслаждаясь ощущением желанности своего лона, его прекрасным предназначением, и выдохнула:
– Да, о да!
Он нежно поцеловал ее и проговорил:
– Теперь нам нужно лишь стать единым целым, прекраснейшая! Слиться в волшебном сне, превратиться в одно!
Юноша еще глубже проник в податливые глубины Халиды, она сладострастно задрожала, чувствуя, как бежит по телу огонь, зажженный его силой и страстью. В глазах у нее потемнело от стремительно приближающегося шквала огненных чувств. Она изо всех сил ногами прижала юношу к себе.
– Шимас!
Он воспринял этот возглас как мольбу и начал сокрушать ее первую крепость неутоленной страсти с удвоенной силой. Под этими мощными ударами панцирь ее неуверенности дал трещину. Халида взвизгнула, но Шимас запечатал ее уста поцелуем и продолжил свой штурм. Широко раскрыв глаза, она упивалась видом его искаженного страстью лица, теряла рассудок от его властных и сильных ударов. Он стал для нее осью вселенной, центром мироздания, властелином всех ее чувств.
Его ненасытный горячий рот жадно всасывал ее прерывистое дыхание, бедра ходили ходуном, хриплый голос приводил ее в неистовство. Халида смутно осознавала, что рыдает от счастья. Шимас все быстрее и быстрее двигался внутри нее, словно задавшись целью разрушить ее до основания, дыхание его стало тяжелым и горячим. Вдруг где-то в глубине ее помутившегося сознания что-то взорвалось – и мириады сверкающих искр закружились у нее перед глазами. Она вскрикнула, пронзенная блаженством, словно клинком, чувствуя, что умирает в его объятиях.
Лицо Шимаса исказилось сладострастной болью, и в тот же миг он излил в нее весь пыл, скопившийся в чреслах.
Они еще долго лежали обнявшись. Слезы радости катились по ее щекам, на губах блуждала блаженная улыбка, а в глазах светилось счастье.
Макама пятая
Пустыми коридорами дивана шел первый советник. Он старался ступать как можно тише, что было более чем удивительно – ведь некогда именно он был здесь хозяином. Именно от него зависели все, кто собирался в этих стенах. Он мог унизить и возвысить, наградить и отобрать последнее. Но сейчас все изменилось.
Увы, он уже не был тем всесильным хозяином дивана. Более того, он уже не был хозяином даже собственной судьбы – ибо теперь, с воцарением Салеха, двадцатого халифа, все изменилось. Должно быть, сам Аллах всесильный отвернулся от прекрасной страны Аль-Миради в тот миг, когда этот безусый и безбородый по новой моде юнец воссел на трон.
Первый советник даже стал опасаться, не насильственным ли было смещение халифа Мирзы – уж очень круто Салех взялся за дело. Быть может, он опоил и собственного отца неведомым зельем, заставив его передать трон глупцу и нарушителю всех традиций и установлений. Ну где это видано, чтобы халиф сам приходил в диван, усердно участвуя во всех обсуждениях и неизменно указывая, что мудрецы, цвет дивана, не в силах придумать ничего по-настоящему разумного?
«Ах, этот мальчишка-глупец не понимает, что мудрецам нет никакой необходимости что-то придумывать, менять в установившемся за столетия порядке вещей. Ибо мудрость самой природы позволяет хлебу расти, коровам – давать молоко, а крестьянам – безропотно взращивать урожай и отдавать в казну все, что нажито за годы трудов. Наше же дело – прославлять мудрость природы и халифа, всеми силами препятствуя каким бы то ни было переменам, ибо все они будут направлены лишь на уничтожение нашей прекрасной державы так же, как на уничтожение каждого из нас, ее верных рабов».
О, тут первый советник был стократно прав – ибо диван в последние годы ничего не делал, кроме, конечно, произнесения цветистых славословий в адрес халифа. Все то, что действительно нужно было державе, решалось за стенами дивана – чаще всего в церемониальном зале халифа или его приемных, где толпились незнатные, но разумные советники советников мудрецов, и в самом деле озабоченные процветанием державы. Именно их слушал халиф Мирза, появляясь в диване лишь в дни больших праздников.
Салех же правил всего несколько месяцев, но успел уже натворить множество глупостей, с точки зрения первого советника тем более обидных, что с ним, первым советником, ни о чем советоваться не стал. Халиф решительно отправил в отставку сначала престарелого визиря, заранее согласного со всеми решениями дивана и спорящего лишь о размерах мзды за свое молчание. Потом без всяких сомнений предложил почетную отставку с невероятными привилегиями никчемному солдафону, по недомыслию халифа Мирзы ставшему главнокомандующим. А потом, созвав все начальников тайных столов, оповестил их о том, что теперь во главе немалых тайных сил встанет мальчишка, сверстник самого халифа, который имел наглость служить под его началом и показал себя храбрецом и честнейшим человеком.
– Ну разве дело, чтобы тайные столы страны возглавлял честный человек? – почти простонал первый советник, на миг задержавшись у главных дверей в диван.
Этот честный глупец, конечно, мгновенно сместил всех проворовавшихся начальников, поставив на их место молодых и потому вовсе уж неразумных, а значит, пекущихся не о собственном благе, а о благе страны. К удивлению первого советника, смещенные не роптали, молча приняв судьбу. Должно быть, этот глупец нашел в прошлом каждого из них страшную тайну, оглашение которой было бы воистину смертельным.
Когда он, первый советник, поинтересовался у бывшего главы шестого тайного стола об этом, тот лишь поджал свои тонкие губы.
– Прости, уважаемый, но я не буду обсуждать с посторонними наши внутренние тайные дела.
И более не сказал ни слова.
«Должно быть, каждого из них держат на крепком крючке… И тайны эти ох как страшны…» – подумал тогда первый советник. Само собой разумеется, что после этой краткой беседы его крепкая дружба с начальником шестого стола как-то очень быстро пошла на убыль, а потом их встречи прекратились вовсе.
Сейчас же, готовясь ступить в диван, первый советник был мрачен. Его одолевали предчувствия более чем скверные – проще говоря, он ждал того дня, когда и его, как его бывшего друга и бывшего начальника шестого стола, погонят взашей с того места, которое он за двадцать долгих лет привык считать своим до самой смерти.
Распахнулись высокие двери, отделанные блестящими медными полосами (о да, зодчие, что возводили диван, постарались даже в мелочах воспроизвести диван столицы мира – великого Багдада, – где восседает сам халиф халифов), и первый советник вошел в главный зал.
Мудрецы уже сидели на своих местах, вполголоса беседуя друг с другом. Лица их были озабочены, а некоторые даже суровы. Так могли выглядеть люди, ожидавшие большой беды. Как, собственно, все и обстояло на самом деле. Ведь каждый из мудрецов сейчас чувствовал себя ничем не лучше, чем первый советник – с минуты на минуту он ожидал появления церемониймейстера, который возвестит о его, мудреца имярек, почетной отставке и полагающихся ему отныне почестях, более похожих на подачки.
При появлении первого советника лица мудрецов слегка посветлели – раз уж появился он, желчный и всем всегда недовольный, то и до них руки у нового халифа дойдут еще не скоро.
– Да возвеличится имя двадцатого халифа Салеха Ас-Юсефа во веки веков! – привычно возвестил слуга у других дверей, откуда с минуты на минуту должен был появиться молодой халиф.
– И да прострет он над нами длань своей мудрости! – вразнобой произнесли мудрецы привычную фразу, сейчас прозвучавшую более чем двусмысленно.
«Аллах всесильный! Неужели мы больше ни одного дня не сможем провести здесь без появления этого назойливого юнца, делающего вид, что он печется лишь о благе страны! Ему легко так говорить – семья Ас-Юсефов была богата всегда, а двадцать поколений и вовсе сделали ее равной халифам великого Багдада. Нам же, ничтожным, приходится каждый день думать о том, что будут есть сегодня наши дети… Нам, ничтожным, приходится каждый день тяжким трудом зарабатывать на пропитание своих семей…»
О, эти мысли едва не вызвали самые что ни на есть настоящие слезы у первого советника, сейчас «забывшего», что именно его караваны, хозяином которых, впрочем, считался его тесть, приносят ему тысячи и тысячи динаров ежемесячно. «Забыл» он сейчас и о том, что целый квартал домов, управителем которых числился его племянник, давали ему возможность жить в уютном дворце и пользоваться любовью четырех жен и целого гарема наложниц, не задумываясь о том, как же их прокормить. О, сейчас первый советник чувствовал себя учеником писца, всего день назад ступившего под сень дивана и бедного, как мышь, живущая в доме нищего.
Первый советник решил, что следует все же побеседовать с самыми разумными из мудрецов и как-то… укротить двадцатого халифа в его нелепых претензиях на истинную власть. Увы, здесь, в диване, сделать это было бы просто невозможно – ибо у стен есть уши. Должно быть, уши могут найтись и дома у каждого из разумных мудрецов… Но где же тогда?..
Додумать первый советник не успел – распахнулись двери, ведущие в диван из покоев халифа, и показался церемониймейстер. Первый советник с удовольствием заметил, что старик держит спину все так же прямо, что глаза его смотрят уверенно и строго. Значит, до него еще не добрались перемены, затеянные глупым Салехом.
«Аллах всесильный! Быть может, пыл мальчишки уже угас? И мы сможем успокоиться и заняться наконец тем, что и должны делать в диване?..»
Появиться-то церемониймейстер появился, но ни слова сказать не успел – мимо него решительно прошел, почти пробежал, молодой халиф.
«Он не уважает нас, как не уважает и церемониал входа халифа в диван… Он не уважает вообще никого…»
С каждой минутой первый советник, на время успокоившийся, приходил во все более сильное волнение. В душе его словно бил набат – надо было во что бы то ни стало укротить в юном халифе свирепую жажду перемен. И сделать это следовало как можно быстрее… Пока еще оставались силы и влияние…
Меж тем Салех хмуро взглянул в лица мудрецов, ставших, как по мановению волшебной палочки, суровыми и деловитыми.
– Да сохранит ваш светлый разум Аллах всесильный и всемилостивый, – проговорил он.
Мудрецы подобрались. О, это было более чем не похоже на обычную ни к чему не обязывающую речь халифа.
– Вчера вы рассказывали мне о том, сколь многое сделал диван и вы, его украшение, для победы в войне. Эти сведения были для меня новы и более чем интересны, особенно то, что касалось снабжения армии фуражом и провиантом. Ибо мне, воевавшему рука об руку с нашими солдатами, как-то не довелось увидеть ни тех гор сладких фиников, ни целых отар баранов, которыми, по вашим сведениям, ежемесячно снабжалось наше победоносное войско. Более того, я с удивлением узнал, что части сопровождали войсковые лекари, числом три тысячи. Это тем более удивительно, что все наше войско насчитывало едва ли больше десяти тысяч солдат. Выходит, каждый из тех, кто призван залечивать раны и увечья, должен был сопровождать трех солдат… Однако мне, к счастью, раненному в войне более чем легко, не повезло увидеть даже десятка лекарей.
«Этот глупец даже не счел нужным похвалить нас за то, сколь быстро мы создали наш правдивый отчет о деяниях. Ну какая ему разница, сколько было фуража и лекарей? Зачем он взялся читать то, что должно было мирно покрываться пылью в душных кладовых при диване?..»
Молчали мудрецы, ожидая окончания речи правителя. Но он, вместо того чтобы выслушать возражения советников, призванных растолковать халифу, сколь удивительна наука статистика, которая может из трех лекарей сделать в единый миг три тысячи, а из десятка баранов – целую отару, да к тому же появляющуюся неизвестно откуда каждый месяц, продолжил свою речь.
Первый советник слушал и мысленно укреплялся в своем решении покончить с подобным рвением халифа раз и навсегда.
Макама шестая
– Да пребудет с тобой, почтенный Исмаил-ага, милость Аллаха всесильного на долгие годы!
– Здравствуй, уважаемый! Входи же скорее!
– Не бойся, почтенный! Я побеспокоился, чтобы никто не преследовал меня… Более того, я дал мальчишке монетку, и он всю дорогу сопровождал меня, проверяя, не следит ли кто за моими передвижениями.
– Глупец! А если он нанят нашими недругами?
– Прости меня, уважаемый, но подобные слова не к лицу человеку, обремененному заботой о казне столь великой державы, как прекрасная страна Аль-Миради. Я вовсе не глупец – и мальчишку этого вожу с собой… Для разных надобностей.
– Прости мне эти непочтительные слова, мудрый посланник… Должно быть, я совсем лишился рассудка от страха…
– Тебе нечего бояться, уважаемый. Да и чего может бояться почтенный хозяин дома, принимающий под своим кровом человека, привезшего письмо… от дяди?
– О да, ты прав, уважаемый… Особенно если человек этот, раскрывая письмо, твердо знает, что его отец был единственным ребенком в семье… И потому у него не может быть не только дядей, но даже и теток – ни здесь, ни в сопредельной державе…
Посланник лишь поклонился, ничего не ответив на это. Он удобно расположился посреди приемного зала, настоящего украшения дома казначея Исмаила. Воистину, деньги подобны волшебной палочке. А большие деньги подобны целой армии волшебников… Ибо никакому магу не под силу украсить стены скромного убежища казначея крохотной страны порфировыми мраморными колоннами, бросить на пол белые шелковые ковры головокружительной ценности и отделать простые с виду чаши инкрустациями из золота.
Казначей меж тем закончил чтение длинного письма и вытащил абак.
– Ну что ж, – бормотал он, – на словах вроде все верно… Но мы все же проверим подсчеты уважаемого Мехмета, моего доброго друга…
– Ты не веришь моему хозяину, глупец?
– Достойный посланник… Денежки счет любят… Не сбивай меня…
«И так каждый раз! Никто более не проверяет подсчеты почтенного Мехмета… Все прочие знают его как человека кристальной четности. Да разве может быть иначе? Особенно тогда, когда выплачиваешь проценты таким людям, как казначей сопредельного царства?»
Ореховые костяшки тем временем щелкали все быстрее. Должно быть, подсчеты подходили к концу. Так оно и оказалось.
– Ну что ж, уважаемый посланник. Я проверил все. И остался более чем доволен. Твой хозяин, Мехмет-ага, удивительно честен и необыкновенно точен. Иметь дело с ним – всегда приятно…
– Я передам Мехмету-ага твои добрые слова, – с поклоном ответил посланник, про себя в очередной раз удивившись глупости человеческой.
– Сейчас я тебя оставлю… Ненадолго. Но вскоре вернусь – ибо хочу передать письмо твоему хозяину…
Человек в иноземном платье вновь безмолвно поклонился. Когда же хозяин оставил его в одиночестве, он пробормотал:
– Но каков глупец, Аллах всесильный! И этот человек управляет казной страны! Да он просто удачливый деляга… «Денежки счет любят!»…
Посланник на миг замолчал, прислушиваясь к звукам дома.
– Наверняка отправился в подвал – золото прятать… Осел. Письмо он хочет передать… Да что он может придумать, глупый лавочник?
Послышались шаги, и Исмаил-ага появился на пороге.
– Уважаемый, почти честью мой дом, отведай яств, приготовленных специально для тебя. Я… я передумал передавать письмо. Его могут прочитать враги…
– Враги, уважаемый? – холодно осведомился посланник. – Ты укоряешь меня в двурушничестве? Смеешь назвать меня шпионом?
– О, не таи обиды, достойнейший! Все мы лишь живые люди. И на любого из нас могут напасть разбойники… Особенно на человека, который везет письма… и золото…
Посланник счел за благо промолчать. «Пусть считает себя самым мудрым человеком в мире… Главное, чтобы денежки исправно передавал…»
– Вкуси щедрых яств, почтенный… А потом мы побеседуем… – вновь повторил Исмаил, провожая человека в иноземном платье в соседние покои, где и в самом деле был накрыт обед, увы, вовсе не такой щедрый, как можно было бы ожидать от такого богача, как казначей Исмаил.
«Он задумал что-то… Иначе почему так бегают его глаза… Но, Аллах всесильный, пусть мой хозяин сам разбирается с этим ничтожеством».
Посланник принялся за еду. «Удивительно, – думал он, – чем богаче дом, где мне приходится бывать, тем более скудная и невкусная там еда…» И в этот миг он вспомнил плов своей матушки, жены мастера по дереву. Плов, источавший тысячи неземных ароматов, обильно сочащийся вкусным мясным соком, полный приправ; плов, где каждое зернышко риса наполнено прекрасным золотистым сиянием… Плов, который может поместиться далеко не на каждом блюде…
«А пирожки бабушки Зейнаб… А шербет тетушки Асии?»
От одних воспоминаний у посланника захватывало дух. И именно эти воспоминания о настоящем, а не деланном гостеприимстве, о подлинных лакомствах помогли ему расправиться с необильным и невкусным «щедрым столом» казначея Исмаила.
И почти сразу сам он появился на пороге.
– А теперь пойдем в мои покои, почтенный! Я хочу, чтобы ты передал своему хозяину, уважаемому Мехмету, мои слова.
– Я весь обратился в слух, уважаемый хозяин. И готов запомнить каждое их твоих слов без ошибок и без ошибок же передать их моему уважаемому нанимателю.
Казначей опустился на подушки, взял в руки мундштук кальяна и только после этого жестом пригласил гостя последовать своему примеру.
– Запоминай же… Подумалось мне, уважаемый, что нет никакой нужды вкладывать деньги в торговлю или странствия, ремесла или науки. Процент от этих вкладов мал, а те, кто ждет прибыли, не могут удовлетвориться теми ничтожными суммами, какие эта прибыль дает. Поэтому, мне кажется, можно заставить деньги работать куда более… успешно, если поступить иначе. Можно прокричать на всех углах, что некий иноземец – ибо последователям Аллаха всесильного запрещено быть ростовщиками… Да, так вот… Какой-нибудь иноземец с громким именем объявляет, что будет платить проценты в два или в три раза больше, чем остальные. К нему, конечно, сразу потянутся все разумные люди. Но объявить, что эти огромные проценты будут выплачиваться человеку только по истечении, скажем, года с того мига, когда человек этот поместит деньги у этого иноземца…
«Пока в его словах нет ничего необыкновенного. Такого, чтобы нельзя было доверить бумаге», – с некоторым удивлением подумал посланник, заметив, впрочем, что почтенный хозяин почему-то волнуется.
Меж тем почтенный казначей продолжил:
– Кроме простых людей, думаю, появятся и те, кто располагает… некоторыми дополнительными суммами…
«Богатеи, глупец! Жадные богатеи!»
– Так вот… Этим можно начать платить проценты, скажем, уже через полгода… А если суммы будут… впечатляющими, то и через три месяца… Глупцы будут нести свои гроши, которые можно будет отдавать более достойным. И так будет продолжаться довольно долго – ведь и небедные люди будут вкладывать свои деньги в это прибыльное дело…
«Аллах всесильный! Да этот вонючий бурдюк хочет обирать несчастных, которых и так готов обобрать любой…»
– Думаю, – все так же тихо продолжал казначей, – что небедные люди постараются вложить в это заведение… скажем, не только свои деньги… Ведь проценты покроют любые… неприятности.
«Не только свои, говоришь… Уж не собрался ли ты, достойный делец, обобрать кого-то из своих друзей? Или посмел все же бросить взгляд на казну? Или у тебя есть еще кто-то из богачей на примете, кроме твоего несчастного халифа?»
Казначей наконец умолк.
– Я передам твое послание слово в слово, уважаемый, – поклонился посланник и встал. – Думаю, эти более чем разумные мысли понравятся моему нанимателю, почтенному Мехмету-ага. Думаю, что, если он сочтет твое предложение разумным, ты будешь первым, на кого подобная практика станет распространяться… Ибо лишь настоящие деньги способны вызвать к жизни достойных богатеев…
Казначей расцвел.
– О да, уважаемый, это так верно!
– Прощай же, достойный казначей! Я спешу к своему нанимателю, чтобы передать твои слова незамедлительно. Надеюсь, что вскоре смогу тебя порадовать наградой за радение о нашем общем деле.
– Благодарю тебя за эти слова, почтеннейший! И буду с нетерпением ждать твоего появления!
Посланник шел по улице. Лицо его озаряла улыбка, которую правильнее всего было бы назвать язвительной.
– Ах, глупец, глупец… Неужели ты и в самом деле думаешь, что твои капиталы помещены в торговлю или в ремесла? Неужели считаешь, что одному тебе могут приходить в голову такие отвратительные жульнические мысли? Плохо же ты знаешь моего уважаемого хозяина Мехмета-ага! Он давно уже поступает только так. Он мудр и потому знает, кому какой процент назначить, кому платить исправно, а кого заставить томиться в ожидании, вынуждая подсчитывать гроши, которых он так никогда и не увидит…
Показался постоялый двор, где остановился посланник.
– Но вот то, что ты решил запустить руку в казну, моему хозяину понравится, клянусь всем золотом мира!
Макама седьмая
– Успешным ли был твой путь, уважаемый Ахматулла?
– О да, мой добрый друг.
– И харчевню ты нашел без труда?
– Ты все так понятно объяснил, почтеннейший. Но о чем мы будем говорить в этом странном месте?
Первый советник, почтенный Хазим[1], в очередной раз оправдывая свое имя, оглянулся по сторонам.
– Не торопись, почтенный Ахматулла. Ты все узнаешь, думаю, совсем скоро. Нам следует дождаться лишь Исмаила-ага, уважаемого Саддама, и Сулеймана-оглы.
Ахматулла, смотритель заведений призрения прекрасной страны Аль-Миради, взглянул на собеседника более чем внимательно.
– Ты, достойный первый советник, приглашаешь в эту вонючую забегаловку меня, казначея, верховного судью и уважаемого звездочета… Не проще ли было нам побеседовать в тепле и уюте дивана?
– Должно быть, уважаемый, – неприязненно ответил первый советник, – ты понимаешь, что уют дивана сейчас хорош только для нашего халифа, да пребудет с ним вовеки благодать Аллаха всесильного и всемилостивого… Ведь ты сразу согласился прийти сюда, не переспрашивая меня сто раз, отчего я выбрал это харчевню на окраине… Потерпи несколько минут. Думаю, я смогу ответить на все твои вопросы.
Ахматулла кивнул и перевел взгляд на дверь, с которой и его собеседник, уважаемый, но такой таинственный Хазим, тоже не сводил взгляда.
– Аллах всесильный, но почему они опаздывают?
– Опаздывают? – раздался рядом с ними голос уважаемого Саддама. – Кто опаздывает, добрый мой друг? И что здесь делает достойный Ахматулла? Я думал, мы будем здесь вдвоем…
– О, Аллах великий, почтенный! Нельзя же так пугать людей! Я думал, что ты войдешь в ту дверь… А ты… А как ты вошел сюда?
– Через кухню, друг мой, через кухню. Ты был столь таинственен, что я подумал – не будет ничего дурного, если я минуту послушаю ваш разговор, а потом уже решу, присоединяться мне к вам или нет.
– И все же решил присоединиться? – привстал первый советник, пытаясь так выразить свое почтение уважаемому верховному кади страны.
– О да… Должно быть, нас ждет интереснейшая беседа, раз уж здесь должны появиться еще и казначей и звездочет…
– Думаю, беседа будет более чем интересной для всех нас, добрый друг.
– Не сомневаюсь в этом.
Ахматулле уже наскучили велеречивые расшаркивания его собеседников, и он отвлекся на минуту, чтобы более внимательно осмотреть зал харчевни.
О, мудрость первого советника была воистину велика – ибо никакому здравомыслящему лазутчику не пришло бы в голову искать первых людей дивана в этом странном, чтобы не сказать опасном, месте. Хозяин харчевни всем своим видом говорил, что нажил деньги трудами, более чем далекими от праведных. Двое его помощников, усердно снующих по залу, могли бы весьма успешно работать на скотобойне – столь велики были их кулаки и столь тяжелы плечи. «Должно быть, непросто подавать уставшим и голодным посетителям плов и шербет…» – подумал смотритель заведений призрения и тут увидел в дверях казначея.
– А вот и Исмаил-ага, – довольно проговорил первый советник.
– Странно он выглядит, наш казначей, – пробурчал кади, отрезая толстый кусок мяса и отправляя его в рот. – Должно быть, натерпелся страху, пока шел сюда…
– Ну какого страху может натерпеться уважаемый казначей нашей страны, если последний раз он пешком путешествовал под стол двухлетним карапузом? – пожал плечами первый советник.
– Не скажи, уважаемый, не скажи… Сейчас он явно пришел сам… А на улице-то фонари не горят… И людишки, поди, только и ждут, чтобы отрезать последние изумрудные пуговицы на кафтане уважаемого ага…
– Не шути так, добрый Саддам, – пробурчал Ахматулла. – Место здесь и впрямь неуютное, а людишки, что присели отдохнуть, – более чем неприятны. Они срежут не только изумрудные пуговицы… Думаю, они и кафтаном не побрезгуют… И серебряными пряжками на башмаках…
– Ну кто же вас, неразумных, заставлял выряжаться словно павлины. Вот посмотри на меня – я надел туфли своего повара, кафтан своего слуги и оставил дома все, что может выдать меня…
– Вот только забыл снять перстень с пальца. А камешек-то в нем, думаю, – не дешевый… Не стекло какое-нибудь…
Верховный кади скосил глаза на драгоценный перстень, действительно украшавший его руку. Огромный желтый бриллиант горел столь ослепительным огнем, что только безумец мог принять его за подделку…
Кади нахмурился и решил в перепалку не вступать. Толстяк хозяин, увидев, что гостей (столь непривычных в подобном заведении) прибавилось, поспешил уставить стол всем, что смог найти в кладовой и в кухне, справедливо рассудив, что богачи гости пришли сюда вовсе не за тем, чтобы есть, но вот заплатят они за яства обязательно, да еще и щедрые чаевые присовокупят.
Наконец появился последний из гостей первого советника.
– Аллах всесильный, уважаемые…
– Не удивляйся, почтенный Сулейман. Мы собрались здесь, ибо, думаю, это место осталось единственным, свободным от лазутчиков молодого халифа… А предмет нашей беседы именно таков, что о нем халифу знать будет не только не полезно, но даже вредно…
– Уважаемый Хазим, говори проще, мы же не в диване… – проворчал верховный кади, и сам появлявшийся в диване далеко не часто.
Первый советник кивнул. Увы, привычка была куда сильнее его – он давно уже отвык разговаривать как обычный человек, не сплетая словесных кружев.
– Раз уж мы все здесь собрались… – первый советник внимательно оглядел лица собеседников, – то, думаю, никаких объяснений не нужно. Скажу вам откровенно, почтеннейшие, я предвижу весьма скорую отставку каждого из нас… Более чем скорую…
Кади хмыкнул.
– Тоже мне, открытие… Конечно, наш молодой халиф со дня на день прогонит нас всех. А на наше место посадит желторотых юнцов, глупых и прекраснодушных.
– О да, уважаемый, именно так.
– Позволю себе не согласиться с тобой, уважаемый судья, – подал голос казначей. – Думаю, мои поистине гигантские усилия и радение о благе страны наш уважаемый халиф, да хранит его Аллах всесильный и всемилостивый на долгие годы, оценит по достоинству, подарив мне возможность и далее служить на благо нашей великой страны…
Кади скривился. А первый советник внимательно взглянул на казначея.
– Что же в таком случае ты делаешь здесь, за нашим столом, уважаемый Исмаил-ага? Или ты решил стать лазутчиком самого халифа и сейчас покинешь нас и побежишь наушничать молодому Салеху, выбалтывая тайны, до которых он еще не дорос?
Исмаил-ага повесил голову. Увы, говорить он мог все, что угодно. Но… Но факты вещь упрямая – а все поступки нового халифа ясно и недвусмысленно говорили, что ни казначею, ни советникам, ни судье со звездочетом не усидеть на своих местах.
– Вот, – добродушно заметил Саддам. – Замолчал – и молодец… Мы слушаем тебя, добрый наш друг Хазим. И пытаемся молчать.
Первый советник кивнул. Собственно, самое главное уже было сказано. И с этим не спорил никто, кроме велеречивого и немудрого казначея. «Да если бы можно было, я бы его и на порог не пустил, – подумал почтенный Хазим. – Но, увы, нам не обойтись без трат… Да, никто из нас не назовет себя бедняком… Но если можно устранить халифа за его же деньги…»
– Благодарю тебя, уважаемый кади! Итак, наши дни в диване сочтены. И с этим вы все согласны…
Первый советник замолчал ровно настолько, чтобы увидеть четыре согласных кивка.
– …А раз так, то нам следует решить совсем простую задачку – согласны ли мы покорно уступить свои должности молодым, глупым и, как правильно заметил уважаемый судья, прекраснодушным дурачкам? А если не согласны, то, быть может, стоит все же сделать так, чтобы остаться на своих местах…
– Но как этого добиться? Молодой халиф не позволит!..
– Ну, значит, нужно сделать так, чтобы он уже ничего и никому не мог позволять… или не позволять… – по-прежнему добродушно проговорил кади. Но глаза его блеснули достаточно выразительно, чтобы первый советник возрадовался хотя бы одному единомышленнику.
– Аллах всесильный… – посеревшими губами прошептал казначей. – Как же сделать так, чтобы он не мог позволять или не позволять…
Все за столом усмехнулись, но промолчали. Снова заговорил кади.
– Ну что ты девицу из себя строишь, безмозглый… Очень просто это сделать! Раз, и все… – И уважаемый судья, человек, призванный следить за законом и порядком в стране, выразительно чиркнул ребром ладони по горлу.
Трое молчаливых собеседников лишь кивнули; первый советник самодовольно усмехнулся. О да, пригласить кади – это была отличная мысль… Быть может, больше ничего делать и не придется, уважаемый Саддам решит эту задачку единолично.
Увы, следующие же слова почтенного судьи разочаровали первого советника.
– Но, уважаемый Хазим, я готов дать на это любые деньги… И только. Я не желаю, чтобы мое имя всплыло ни сейчас, ни после… заварушки.
И вновь собеседники, теперь уже вчетвером, молча закивали. Они тоже готовы были отдать любые деньги, но так, чтобы их имя не всплыло – ни сейчас, ни после… заварушки.
Первый советник, увы, предвидел нечто подобное. Он лишь вздохнул про себя разочарованно – кади был на его стороне, но пытался держаться подальше от самой грязной работенки.
– Я думал об этом, уважаемые… И решил, что нам нужен чужеземец, человек, совершенно посторонний… Какой-нибудь… глупец, которого можно привести в диван как, скажем, третьего советника или второго писца второго письмоводителя. Пусть его лицо там примелькается, пусть он пооботрется несколько дней. А там, глядишь, и халиф наш… перестанет нам мешать.
– Это более чем разумная мысль, друг мой, – вновь за всех согласился кади. – Иноземцев у нас сейчас жалуют, их знания и умения уважают больше наших. Думаю, если все… пойдет гладко, мы выставим его кровожадным убийцей и заодно сможем изгнать из страны всех этих франко-русо-ромеев скопом.
«О, какое же счастье, что я подумал о кади… Он найдет выгоду там, где ее никогда не было…»
Остальные же трое вновь закивали – всегда приятно, когда за тебя принимают решение. А еще приятнее, когда тебе не надо делать вовсе ничего, когда все делается за тебя… Но для тебя.
– Но скажи нам, мудрый советник, нашел ли ты уже такого человека?
– Увы, почтенный Саддам, пока нет. Говоря откровенно, я надеялся, что такого человека посоветуете мне вы.
И за столом повисла пауза. Увы, никто из пятерых заговорщиков не был близко знаком с таким иноземцем, которому можно было бы поручить подобную денежную, но дурно пахнущую работенку.
Макама восьмая
Как все изменилось после женитьбы! Теперь ему уже не приходило в голову выйти просто так вечером, чтобы ввязаться в веселую потасовку или отыскать сговорчивую красавицу… Умная и красивая женщина теперь царила в его доме, Но все же иногда ему хотелось, как в былые дни, просто устроить маскарад – переодеться иноземцем, прогуляться по городу…
Жена ему не препятствовала. Более того, она сама несколько раз заводила разговор о том, что он засиделся дома… Конечно, делала она это не для того, чтобы выгнать мужа на улицу и, быть может, заставить ввязаться в очередную потасовку. Этими словами она добивалась совсем другого – муж с удовольствием проводил время дома, в долгих беседах с ней… А что может быть приятнее для молодой жены, чем муж, который сидит рядом, беседует, целуя нежные пальчики, и время от времени красноречиво посматривает в сторону спальни?
Этот вечер был во многом похож на предыдущие. Но сегодня, еще только войдя в дом, он уже знал, что, когда стемнеет и на горизонте появится звезда Зухрейн, он наденет платье франка и отправится на поиски приключений.
Ужин был обильным и вкусным, дом согревал и радовал. Но когда звезда Зухрейн показалась на небе, он встал и отправился переодеваться.
– Когда ждать тебя, мой герой? – спросила жена.
В ответ он лишь пожать плечами.
– В таком случае, возвращайся поскорее. Я буду ждать тебя хоть до рассвета.
Он нежно улыбнулся в ответ – ну что может быть для мужчины слаще таких слов? Для настоящего мужчины, конечно…
Он шел по городу и любовался им. О, она была права – город был самым прекрасным, самым уютным, самым… Это был город его любви! И более никаких слов не надо было говорить.
Он неторопливо шел по уютным улочкам, размышляя о том, сколь удивительна судьба, сколь прихотливы иногда ее извивы, сколь причудливым образом может она одарить или наказать. Его нынешнее положение давало ему многие привилегии, но еще не успело сделать его прожженным циником или человеком, видящим во всем одну лишь подлость и лицемерие. Он был молод и радовался всему – крови, что бурлит в его жилах, силе, которой налиты его мускулы, нежности, которая каждый раз накрывает его с головой, стоит лишь подумать о прекраснейшей из женщин мира, по велению Аллаха всесильного ставшей его женой.
Прохожие не удивлялись высокому франку, который брел по улицам, глуповато ухмыляясь. Более того, они сочувствовали ему – ибо лицо его, быть может, и привлекательное, пересекал страшный шрам от сабельного удара. Удара столь жестокого, что встретившийся ему горожанин даже покачал головой, удивляясь, как иноземец вообще остался жив.
Наконец лжефранк очнулся от размышлений. Вокруг были совершенно незнакомые улочки – должно быть, он забрел на далекую окраину города… Как ни старался молодой халиф, как ни радел о спокойствии своих подданных и своих городов, но окраины всегда были местом более чем неуютным, даже для него, человека, прошедшего жар настоящих сражений.
– Ну что ж, – проговорил он, озираясь по сторонам. – Наверное, надо поворачивать домой…
Да, это было бы чудесно – вернуться домой, припасть губами к губам любимой, насладиться тишиной и уютом… Но тут краем глаза он заметил человека, которому нечего было делать здесь, на окраине. Человека, который кутался в длинный плащ, поминутно оглядывался, припадал то к стенам домов, то к городской стене… А потом и вовсе свернул к неуютной грязной харчевне. Но заходить внутрь не спешил, обойдя ее сначала один раз, потом второй…
– Аллах всесильный, но что здесь может понадобиться казначею? Он, конечно, господин неприятный, но столь пекущийся о своем достойном виде…
И лжефранк отправился за казначеем, справедливо рассудив, что лишняя тайна для него никогда лишней не будет.
Не было ничего удивительного в том, что он легко смог найти себе местечко за столом неподалеку, и ему было слышно каждое слово глупых и неосторожных собеседников. При этом он вовсе не опасался, что его самого узнают – ибо шрам лучше сотни плащей и шляп прятал его от любопытных глаз.
Когда же услышал он о том, что глупцы ищут иноземца, готового стать убийцей, он уже не сомневался – судьба не зря его сюда привела.
«Аллах всесильный и всемилостивый, – подумал он. – Сейчас бы мне очень помогла хорошая потасовка! Пусть бы эти людишки сразу нашли убийцу…»
Должно быть, в этот вечер звезды были на его стороне. Иначе никак не объяснить всего, что произошло дальше.
Едва он успел подумать о хорошей свалке, как раздался зычный крик хозяина:
– Перек, лови его!
Дюжий слуга, который только успел поставить на стол запеченную баранью голову, выпрямился. Мимо него пытался проскользнуть тип более чем сомнительной наружности. Должно быть, некогда он был фокусником в балагане или шутом у какого-то богача. Но сейчас, старый, сгорбленный, с непропорционально длинными руками, он мог лишь более или менее удачливо воровать.
Гигант Перек бросился за ним, но тут же споткнулся о чей-то, очень вовремя выставленный башмак. На помощь товарищу бросился второй слуга, но и его остановили тем же немудреным способом.
– Да они тут все заодно! – закричал хозяин и попытался сам поймать воришку.
Конечно, у него ничего не вышло – посетители, еще миг назад спокойно жующие, завязали настоящую драку, пытаясь остановить и свирепого тучного хозяина, и его слуг.
«Ого! Пришел мой час, – подумал он. – Ну-ка, отойдем на пару шагов, чтобы им было хорошо меня видно…»
Он с удовольствием ввязался в побоище… Да разве это была драка? Для опытного бойца (а он был очень опытным бойцом) – не страшнее игры в песочек… Но он с удовольствием уклонялся от ударов, раздавал удары сам, стараясь при этом сделать так, чтобы со стороны это выглядело более чем устрашающе, но увечий серьезных не вызывало. Умения, которым неоткуда взяться у простых обывателей, позволяли ему следить и за теми, кто, перешептываясь, сидел за ближайшим столом, кто вот уже какое-то время со всевозрастающим интересом следил за ним.
«Попались, голубчики… Готов поспорить на что угодно, что сейчас первый советник встанет из-за стола и позовет меня поболтать… О том о сем…»
Он ухмыльнулся и нанес ужасной силы удар в челюсть ближайшему к нему сопернику. Тот взлетел словно птица и упал спиной прямо на стол заговорщиков.
«Ну вот. Так даже лучше… – Он огляделся с самым кровожадным видом, но соперников больше не увидел. – Пора уходить… Иначе они поймут, что я напрашиваюсь сам!»
Он отряхнул руки и стал выбираться из драки, все еще бушующей вокруг. Один шаг, другой… Мимо просвистела деревянная скамья…
«Да они тут живут со вкусом, – подумал он. – Нет, все, прочь отсюда…»
Он сумел сделать еще целых два шага. И в этот миг его потянули за рукав.
– Прости, уважаемый, что беспокоим тебя…
– Ну, чего надо?
«Тихо-тихо… Не переборщи, дурачок».
– Мы стотысячно просим у тебя, уважаемый, прощения… Но мы бы хотели побеседовать с тобой… Преломить хлеб как добрые приятели. Не часто встретишь в нашей спокойной стране такого удивительного человека, как ты…
«О да… Такого, как я, действительно дано встретить не каждому… Такого, каким я кажусь сейчас».
– Да ладно. – Он опустил глаза, пытаясь показать, как сконфузили его слова первого советника. – Хлеб преломить – дело хорошее. А вот болтать я не мастак. Так что простите меня, добрые люди, пойду я, а вы уж беседуйте…
– Но… – Первый советник пытался остановить его. – Тогда, быть может, ты просто побудешь среди тех, кто преклоняется перед твоими талантами…
«Ага… попались».
– Да какие там таланты… Так, веселая драчка. Ну да ладно уж, присяду ненадолго.
– Вот, друзья мои! – Первый советник сиял, будто только что получил награду от самого повелителя всех правоверных. – Это мой друг по имени…
«Эх, ты… Друг! А имя-то спросить забыл… Заговорщики… О Аллах всесильный и всевидящий, должно быть, долгие годы спокойствия стерли из их памяти и то, как надо устраивать заговор, и даже то, как надо разговаривать с драчливыми иноземцами… Сопляки, хоть и мудрецы дивана!»
– Жаком-бродягой меня зовут люди, – проговорил он и поклонился. – Ваш приятель сказал, что вы хотите мне рассказать, как здорово я дерусь… Так вот, это лишнее – дерусь я так себе, как все в нашей деревухе…
– Но ты же раскидал этих наглецов как игрушечных!
– А что ж на них – смотреть надо было? Ручки целовать? Подумаешь, несчастный парень украл ломоть хлеба… И теперь его за это в ваш зиндан кидать, да?
– Но это же противозаконно!
«Ого, кади, ты решил вспомнить о законах… Да, интересная у вас тут компания подобралась. Добрая, как гнездо кобр. Ну ничего, голубчики, каждый из вас получит по заслугам!»
Он опустил глаза и посмотрел на свои кулаки.
– Противозаконно, говоришь, дядя?
Кади замолчал, хотя куда вернее было бы сказать, что он заткнулся. Очень уж ему не понравилось выражение лица этого дюжего детины. Да и шрам через все лицо говорил о том, что тому не привыкать ни к дракам, ни к судьям. И что понятия о законах и законности у него весьма далеки от принятых в маленькой, но гордой стране Аль-Миради.
– Прости нас, уважаемый Жак-бродяга. Мой приятель просто хотел сказать, что он не одобряет решения споров в кулачном бою.
Лжефранк снова ухмыльнулся, теперь постаравшись добавить чуточку доброты.
– Да куда ему. Он же хлипкий, ему и минуты против настоящего борца не выстоять. Вот он и не одобряет. Ничего, дядя, если тебя обидит кто, ты мне свистни… Слово Жака, приду и всех в капусту изрублю.
– Благодарю тебя, уважаемый, – поклонился кади, несколько уязвленный словами о том, что он «хлипкий» и что не выстоит против настоящего борца. Ведь некогда кади, тогда еще только ученик медресе, выступал на борцовских соревнованиях. А потому считал, что и посейчас его умения при нем.
– Да всегда с нашим удовольствием…
«А с каким бы удовольствием я тебя приложил!.. Жаль, что в диване драться нельзя…»
– А скажи нам, достойный Жак-бродяга, – заговорил первый советник, – чем занимаешься ты в нашем прекрасном городе?
«Ну наконец! Я уж думал, что он никогда не решится…»
– Учитель я. Учитель изящных искусств…
– Ты? – изумился молчавший до этого мгновения попечитель заведений призрения.
«Почему, о Аллах всесильный и всевидящий, почему – изящных искусств?! Почему я не сказал, что учу детей борьбе? Или что пеку хлеб? О мой язык… Воистину, от тебя мне больше неприятностей, чем от всех врагов мира…»
– Почему это тебя так удивило, старичок?
«Какое все же удовольствие иногда говорить гадости вслух и знать, что наказания не последует… Никакого и никогда».
– Ну, – замялся уважаемый Ахматулла, – ты такой крупный, сильный, красивый…
«Эге, дядя… Да ты, похоже, вовсе не женщин любишь… Должно быть, права была молва, давно твердившая о твоих странных похождениях».
– Спасибо тебе, старичок, на добром слове. Да, я учу изящному искусству. Ибо у нас дома умелое обращение с оружием давно считается высоким искусством. Я же некогда был подмастерьем у кузнеца, я знаю характер каждого клинка, его особенности. И потому, простите мне такую похвальбу, уважаемые, смело называю себя учителем изящных искусств.
Он увидел, что изумление на их лицах сменилось облегчением. Да, высокое искусство обращения с оружием прекрасно соответствовало их недобрым намерениям.
– Ты учитель… Это замечательно! Братья, это воистину более чем прекрасно. Ибо теперь мы сможем почтенного Жака ввести в диван как человека ученого, как наставника молодых! Нам вовсе не нужно говорить, чему именно он учит детей. Он просто учитель…
– Постой, уважаемый Саддам. Наш достойный собеседник еще ни на что не согласился. А ты уже решаешь, как будешь лгать высокому собранию, – остановил его первый советник вполголоса.
Кади умолк, да и за столом повисла неловкая пауза.
«О, я болтливый ишак! Неужели я действительно проиграл?»
И он попытался встать из-за стола.
– Спасибо за добрые слова, уважаемые. Пойду я… А ты, дядя, не забудь, что Жак-бродяга всегда готов защитить тебя…
Заговорщики переглянулись, кади кивнул, а лжефранк понял, что выиграл.
Макама девятая
– Присядь, уважаемый! Наша беседа только начинается. Мы хотим предложить тебе дело более чем ответственное. Но сначала я назовусь. Я первый советник дивана, Хазим.
– Ты?
– Но почему тебя столь сильно это удивило, юноша?
– Да потому, что первый советник дивана – сильный как слон, смелый как лев и бесстрашный как львица. Я не верю тебе!
– Спасибо за такие слова – но я действительно первый советник дивана и уже более двух десятков лет неустанно пекусь о благе своей державы, помогая ей расти и расцветать.
– Ну, тогда прости мне мои глупые слова, уважаемый… Я думал, что советники дивана – люди суровые и сильные, как конунги… Не зря же они так успешно противостоят этому хлипкому дурачку, который недавно взошел на престол…
«Прости мне, мой добрый друг, эти слова. Я молю Аллаха всесильного, чтобы ты никогда не узнал о том, что сейчас затевается…»
Он увидел, как изменились лица его собеседников – если раньше они были настороженными, даже замкнутыми, то сейчас, он готов был спорить на что угодно, первый советник мысленно поблагодарил Аллаха милосердного.
– Потише, уважаемый Жак. Наш правитель, да, молод, но народ его уважает…
– Ты первый советник дивана, да? Тогда тебе надо бы взять своих лазутчиков да и уволить их всех. А еще лучше – утопить в ближайшем арыке…
– Почему? – Удивление на лице советника было неподдельным.
– Да потому, что они врут тебе! Врут и не краснеют. Думаю, за свое вранье они получают более чем щедрую мзду от тех, кому выгодно, чтобы ты так думал.
На лице первого советника столь быстро менялись чувства, что он даже залюбовался. И еще он сейчас думал о том, что же будет, если настоящие лазутчики, которых немало и у халифа, донесут ему, что видели пятерых советников дивана в компании со здоровенным иноземцем.
«Должно быть, он решит, что дяденьки собираются бежать… И теперь подыскивают себе хлебные места. О Аллах, жаль, что на самом деле все не так!»
– Так, значит, народ не любит молодого халифа?
– Прости душевно, почтеннейший, – он чуть поклонился, – за весь народ я отвечать не могу. Знаю лишь, что мне и моим друзьям он просто противен… Знаю я и то, что мои приятели отдали бы не одну сотню золотых, чтобы он вовсе никогда не становился халифом.
«О Аллах, и теперь я сказал чистейшую правду. Салех и сам не раз говорил мне, сколь ненавистна ему сама мысль, что надо принимать сан и царствовать. Вместо того чтобы отправиться за тридевять земель охотиться за чудесами… А эти дурачки… Воистину, каждый слышит лишь то, что хочет услышать!»
– Ну что ж, – словно про себя проговорил кади. – Это облегчает нашу задачу…
И, не обращая внимания на предостерегающие жесты первого советника, заговорил:
– Знай же, уважаемый Жак, что мы здесь собрались для того, чтобы спасти нашу страну. Мы, первые лица дивана, совесть страны, решили, что молодой Салех недостоин своего высокого титула, что страна, ведомая им, непременно упадет на самое дно самой глубокой пропасти, и не будет оттуда возврата до тех пор, пока на трон не взойдет действительно достойный, действительно уважаемый человек…
«Ах вы, недостойные свиньи! Совесть страны… Аллах великий, ну почему ты не покарал их в тот самый миг, когда они задумали это черное дело! Хотя… Ты же привел меня сюда и позволил все это увидеть и узнать… Быть может, ты просто избрал меня орудием своего гнева…»
– Тебе же, юный герой, мы хотим поручить дело, которое покажется тебе недостойным, но будет щедро вознаграждено. А память о нем останется в веках!
«Да-а, уважаемые ослы… Много я видел на своем веку дураков… Но никогда не видел, чтобы разумные люди ловились на такие дешевые слова… Память, видите ли, сохранится в веках!»
– Так вы что же, хотите, чтобы я его пришил?
Похоже, заговорщики и сами были не готовы услышать подобные слова.
– Тс-с-с, юный герой, тише…
– Да чего уж там, какой герой! Просто я ненавижу таких слизняков, и этого готов… растоптать, словно червяка дождевого… Хотя, чего врать-то, мне приятно слышать, что вы щедро вознаградите… Делать с удовольствием работу, за которую к тому же славно платят… Да-а, это я удачно зашел!..
Советники переглядывались, должно быть, опасаясь поверить тому, сколь замечательным оказался их выбор.
– Ну так что, я правильно тебя понял, уважаемый советник?
– Правильно, достойный Жак, правильно, – почти прошипел первый советник дивана. – Только не труби об этом, как взбесившийся бык!
– Ну прости, – он и в самом деле чуть понизил голос. – Я ж первый раз иду на такое. Но, даю тебе слово дворянина, иду с удовольствием.
– Я верю, уважаемый, верю… А теперь нам следует разойтись. Но прежде, Жак, ответь, где и когда я могу тебя найти, чтобы… м-м-м… уточнить детали…
– Да я после уроков всякий день допоздна сижу в харчевне рядом с главной площадью… «Лебедь и дракон» которая. Ты приходи туда после вашей вечерней молитвы. Там и поговорим!
Он поднялся и, неловко поклонившись, побрел к двери.
– Почтенный Саддам, ты уверен, что нам нужен именно этот человек?.. Что-то не верю я ему.
– А тебе, достойный Хазим, и не надо ему верить… Этот парень – настоящий деревенский дурачок. Он и понесет наказание, если его схватят. А если хорошо сделает свое дело, то…
– Думаю, его хватятся еще очень не скоро.
– Именно так, уважаемый, именно так.
Ни звездочет, ни казначей так и не проронили ни слова. Но их молчание было куда красноречивее любых слов.
Жак-брадяга, а проще говоря, визирь Шимас, торопился домой. О да, его сегодняшняя прогулка оказалась более чем удачной. Совсем не мало – узнать о заговоре против халифа, втереться в доверие к заговорщикам…
– Хотя, – пробормотал он на ходу, – не думаю, что они вот так сразу взяли и начали мне верить. Более того, думаю, они не будут помогать бедняге Жаку… Готов спорить, что они сейчас прикидывают, как бы половчее избавиться от него, если их план удастся.
До дома оставалось всего несколько минут.
– Да, почтеннейшие советники, задали вы мне задачку… Как же сделать так, чтобы визирь присутствовал в диване вместе с Жаком, которого эти олухи хотят ввести туда? Хотя зачем… Пусть визирь останется в неведении до самого последнего мига. Тогда вы, недоумки, не поймете, кого же наняли убить халифа Салеха.
Показалась калитка. Шимас решил, что ни за что на свете не расскажет жене о том, кого он встретил сегодня вечером и какое дело ему поручили.
Но Халида была действительно умной женщиной и отличной парой своему мужу. Она всего раз взглянула в лицо визиря и проговорила:
– Иди переодевайся, Жак-бродяга. И шрам свой ужасный не забудь смыть. А потом расскажешь мне все, что с тобой произошло!
– Но почему ты, прекраснейшая, уверена, что со мной что-то произошло?
– Аллах всесильный! И это визирь нашей прекрасной страны, управитель мудрых, человек изворотливого ума… Ну подумай сам, свет очей моих. Если мужчина является домой со ссадиной на лбу, расцветающим синяком под глазом и горящими, как у кота, глазами… Что это может значить?
Шимас решил сыграть того же простака, на которого так легко поймались советники дивана.
– Это значит, что он славно подрался…
– Милый, вот только не надо превращаться в деревенского дурачка. Если бы я видела тебя в первый раз, быть может, я бы тебе поверила. Но сейчас, прожив с тобой уже не один день… – тут губы ее тронула нежная улыбка, – наслушавшись и твоих рассказов, и рассказов о тебе, какими меня побаловали твои верные друзья, понимаю, что случилось что-то… воистину необыкновенное. И что ты, по обычаю всех мужчин, решил от меня это утаить.
Шимас тяжело и протяжно вздохнул.
«Плохо, когда жена умна… И хорошо, что она умна. Да, ее не проведешь. Но, быть может, она даст совет…»
– Не сомневайся, о свет моего сердца, в советах недостатка не будет, – проговорила Халида в спину мужу.
Шимас тер лицо, избавляясь от ужасного нарисованного шрама, и размышлял о том, сколь разнятся головы мужчин и женщин. Как она могла прочесть его мысли? Откуда узнала, что он не возражал бы против мудрого совета?
– Аллах всесильный, ну почему она всегда знает, что у меня на уме?..
Ответ на этот вопрос был Шимасу неизвестен. Ибо хоть он и был изворотливо умен, но все же оставался достаточно молодым человеком, к тому же обожавшим собственную жену. А молодость, увы, становится отличной штукой лишь после того, как проходит. Да, взамен появляются опыт и мудрость, но вот свежести восприятия уже не вернуть, как не вернуть воистину детского удивления, когда самый близкий человек читает тебя, словно раскрытую книгу.
Наконец шрам исчез. Шимас с удовольствием надел привычное платье и даже мысленно приготовился к расспросам Халиды. Но она была воистину самой мудрой из женщин, ибо расспрашивать его ни о чем не стала.
– Ну вот, мой прекрасный, теперь ты похож на того красавчика, за которого я выходила замуж. Ужин ждет тебя. Хотя, думаю, скоро настанет уже и время завтрака.
– Прости меня, прекраснейшая. Прогулка сегодня оказалась более чем долгой.
– Я заметила. И более чем веселой, могу добавить.
– О да. Ты права, моя вечерняя греза, ты права.
– Ну что ж, значит, надо обработать твои раны… Боюсь, что завтра тебе не следует выходить в диван – появление визиря с таким роскошным синяком может навести мудрецов на недостойные размышления.
– И снова ты права, моя любовь.
– В таком случае поешь. А утром пошлешь записку своему приятелю, что твоя жена решила не выпускать тебя из объятий как минимум три дня…
– Боюсь, что он не поверит этому. Салех отлично знает меня.
– Зато он пока почти не знает меня. И этим следует воспользоваться. Для твоего же, глупец, блага.
– Что-то частенько меня сегодня принимали за глупца, – пробурчал Шимас.
Халида лишь взглянула в лицо мужу. И он понял, что попался в ее ловко расставленные сети.
– Хотела бы я знать, друг мой, кто же имел неосторожность принять тебя за глупца… – проговорила она, – и в каком арыке теперь искать тело этого наглеца.
– Увы, моя звезда, все они живы. Более того, по их милости я теперь рискую собственной жизнью… Ну, или делаю вид, что рискую.
И Шимас рассказал жене все – и то, как, размышляя, забрел на окраину, и то, как увидел крадущего вдоль городской стены казначея. И как ввязался в драку, подслушав глупцов заговорщиков. И даже то, что теперь Жака-бродягу каждый вечер будут искать в харчевне рядом с городской площадью.
Халида молчала. О, она прекрасно понимала, какие чувства движут мужем. Но легче от этого не становилось. Ведь как только кто-то из пятерки заговорщиков чуть пристальнее взглянет в лицо визиря – и обман будет раскрыт. И значит, жизнь Шимаса повиснет на волоске.
Молчание затягивалось. Визирь уже и вздыхал, и пытался считать полосы на ковре у собственных ног… Он даже демонстративно раскурил кальян, чего Халида терпеть не могла. Но его жена все так же молчала, лишь беспокойно подрагивали ее пальцы да острые блики от камней в перстнях играли на белом камне стен.
Наконец Халида заговорила.
– Мой прекрасный… Я понимаю, почему ты это сделал. Я восхищаюсь тобой – ибо это деяние настоящего мужчины. Но не могу не обеспокоиться тем, сколь сильно ты рискуешь, ставя под удар собственную голову, собственную жизнь и, значит, мою жизнь тоже.
Шимас про себя вознес Аллаху всесильному длинную благодарственную молитву, в сотый уже, наверное, раз порадовавшись тому, что смог некогда защитить Халиду от назойливого преследования иноземцев. Ибо за это повелитель правоверных наградил его сильной и мудрой женщиной, которой не надо объяснять очевидных вещей, которая сразу добирается до сути явлений и способна хладнокровно делать выводы, не пугаясь ничего.
– Рискую своей жизнью, прекраснейшая? – лишь решился переспросить он.
– Ну конечно. Что будет, глупый ты мудрец, если кто-то из этих недостойных вдруг разглядит твое лицо в диване? Он же сразу поймет, что его тайна раскрыта. И тогда наймет не долговязого иноземца, чтобы уничтожить халифа, а сурового убийцу, чтобы прирезать визиря. О том, что станет тогда со мной и твоими уважаемыми родителями, я уже просто молчу.
– Ты все говоришь верно, красавица. Это значит, что мне надо быть теперь куда осторожнее, а действовать смело и решительно…
– Действовать? Ты что, глупец, собрался предупредить халифа?
– Нет, я еще не настолько потерял разум. Просто я кое-что придумал, пока возвращался домой. И раз уж ты все знаешь, то помоги мне принять решение…
– Я могу не только это, поверь мне, муженек. Почему бы тебе не составить вместе со мной заговор против этих пятерых?
«Воистину, никакому мужчине не тягаться в изворотливости с женщиной…» – успел подумать Шимас.
– Заговор, прекраснейшая? Заговор против пяти советников дивана? Против кади?
– О нет, всего лишь против пятерых глупцов, вздумавших решать судьбы тех, кто им неугоден…
– Но эти глупцы облечены немалой властью.
– И что с того? Мы же не будем спорить с их влиянием и словом в диване… Сколько бы ни было у них власти, они всего лишь люди. А у каждого человека есть свои слабости, о которых он предпочел бы забыть и сам.
– Слабости, уважаемая?
Халида поморщилась.
– Милый, ты уже выставил себя дурачком перед этими недостойными. А со мной будь самим собой. Выслушай меня, и поймешь, о чем я толкую.
– Повинуюсь, моя греза.
– Вот и правильно делаешь. Подумай – твои неразумные заговорщики решили использовать недостойные методы для достижения скверной цели. Значит, для того чтобы им воспрепятствовать, надо просто последовать их примеру – использовать дурно пахнущие методы для достижения цели, пусть и не благородной, но, во всяком случае, куда более достойной.
– И какие же дурно пахнущие методы ты готова использовать?
– Да все, любые… И сплетни, и слухи, и клевету… Думаю, для борьбы с этими – прости мне мой скверный язык – подлецами сгодится все.
– М-да… – Шимас скривился. – Вот только я ничего этого не умею.
– Это достойные слова. Зато умею я, твоя жена. И смогу научить тебя этим, пусть и не самым достойным, но, о Аллах, каким действенным приемам!
– Увы, моя звезда, я не буду у тебя учиться. Ибо не хочу, чтобы и тебе угрожала опасность.
– О мужчины, – вздохнула Халида, – как же вы порой непонятливы. Опасность мне стала грозить с того самого дня, когда я стала твоей женой. Теперь же я хочу просто помочь тебе. И ты, когда все как следует взвесишь, согласишься, что лучшего помощника, чем я, тебе не найти. Ибо я могу выведать все тайны, о которых ты и не догадываешься.
Шимас понимал, что жена права – да, ей откроются самые дурно пахнущие тайны, которых, в этом можно не сомневаться, немало у любого человека. Но визирю не хотелось прибегать к таким недостойным приемам.
Халида меж тем проговорила:
– Наверняка тебе, честному человеку, претит одно только это мое предложение. Но если эти свиньи решили похозяйничать там, где им делать нечего, то и мы можем… последовать их примеру.
И Шимас кивнул, соглашаясь с женой. Увы, как бы отвратительно все это ни звучало, но использовать грязные методы будет необходимо. Потому что, похоже, это единственное оружие, действенное против подлости и подлецов.
Итак, заговор был составлен. О нем, конечно, никогда не узнает молодой халиф. О нем, можно поклясться, не узнают ни уважаемая матушка Халиды, ни уважаемый батюшка Шимаса.
Но все же что-то визиря беспокоило. Он пока не мог понять, что. И потому решил положиться на время, которому свойственно разрешать все загадки и все расставлять по своим местам.
Макама десятая
– А вот, моя красавица, тебе маленький подарочек…
– Маленький? – Девушка капризно надула губки. – Совсем маленький?
– О да, крошка. Совсем маленький… Вот такой.
И звездочет, уважаемый человек и второй советник при визире, извлек из коробочки перстень с огромным изумрудом. Камень был столь велик, что мог бы украсить собой не тонкий девичий пальчик, а чалму правителя.
Но девушке этого показалось недостаточно. Ну разве зря она терпела липкие поцелуи этого старика, его тучное чрево и одышку? Разве ради таких пустяков и мелочей, как это никчемное колечко, делала вид, что влюблена в него словно кошка и что его ласки доставляют ей неземное наслаждение?
– Фу…
– Моя птичечка недовольна подарочком своего дружка? Может быть, тебе хочется еще чего-то? Ты только скажи, малышка…
О да, ей хотелось многого. Много, воистину очень много золотых динаров, которые не поместились бы и в сотне громадных сундуков… И тогда она выгонит взашей этого вонючего шакала и заживет наконец жизнью, для которой родилась. Может быть, найдет себе мужчину подостойнее…
Но сказать это она не могла. Пока не могла. Пока были совсем малы ее братья, пока мать продолжала тянуть из нее все соки, пока… И потому красавица нежно улыбнулась звездочету и просюсюкала:
– Твое малышке хочется, чтобы ее дружочек побыл с ней еще минуточку… Или две минуточки…
– Моя птичка! – Звездочет расчувствовался. Эта юная тоненькая девушка будила в нем столь разные чувства: он чувствовал себя и ее мужем, и ее рабом, и ее властелином. И за каждое из этих ощущений готов был щедро платить. – Сегодня твой птенчик пробудет с тобой до самого утречка… Ты рада, малышечка?
– Какое счастьице, мой птенчик… Значит, у нас с тобой есть время… Я смогу приласкать тебя… поиграть с тобой…
«О Аллах всесильный… Приласкать кинжалом… Поиграть в повешение… или в зиндан… Или в продажу работорговцу…»
– Моя маленькая… о да… поиграй со мной, поиграй… А хочешь, я стану твоим львом, а ты моей кошечкой… И мы будем ласкаться, как жадные до страсти дикие звери?
«Ох, меня сейчас стошнит…»
– Нет. – Девушка надула губки теперь скорее обиженно, чем капризно. – Во львов мы играли недавно… Ты был таким грубым, сделал мне больно…
– Но я же был львом, – недоуменно пробормотал звездочет. – А львы не щадят никого.
– Нет, не хочу…
Тут девушка замолчала, делая вид, что с радостью наблюдает за тем, как насыщается толстяк. Она раздумывала, как бы уклониться сегодня от нежности этого тучного борова. Увы, похоже было, что это невозможно, что всю ночь придется ублажать его, борясь с желанием вытащить из-под ложа клинок.
– А чего же ты хочешь, моя птичечка? – Звездочет Сулейман потянулся к ней жирными от мяса руками.
– Я еще не решила… – Малышка ловко уклонилась от объятий. – Сначала я отправлюсь в ванну… А потом уже придумаю. Кем ты сегодня будешь… И кем буду я.
О да, ванна… У нее была ванна – огромная, выложенная мрамором. Слуги могли наполнить ее горячей водой в один единый миг. Это было, увы, одним из немногих удовольствий, которые она могла себе позволить на его деньги.
– Так, быть может, мы насладимся омовением вместе? – Глаза Сулеймана маслено заблестели.
– О нет, мой птенчик… Ты будешь ждать меня в нашем маленьком гнездышке… И предвкушать мое появление.
– Как скажешь, моя птичечка, как скажешь… А если твой птенчик придумает что-то для тебя?
– Мой птенчик меня всегда радует. – Она улыбнулась тучному Сулейману и ускользнула в соседнюю комнату.
К сожалению, как ни прекрасно было прикосновение горячей воды, как ни ласкали чувства ароматы благовоний, но наслаждаться всем этим до утра она не могла – уже два или три раза он заглядывал к ней за ширму и осведомлялся, когда же «его маленькая птичка» наконец «разделит кроватку с ее любимым птенчиком»…
«Что же придумать? – лихорадочно размышляла девушка. – Что же ты, глупая Саида, можешь придумать?»
И тут она поняла, что само имя подсказало ей игру[2]. Она станет госпожой, владычицей, предводительницей амазонок, а он?.. А он останется обыкновенным мужчиной и, значит, рабом повелительницы амазонок. Она будет уклоняться, сопротивляться и запрещать. А он…
«Мне все равно, что будет делать он! Зато я смогу быть самой собой, не сюсюкая и не пришепетывая… Аллах великий, быть может, я смогу его даже ударить!»
О, это была более чем сладостная мысль… И она походкой настоящей владычицы и королевы вошла в опочивальню.
– Пади ниц, презренный раб! – приказала она.
Сулейман – о, следует отдать ему должное! – соображал воистину более чем быстро. Он проворно скатился с ложа и действительно опустился на колени. Саида заметила, что первые же ее слова необыкновенно взвинтили его. Да, он был большой охотник до страстных игр. И увы, это тоже было чистой правдой – большой их мастер. Сегодня она будет его госпожой. И получит от этого удовольствие. Но она получит удовольствие и от его умелых ласк – это будет платой за прикосновения его вислого живота, его влажных губ и за все то, что он заставит сделать. И да будет так!
– Моя птичечка… Ты хочешь, чтобы я стал твоим рабом?
– Ты и есть мой унылый раб. И только от тебя, червь, от твоего усердия и старания зависит, выйдешь ли ты утром из моей опочивальни или тебя вынесут бездыханным!
– О, я готов! Я стану твоим рабом… Я стану игрушкой для твоих утех!
– Да, ничтожный, – проговорила она с удовольствием, которое Сулейман истолковал более чем превратно. – Ты – игрушка для моих утех… И сегодня я стану забавляться с тобой словно впервые.
– Я готов, моя госпожа! Готов для тебя на все! Я научу тебя всему! Я покажу тебе все!
«И да пощадит меня Аллах всесильный и всемилостивый…»
Сулеймана все больше захватывала новая игра. Он подполз к Саиде на коленях и поймал ее руку.
– Ты позволишь мне учить тебя, владычица? Или будешь учить сама своего глупого Сулеймана?
– Учи меня, раб! Да учи хорошенько! Иначе тебя высекут и потом выбросят на потеху всей толпе прямо на главной городской площади…
И Сулейман начал, по-прежнему не поднимаясь с колен. Каждое слово воодушевляло и возбуждало его самого.
– Повинуюсь, моя прекрасная. И первый мой урок – спокойствие и неторопливость. – Сулейман говорил, и сам перевоплощался вслед за своими словами. Саида лишь удивилась тому, что внезапно его вислое чрево подобралось, а в глазах появился столь несвойственный изнеженному звездочету мягкий свет любования. – Ты, моя повелительница, должно быть, нетерпелива. Позволь же научить тебя сдержанности в постижении великой науки любви.
Он губами коснулся сначала одного пальца Саиды, потом второго, потом прошелся по нежной и чуть дрогнувшей ладони. И лишь потом осмелился поднять взгляд.
– О Аллах, как же бывают иногда дерзки рабы, – пробормотала она, зачарованная его удивительной переменой. – Но ты можешь продолжать – мне все еще приятно.
– Поцелуй – это азы бесконечной, как сама жизнь, великой науки. Чего ты тебе хотелось сегодня? Какой урок ты готова усвоить?
– Тот, который ты готов мне преподать…
– Я буду твоим рабом… Рабом умелым и щедрым на ласки. Ты же, моя повелительница, постараешься следовать за мной и позволять мне все.
В глазах Сулеймана горел огонь настоящей страсти. Да, его заводили – о нет, его воистину душили одни лишь сладостные картины, встававшие в его разуме, охочем до рискованных игр не менее, чем его тучное, но не утратившее любовных сил тело.
– Да будет так! Я – твоя владычица, я амазонка. А ты всего-навсего мужчина и потому мой раб. – Саида вдруг ощутила, как трепещет в груди сердце. – Ты говорил со мной неподобающе… Но на этот раз я прощаю тебя, поскольку ты всего лишь глупый мужчина, не ведающий ни истинной боли, ни подлинно высокой страсти. Но впредь ты должен держать рот на замке, иначе твои пятки отведают не одну сотню палок. Ты недостаточно смиренен, а я пока не решила, каким станет наказание за твою непокорность.
«О Аллах, да она не играет! Она стала владычицей, предводительницей женщин… Должно быть, она чувствует себя настоящей амазонкой! Ну что ж, моя прекрасная, да будет так! Я стану рабом твоих желаний, но останусь смелым и гордым учителем».
– Прости мне мои непокорные слова, моя владычица, – сказал он, – Я решился произнести их только потому, что лишь я один могу научить тебя страсти. Подлинной страсти, какую только ты заслуживаешь. Говорят, ты решительна; говорят, сурова; говорят (и я не могу в это не поверить), что еще никто из мужчин не вышел из твоей опочивальни живым. Но, поверь, я буду первым! И жажду твоего тела, словно пылкий отрок!
И прежде чем Саида успела возразить, он припал к ее губам в глубоком жгучем поцелуе. Голова Саиды пошла кругом. «О Аллах, он совсем другой! Должно быть, мне сегодня действительно повезет!»
Крохотный огонек наслаждения пробежал по ее телу. Сулейман на минуту поднял голову, но тут же вновь принялся целовать ее, нежно касаясь губами всего ее лица, и вновь возвращаясь к губам.
– О счастье! – прошептал он. – Как ты прекрасна, моя владычица.
Саида пыталась вернуть себе власть над этим своенравным рабом.
– Я еще не решила, позволю ли я тебе целовать себя, – упрекнула она. – И если не будешь вести себя как положено рабу, палки – целая сотня! – живо напомнят тебе об этом!
Сулейман разжал руки и, порывшись в корзине, вытащил небольшой кнут. Когда-то давно он принес сюда и эту корзину, и множество игрушек, которые разжигали его пыл и дарили воистину неземное блаженство. Дарили ему. О наслаждении своей «птичечки» он заботился нечасто, так же давно решив, что камни, золото и телесные ласки могут вызвать бурю страсти… Почти настоящую…
– Пусть сотню раз на мою спину опустится этот кнут. Страсть должна делиться поровну между мужчиной и женщиной. Наслаждаться любовью в одиночку – воистину невозможно, как невозможно дышать в воде или смеяться в песке.
Он говорил так, как велела ему принятая им роль. Говорил, и сам удивлялся своему умелому лицедейству.
Его поцелуи опьянили ее, но она никому не позволит себя унижать! Она владычица!
Саида схватила кнут и поднялась.
– Опустись на колени, раб, – велела она.
«О Аллах! Неужели она сделает это?»
Сулейман тут же получил ответ, когда кнут оставил рубец на его коже. Он стиснул зубы. Она и в самом деле ударила! Но сейчас даже боль была ему приятна.
«О, это сладко, куда более сладко, чем я могла себе представить! Но не следует и увлекаться – мне еще слишком много нужно от него…»
К его удивлению, Саида ударила всего три раза. Он не видел, но она с огромным удовольствием рассматривала красные полосы, появившиеся на его коже.
– Можешь лечь, – надменно приказала она. – Теперь ты будешь слушаться меня, свою госпожу?
Сулейман осторожно опустился на прохладные шелка ложа.
– Ты так прекрасна, когда сердишься, моя владычица, – прошептал он.
Совершенные черты лица Саиды исказились.
– Неужели мне придется вновь наказать тебя, Сулейман? – бросила она.
– Неужели ты сердишься на меня лишь потому, что я нахожу тебя прекрасной? – О, сейчас Сулейман уже не был тучным старым звездочетом. Удары разозлили его и, вот что странно, непонятным образом распалили его и его желания.
У Саиды от его тихих слов перехватило дыхание. Она столь полно вошла в роль, что уже и в самом деле ощущала себя правительницей страны смелых женщин, не терпящей возражений и приемлющей лишь беспрекословное повиновение. Этот же мужчина смущал ее. Ей казалось, что она и в самом деле привыкла к полнейшей покорности, приятным лишь для нее одной любовным играм, после которых можно спокойно убить раба. Мужчины ни разу не говорили с ней так, как этот! Ничтожные создания, чьи низменные грязные желания необходимо держать под строгим контролем.
Он захватил рукой ее волосы и стал притягивать, пока их лица не оказались совсем близко.
– Ты всегда стараешься взять верх, моя владычица, – заговорил Сулейман так тихо, что она едва его слышала. Игра и его захватила, заставив поверить и в то, что он лишь никчемный раб, и в то, что сейчас решается вся его жизнь. – Неужели ты никогда не хотела узнать, каково это – отдаться полностью, целиком? Только очень храбрая женщина способна на такое, но я уверен, что ты именно такова. Это правда, Саида? Я не ошибся?
Он привлек ее еще ближе, и наконец их губы соприкоснулись.
– Моя прекрасная повелительница…
– Оставь меня! – закричала она. – Ты слишком много болтаешь, глупый раб по имени Сулейман! Поди прочь! И благодари Аллаха всесильного, что остался жив… Уходи, я не желаю видеть тебя!
– Аллах великий! – воскликнул он. – Да ты боишься!
– Нет! – фыркнула она, покраснев к собственному своему удивлению.
– Тогда доверься мне, – вновь шепотом попросил он.
– Я не позволяла обращаться ко мне, – пробормотала она. О, Саида давно уже не ощущала себя столь непривычно, игра полностью завладела всем ее существом, заставляя поверить и в слова Сулеймана, и в свои собственные.
– Отдайся мне, – мягко настаивал он, припав губами к ее лбу.
– Это непозволительно, моя честь запрещает это, – запротестовала она.
«О прекраснейшая, – с нежностью думал Сулейман, любуясь гневным румянцем Саиды. – Нет и не будет никого, красивее тебя. Играй же со мной в эту игру, играй и в тысячи других игр!»
– Разве не запретный плод самый сладкий? – поддразнил он, поцеловав почти по-братски кончик ее носа.
– Но я повелительница! Ты должен делать только то, что приказано, иначе тебя не спасет и сотня умелых лекарей!
– Когда-нибудь я стану властелином, и тогда все будет по-моему, – лукаво возразил Сулейман. – А если ты сейчас отошлешь меня отсюда, из твоей опочивальни, то так и не узнаешь несказанной сладости, которую могу дать тебе лишь я один, Саида, моя гневная, но изумительно желанная повелительница! – Он обнял ее и прижал к груди. – Я хочу тебя.
Но тут Сулейман увидел в ее глазах неподдельный страх и, немедленно отпустив девушку, опустился на ложе.
– Приляг и ты, моя прекрасная! С твоего разрешения я успокою тебя.
Саида послушно прилегла на ложе.
– Закрой глаза! Прислушайся к моим рукам – они же тебе не враги, как не враг и я.
Руки звездочета начали нежно гладить ее спину, и Саида почувствовала, что ладони эти теплы и надежны, что прикосновение их не возмущает, а успокаивает. Игра все сильнее захватывала и Сулеймана. Он и в самом деле чувствовал себя рабом, который во что бы то ни стало должен подарить владычице удивительные ощущения. Заставить взойти вместе с ним на самую вершину страсти, иначе судьба его будет печальнее судьбы последнего из золотарей царства.
Сулейман продолжал трудиться. Откинув ее изумительные волосы, он наклонился, чтобы поцеловать Саиду в нежный затылок. Его пальцы осторожно касались ее плеч. Саида что-то довольно пробормотала. Сулейман позволил себе опуститься ниже. Ладони его скользили по спине лежащей женщины все более уверенно. Он стал гладить нежные округлости ягодиц, время от времени проводя пальцем по соблазнительной канавке, разделяющей упругие половинки. Сильные ладони скользили по атласной мягкости бедер, раздвигая их, нежно лаская.
Саида едва не стонала от удовольствия. Она не ожидала, что эта встреча с ее покровителем обернется именно таким образом. Игра покорила. Она уже представляла себе долины и горы своих владений, традиции и обычаи страны. Знала, что она, Саида Великая, царит там, где женщины ценятся выше мужчин, где мужчины лишь рабы и игрушки для услады женщин. Что лишь женщинам дано защищать свои земли и завоевывать новые, что лишь ее смелым амазонкам позволено все то, что в любом другом царстве дозволено только мужчинам… Удивительно, но вспомнилось ей, владычице, Саиде Великой и то, сколько рабов-мужчин простились с жизнью после того, как пытались воцариться хотя бы в ее опочивальне.
Но сегодня все было по-другому. Испуг смешался с возбуждением – у нее давно уже не было мужчины. Этот раб так не похож ни на кого из ее слуг. К чему он сможет ее склонить? И позволит ли она ему завести себя так далеко, как ему бы хотелось?
Сулейман же был полностью поглощен действом. В его голове пронеслось: «Я ничего не боюсь! Она просто женщина, пусть и владычица, пусть и прекрасна словно сон!»
Сулейман осторожно повернул Саиду на спину. Саида не сознавала, что щеки ее горят огнем. Их глаза встретились. Сулейман улыбнулся – нежно, понимающе… Но руки его продолжили свою игру – они ласкали теперь ее живот, грудь так же едва слышно, как всего мгновение назад касались ее спины.
Саида задохнулась от восторга. Это воистину волшебно! Давно никто ей не мог доставить таких чудесных мгновений. Все тело пульсирует несказанным возбуждением!
Саида громко охнула, когда он начал ласкать ее груди, и, словно завороженная, не отрывала взгляда от его больших рук. Легкие летучие прикосновения, уверенные пальцы, нежно потирающие соски…
Веки Саиды медленно опустились. Он на мгновение прижал пальцы к ее губам, и она, не удержавшись, их поцеловала. Но он уже отнял руку от губ и стал ласкать ее лицо, любовно обводя каждую черту, словно рисуя ее, владычицы, портрет.
– Ты так прекрасна, – тихо выговорил он. – Как можешь ты смотреться в зеркало и не видеть необыкновенной красы, что глядит на тебя?
И, нагнув темноволосую голову, Сулейман впился губами в ее грудь. Тепло его губ заставило ее распахнуть глаза. Из груди снова вырвался тихий стон. О, сейчас он поклонялся ее телу словно святыне.
Сулейман продолжал ласкать ее со всевозрастающей силой, и Саида ощутила обжигающе-жаркий поток внизу живота, в там самом потаенном месте, ощутила и вздрогнула от изумления и восхищения. О, как нравится ей эта пульсирующая дрожь!
Она негромко застонала. Сулейман снова поднял голову, но тут же припал к ее груди, убедившись, какое наслаждение ей дарит. Ее тихий стон был для него лучшей похвалой. О, теперь можно вновь прикоснуться к ее губам – теперь она не оттолкнет, не прогонит.
Он подался вперед, целуя ее все жарче, раздвигая языком губы, и наконец добился своего: их языки встретились в любовной схватке. «Теперь, – с удовольствием подумал он, – пришло время для настоящих ласк».
Его губы уверенно продолжали прокладывать длинную цепочку жгучих поцелуев по ее телу, словно клеймя трепещущую плоть.
– Что ты со мной делаешь? – прошептала Саида с дрожью в голосе.
Сулейман взглянул ей в глаза.
– Ты доверяешь мне, моя владычица? Веришь, что я не причиню тебе зла? Если да, позволь дать тебе наслаждение, которого ты никогда раньше не ощущала.
– Да будет так, – прошептала она, дивясь, уж не сошла ли с ума.
Но Саида попросту не могла с собой совладать. Тело наполнилось восхитительной истомой. Сулейман дал девушке несколько минут, чтобы она чуть отдохнула и одновременно возжаждала куда большего. Он принялся покусывать мягкую кожу ее бедер, и они приглашающе раздвинулись. Язык Сулеймана пробежал по сомкнутым створкам. Саида задрожала, но Сулейман раздвинул розовые лепестки и кончиком языка коснулся самого средоточия ее наслаждения.
Дыхание с шумом вырывалось из груди Саиды. Она будто теряла рассудок. Его язык неустанно ласкал ее. Ей следовало приказать Сулейману остановиться, но сил не было. Кровь словно превратилась в тягучий мед, сладкий и невыносимо жгучий, и Саида, поняла, что не желает прекращения этой чудесной муки.
– О да, – стонала она, – я приказываю тебе продолжать!
Но тут случилось нечто совершенно необычное. Она ощутила, как в ней растет и копится нестерпимое напряжение… И вдруг оно разбилось, как волна, набежавшая на берег, и медленно отхлынуло, оставив ее опустошенной и желающей чего-то большего.
Сулейман отодвинулся, лег на спину и, подняв Саиду над собой, жадно потребовал:
– А теперь, моя королева, оседлай меня – и ты снова взлетишь на вершину страсти!
Саида, задыхаясь, втягивала его напряженное копье в свой горячий влажный грот, не уверенная, что сможет поглотить его целиком, но тут же почувствовала, как стенки расступаются, растягиваются, охватывая мужскую плоть. Это было столь удивительно, столь чудесно, словно никогда и никто не наполнял ее до отказа!
Пораженная, она бросилась в страсть, как в галоп, и наконец, устав, всхлипнула от наслаждения. Он прикрыл глаза, изнемогая от блаженства. А затем одним движением перевернулся и подмял ее под себя.
– Даже если я умру на рассвете, позволив себе эту непозволительную наглость, Саида, ты все же поймешь сегодня ночью, что такое истинный восторг, которого заслуживает каждая женщина! Обвей меня ногами, моя повелительница!
Она беспрекословно подчинилась. Он начал медленно погружаться в ее пылающий пульсирующий грот, с каждым разом входя все глубже. Сулейман утопал в наслаждении, но хотел, чтобы и она разделила с ним страсть.
«Почему это было запрещено мне, повелительнице? Кем и когда? Кто из моих несчастных прародительниц решил, что мужчина не достоин и не умеет ничего, кроме того, что ему разрешит женщина?» О, эти мысли делали бы честь и подлинной владычице, и ей, Саиде, которая позволила себе просто отдаться своему любовнику – да, опытному и, о счастье, иногда даже заботливому. И она совсем не чувствует себя униженной лишь потому, что находится под ним! Нет, кажется, все тело ее плавится, а перед глазами мелькают золотые искры, уносящие ее все выше в ночное небо. Она все острее чувствовала и отвечала на каждый мощный толчок его могучего орудия, пробивавшегося в самые глубины ее естества, неукротимый жар сжигал и поглощал ее. И безумное, свирепое, самозабвенное наслаждение наконец охватило ее, и все существо содрогнулось, когда ее пещера страсти наполнилась любовным нектаром.
Саида громко вскрикнула. Глаза ее распахнулись, и она увидела, что Сулейман улыбается, не торжествующе, не нагло, а от радости, которую они только что испытали.
Сулейман заключил ее в объятия.
– Значит, я не погибну утром, моя повелительница? – пробормотал он ей на ухо.
Саида тихо рассмеялась.
– Ты будешь жить, мой мудрый раб, мой Сулейман, – ответила она.
Шел уже второй час заседания дивана. О, он, звездочет Сулейман, присутствовал с самого начала. Но присутствовал телесно. Мысленно же он вновь и вновь возвращался к проведенной ночи, смакуя воспоминания.
«Малышка придумала отличную игру! Надо будет еще раз поиграть в нее… например, с Заирой…»
Макама одиннадцатая
Наконец халиф встал.
– На сегодня довольно. Я выслушал, достойные мудрецы и советники, ваши объяснения по этому презабавному отчету. И удаляюсь, дабы поразмыслить обо всем услышанном. Тебя же, добрый мой Шимас, я прошу завершить сегодняшнее заседание.
– Повинуюсь, – склонился в почтительном поклоне визирь.
Халиф стремительно шел к дверям, и даже по его спине было видно, что он более чем недоволен услышанным. О, Шимасу прекрасно было известно, что гнев его друга халифа холоден и жесток. Не следует рассчитывать на то, что он, вспылив, успокоится и откажется от кары. Ибо Салех никогда не кричал, никогда не взрывался, никогда даже не повышал голоса. Близкие друзья знали это и потому никогда не обманывались. Они отлично понимали, что халиф в силах отличить ложь от правды, что он этого не покажет, но за лживые слова покарает более чем жестоко.
«И это, о Аллах всесильный, вполне разумно, ибо лгать правителю, дабы спасти собственную шкуру или набить собственный карман, – деяние, воистину не достойное царедворца…»
Двери бесшумно закрылись за халифом. Теперь мудрецы думали, что можно облегченно вздохнуть, что визирь посажен на свой пост только в силу давней дружбы с халифом. Что сам Шимас, высокий, с пудовыми кулаками, не более чем тупой солдафон.
Более того, мудрецы были уверены, что визирь даже не всегда понимает их слова. А потому вели себя при нем так, словно его и вовсе здесь не было.
«Хорошо хоть они не беседуют при мне о починке небесного свода», – усмехнулся визирь, вспомнив историю, которую ему недавно пересказали советники самого Гаруна аль-Рашида.
Мудрецы же, заметив улыбку на устах визиря, чуть примолкли – неизвестно, от чьих слов мог так развеселиться этот гигант.
– Ну что ж, добрые и мудрые советники… Думаю, мы не будем сегодня принимать каких-то важный решений, предоставив возможность нашему повелителю, разумному и справедливому халифу Салеху, размышлять самому. Нам же должно сейчас заняться мелкими заботами, недостойными обременять разум владыки.
О да, это было именно то, чего от него ждали. Первый советник довольно усмехнулся – визирь и сам признавал, что ни на что, кроме мелочей, не годится. И потому следует его неловкими словами воспользоваться незамедлительно.
– Твоими словами говорит сама мудрость, о визирь! Воистину, есть дела, достойные размышления одного лишь владыки, и есть дела, которые оскорбят его светлый и высокий разум.
Визирь улыбнулся и приглашающе взглянул на первого советника.
– Я слушаю тебя, уважаемый Хазим, воистину мудрейший из мудрецов.
Первый советник опустил глаза. Увы, лесть была приятна и ему. А потому он подумал, что, быть может, составил о новом визире неверное представление; быть может, тот вовсе не такой уж тупой солдафон, раз умеет почтительно говорить и разумно слушать. О да, Хазим не знал сейчас, насколько он сам себя наказал, не прислушавшись к собственным мыслям.
– Дозволено ли будет мне, ничтожному, обратиться к визирю с описанием нового проекта?
– Конечно, уважаемый Хазим, конечно.
– Знай же, мудрый наш визирь, знайте и вы, братья, – нараспев заговорил первый советник. – Страна наша, процветающая не одно поколение под щедрым солнцем и благодатными дождями, достойна того, чтобы ею управляли и вели ее к дальнейшему процветанию люди самые разумные, ответственные и дальновидные…
«Аллах великий, неужели первый советник решил сам сложить с себя все полномочия?»
– О да, – кивнул Шимас, – это воистину правильно.
– Разумно также рассудить, что этим ответственным и дальновидным людям нужны помощники, которые смогут собрать необходимые сведения и правильно осветить их для того, чтобы принятые здесь, в диване, решения были наилучшими, направленными на дальнейшее процветание великой нашей державы.
«Ах вот ты о чем… Собираешься плодить новых нахлебников… Должно быть, и иноземцев тоже…»
Визирь кивнул, соглашаясь со словами первого советника. Он преотлично видел второй смысл витиеватых рассуждений достойного Хазима, но считал, что разумно пока будет прикидываться тупым дурачком.
– Мысль о том, что каждый из нас, мудрецов, достоин разумных помощников, советников, конечно, не нова. Более того, такие советники у нас уже есть. Но, увы, штат их весьма немногочислен, они люди занятые, и потому не всегда разумно отрывать их от их повседневных дел.
– И это несомненно, мудрый Хазим.
– Более того, отрывать их от этих дел не только неразумно, но даже погибельно, ибо каждый из них уже давно следит за всеми подводными течениями и знает о каждом из своих поручений все, что только может узнать об этом человек.
Визирю Шимасу становилось все веселее. «Когда же этот воистину болтливейший из болтливых мудрец перейдет наконец к делу? Или диван для того и создан, чтобы любое настоящее дело забалтывать до полного абсурда, заставляя правителя отказаться даже от самого разумного из своих намерений после того, как долгие часы он будет слушать все за и против, высказываемые этими ленивыми бездельниками?»
Первый же советник продолжал разливаться соловьем.
– Таким образом, поняв, что наши помощники – люди более чем загруженные и что отрывать их от повседневных дел погибельно для страны, я пришел к выводу, что мне следует ходатайствовать перед диваном и тобой, мудрейший из мудрых, о том, чтобы число наших помощников было увеличено.
– Это разумная просьба. И я готов удовлетворить ее немедленно.
– Благодарю тебя, о визирь, за это решение, стократно благодарю! – поклонился первый советник, не веря, что одержал первую из побед столь легко.
«Быть может, я все же переоценил этого глупца. Должно быть, весь его разум лишь в том, что он научился учтивым словам и уважению старших…»
– Продолжай, мудрейший.
Первый советник, вновь поклонившись, продолжил:
– Светел тот день, когда в диване царит согласие и понимание…
– И это так… – закивали чалмами молчавшие до того советники.
– Позволю себе продолжить нить рассуждений, о визирь. Итак, убедившись, что штат наших помощников следует увеличить и, убедив в этом самого мудрейшего из мудрых, я продолжаю размышлять о том, что это должны быть за люди. Я спросил себя: «Хазим, должны ли это быть умудренные сединами люди или следует отдать предпочтение молодым, надеясь, что их усердие компенсирует во многом незрелый еще разум…»
«Болтун и глупец! Незрелый, выходит, разум… А у тебя, должно быть, он уже созрел… И потому ты печешься только о своем благополучии, наплевав на тех, за кого обязан радеть… О Аллах, воистину светел будет тот день, когда я выведу тебя пред светлые очи истины… О, должно быть, тогда запоешь ты совсем иные песни!»
– …И, задав себе этот вопрос, я вскоре смог получить и ответ – да, то должны быть люди совсем молодые. Ибо над ними не довлеют предрассудки, ибо разум их свободен от ограничений, и это и есть наилучшая рекомендация в тех случаях, когда надобно некоторые сведения добыть и без искажений передать их мудрым для правильного их истолкования.
Визирь более чем внимательно слушал велеречивые и затейливые рассуждения первого советника, и в душе его нарастал нешуточный гнев. Вернее будет сказать, что Шимас просто кипел изнутри. Он запоминал каждое слово, чтобы потом, когда придет его, визиря, час, вернуть их первому советнику. Вернуть с лихвой.
Первый советник на миг замолчал. Он ожидал хоть какой-то реакции на резкие и недостойные, с его точки зрения, слова в адрес молодых и неразумных людей. Но визирь молчал. И это еще больше убедило Хазима, что Шимас не более чем солдафон, по нелепой прихоти халифа поставленный руководить диваном. Но следовало продолжить хотя бы для того, чтобы как можно скорее избавиться от этого глупца.
– Итак, убедившись, что следует избрать молодых, я задал себе следующий вопрос: разумно ли то, что сбор сведений мы доверим лишь единоверцам и соотечественникам? И, поразмыслив, пришел к выводу, что это неразумно. Ибо зачастую взгляд соотечественника пристрастен. И он не замечает неких вещей, более чем весомых для принятия решения, только потому, что привык к этому с малолетства. А значит, разум наблюдателя и помощника должен быть свободен от привычек и пристрастий. Этим требованиям отвечают многие из иноземцев, нашедших здесь, в нашей прекрасной стране Аль-Миради, вторую родину.
«Ну наконец… Я уж думал, что солнце закатится раньше, чем ты доберешься до сути…»
Должно быть, эти слова оказались новостью для мудрецов – ибо они стали переглядываться и перешептываться, выйдя из полусонного состояния, в котором пребывали до сего момента. Но возражать первому советнику не стали.
– Таким образом, я сделал вывод, что нашими помощниками могут быть и наши соотечественники, и иноземцы. Следует лишь весьма придирчиво рассматривать, кому и что поручить.
– Думаю, мой мудрый друг, – не мог не ответить Шимас, – что следует к этому подходить более чем придирчиво. Более того, считаю, что некоторых помощников следует ввести в диван, дабы они видели, что их нелегкий труд востребован. Это заставит их работать еще усерднее и пойдет, таким образом, на благо нашей цветущей страны.
Первый советник онемел от неожиданности. Он готов был произнести еще целую речь, чтобы вынудить визиря согласиться на новые должности и на появление в диване новых людей. «О Аллах, да кто он такой – наш визирь? Тупица, по глупости поставленный, чтобы управлять мудрыми, или мудрец, талантливо прикидывающийся дурачком?»
– Благодарю тебя, мудрый визирь. До этого я не дошел своим куцым умишком. Но если ты позволишь ввести новых людей в диван…
– Да, мудрейший, это пойдет на пользу стране, я знаю.
«Нет, он все-таки непроходимо глуп… Ну что ж, после того как халиф… перестанет нам мешать, мы и тебя, дурачок, уберем!»
– Благодарю тебя, мудрейший из мудрых, за понимание. Если ты согласен с моими рассуждениями, то я в ближайшие дни готов буду представить тебе, о визирь, список тех, кого хотел бы пригласить в помощники…
– Да будет так, – кивнул, вставая, визирь, которому уже надоела эти игра. – Я повелеваю тебе, первый советник, найти таких людей, выбрать из них самых достойных, а из последних – тех, кто своим присутствием не унизит диван. И вот этот список я желал бы увидеть… Ну, скажем, к концу месяца…
– Надеюсь, о мудрость мира, что смогу порадовать тебя своим усердием куда раньше, – поклонился первый советник.
«Ну еще бы… Ты уже давно готов! Ну что ж, дружище Жак, вскоре тебе предстоит переступить порог этого неуютного местечка… Жаль только, что нам с тобой будет трудновато встретиться…»
Высокие двери закрылись за визирем. И лишь тогда смог первый советник в изнеможении опуститься на подушки. Почему-то оказалось невероятно трудно заставить этого недалекого и неумного мальчишку принять такое простое и разумное решение…
Макама двенадцатая
Халида торопилась домой. О нет, не потому, что ее корзина была уже полна, конечно нет. Более того, она не купила еще и половины из того, что собиралась. Но слухи, которые долетели до ее ушек в рядах кожевенников, были столь… необыкновенны, что она должна была спокойно все обдумать в тишине собственного дома.
Но до своей калитки она дойти не успела.
– Халида! Уважаемая Халида-ханым!
Девушка обернулась и увидела прямо перед собой красавицу в изумительном хиджабе – тонкий батист переливался на солнце всеми оттенками сиреневого, подчеркивая розовую бледность щек хозяйки.
– О Аллах всесильный, Заира! Что ты здесь делаешь? Откуда ты?
– Ах, подружка… Ну что за глупые вопросы… Я живу здесь, всего в двух кварталах от дома твоего мужа.
– Ты вышла замуж, дорогая?
Тут почему-то Заира покраснела и опустила глаза.
– Нет, я… я просто переселилась подальше от дома отца и матушки.
Халида внимательно посмотрела в лицо приятельницы.
– Знаешь что, красавица, я думаю, нам следует отправиться ко мне и выпить зеленого чая с мятой и сластями. Почему-то мне кажется, что нам есть о чем пошептаться.
– Увы, моя дорогая подружка, боюсь, что ты права.
Халида решила, что не станет расспрашивать Заиру ни о чем до тех самых пор, пока последняя крошка не будет съедена. Она суетилась вокруг низкого столика и искоса посматривала на девушку, пытаясь понять, зачем все же понадобилась своей давней приятельнице.
«Должно быть, она караулила меня не один день… Караулила, не решаясь подойти. Но что же ей от меня надо, Аллах всесильный?»
Сначала девушки вспоминали те дни, когда жили по соседству, умиляясь собственным глупым проделкам и радуясь, что вновь встретились. Наконец Халиде эта пустая болтовня надоела, и она спросила прямо:
– Да, мы были замечательными дурочками… Ну а теперь, красавица, признавайся, зачем я понадобилась тебе?
– Ты о чем? – почти естественно округлила глаза ее собеседница.
– О Аллах всесильный, – вздохнула Халида. – Девочка, ты, должно быть, забыла, что всегда боялась моей сообразительности. Вспомни, не ты ли говорила, что мне следовало бы родиться не девушкой, а мужчиной…
– Ты права, – несколько раз кивнула Заира. – Я действительно искала встречи с тобой. О нет, не так. Я давно знаю, где ты живешь. И давно хотела поговорить. Но все не решалась.
– Почему?
– Ну, теперь же ты стала такой важной госпожой… Твой муж – визирь. Ты знаешь обо всем-всем, что творится во дворце…
– Девочка! – Халида лишь могла покачать головой. – Ну откуда ты знаешь, что я знаю это «все-все»?
– А разве твой муж тебе ничего не рассказывает? Ну, о том, что решает диван?
Халида отрицательно покачала головой.
– А… а мне мой рассказал…
И Заира замолчала.
– Твой кто, глупая гусыня? И что он тебе рассказал?
И тогда Заира решилась. Она начала говорить, слезы показались у нее на глазах. И чем дольше слушала Халида рассказ своей подружки, тем больше удивлялась миру, в котором живет, и разуму некоторых его обитателей.
– Ты же знаешь, Халида, что отец мой небогат. Поэтому, когда я выросла, они с матушкой решили, что будут искать для меня жениха обеспеченного, пусть и немолодого… Не всем же так везет, как тебе, подружка…
– Это верно. Правда, я себе жениха не искала…
– Должно быть, в этом все и дело. Не искала, но нашла… Мои же родители искали более чем усердно. В доме нашем перебывала, должно быть, целая сотня свах. И наконец их выбор был сделан. Моим мужем должен был стать человек действительно немолодой, но более чем обеспеченный. Человек уважаемый… Мудрец, одним словом. Сулейман-звездочет…
– Отличный выбор, девочка.
– Увы, подружка. Родители согласились на все, но…
– Но?
– Тут начались настоящие чудеса. После сватовства вдруг оказалось, что Сулейман-звездочет вовсе не вдов, боле того – его жена была жива-живехонька.
– Воистину, чудеса. Но почему же тогда он вздумал свататься?
– Не торопись, подружка, слушай дальше. Он представил дело так, будто он уже пошел к кади и объявил о том, что желает развестись с женой. Из-за того, что детей у них нет – желает развестись. И теперь просто живет с ней под одной крышей, выжидая установленного срока для развода. А сам же тем временем подыскивает себе жену, которая сможет стать любящей спутницей его дней и заботливой матушкой его детям.
– Ну что ж, это свидетельствует лишь о его предусмотрительности…
– Не торопись с выводами, слушай, что было дальше. Родителей моих это объяснение устроило. И тогда Сулейман сказал, что хочет купить мне домик… Чтобы навещать меня там, ну… чтобы понять, действительно ли я стану хорошей женой и матерью.
Халида внимательно посмотрела на приятельницу, но ничего не сказала. В конце концов, у каждого свои понятия о том, как следует строить жизнь. И чему подчиняться.
– Домик он мне купил, тут, неподалеку. Уютный, красивый. И слуг нанял… И стала я жить там, готовясь к тому дню, когда истекут положенные месяцы и он освободится от семейных уз. Время шло, он приходил ко мне…
– Да-да, я поняла, что он стал твоим мужем, не дождавшись церемонии… А дальше?
– А дальше прошли положенные месяцы… Но он не торопился покинуть свою бывшую жену и переехать ко мне. Более того, он весьма резко ответил мне, когда я посмела задать вопрос о том, когда же наш союз освятит имам.
– Ого!
– О да! Он сказал, что раз уж я живу на его деньги, то обязана молча ждать и радоваться каждому дню. Более того, что я должна благословлять тот день, когда он решил посвататься именно ко мне. Увы, я промолчала…
– Почему, дурочка?
– Он… Он щедрый… И если… Если наше свидание удалось, то утром он оставляет много денег. И тогда я могу поддержать родителей… Могу побаловать и их и себя…
– Аллах всесильный, Заира! Ну ты же взрослая девочка! Называй вещи своими именами! Он купил тебя, сделав из тебя, прости, женщину продажную, любовницу…
– Это так, – кивнула Заира. – Любовницу…
– Но почему же ты не пошла к кади, не объявила о таком нарушении всех законов?
– Потому, что он… он щедрый…
Халида смотрела на подругу молча. О да, она прекрасно понимала, почему та терпит своего… содержателя. Но что Заира хочет от нее?
– Я даже привыкла к такой жизни… Потому что Сулейман действительно более чем щедр. Он хочет лишь одного – страсти. И платит за это не скупясь.
– Но что же заставило тебя искать встречи со мной?
– А недавно я встретила в рядах зеленщиков младшую дочь Никифора-грека, Саиду… Мы разговорились…
– Погоди… Никифора? Писца?
– О да… Только теперь у него книжная лавка почти у городских ворот. Саида говорит, что торговля идет бойко и что батюшка удивительно преобразился.
– Это замечательно. Я рада за него. А как дела у Саиды? Она замужем? Растит, должно быть, деток?
– О нет, – Заира покачала головой. – Она… Она такая же содержанка, как я…
– Аллах всесильный, да что же это за жизнь! Что же это за мужчины…
– Более того, ее содержит… Ее содержит мой Сулейман!
Халида не поверила собственным ушам.
– Твой Сулейман?!
– Да! Ты не ослышалась… Ее содержит мой Сулейман, звездочет, гордость страны, ее мудрость и честь…
– И ей он, должно быть, наплел то же самое… Что поселит ее, что проверит, сможет ли она быть хорошей матерью…
– Да, именно так… Она мне рассказывала, а я не могла поверить собственным ушам – ибо все повторялось слово в слово…
– Ох, бедная моя Заира…
– Я не знаю, что мне делать со всем этим и к кому идти… Должно быть, кади меня высмеет. Или выгонит. Или обвинит в клевете на уважаемого человека. И что мне тогда делать? Как оправдаться?
– Успокойся, добрая моя Заира. Я же тебя ни в чем не обвиняю.
– Но самое ужасное, что Сулейман, оказывается, ни к какому кади не ходил, ни о каком разводе не объявлял. Что он по-прежнему женатый человек. И вовсе не собирается ничего в своей жизни менять. Это мне сказала Саида…
Халида могла лишь покачать головой. Ей было невероятно жаль свою подругу, но она не знала, как ей помочь.
«Должно быть, следует рассказать все Шимасу. Пусть он откроет глаза кади на мерзости, что творятся в самом диване…»
И лишь теперь Халида вспомнила весь вчерашний вечер. Вспомнила она и рассказ мужа о заговорщиках, вспомнила и их имена.
«Аллах всесильный… Мне следует непременно, обязательно все рассказать мужу! Раз уж для борьбы с подлостью годятся самые подлые методы…»
– Скажи мне, добрая моя Заира, ты бы хотела избавиться от покровительства этого недостойного?
– Я мечтаю об этом, подружка! В самых сладких снах мне снится, что я сталкиваю Сулеймана в пропасть… Или своими руками вонзаю в спину кинжал… Или подаю чашу, полную яда. И тогда я просыпаюсь счастливой. Но, проснувшись, вновь плачу, ибо это всего лишь сон.
«Быть может, сейчас ты все-таки смогла столкнуть этого подлого Сулеймана в пропасть, подружка…»
– Не плачь, красавица. Соберись и возвращайся в дом своего отца… Да постарайся ничего не забыть из сбережений и щедрых подарков своего… прости, недостойного Сулеймана.
– А если он найдет меня?
– Мне почему-то кажется, красавица, что в ближайшее время ему будет немного не до этого…
– О, какое это было бы счастье!..
Халида расцеловалась с приятельницей, закрыла за ней все двери и глубоко задумалась. О нет, она не сомневалась в том, рассказывать ли обо всем этом мужу. Она размышляла о том, сколько же на самом деле… невест у тучного звездочета Сулеймана. И еще о том, как найти их всех.
«Ну не Шимасу же искать любовниц неумного и подлого заговорщика!»
Макама тринадцатая (воистину, не так страшен Иблис Проклятый, как слухи о его могуществе!)
– Прости мне мою дерзость, о великий визирь, но…
Шимас оглянулся. За ним семенил, полусогнувшись, попечитель заведений призрения, достойный Ахматулла. Посреди широкого коридора его фигура, и без того субтильная, казалась вовсе уж детской. А лицо с подобострастной улыбкой более всего напомнило визирю шакалий оскал.
«Какой все-таки неприятный господин этот попечитель… И почему первый советник решил, что он украсит собой заговор?.. Денег, должно быть, скопил немало… Или знает о советнике что-то столь… недостойное, что его проще купить. А чего же он хочет от нового визиря?»
– Слушаю тебя, уважаемый.
– Прости еще раз мою дерзость… Следовало бы дать документам официальный ход. Но дело воистину срочное…
– Ты же знаешь, уважаемый, что я не радею о буквальном соблюдении регламентов. А уж если дело настолько срочное… Говори же!
– Воистину мудр был халиф Салех, пригласивший столь молодого и столь разумного человека возглавить собрание мудрецов, честь и гордость страны…
– Я горжусь честью, оказанной мне нашим халифом, о мудрейший…
Но попечитель все колебался. Сейчас, стоя рядом с этим огромным и (о Аллах, как это заметно!) неотесанным болваном, он вдруг струсил. О да, о подобных проектах легко говорить в кругу единоверцев, людей похожих вкусов и столь же осененных мудростью, как ты сам… Но как начать разговор с этим болваном?
– Я слушаю тебя, уважаемый, – попытался подтолкнуть попечителя Шимас.
И Ахматулла решился.
«Воистину, он ничего не поймет… Или поймет только то, что услышит… Чего же я боюсь, недостойный?»
И, набрав полную грудь воздуха, попечитель заведений призрения прекрасной и гордой страны Аль-Миради начал:
– Да воссияет над твоей мудростью, о великий визирь, милость Аллаха всесильного, на одного тебя упования всех сирых и убогих, честь коих я, недостойный Ахматулла, защищаю перед целым миром…
Шимас не перебивал. Более того, он очень и очень внимательно слушал этого крысоподобного человечка. Ведь не зря же тот набрался смелости, чтобы в обход долгого делопроизводства сунуть ему, визирю, в руки какой-то свиток.
– …Интересы этих несчастных защищаю я денно и нощно. Воистину, иногда я не сплю, обреченный в одиночку устраивать, опекать, кормить и одевать бедняков страны…
«Несчастный. Как же тебе тяжко, болтливый дурачок», – подумал визирь, который прекрасно знал, кто на самом деле печется о бедняках и города и страны.
– Эти заботы, хоть и отнимают все мои силы и все мое время, но вознаграждаются сторицей, ибо нет для души ничего лучше, чем благодарность сироты, которого удалось спасти из низкой доли. Или благодарные слезы матери, обреченной в одиночку растить детей и получившей желанную, более того, долгожданную помощь их рук самого халифа…
– Воистину, это должно согреть душу любого человека.
О, терпение Шимаса было более чем бесконечно.
– О да… Сейчас же я, о визирь, более всего пекусь о благе сирот… Юные жители нашего прекрасного города… босоногие мальчишки… – Речь попечителя сбилась, а на глазах его показались самые настоящие слезы.
– Сироты, уважаемый?
– Да, мудрый визирь. Воистину, нет слов, дабы описать, сколь талантливы некоторые из них. Сколь совершенны их чувства, сколь умелы руки, сколь открыты они возвышенному и прекрасному… И эти юные чистые души обречены прозябать в недостойной бедности, когда на самом деле их талант может поднять их до истинных высот.
«Все-таки юные сироты… Талантливые – до слез попечителя… О Аллах, молва-то не врала. Хотя что это я, глупец… Молва не врет, она лишь приукрашивает… да и то не часто…»
– Но почему об этом ничего не известно нам – собранию мудрости и совести страны, Ахматулла? – Шимас строго взглянул на попечителя.
– Воистину, это известно многим. Но лишь сейчас я создал проект, который, как я, ничтожный, смею надеяться, одобрит твоя мудрость и щедрость…
И попечитель заведений призрения наконец решился передать визирю свиток, чуть влажный от вспотевших ладоней Ахматуллы.
– Я подумал, о мудрый визирь, что юные наши сограждане, талантливые мальчики, должны обучаться всему, к чему склонны их возвышенные души. Музыке, стихосложению, наукам. Быть может, кто-то из них возвысится настолько, что когда-нибудь сменит нас, уставших от дел, и на подушках самого дивана, прибежища мудрости и справедливости… И потому я смиренно умоляю рассмотреть мое прошение о создании прибежища для этих замечательных мальчиков. Это прибежище я вижу как дом для дюжины юных и чистых душ, самим Аллахом всесильным призванных украшать этот мир и населять его возвышенными умениями и знаниями. Для юношей, которые, о, я клянусь в этом, готовы будут к самому высокому служению своей стране – служению под твоим мудрым началом, о великий визирь…
«Прибежище, говоришь… Клянусь Аллахом всесильным и всемилостивым, и ты будешь там одним из самых усердных… э-э-э… учителей».
В душе визиря все корчилось от гадливости и отвращения. Но внешне это проявилось лишь в самой сладкой из улыбок, которую смог выдавить Шимас.
– Твое радение о слабых поистине велико, достойнейший. Я принимаю твой рескрипт. Подобные проекты, воплощенные и процветающие, воистину могут сделать честь любой стране, не важно, мала она или велика, если она заботится о каждом из своих жителей. Поверь, я без задержки рассмотрю его и, если позволит мне наш достойный повелитель, халиф Салех, приложу и силы, и знания, и немалые средства из казны для воплощения оного.
– Уповаю на тебя, мудрейший их мудрых, – закланялся попечитель. – Ибо кому, как не молодому и мудрому визирю, понять чувства того, кто, обреченный на бедность и прозябание, вдруг видит перед собой свет истины и добра, свет мудрости…
«Забавно, дружок… Должно быть, ты пытаешься намекнуть, что мне, простому воину и сыну солдата, никогда не занять бы высоких должностей, если бы… Ну что ж, я же всего-навсего невежественный солдафон… И потому не услышу в твоих словах ничего, кроме «радения о благе сирых и убогих». Посмотрим, что скажешь ты после того, как твой проект будет одобрен».
– Благодарю за мудрые слова, добрейший. И за то, что твоя забота о сирых и убогих простирается на весь твой день и всю твою ночь, что она не дает тебе ни минуты покоя…
– А я благодарю тебя, великий визирь, что выслушал… И понял. О, сколь великий дар – понимание и сочувствие. Должно быть, самый великий из пожалованных человеку Аллахом всесильным…
Визирь молча поклонился, давая понять, что аудиенция окончена и что он, Шимас, готов теперь обдумать проект уважаемого, о нет – достойнейшего Ахматуллы незамедлительно.
Попечитель попятился, поминутно кланяясь и не сводя льстивых глаз с визиря. Шимас же, склонившись в одном коротком поклоне, решительно пошел прочь из дивана.
«О Аллах всесильный… Нет, неправ уважаемый первый советник… Нет никакой нужды в том, чтобы изгонять халифа… Ни юного халифа, ни его легковерного визиря… Более того, это юные недоумки на своих местах вполне хороши – они же верят всему, что им скажешь! Этот долговязый дурачок сразу же поверил каждому слову! Клянусь, я видел в его глазах слезы сочувствия с этим «несчастным, самой природой обиженным»! Так пусть они уж остаются. А мы будем дергать их за ниточки, как марионеток… О нет, неправ первый советник… Неправ…»
«Поистине удивителен человек… Сколь много в каждом из нас хорошего… Но сколь много и дурного… И почему это дурное с такой удивительной легкостью берет верх над хорошим? Казалось бы, разве плохо выстроить для юношей приют, где они могли бы жить, овладевать знаниями, постигать науки? Это более чем хорошо… Но это же чистая ложь. Даже если приют этот будет построен… Дом этот станет, клянусь, просто приютом для любителей юношеского тела… Но как блестели слезы в его глазах. Этот недостойный, я могу отдать свою чалму, был более чем искренен…»
Шимас уже почти покинул диван, когда в голову ему пришла по-настоящему светлая мысль.
– Так, значит, уважаемые, радеете вы только о благе страны… Ну что ж, проверим, правда ли это. И горе вам, если это только видимость…
Дверь в комнату писцов распахнулась, и зычный голос нового визиря, молодого и, судя по всему, весьма решительного, проревел:
– Старшину писцов ко мне! Главу стражников дивана!
Старшина писцов, который именно в этот момент готовился к обличительной речи, дабы укорить младшего помощника в том, что перья очинены более чем скверно, мигом закрыл рот. И тут же возблагодарил Аллаха всесильного, что оказался в нужное время на своем месте. Где, что греха таить, видели его куда реже, чем должно.
– Я здесь, о мудрейший. Слушаю и повинуюсь!
Шимас кивнул.
– Главу стражи дивана сию секунду приведут…
Визирь снова кивнул. Он очень не любил, когда все вокруг видели в нем только пугало, здоровенного неотесанного болвана, но, увы, должен был признать, что маска эта весьма и весьма удобна. Что повеления страшного и безжалостного визиря исполняются молниеносно и в полной мере.
– Вот что, почтенный… – Визирь сделал вид, что забыл, как зовут старшину писцов. Иногда приходилось использовать и такие скверные приемы. – Я вижу, человек ты усердный, о деле пекущийся. До мудрого дивана стали доходить скверные слухи…
– Слухи? – На лице старшины писцов возник живой интерес.
Визирь вздохнул. «О, как все они любят ближнего!.. Как стараются обелить себя и утопить соперника… Увы, политика дело столь грязное, что иначе и выжить-то невозможно. Но сейчас это нужно мне, недалекому и неумному визирю…»
– О да, дурные слухи… Зная, что ты человек опытный, о деле исправно пекущийся, повелеваю, не ставя в известность никого лишнего, провести проверку всех наших платежей, до последнего медного фельса… Составь мне тайный рескрипт не позднее чем к вечеру завтрашнего дня. Поверь, я молод, но настоящее усердие прекрасно вижу. Обижен ты не будешь. Но помни – держи рот на замке!
Старшина писцов от гордости готов был лопнуть. Еще бы – такое дело… И ему (ему!) поручили возглавить тайную проверку для самого визиря.
«Да, этот будет рыть землю!.. Что ж, если все окажется так, как я опасаюсь, то у меня станет одним шпионом больше. Хотя не хотел бы я показать спину ни ему, ни кому бы то еще в этом славном заведении, полном таких… отзывчивых и добрых людей…»
– Я сделаю все! – прошептал, задыхаясь от счастья, старшина писцов. – Этот наказ для меня столь великая честь, что я не пожалею и самой своей жизни…
Визирь кивнул. Его слегка тошнило от угодливых физиономий. «О Аллах великий, Салех… Теперь я еще лучше понимаю тебя, друг мой… Жаль, что ничего изменить нельзя!»
Макама четырнадцатая
Вечерело. Шимас с необыкновенным усердием рисовал у себя на лице ужасный шрам. Его жена, тяжело вздыхая, чинила черное платье, слегка пострадавшее в недавней драке.
– Аллах всесильный, но почему ты не можешь просто послать стражников, которые приведут этих недостойных пред очи халифа? Пусть бы он с ними разбирался.
– Халида, умница… Ну подумай сама – наша страна гордится справедливостью, равной для каждого из ее жителей, будь он последний бродяга или первый советник. Какие обвинения я смогу предъявить пятерым уважаемым мудрецам?
– Ты обвинишь их в заговоре… с целью свержения… или убийства нашего халифа!
– Это будут только мои слова. Никаких документов, никаких свидетелей… И халиф, да будет с ним во веки веков милость Аллаха всесильного, рассмеявшись, отпустит их на все четыре стороны.
– Но разве твоего слова мало? Ведь ты же визирь… А не голодный оборванец.
– О да, вот если бы они пришли к визирю… И ему в лицо сказали: о великий визирь, мы желаем сместить молодого и глупого халифа, помоги нам в этом…
– Но они же тебе и сказали!
– Нет, детка. Они намекнули об этом дюжему верзиле с пудовыми кулаками, который разбросал соперников, ввязавшись в драку в вонючей забегаловке. И выходит, что это я их обманул. Ведь я же не сказал им, кто я на самом деле…
– Но ты же можешь просто сказать это Салеху…
– Халида, прекраснейшая, умнейшая… не спорь со мной. У Салеха сейчас и без этих недостойных целая гора забот. И заботы эти ох как тяжки. Не надо обременять его еще одной. Я в силах усмирить этих шакалов, не прибегая ни к услугам стражников, ни к услугам судов. Хитрости будет вполне довольно.
Халида лишь неодобрительно покачала головой. Трудно спорить с мужем, когда вполне соглашаешься с ним и лишь беспокойство за него заставляет пытаться его в чем-то переубедить.
Шимас закончил и, повернувшись к жене, спросил:
– Ну как, прекраснейшая, достаточно ли он отвратителен, мой шрам?
– Главное, – улыбнулась та, – чтобы он был похож на вчерашний.
– Не беспокойся, я постарался повторить все в точности… Что ж, пора. Должно быть, у моего Жака уроки его изящного искусства уже закончились.
– Что ты им наговорил, безумный?
– Только то, что я даю уроки обращения с оружием… А изящным считают это искусство все у меня на родине.
– Аллахом молю тебя, Шимас, будь осторожен.
– Я буду осторожен. У меня слишком много планов на остаток моих дней, чтобы рисковать жизнью в компании столь гнусных господ, как вчерашние мои заговорщики. Не беспокойся, Халида, я ненадолго.
В сумерках главная площадь была даже красивее, чем днем. Высокие минареты, как суровые стражи, охраняли ее покой. Камни остывали, и визирь с удовольствием шел через город, наслаждаясь красотой вечера и покоем. Вот и харчевня «Лебедь и дракон». О, здесь преотлично знали, кто такой Жак-бродяга, но никогда этого не показывали. Хозяин харчевни, меланхоличный чиниец, считал, что каждому человеку надо время от времени побыть кем-то другим. И потому в ответ на громогласное приветствие Жака-бродяги лишь кинул, не отвлекаясь от своего дела.
Дочь хозяина, изящная Ли, подала визирю – о нет, Жаку! – целый поднос кушаний. Ибо Жак, устав после многих тяжелых уроков, конечно, должен был восстановить силы.
За этим занятием и застал его первый советник дивана, кутающийся в плащ и выглядящий из-за этого подозрительнее настоящего убийцы.
– Дружище! – вскричал радостно Жак, хлопая советника по плечу.
Тот присел от удара и прошептал:
– Глупец, не привлекай внимания…
– Прошу прощения, господин, – прошептал Жак.
«Эх ты, дурачок… Да если бы увидела нас сейчас городская стража… Мы бы уже с тобой обживали уютные камеры зиндана… Заговорщики… Вот что с людьми делают глупость и годы спокойствия. Аллах всесильный – дети! Право слово, глупые дети!»
– Вот так-то лучше, уважаемый, – зашептал первый советник. – Скажи мне, иноземец, ты сможешь ненадолго отложить все свои уроки?
– Ненадолго, должно быть, могу. Но ненадолго… Они же меня кормят…
– Не беспокойся, голодным ты не останешься. А если хорошо сделаешь свою работу, больше никогда и ни о каких уроках можешь не заботиться…
«Ого, господа… Да вы решили не оставлять свидетелей… Пытаетесь играть по-взрослому?»
– Это славно – не заботиться о пропитании… Сколько же ты готов заплатить?
– Говорю же, и голодным не останешься, и о пропитании больше никогда не задумаешься…
– Ладно уж, дяденька, говори!
Первый советник наклонился над столом и зашептал:
– Вскоре ты и еще несколько человек получите разрешение на вход в помещения дивана. Конечно, в сам диван никто вас не пустит… Но вы будете находиться рядом и слушать все беседы… Тебе надо стать там своим, чтобы все, от советников до стражников, привыкли к тому, что ты имеешь полное право находиться в этих стенах. Я дам тебе знать, когда в диване появится халиф… Ну а дальше – это уж дело твоего «высокого искусства»…
– Хитрец… А как я после… покину ваш диван? Меня же стража схватит – я и вздохнуть не успею… Нет, так не пойдет!
И Шимас попытался встать.
– Сядь, олух! Никто тебя не схватит! Я сделаю так, что никаких стражников рядом не окажется! Твое дело будет только… а потом быстро исчезнуть. Но так, чтобы никто из прохожих тебя не увидел… Ну, или хотя бы не заподозрил, что ты торопишься…
– Ладно уж, дядя, не учи ученого. Главное, чтобы ты денежки успел приготовить. Ну, а я уж не подкачаю.
– И ты меня, невежа, не учи. Будут тебе денежки… А теперь прощай. И не смей даже думать, что сможешь перехитрить меня – я все о тебе знаю. И мои люди следят за тобой день и ночь…
– Да ладно, дядя, что ж ты так взъелся на меня…
«Его люди, Аллах всесильный… Его люди следят за мной… Насмешил. Да мой Жак легко сбежал бы от любой слежки… Даже если бы она была».
И Шимас тяжело вздохнул, постаравшись сделать так, чтобы это выглядело извинением.
– Ну ладно, ладно, – пробурчал первый советник. Он так боялся этого гиганта и этого места, что с удовольствием отменил бы все и сразу. Но… Но уже не мог – сама мысль о том, что он, войдя в главный церемониальный зал, не увидит там юного халифа, была столь сладка и заманчива, что одно это видение искупало весь ужас, который испытывал первый советник сейчас.
Советник поспешил к дверям, а Шимас остался над плошками и тарелочками.
«Да, годы спокойствия и глупость творят воистину удивительные чудеса. Он не подумал, что я могу поспешить к стражникам, не подумал, что я могу это кому-то рассказать. Даже слежку за мной он не направил… Подумал, дурачок, что одних угроз будет довольно… Неужто я и в самом деле выгляжу таким тупицей?»
Хозяин харчевни, часто кланяясь, спешил к нему.
– Спешу осведомиться у доброго моего друга, знает ли он, кто сейчас подходил к его столу?
– Увы, добрый Чэнь, прекрасно знаю…
– Тогда я спешу сообщить, что на улице его ждали два каких-то подозрительных человека – тучный и невзрачный. Что они поспешили удалиться, а вместо них у дверей остался какой-то неприятный господин, слишком юный для мужчины и слишком старый для мальчика.
Шаимас усмехнулся.
– Это, добрый мой друг, они оставили соглядатая. Чтобы я не вздумал пойти и сдать их стражникам. Ну, или чтобы не убежал из города…
Хозяин вновь покивал.
– Прикажешь соглядатая отвлекать?
– Нет, не стоит. Пусть уж видит, как я ем… А потом мы с ним отправимся в веселый квартал… Там есть несколько удивительно удобных переулков…
– Но он еще так юн…
– Друг мой, я же не сказал, что собираюсь убить его… Я просто оставлю его в дураках посреди улицы… Причем оставлю в штанах… Не бойся. Твоему заведению не будет причинено никакого урона…
– Воистину, добрый Жак, этого я боюсь меньше всего. И, если ты позволишь, посмею заметить, что твой шрам чуть… сдвинулся.
– Вот видишь, какие у меня… неразумные соперники. Собеседник-то мой ничего не заметил. Хотя видел меня вчера.
Хозяин усмехнулся и исчез. Через мгновение он уже что-то втолковывал посетителю, требующему ложку вместо палочек.
– Слишком стар для мальчика и слишком молод для мужчины… Эх, советник, советник… А говорил, что твои люди следят за каждым моим шагом… Воистину, когда Аллах хочет наказать человека, он лишает его разума.
И Жак-бродяга, кинув хозяину монетку, вывалился из харчевни.
«Ну что, дурачок, пошли гулять по городу? Клянусь, что сегодняшняя прогулка тебе понравится! Клянусь шрамом Жака-бродяги!»
Макама пятнадцатая
– Но ведь ты просто бедняк! Мои добрые родители, да пошлет им Аллах великий тысячу тысяч лет жизни, ни за что не согласятся, чтобы я выходила за тебя!
– Я выучусь и стану кади. А кади бедными не бывают, любимая. Мы с тобой заживем богато, а наши детки будут самыми красивыми и счастливыми людьми мира. И мы состаримся в счастье и спокойствии…
– Я мечтаю об этом, мой родной. Но…
– Чего ты еще боишься, моя греза?
– Не следовало мне уходить сегодня с тобой, мой прекрасный, нет, не следовало…
– Почему? Ты боишься меня? Или ты боишься глупых пересудов? Или, быть может, ты разлюбила меня?
– Как ты можешь говорить такое? Ты лучший из мужчин мира! Мне не нужен никто, кроме тебя! Я готова за тобой пойти на край света!
– Но тогда почему ты раскаиваешься в том, что пошла со мной сегодня?
– Потому, что я хочу быть достойной твоей любви, хочу стать матерью твоих детей и никогда ни на миг не пожалеть о том, что позволила тебе больше, чем может девушка позволить своему жениху до свадьбы…
– Но разве я только твой жених, глупенькая? Разве не поклялись мы друг другу самыми высокими клятвами? Разве не пообещали жить в согласии и умереть в один день? Разве я не твой муж?
– Ты… О да, ты мой муж… И мы поклялись друг другу самыми крепкими клятвами. Но все же нехорошо, что ты увидишь мое лицо до свадьбы…
«Глупышка, да разве нужно мне твое лицо? Вот все остальное… О, ты такая спелая, аппетитная… А лицо можешь вообще не открывать!»
– О Аллах всесильный, любимая! Но почему ты этого так боишься?
– А вдруг тебе не понравится мое лицо? А если ты решишь, что я некрасива… Ты же откажешься от меня!
– Моя греза, моя любовь, моя судьба! Да я не откажусь от тебя даже через тысячу лет! Ибо ты умна, сильна духом, добра… Настоящая подруга, истинная жена для сурового кади.
– Но ты же еще не кади…
– Я стану им, непременно стану. И уже совсем скоро. И тогда мы сыграем веселую свадьбу. И ни твои уважаемые родители, ни мой почтенный наставник не скажут ни слова – ибо счастливее нас не будет никого в целом свете.
– Ты так хорошо говоришь. И я так хочу тебе верить…
– Поверь мне, прекраснейшая. Ты – единственная, ты самая лучшая. И лишь твоей верой в меня и мои силы я живу, надеясь лишь на твое сердечко…
Девушка опустила глаза. О, как ласкали ее слух эти слова! Он, высокий, такой красивый, такой заботливый, был сейчас рядом с ней. И ей было этого более чем довольно.
– Ну вот мы и пришли, прекрасная греза.
– Ты живешь здесь один?
– Увы, моя прелесть. Мои родные далеко. А здесь тихо, и можно усердно заниматься, не отвлекаясь на мелочи.
– О да, я понимаю. Ведь кади должен знать все-все на белом свете.
– Да, моя любовь. Он должен знать все-все…
Юноша подошел к ней сзади и обнял за плечи.
– Не пугайся меня, моя греза, моя мечта. Разве я когда-нибудь лгал тебе?
Девушка отрицательно покачала головой. О, как ей хотелось ответить на его ласку! Но…
– Не надо, мой прекрасный… И… Я пойду… Боюсь, что матушка хватится…
– Не бойся, любимая. Матушке ты скажешь, что была со мной. И она не будет волноваться… Ну же, не прячься…
– Но, мой родной…
Наконец он сообразил, как заставить ее молчать. Поцелуй ее губ был более чем робким. Да это и не был поцелуй – губы ее были крепко стиснуты, глаза зажмурены. Но вот спина ее расслабилась, а губы ответили на его настойчивые поцелуи.
Он понял, что надо торопиться, пока она не пришла в себя. И стал поспешно одной рукой срывать с нее одеяние.
Когда он отвел воздушную ткань в сторону и потянул за кончик ленты, на которой держались края сорочки, Малика задрожала с головы до пят, но отнюдь не от страха. Возглас восторженного изумления сорвался с губ Саддама: ее белые, словно алебастровые, груди были увенчаны сочными розочками сосков, которые призывно манили страждущего мужчину, столь долгое время дожидавшегося этого упоительного прикосновения.
Благоговейно Саддам тронул крошечный бутон, улыбнувшись, когда тот растерянно сморщился. В ответ он игриво потянул и слегка пощипал, затем потер пальцами, немилосердно дразня розовый кончик груди своим легким как пух прикосновением. Сжавшаяся, покрытая пупырышками плоть забавляла и возбуждала его, делая его желание еще более нестерпимым.
Пока пальцы были заняты одной грудью, он наклонился и провел кончиком языка вокруг другого розового бутона, затем несколькими легкими ударами возбудил его, наконец увлек во влажную глубину губ, где снова лихо принялся за свое дело язык – неутомимый и усердный танцор.
У Малики все поплыло перед глазами: она совершенно не могла справиться с тем упоительным чувством, которое он заставлял ее пережить. Кровь стучала в висках, сердце похолодело, ноги дрожали и подкашивались. Затем Малика совершенно потеряла способность мыслить: голова стала пустой и легкой, а мысли куда-то исчезли. Она почувствовала, что остатки одежды упали на пол и она стоит обнаженная, во всем великолепии женской красоты, перед горячими алчущими глазами Саддама.
– Аллах всесильный и всемилостивый! Малика! Любая другая женщина меркнет в сравнении с тобой. Не знаю, но если только кто-нибудь другой попытается прикоснуться к тебе, я убью его.
Схватив ее на руки, он бережно опустил Малику на ложе и наклонился, чтобы снять с нее туфельки. Затем он вытянулся возле нее в полном одеянии. Он видел, что зажженные от искры его могучего желания угольки ее чувственности тлеют и требуют, чтобы их раздули в такое же жаркое пламя, которое горит в его собственном теле. Нежно его рука обвела контур ее груди, плавно заскользила по шелковистой поверхности живота. Прикосновение было легким и дразнящим, и Малика в смятении обнаружила, что необыкновенно жаждет сладостных ласк.
– Ты хочешь, чтобы я остановился? – спросил Саддам. – Я всегда держу свое слово. – Его язык оставлял влажный обжигающий след на груди, животе, а руки неустанно продолжали поиск самых чувствительных мест на ее теле.
Малика слабо застонала, витая в невидимой дымке наваждения, где ничто не имело значения, кроме того, что Саддам заставлял ее ощущать. Внутри становилось тепло, словно тело растворялось в расплавленной лаве.
– Скажи, любимая, – прошептал Саддам, – я должен остановиться?
В ответ из горла вырвался только едва слышный стон, когда безудержные ласки привели его руки к мягкому и горячему гроту, самому запретному местечку, которое сразу заныло от его прикосновения. Еще один вздох вырвался из груди Малики, когда его пальцы обнаружили драгоценную влагу и стали еще более нетерпеливыми и настойчивыми. Бдительный взор ни на мгновение не оставлял без внимания ее лицо.
Малика хотела сопротивляться, отчаянно пыталась возразить в полный голос, чтобы прекратить эту нестерпимую пытку, но отказаться от ласк Саддама сейчас было бы невозможно, как если бы вдруг разверзлась земная твердь и все живое сгинуло в преисподней.
– Понимаю, мое сердечко, – пробормотал Саддам, сверкнув улыбкой. – Не нужно ничего говорить, только расслабься и позволь мне любить тебя.
На мгновение он оторвался от девушки, а затем она ощутила жесткие волоски на его груди, трущиеся о ее чувствительные соски. Он зарылся лицом в душистый шелк ее волос, думая о том, какое маленькое и хрупкое, почти детское, тельце находится сейчас в его руках, Но тем не менее грудь у нее была уже вполне женственной и более чем желанной. Все его чувства были под воздействием волшебных чар девушки, ее вкуса и запаха, и ему приходилось прилагать огромные усилия, чтобы сопротивляться оглушительному желанию взять ее резко, любить до неистовства, до потери чувств, пока не будет утолен невероятный голод вожделения.
Саддам наконец сообразил, что давно пора избавиться от шаровар. Его мужская плоть, набухшая и отвердевшая, гордо вздымалась и рвалась навстречу.
Малика поспешно зажмурилась, но успела мельком заметить сокровенную часть мужского тела. Она нашла ее удивительной. От одного взгляда на орудие любовных утех у девушки пересохло во рту.
– Позволь мне войти в тебя, любовь моя, – произнес он дрожащим от волнения голосом. Саддам чувствовал себя неопытным юнцом, который впервые оказался наедине с женщиной.
Возвышаясь над ней, Саддам осторожно просунул ногу между ее бедрами и устремился к вожделенной влажной пунцовой щели. Но Малика уже отпрянула, очнувшись от своего чувственного дурмана. Несомненно, она была слишком мала для него.
– Саддам! Нет! Ты не можешь! Невозможно!
Он удержал ее, проникая глубже, одной рукой обхватив ее за талию так, что пути к отступлению не было.
– Доверься мне, любимая, это не только возможно, но и доставит тебе истинное наслаждение. Вот увидишь. Только расслабься, я не сделаю тебе ничего плохого.
Она какой-то миг еще сопротивлялась. Он завел ее слишком далеко. Сначала Малика вскрикнула от боли, когда почувствовала его огромное копье, заполнившее всю ее и пригвоздившее так, что она, казалось, не могла больше сдвинуться с места. Ее всхлипы только распаляли его, и он входил сильнее, тверже и глубже в узкий туннель девственности. Затем его яростный натиск приостановился, сдерживаемый последней преградой непорочности. Остановившись на очень короткий миг, Саддам бесстрашно ринулся вперед, вошел в нее полностью, почувствовав упоительный миг блаженства и неги, оказавшись зажатым в сладостных тисках горячей и влажной плоти.
– Все позади, родная, больше не будет больно, – нежно сказал Саддам, внезапно прекратив движения.
Малике казалось, что ее растерзали на части. Она ожидала боли, если можно доверять девичьим сплетням, но не думала, что больно будет настолько.
Как только ей показалось, будто она уже умирает, боль отступила, и ей на смену пришло незнакомое ощущение, рождавшееся в месте их близости. Оно росло с каждой минутой, заставляя Малику двигать бедрами в поисках новых сладострастных ощущений. Да, боль, несомненно, ушла, и Малика вопросительно смотрела на Саддама, словно спрашивая, а что же последует дальше.
Саддам застонал, его самообладание постепенно покидало его.
– А теперь… мы с тобой вместе насладимся, – задыхаясь, прошептал он, угадывая ее вопрос.
Он сначала осторожно устроился сверху, обучая ее ритму положенных движений. Ее горячая влажная норка обволакивала его так плотно, что каждое движение сопровождалось изумительным бархатным трением, совершенно вытеснившим боль.
– Ты прелестна, – пылко шептал он в самое ушко Малике. – Словно всю свою жизнь я ждал только тебя.
– Саддам! – воскликнула она, ничем не подготовленная к восприятию стремительного водопада чувств, обрушившегося на нее потоками истинного восторга. – Мне страшно…
– Доверься мне, моя звезда! Просто отдайся урагану, который бушует внутри тебя, пари вместе с ним, ты познаешь миг наивысшего наслаждения. Перестань думать. Просто отдайся своим чувствам. Они не подведут.
Внезапно Саддам словно взбесился: движения его стали яростными и исступленными. Малика приподнялась, чтобы не отстать от него, и вдруг поняла, что ураганом для нее был сам Саддам, и она мчалась, уносимая вихрем в неизведанную даль к новым открытиям и ощущениям. Его тело покрылось мелкими блестящими капельками пота, дыхание стало прерывистым и тяжелым. Ему невыносимо было думать, что Малика остается позади него, однако сдерживать могучий поток он больше не мог.
Это было безмерное наслаждение, в погоне за которым она промчалась в вихре урагана через боль в неизведанную даль, к вершинам неземного блаженства и сладкой неги.
Саддам уловил по бессознательным движениям Малики момент, когда она взлетела на вершину и начала парить над бездной наслаждения. И только тогда он позволил своей страсти перейти в бешеный галоп и покорить вожделенную высоту.
Макама шестнадцатая
Шимас закончил чтение и отложил свиток. Старшина писцов стоял рядом, склонившись в подобострастном поклоне.
– Да, почтенный, картина невеселая…
– Увы, великий визирь, более чем невеселая. Я не сразу поверил собственным глазам. Но тем не менее здесь нет ни слова лжи.
– О, в этом я и не сомневаюсь. Кто, кроме тебя, знает об этом?
– Вся картина целиком известна одному лишь мне. Когда я стал составлять проект этой записки, то понял, что должен буду написать ее сам. Никто из моих людей не знает, что он делал и для кого.
– Ну-у, уважаемый, это излишне, здесь нет и не может быть никакой тайны. Просто новый визирь хочет разобраться с делами.
– О да, мудрейший, именно так.
– Думаю, что каждому из тех, кто вместе с тобой работал над этим поучительным документом, следует передать мой низкий поклон. Скажи, что новый визирь поражен скоростью, с которой была составлена записка. Да припиши к жалованию за этот месяц наградные. И не скупись, прошу тебя!
– Наградные, великий визирь?
– Конечно – люди много и тяжело трудились. Да и себя не забудь. Мне нужны свои люди везде…
– Слушаю и повинуюсь! – Лицо старшины писцов, казалось, засияло изнутри. – Поверь, о мудрейший, нет человека, более преданного тебе и великому халифу Салеху из рода Ас-Юсефов.
Шимас позволил себе милостиво улыбнуться этому усердному человеку. Сейчас он почти не морщился, видя вокруг подобострастные улыбки и низкие поклоны. О нет, привыкнуть к этому он еще не успел. Да и не желал. Но вот чтение удивительного документа, только что представленного усердным до безумия старшиной писцов, заставило его крепко задуматься.
Ибо господа заговорщики оказались куда более серьезными людьми, чем он предполагал. Вернее, некоторые из них. Хотя нет, серьезными их все равно назвать было нельзя… Глупыми, алчными, расчетливыми, сластолюбивыми – но не серьезными.
«Что ж, теперь следует самую малость поинтересоваться вами, о глупцы, вздумавшие низвергать неудобного халифа…»
Высокие палисандровые двери, отделанные широкими медными полосами, торжественно распахнулись перед Шимасом, и церемониймейстер возвестил:
– Великий визирь Шимас, правая рука халифа Салеха Ас-Юсефа, изволил войти в диван!
Шимас опустился на подушки и оглядел поднявшихся при его появлении мудрецов и советников. Оглядел сурово, без малейшей приязни.
– Да восславится мудрость всех, кто сделал мне честь, придя сюда! – проговорил он.
Первый же советник почему-то услышал: «Что, глупцы, воруете?» Но это, конечно, было просто наваждение. И, по установившемуся ритуалу, Хазим ответил за всех:
– И да восславится мудрость того, кто выслушает каждого из нас!
Мудрецы опускались на подушки под тяжелым взглядом визиря. Тот же, хмуро оглядывая советников, внезапно подумал: «Еще не время… Сначала мы чуть поиграем, усердные подданные и мудрецы… А потом уж и…» О нет, визирь Шимас вовсе не был человеком злым или жестоким. Но давным-давно привык воздавать каждому по делам его, забывая о чинах и званиях. А сейчас это было не просто местью – а воистину справедливым наказанием за умышляемое. И потому Шимас решил не церемониться.
– Мудрейшие из мудрых, сегодня я пришел сюда просителем.
Советники с удивлением подняли глаза. Никогда еще не начиналась с таких слов речь визиря. Первый же советник готов был пуститься в пляс – сейчас этот мальчишка подставится так, что сместить его сразу после… о Аллах, смещения халифа, станет сущим пустяком.
«Должно быть, решил денег просить…» – подумал Хазим и приглашающе кивнул Шимасу.
– Один из вас, весьма и весьма радеющий о добром имени нашей страны, о ее будущем, составил проект, который я хочу представить на суд высокого дивана.
Попечитель заведений призрения гордо выпрямился на своем месте. О, он готов был взлететь – ибо этот недалекий малый сейчас сделает для него столько, сколько не сделали бы и десятки самых влиятельных друзей.
– Уважаемый попечитель заведений призрения – ибо речь сейчас именно о нем – представил записку, в которой нижайше просит начать строительство еще одного дома призрения. Вернее, приюта для способных юношей. Места, где они бы нашли кров, достойное их воспитание. Мудрейший утверждает, что талантливые юноши сейчас зачастую не имеют возможности учиться не только высоким наукам, но даже самому обычному: письму и счету. По словам уважаемого Ахматуллы, число этих юношей невелико, но все же он, беспокоясь о чести страны, рекомендует не оставлять этих юношей-сирот на улице или у жестоких родственников, а собрать вместе и выучить на благо взрастившей их отчизны.
Ахматулла кивал каждому слову визиря. На губах же первого советника змеилась улыбка. Только полному идиоту она могла бы показаться улыбкой одобрения. Шимас же идиотом себя вовсе не считал, хотя весьма старался, чтобы так считали другие.
– Мне этот проект показался весьма разумным и продуманным. Но все же принимать подобное решение в одиночку я не захотел. Ибо вы, честь и слава страны, ее разум и справедливость, лишь вы одни вправе принять подобное решение.
– Позволишь ли ты, мудрейший?
– О да, Хазим, я жду твоего слова.
– Диван готов согласиться с этим проектом – каждому из нас известны рвение уважаемого Ахматуллы и его особо пристальное внимание, которое он уделяет талантливым юношам…
Шимас кивал, но его ухо отлично расслышало крохотную паузу перед словом «внимание», которую все же сделал первый советник.
– …И ждет одного лишь одобрения великого визиря. Могу только сказать, что достойнейший Ахматулла давно уже готовит этот проект и что каждый из нас прекрасно знаком и с резонами уважаемого попечителя заведений призрения, и с его расчетами.
– Ну что ж, ваше одобрение отрадно для моего слуха. Хочу лишь обратиться к достойному казначею. Что он скажет? Ибо сумма, о которой просит уважаемый Ахматулла, весьма велика. По силам ли будет нашей казне это достойное всякого уважения дело?
Казначей поднялся с подушек. Его узкое личико сложилось в угодливой гримасе, а глаза заблестели.
– Достойный диван, достойный визирь, почтеннейший Ахматулла! Я, как казначей нашей прекрасной страны, считаю подобное начинание более чем правильным. О да, оно потребует немалых вложений. Но любые вложения окупятся, когда талантливые юноши выучатся и вместо нас, седых и согбенных, станут у кормила страны. Ибо нет ничего более достойного, чем готовить себе смену! И это равно справедливо и для мастера, который с малолетства учит сына ремеслу, и для страны, которая (пусть отбирая более чем придирчиво, но все же найдя) готовит смену каждому из сановников, дабы цвела в веках великая и прекрасная страна Аль-Миради!
– Достойные слова. Достойные мысли. Благодарю тебя, уважаемый казначей. Позволю себе еще раз спросить высокий диван – одобряет ли он проект уважаемого Ахматуллы и согласен ли ассигновать на него просимую сумму?
Мудрецы закивали.
– Воистину велика щедрость ваша, о мудрейшие. Она ни в чем не уступает вашей справедливости. И за это я, визирь Шимас, от всего сердца благодарю. Радуйся же, достойный Ахматулла: сегодня весь диван почтил твое радение о будущем страны заслуженной наградой – ты будешь строить новый приют. И уже сейчас я поручаю тебе начать поиск талантливых юношей.
Ахматулла прижал руку к сердцу и поклонился.
– Это величайшая честь для меня, мудрейший из мудрых. Благодарю я и весь диван за то, сколь глубоко вы проникли в суть вещей и сколь точно поняли мои опасения за судьбу несчастных, выброшенных за порог жизни юношей…
– Достойный Мурад, тебя я прошу записать сегодняшнее единогласное решение дивана. Тебе, первый советник по зодчеству, я повелеваю принять на себя все заботы, связанные с сооружением приюта. Я постараюсь следить за тем, сколь быстро он вырастет и сколь успешно будут учиться там талантливые юноши, будущее нашей страны.
Советники и мудрецы вновь кивали. На их глазах совершалось настоящее чудо – визирь, тупой и недалекий верзила, запутывался в хитро расставленных силках.
– Почтенный Ахматулла, также я прошу тебя, пока строительство приюта еще не окончено, заботиться об отобранных юношах. Быть может, понадобится дать им кров; быть может, необходимо будет показать кого-то лекарям. Не скупись, ибо ты станешь заботиться о будущем державы.
Ахматулла поклонился еще ниже. На губах его играла улыбка, которую только слепой болван не назвал бы улыбкой сладостного предвкушения. О да, теперь он может вполне законно, более того, по велению дивана и визиря, населить свой дом мальчиками… Которые, конечно, являются будущим страны, но и сейчас уже могут удовлетворить утонченные вкусы самого Ахматуллы.
Шимас сделал вид, что собирается покинуть диван. И разумный Мурад, который теперь был готов броситься за Шимасом даже в жерло вулкана, правильно истолковал его намерение.
Он встал и, сделав шаг вперед, низко поклонился визирю.
– Прости ничтожного раба, мудрейший. Но сегодня в комнату писцов стража доставила мальчишку, который дрожал и плакал. Он сказал лишь, что сбежал из какого-то скверного дома, и больше не промолвил ни слова. Быть может, этот несчастный сможет отправиться с уважаемым Ахматуллой – нельзя же, в самом деле, наказать его лишь за то, что он решил спасти свою жизнь.
– Вели стражникам привести сюда мальчика. Мы выслушаем его и примем решение. Быть может, у достойного попечителя уже сегодня появится первый опекаемый юноша.
Ахматулла исправно кивал, ничуть не меняясь в лице. Столь же благостно кивал и улыбался первый советник.
Послышались тяжелые шаги стражи, и вместе с двумя дюжими воинами в диван робко вошел мальчишка. Его нельзя было назвать изможденным и несчастным, но более всего разумно было бы сказать, что он весьма запуган и определенно чего-то боится.
– Ну что ж, малыш, – благодушно заговорил Шимас, – расскажи-ка нам, почему ты…
Но мальчик не слышал слов визиря. Он испуганно поднял глаза на сидящих вокруг суровых мужчин и вдруг закричал:
– Это он, он! Я же просил, спасите меня… А вы решили отдать меня ему!
– Кто он, малыш? И почему ты так кричишь? – вполголоса спросил визирь. Увы, он прекрасно знал, о ком говорит беглец.
– Этот презренный держал в подвале меня и еще четверых мальчишек… Я убежал, когда его слуга вел меня к нему в опочивальню… Он… он бьет нас! А потом заставляет выполнять все… все свои прихоти…
Мальчишка залился слезами и уткнулся в живот стражника. Диван молчал. Позеленевший Ахматулла вскочил и закричал:
– Я вижу этого гаденыша первый раз в жизни! Все это клевета! Я буду жаловаться халифу!
Но диван молчал. Никто и пальцем не пошевелил, чтобы поддержать никчемного попечителя.
Тогда заговорил визирь:
– Стража, увести малыша! Достойный Мурад, проследи, чтобы его отправили в мой дом.
Когда старшина писцов вышел, Шимас обвел глазами собрание и остановил свой взгляд на окаменевшем Ахматулле.
– О мудрецы… Должно быть, я что-то неверно понял, но… Выходит, что мы сейчас, всего несколько минут назад, выдали немалые деньги ничтожному из ничтожнейших, растлителю малолетних?
Диван молчал.
«Одним меньше», – подумал Шимас и еще раз обвел глазами безмолвных мудрецов.
Макама семнадцатая
Халида неторопливо шла по узенькой улице Яблонь. Она бы торопилась, конечно, но сил у нее уже почти не осталось – ведь сегодня она обежала, должно быть, полгорода. Сначала вместе с Заирой перенесла ее многочисленные пожитки в дом родителей Заиры. Потом, сопровождаемая все той же Заирой, нашла Саиду и провела в беседе с ней не один час. Потом… О, потом она наконец добралась до собственного дома. Но и там не осталась надолго – пора было проучить сластолюбивого Сулеймана, коллекционировавшего красавиц, словно драгоценные камни.
О, как скривился вчера вечером Шимас, когда Халида рассказала ему о проделках «жениха»-звездочета!
– Да, моя красавица, достойные же люди украшают наш диван…
– Достойные? Ничтожные, ты хотел сказать… Презренные!
– Не кричи, Халида. Конечно, ничтожные. Без сомнения, презренные. Я бы даже сказал – отвратительные. Но наш гнев ничего не изменит. А потому не тревожь свое сердечко.
– Но надо же что-то делать, Шимас!
– Надо, не спорю. Но делать спокойно. Мы же и так знаем, что подлость этих людей более чем велика. И что благородство никогда не посещало их сердца.
– Меня удивляет твое равнодушие, о муж мой.
– Нет, прекрасная жена моя, я вовсе не равнодушен. Более того, я возмущен. Но не удивлен. А потому могу спокойно обдумать все, что знаю сам, и все, что только мгновение назад рассказала мне ты. Для того чтобы эти людишки получили по заслугам.
Халида наконец улыбнулась и опустилась на подушки.
– Мне показалось на миг, что ты позволишь им выйти сухими из воды.
– О нет, моя красавица. Столь далеко мое равнодушие не распространяется. Каждый получит именно то, что заслужил…
– А что получишь ты? Благодарность халифа?
Шимас улыбнулся.
– Благодарность халифа… Воистину, это вещь неплохая. Но зачем она мне?
– Но Салех же должен знать, что ты пытаешься предотвратить заговор, обезоружить заговорщиков…
– О нет, не должен. У него и без того горы забот. Ответственность за всю страну – груз более чем тяжкий. А заговор… Ну что же я буду за визирь, если о каждой мелочи и глупости буду докладывать повелителю, надеясь, что он решит все проблемы…
Халида вздохнула. Она уже отлично выучила эту черту характера своего мужа – полагаться в первую очередь на собственные силы и собственный острый разум.
– Но ведь заговор…
– Малышка, это не заговор. Это детская игра… Пятеро недостойных, устрашившихся перемен и предвидящих скорый конец своего ленивого безделья, решили уничтожить халифа. Они не наняли профессионального убийцу, они даже толком ничего не узнали о халифе… Они нашли здоровенного деревенского парня, неотесанного болтуна, и велели ему избавить их от грядущих расправ. Эти недоумки не заплатили лжефранку даже медного фельса… Какой же это заговор?..
– О да, мой умный муж, заговор это более чем убогий. Но все же следует как-то обезопасить халифа.
– Девочка, я открою тебе тайну – наш халиф сам себе охрана вовсе неплохая. Не зря же он два долгих года провел на войне. Поверь, я был рядом, я видел, каков наш халиф в деле, когда ему грозит настоящая, а не игрушечная опасность.
– А ты, мой прекрасный? Ты тоже таков?
– Конечно, моя звезда. Я был рядом с Салехом и кое-чему научился и от него, и вместе с ним.
– Это отрадно. Но все же я неспокойна. Ибо эти, пусть глупые, но все же заговорщики, ведь могут в один прекрасный день поумнеть. Что же мы тогда будем делать?
– Мы, моя греза, – Шимас поцеловал жену в кончик носа, – просто не будем столь долго ждать… Мы постараемся сделать так, чтобы эти недоумки так и остались унылыми и неумными дурачками.
– О, это так чудесно звучит. Но как это сделать?
– А вот об этом мы сейчас с тобой и подумаем… Полагаю, ты бы не хотела остаться в стороне, когда будет наказан «жених» Сулейман?
– Да я убить его готова!..
– Не надо. Это, конечно, удовольствие, но, поверь, моя красавица, одноразовое.
Халида с опаской посмотрела на мужа.
– Не бойся, я просто шучу. Убить можно один раз, а вот ославить, выставить ничтожным… О, это куда более… наглядное наказание. Да и более действенное – ибо слухи подобны настоящему яду. Они будут следовать за человеком долго и не оставят от его гордости ни следа. Разве это не достойная кара?
– Мой любимый, но как это сделать?
– Просто не мешай разгореться скандалу, моя красавица…
– И все?
– Нет, конечно. Но, думаю, будет вполне достаточно, если ты подскажешь этой своей подружке…
– Заире?
– Да, Заире… Чтобы она отправилась к жене Сулеймана. А другая подружка пусть в это время принимает у себя этого недостойного… И все… Больше для него ничего не потребуется. Он останется живым и здоровым. Но будет уничтожен.
– Воистину твой разум изворотлив, о муж мой…
– Нет, моя греза. Я просто подумал, что сейчас следует вести себя так, как повела бы себя женщина.
Халида нежно улыбнулась мужу. «О да, ни одному мужчине не сравниться с женщиной и ее поистине дьявольским коварством!»
И вчера больше не было сказано ни слова. Шимас прекрасно знал, что Халида преотлично запомнила каждое его слово и готова на все, чтобы уничтожить звездочета, воистину жалкого и не достойного великого своего имени[3].
Вот поэтому сейчас она неторопливо шла по узкой улице Яблонь к дому Сулеймана. Заира должна была уже прибежать от Саиды, но пока ее не было видно. Наконец мимо Халиды прошествовал, неся свое обширное чрево и не глядя по сторонам, звездочет халифа, достойный и уважаемый Сулейман.
Едва он скрылся за поворотом, как Халида заметила почти у самого дома звездочета свою приятельницу. Та появилась, словно призрак, неизвестно откуда. И теперь мерила шагами дорожку, что вела к калитке и на женскую половину дома.
– Ну где ты ходишь, дурочка?! – прошипела она. – Я тут чуть с ума не сошла, когда этот боров почти задел меня полой своего халата. Стою-стою… А тебя все нет.
– Ну прости, дорогая. – Халида решила не оправдываться. – Я немного задержалась. Скажи мне, ты готова к тому, что будет дальше?
– Да говорю же – я мечтаю об этом. Саида – ты не поверишь – смеялась как ненормальная. Она тоже уже не знает, куда деваться от этого вонючего бурдюка… Славная сегодня будет встреча…
– О да. Но боюсь, что нам не удастся сразу убедить его жену…
– А я думаю, что убедить ее будет легче легкого. Поспорим?
– Нет, – рассмеялась Халида. – Я лучше полюбуюсь на всю картину…
– О да. Думаю, ты не раз посмеешься. – Девушка сжала руку приятельницы. – Но неужели все так просто? Неужели еще немного – и я стану свободной? Я смогу вновь распоряжаться своей жизнью.
– Думаю, что ею будут вновь распоряжаться твои родители.
– О нет. Они до сих пор не могут прийти в себя от возмущения и стыда. Ну что, пора?
– Да, должно быть, пора.
И девушки зашагали по тропинке, которой обычно пользовались торговцы и лекари.
– А если она все же не поверит? – шепотом спросила Халида.
– Она? Не поверит? Да ты шутишь… Хотя нет, лучше послушай меня. И ты все поймешь.
Заира решительно постучала в богато украшенную дверь. Потом постучала еще раз. Наконец на пороге показалась весьма пожилая женщина.
– Нам ничего не надо!
– Прости нас, добрая женщина, но у меня счет для твоей госпожи. Я могу уйти, но, думаю, она будет более чем недовольна, если ты прогонишь нас…
– Моя госпожа отправилась почивать! И не буду я ее сейчас будить ради какой-то бумажки!
– И сразу перестанешь быть верной слугой своей госпожи. Клянусь, если она узнает, что ты не пускала нас дальше порога, она выгонит тебя в толчки. И ославит лентяйкой и белоручкой!
– Да как ты, негодная, смеешь обо мне такое говорить?
О, конечно, служанка заговорила куда громче обычного, более того, она закричала. И тут же из глубины дома донесся недовольный женский голос:
– Ну что ты кричишь, Фатима? Я же приказала молчать… Голова болит, а весь дом полон криков, будто базар…
Вскоре показалась и обладательница этого недовольного голоса – невысокая, но весьма тучная женщина, которая и впрямь прижимала к голове влажный платок.
– Кто эти девчонки, Фатима? Почему они торчат на пороге нашего дома? И почему ты все же кричишь?
– Прости меня, добрая госпожа, не ты ли хозяйка этого прекрасного дома, жена достойнейшего и уважаемого Сулеймана?
– Ох, опять эти глупые торговки… Да! – Лицо жены Сулеймана стало надменным и злым. – Да! Я хозяйка этого дома. И я требую, чтобы вы убирались прочь. Нам ничего не надо…
– Прости меня стократно, добрая госпожа, я ничего не предлагаю. Моя госпожа просто велела мне передать тебе вот это…
И Заира с усилием всунула листок в полураскрытую ладонь негостеприимной хозяйки дома.
– Что это? – Лицо жены Сулеймана наполнилось презрением более, чем это можно себе представить. Еще миг, и отвращение переросло бы в гадливость.
– Это счет от знахарки, добрая госпожа. Моя хозяйка просила передать его твоему мужу или тебе.
– От знахарки? Какой знахарки?
– Достойная Алия пользует мою хозяйку и наблюдает за тем, как славно растет ее будущий сынок. Но теперь все так недешево… Вот поэтому моя хозяйка и передает этот счет твоему уважаемому мужу – ведь малыш-то от него. Пусть он поможет хоть самую малость…
– Какой сынок? Какая знахарка?
– Я же говорю, – продолжила Заира как ни в чем не бывало. – Хозяйка моя, уважаемая Саида, ожидает сыночка. А отец-то малыша – почтеннейший Сулейман, да хранит его Аллах всесильный и всемилостивый сто раз по сто лет! Алия – знахарка хорошая, можно сказать даже – самая лучшая, вот только берет очень дорого. Поэтому моя добрая хозяйка и попросила меня отнести…
О да, больше можно было ничего не говорить. Лицо жены Сулеймана стало сначала румяным, потом красным, а потом и вовсе багровым.
– Пошли вон, попрошайки! – Женщина бросила наземь листок и не снижая тона прокричала: – Где живет это подлая дрянь, которая послала тебя, дурочка? Я сама отнесу ей деньги! О, так отнесу, что она не обрадуется!
– На улице Весенних снов, моя госпожа… – Заира опустила глаза, чтобы не было видно их блеска. – Дом за зеленым дувалом…
И тихонько отступила в сторону. Дверь с грохотом распахнулась, и уважаемая хозяйка дома на улице Яблонь, почтенная жена достойнейшего Сулеймана побежала по улице с криком, который сделал бы честь бывалому муэдзину. За ней спешили ее служанки.
– А ты, дурочка, говорила, что не поверит…
– Ох, Заира, я едва не умерла, – рассмеялась Халида. – Сначала от страха, а потом от смеха…
– А теперь нам осталось только посмотреть на встречу этих любящих супругов. Не бойся, я знаю короткую дорогу…
И девушки поспешили вслед за женой Сулеймана.
Макама восемнадцатая
Саида придумала новую игру и сейчас пыталась сосредоточиться на ней. Но, увы, мысли ее были заняты тем, что вскоре должно было произойти. Сулейман же, воодушевленный очередной задумкой девушки, воистину пылал нешуточным желанием, всерьез чувствуя боль от едва затянувшейся раны и предвкушение от познания новых сторон страсти, которые может даровать ему его теперь уже «молодая жена» Саида.
Эта удивительная девушка воистину была мастерица придумок. Она сочинила целую историю, вернее, две истории – свою и своего теперь уже мужа, которым должен был, пусть ненадолго, стать Сулейман.
Она придумала выдавать себя за опытную женщину с немалым чувственным опытом, женщину с пылким возлюбленным, который и лишил ее в свое время девственности. Потом этот возлюбленный пропал, но она оставалась верна ему. Сулейман же, когда брал ее в жены, отлично знал о том, что некогда его любимая принадлежала другому. Но пылкая страсть оказалась сильнее – и Саида все же стала его женой. Вскоре обман вскрылся, ибо возлюбленный оказался лишь плодом фантазий пылкой девушки, а весь ее опыт был взят из книг. О, тогда, конечно, ее муж понял, что сумел сделать правильный выбор, взяв ее в жены и защитив ее честное имя.
– Воистину, прекраснейшая, твои задумки так разнообразны. Так удивительно изощренны. И что – сейчас у этих двоих наступает брачная ночь?
– О да, – кивнула Саида. – Но помни – ты, благороднейший, ощущаешь боль вот в этой ноге. Тебе даже стоять больно… Да не торопись так!
Ибо, увы, Сулейман уже поторопился – он сбросил кафтан и распустил завязки на шароварах… Выдвинув стул, он уселся на него и почти заставил ее опуститься к нему на колени. Из его шаровар виднелось то, что должно было и страшить, и смущать, и притягивать ее. К своему собственному изумлению, она почувствовала, что боится. Боится именно так, как следует бояться юной девушке сурового и опытного мужа.
Также ей следовало помнить и о ране на левой ноге. А потому Саида, отводя глаза от пылающего страстью Сулеймана, пробормотала:
– Она уже вас больше не тревожит… Рана?
На что он хвастливо (как ей показалось) ответил:
– Во всяком случае, не настолько, чтобы помешать мне быть мужчиной.
То, что она снова увидела, робко подняв глаза, всецело подтверждало его слова. Она осторожно опустилась на его правое колено, чтобы не потревожить рану, однако он усадил ее лицом к себе и на обе ноги, и она, вздрогнув, сразу ощутила, сколь сильно он жаждет ее.
– Ты моя жена, красавица…
«О, он отлично запомнил свою роль…»
– …И теперь я преподам тебе первый из уроков любви…
Она продолжала сидеть неподвижно, когда его пальцы начали умело расстегивать крючки на ее платье.
– Расслабься, – сказал он, ощущая напряженность ее тела. – Я не собираюсь принуждать тебя делать то, чего ты не захочешь.
Она не могла расслабиться. Жар тела усиливался, и она сейчас думала лишь о том, что должно произойти: это чуть подрагивающее копье вновь проникнет в нее, заполнит целиком…
Сулейман наклонился вперед и легко прикоснулся губами к ее шее, к тому месту, где пульсировала жилка. Короткая ласка вызвала у нее дрожь.
– Сбрось кафтан, – шепнул Сулейман.
После недолгого колебания она подчинилась, и он начал целовать ее грудь, прикрытую лишь тонкой сорочкой.
– Сбрось и ее тоже, – произнес он чуть погодя.
Обнаженная до пояса, она продолжала сидеть у него на коленях к нему лицом, и он взглядом, пальцами, губами притрагивался к каждой частичке ее тела.
– О, как же ты прекрасна, – произнес он чуть охрипшим голосом. – О твоей груди царь Соломон спел бы не одну песнь. Твои соски тверды, они призывают целовать их. Ты хочешь этого?
Прикрыв глаза, Саида молча кивнула.
– Тогда предложи… протяни их мне.
В его голосе был ласковый приказ. Она открыла глаза. Он пристально смотрел на нее, и в его взгляде был вызов. Она, кажется, начала понимать: он хочет, чтобы она была не робкой невестой, а жаждущей женщиной. Быть может, более агрессивной, или как они, мужчины, это называют? Более сластолюбивой, умелой…
Но если он воображает, что может напугать ее, то ошибается. И насмехаться над собой она тоже не позволит!..
«О, как жаль, – подумала Саида, – что женщины не бывают лицедеями!..» – ибо сейчас она полностью превратилась в другого человека, в другую женщину. И даже мысли ее стали мыслями этой, спасенной и невинной красавицы.
– Ох, – услышала она голос Сулеймана. К счастью, в нем не было ни насмешки, ни раздражения. Скорее легкое сожаление. – Вижу, ты не вполне подходишь на роль настоящей возлюбленной.
Напряжение оставило ее, появилась досада, которая исторгла из нее такие слова:
– Полагаю, твои любовницы более чем умелы и куда лучше подходят на эту роль.
Сулейман смерил ее спокойным взглядом.
– Сейчас речь не о моих любовницах, ибо их нет. Сейчас речь о том недостойном, который так и не насладился твоим телом. Был ли он хорош? Наслаждалась ли ты им и каждым мигом, когда отдавалась ему?
– Да, – с вызовом бросила она.
– Ну вот и отлично. Тогда вообрази меня на его месте. Представь, что я – это он, твой возлюбленный, и предложи мне, как я просил, твои груди.
Саида уже полностью перевоплотилась в эту неизвестную, которая никогда не знала мужчины, но выдавала себя за опытную и даже прожженную любовницу, и ее с новой, еще большей силой охватила дрожь возбуждения.
Да, перед нею он, ее прекрасный, ее любимый; тот, кто похитил ее сердце и душу, кто благороден, смел, красив, чьи желания она безропотно исполняла во сне и кто доставлял ей столько услады в ее скучной, печальной жизни.
Закрыв глаза, словно погрузившись в сон, она выполнила то, о чем ей было сказано: приподняла руками груди, притронулась пальцами к соскам.
Сулейман молчал. Она удивленно раскрыла глаза, и увидела его торжествующую улыбку. С этой же улыбкой он произнес:
– Теперь скажи: прошу тебя, любимый, поцелуй мою грудь.
– Сулейман!.. – вырвалось у нее, но он, словно не услышав ее возмущенного возгласа, повторил:
– Скажи эти слова, прекраснейшая.
– Прошу тебя… поцелуй мою грудь…
– Любимый, – подсказал он.
– Любимый.
– С наслаждением, о моя греза, – ответил он удовлетворенно и, наклонившись, выполнил то, о чем она сказала.
Он касался ее груди губами, языком, даже зубами, и она не могла и не хотела противиться наслаждению, которое разливалось по всему ее телу. Погрузив руки в его волосы, она сильнее притягивала к себе его голову.
Несколькими мгновениями позже она ощутила его пальцы у себя между ног, и новая волна дрожи пронизала ее.
– Ощути сама, – глухо проговорил он, – как ты жаждешь… как ты ждешь меня.
Она и без того все прекрасно чувчствовала, ибо и там все взывало к нему. Но Сулейман не удовлетворился тем, что ощутил сам. Он взял Саиду за руку и принудил почувствовать влажность, припухлость и жар ее собственного лона, а затем проник пальцами вглубь сокровенного. Ей показалось, она теряет сознание и последние силы, она ощутила боль, с ее губ сорвался невольный стон. «Как близко стоят друг к другу наслаждение и мука», – мелькнуло у нее в голове.
Сколько времени длилось это ощущение, она не знала, потеряв счет минутам, часам, дням…
– Думаю, ты готова принять меня, – услышала она его слова, вслед за которыми он поднял ее со своих колен и усадил на край стола, а затем осторожно опустил навзничь. Было жестко и неуютно, но она вряд ли чувствовала неудобства, продолжая исступленно ожидать того, что должно свершиться.
Обнажив ее ноги, Сулейман некоторое время любовался открывшейся ему картиной, как художник или скульптор – произведением рук своих. Потом склонился над ней, и она, разгадав его намерение, издала протестующий звук и попыталась подняться, но он удержал ее, серьезно спросив:
– Разве твой возлюбленный не ласкал тебя всеми дозволенными способами?
Она ничего не отвечала, и он резко повторил:
– Ласкал или нет?
– Да! – выкрикнула она запальчиво.
Он нагнулся еще ниже, обдавая жарким дыханием ее раскрытое до предела лоно.
– Тогда не лишай меня того, что ты позволяла другому.
И с первым же прикосновением его губ она позабыла обо всем: о своем смущении, о том, что Сулейман бывает чрезмерно настойчив, раздражающе упрям, неблагодарен… Все это куда-то ушло, осталось позади… Ей сделалось совершенно безразлично какой он, как себя ведет и как себя ведет она, потому что все ее существо было охвачено чувством неизъяснимого наслаждения и стремилось навстречу ему, своему сейчас призрачному возлюбленному, навстречу его губам, рукам, языку…
Ощущение блаженства сотрясало ее. Такого она не знала ни в одном из своих сновидений. Оно переполняло ее настолько, что становилось страшно, и, помимо воли, она попыталась уйти от его губ, от его языка.
Однако он не позволил этого, крепко придерживая за бедра, продолжая ввергать в сладострастные муки. Еще немного – и она очутилась на вершине блаженства, о чем возвестил вырвавшийся у нее стон; ей показалось, что перед глазами вспыхнул непереносимо яркий свет. Затем все погрузилось в непроглядную ночь. Тело ослабло, ей стало холодно, не хватало воздуха, она совсем обессилела. Тем не менее, к собственному удивлению, она ощущала легкую неудовлетворенность. Ей хотелось, чтобы к чувству, которое она сейчас испытала, примешалось сходное чувство Сулеймана. И пусть это всего лишь очередная игра, пусть, о Аллах всесильный, это последняя придуманная ею игра, но пусть и он насладится… Или даст ей еще наслаждение. Она заслужила его… Она заслужила всего!
– Войди в меня, – прошептала она.
Однако он не внял ее призыву, а, напротив, отпрянул от нее и начал снимать с себя остатки одежды. Приподнявшись на своем жестком, неудобном ложе, она смотрела на него. В горле у нее пересохло, она снова чувствовала тягучую боль внизу живота; все, о чем могла она сейчас думать, чего желать, сосредоточилось на одном: на мучительном, остром желании ощутить его в себе.
К ее невыразимому облегчению, он думал о том же и уже снова направлялся к ней. В свете немногих свечей блеск его темных глаз казался угрожающим, по-особому притягательным. Он улыбнулся, и блеск погас. Он уже был рядом, она могла дотронуться до его тела, ощутить слегка дрожащими пальцами жар чуть влажной кожи, ее запах. О Аллах всесильный, и это тело, и этот запах более никогда не будут докучать ей… Какое счастье! Ну, вот еще один, последний раз… и все, она будет свободна. А сейчас путь закончит начатое!
– Хочешь меня? – отчетливо спросил он, притягивая ее к себе.
– Да, хочу, – вырвалось у нее, хотя она понимала: слова сейчас совершенно ни к чему.
Она послушно подчинилась, когда он снова опрокинул ее на твердую столешницу, и ждала одного, только одного… Дольше она терпеть не могла…
Она вздохнула с облегчением, когда это произошло.
– Ты можешь принять всего меня? – услышала она его хриплый шепот.
– Да, – выдохнула она, с восторгом ощущая его в себе.
Он приостановился, давая ей возможность привыкнуть к этому ощущению, приспособиться к нему, и произнес с той же хрипотцой:
– Хочу раствориться в тебе, как в диком жарком меде…
Она успела удивиться его словам, столь не похожим на слова ее тучного, с одышкой, возлюбленного, но тут же забыла обо всем.
Он целовал ее, проникая языком внутрь рта, до боли стискивал ее груди, но она не страшилась, ей хотелось этого. Вот он уже начал совершать внутри нее пульсирующие движения, которые отзывались во всем теле, в сердце, в душе…
Чувствуя, что она недалека от высшей точки наслаждения, когда он будет уже не в силах контролировать себя, Сулейман приподнял девушку, стараясь при этом не покидать ее тела, и сделал шаг к ложу.
И едва она опустилась на шелка, едва опустился он сам, как это свершилось. Волна обжигающих чувств накрыла их обоих и вынесла за пределы привычного мира.
«Какое счастье, что я согласилась… Пусть и в последний раз… Жаль, что он не может быть таким всегда… Прощай, глупый Сулейман, собиратель женщин…»
– О, какая сегодня моя птичечка веселенькая, какую славную игру придумала моя красотулечка… А довольна ли сегодня моя птичечка своим птенчиком? А почему моя птичечка уже оделась? Она не хочет больше лю-лю?
Но Саида ничего не успела ответить. Где-то хлопнула дверь, потом еще одна, потом быстрые шаги послышались у самых дверей опочивальни.
«О нет, я больше не хочу ничего… Ты совершил уже все, что мог – и хорошее и дурное. Думаю, и тебе, «мой птенчик», больше никогда и ничего не захочется!» И Саида тихо встала, чтобы успеть ускользнуть в соседнюю комнату.
И тут дверь в опочивальню с грохотом распахнулась. На пороге стояла тучная низкорослая ханым в скверно заколотом хиджабе и с колотушкой в руках. Она, должно быть, не была готова к открывшемуся перед ней зрелищу – огромному разгромленному ложу, на котором изволил развалиться в блаженной неге ее супруг. К счастью, поднять голову и окинуть взглядом помещение она сразу не сообразила, а когда все же попыталась найти разлучницу, дверь в соседнюю комнату была закрыта. Саида, стараясь двигаться бесшумно, спешила к задним дверям домика, который уже не считала своим.
Краем глаза она заметила два знакомых силуэта – Халида и Заира спешили полюбоваться на ссору достойного Сулеймана и его нежной супруги.
Объяснение меж тем разгорелось не на шутку. За зычным голосом жены звездочета голоса его самого слышно не было. Зато хорошо были слышны звуки, поразительно похожие на удары по тучному телу. И слышались иногда вскрики, увы, совершенно непохожие на вздохи страсти, а более всего напоминающие крики боли.
– Ох, сестры, что-то не хочется мне тут долго оставаться, – пробормотала Саида.
– Да, пора, наверное, оставить голубков. Пусть воркуют сами, – согласно кивнула и Халида.
Но Заира слушала этот скандал, полузакрыв глаза, и на лице ее было написано искреннее удовольствие.
– Ах, дорогие мои подружки, – проговорила она, – я мечтала об этом весь последний год. Ну давайте послушаем еще немножко!..
Саида рассмеялась и потащила девушку по дорожке прочь.
– Не завидуй, добрая моя Заира, пусть себе ссорятся.
– О да… Как я сейчас завидую его жене… О, как завидую!
– Что, тебе тоже хочется поискать ребра на его жирном теле?
– Да я убить его готова! – внезапно со злостью сказала Заира. – Он украл у меня три долгих года! Он украл у меня веру в любовь! Я, должно быть, никогда больше не смогу поверить ни в чьи чувства. Так и умру одинокой злой старухой…
– Ну-у, сестричка. Не стоит так говорить. И убивать этого мерзкого слизняка тоже не надо. Во-первых, лучше, чем его жена, ты этого сделать не сможешь, а во-вторых…
Но что во-вторых, она договорить не успела. Двери бывшего гнездышка «птичечки» распахнулись, и звездочет, тряся телесами и придерживая у чресл нечто, напоминавшее половину его собственных шаровар, припустил по улице прочь. Следом за ним, по-прежнему размахивая колотушкой, бежала его нежная и любящая супруга, крича вдогонку донельзя ласковые слова.
От улицы Весенних снов до улицы Яблонь путь был вовсе не близким, и девушки предвкушали удовольствие, с которым весь город будет наблюдать за звездочетом и его женой.
– Жаль, – проговорила Заира, – что стражников позвать не успели…
Халида улыбнулась. Но, конечно, не стала говорить своим приятельницам, что стража была предупреждена. И если Аллах всемилостивый все же позволит звездочету живым добраться до дома, то там его будет ждать недурной сюрприз. Ибо не к лицу правоверному да к тому же мудрецу содержать любовниц… И попасться на этом.
Макама девятнадцатая
Диван молчал.
«Одним меньше», – подумал Шимас и еще раз обвел глазами безмолвных мудрецов. Удивительно, но на их лицах не было ни следа удивления.
– Да будет так, – задумчиво проговорил визирь. – Стража!
«Ого, мудрецы… Так вот кого вы боитесь! Не я вам страшен, а стражники. Пугает вас не ложь или подлость, а сила и глубокие подвалы зиндана. Ну что ж, это и для меня станет отличным уроком!» – Все это пронеслось в голове Шимаса в единый миг. Ибо стоило ему только позвать стражников, как лица советников и мудрецов из равнодушных превратились в наполненные не просто страхом, но даже ужасом.
– Препроводите попечителя заведений призрения в судебную палату. Должно быть, там его уже заждались.
И вновь визирь увидел чудо – лица мудрецов и советников, всего мгновение назад столь напуганные, столь полные паники, вдруг стали просто усталыми лицами людей, которые в тяжких, но праведных трудах провели весь долгий день.
– О Аллах всесильный и всемилостивый, – проговорил Шимас едва слышно, – воистину никаким лицедеям не сравниться с диваном… Да и мне еще многому предстоит научиться у этих уважаемых людей.
Визирь неподвижно восседал на высоких подушках. Мимо него тянулись, выходя, мудрецы. Но заседание на сегодня было еще не закончено.
– Уважаемый казначей, почтенные советники казначея… Нам с вами предстоит еще немного побеседовать.
«Воистину, сегодня удивительный день. Теперь передо мной лицо уважаемого человека, изможденного тяжким трудом, но отдающего все силы на глупые прихоти мальчишки-визиря… И этот уважаемый человек великий лицедей… Жаль только, что он так и останется непризнанным!»
Казначей вновь опустился на свое место. Замерли предупредительно за его спиной и советники казначея. Визирь, щелкнув пальцами, призвал к себе мальчишку-писца.
– Друг мой, приведи сюда старшину писцов.
Мальчишка, поклонившись, бросился исполнять приказание. В диване стояла всеобъемлющая, гулкая, страшная тишина, нарушаемая лишь хриплым дыханием казначея. О, как он был глуп, решив, что сегодня вполне разумно будет все же посетить диван – ведь надо же в присутствии появляться хотя бы изредка. «Аллах всесильный! Лучше бы я этот день провел дома! Или отправился в веселый квартал… Или в долгое странствие!»
Предчувствия редко посещали Исмаила-ага. Но сейчас он был более чем неспокоен; он был не просто встревожен – его била крупная дрожь.
А началось все в тот миг, когда визирь в первый раз обратился к нему с вопросом, хватит ли средств в казне на проект несчастного попечителя заведений призрения, глупого сластолюбца Ахматуллы.
Хотя, по здравом размышлении, визирь был бы полным глупцом, если бы не поинтересовался его, казначея, мнением – или если бы не повелел проверить состояние дел в казне, списки кредиторов и должников. Но о проверке казначей ничего не знал, а потому вопрос визиря застал его врасплох. О, сначала ему показалось, что его велеречивого ответа хватило этому молодому глупцу. Но сейчас… Увы, слишком сосредоточенным был взгляд визиря. Вот поэтому так тяжко билось сердце казначея, поэтому он чуть ослабил ворот шелковой рубахи.
Послышались шаги. Но вместо старшины писцов появился главный стражник дивана. «Счастливец, – вдруг подумал казначей. – Ему не грозит отставка только за то, что он служил еще отцу нынешнего халифа!»
Взор главного стражника дивана был холоден, он спокойно смотрел перед собой, позволив себе не глубокий поклон, а легкий кивок головой.
– Достойный охранитель порядка, уважаемый Искендер! Прошу тебя оставаться здесь, в главном зале для заседаний дивана. После недолгой, но, думаю, весьма содержательной беседы с достойным Исмаилом, почтенным казначеем, я передам тебе другие поручения.
И вновь главный стражник дивана чуть склонился. «Как кукла! – со страхом глядя на него, подумал казначей. – Он не живой человек, а просто деревянная кукла!»
И диван объяла тишина. Исмаил-ага задыхался, ему казалось, что воздуха в пышном зале не осталось вовсе. От Шимаса, конечно, не укрылось паническое состояние казначея. Увы, оно преотлично подтверждало сухие факты, более чем лаконично изложенные в записке старшины писцов, который теперь имел полное право именоваться главным письмоводителем и делопроизводителем дивана.
В распахнутых дверях показалась фигура высокого человека с орлиным профилем и гордым взором.
– Уважаемый Сейид, достойный главный письмоводитель! Благодарю, что ты столь скоро смог явиться на мой зов!
– О мудрейший! Служить тебе – великая честь для меня! – И бывший старшина писцов склонился в низком подобострастном поклоне.
Казначей не верил своим глазам. Кто этот прыщ? Неужели тот невзрачный человечишка с пальцами, вечно вымазанными чернилами? Откуда этот гордый взгляд? Откуда самоуважение и самоуверенность?
«Аллах великий, – пришла в голову казначея простая мысль. – А ведь его уже купил наш недостойный визирь… Купил… Но чем можно было купить этого унылого и трусливого глупца?»
Шимас кивнул и протянул руку, в которую преобразившийся Сейид тут же вложил длинный свиток.
Казначей Исмаил-ага почувствовал, что пол уплывает у него из-под ног.
«Как бы не помер от испуга наш казначей, – подумал Шимас. – Я еще и не начал говорить, а он уже белее стены…»
– Мудрейшие! Тот час, когда недостойный Ахматулла пришел ко мне со своим удивительным проектом, стал для меня воистину часом откровения. Ибо понял я, сколь низко вы оцениваете разум вашего визиря и сколь высоко – ваши собственные знания и положение. О нет, я не стремился к своему нынешнему посту, но, заняв его по велению давнего своего друга, халифа Салеха, не собираюсь оставаться марионеткой глупцов, подобных рекомому Ахматулле.
Каждое негромкое слово было для казначея настоящим раскатом грома. О, как он сейчас жалел, и что пришел сюда сегодня, и что не успел удалиться до того мига, когда его окликнул визирь.
– Поэтому я поручил достойному Сейиду составить рескрипт всех трат казны, опись всех ее хранилищ и списки тех, кто имеет право разрешать любые платы на нужды страны из весомого кошеля оной. Каково же было мое удивление, когда оказалось, что казна, ранее не быстро, но постоянно пополнявшаяся, в последние месяцы все более опустошается. Что приходы перестали покрывать расходы, хотя прекрасная держава Аль-Миради вышла из войны более года назад и теперь лишь мирные заботы тревожат каждого из ее граждан.
Казначей молчал. Шимас же говорил, не поднимая глаз ни на него, ни на его советников. Он даже не мог представить, какая буря бушевала сейчас в душе насмерть перепуганного казначея. Не мог молодой визирь и вообразить, что чувствуют помощники и советники казначея, прекрасно знающие, куда деваются из казны немалые деньги, но произволом Исмаила-ага вынужденные молчать и делать вид, что они слепы и глухи.
– Любопытство мое столь сильно разожгли эти удивительные факты, что я стал вчитываться в каждую строку рескрипта, прибегая к помощи и разъяснениям достойного Сейида каждый раз, когда что-либо вызывало мои недоуменные вопросы…
Казначей не выдержал:
– Это все он! Он! Это он украл из казны налоги… Это он вынес кошель с бесценными черными алмазами… Это он, убийца, оболгал меня… Это он…
– О чем ты, уважаемый Исмаил-ага? О каких налогах? Разве я сказал хоть слово о налогах, почтенные советники? Достойный Сейид? Почтенный начальник стражи? О каких алмазах говоришь ты, казначей?..
И казначей понял, что выдал себя куда раньше, чем его хоть кто-то начал обвинять, куда раньше, чем палец вора и лизоблюда Сейида указал на него, ничтожного с этой минуты Исмаила-ага.
О, каким было молчание визиря! О, как торжествующе горели глаза у помощников казначея, каждый из которых мысленно готовился примерить на себя должность уничтоженного начальника!
– Что же ты молчишь, почтенный ага? О каких алмазах толкуешь? О каких налогах? – В голосе Шимаса теперь не было и следа мягкости и удивления – лишь жестокие нотки властелина.
Казначей лишь низко повесил голову. У него не осталось сил даже опуститься на подушки, и он сейчас чувствовал себя как скверный ученик, выставленный лжецом и неучем перед своими маленькими соратниками.
Терпение же Шимаса тоже иссякло. Он, словно постарев в единый миг на дюжину лет, сгорбился и с отвращением произнес:
– Выведи этого презренного, достойный начальник стражи дивана! До конца разбирательства содержать под арестом. Стеречь как бешеного пса.
И казначей вскинулся. В глазах его мелькнула безумная надежда.
– Ты не смеешь арестовывать меня! Пока что ты ничего не доказал! Это ложь! Нет ни одного доказательства!
– Они найдутся, – спокойно и брезгливо промолвил Шимас. – Вон, шакал!
«О Аллах великий, ну почему он не умер, когда я только начал говорить?» – подумал Шимас. Его тошнило от омерзения, и лишь мысль о том, что вскоре он покинет это отвратительное место, придавала ему силы сдерживаться.
Макама двадцатая
Халида умолкла. Шимас утер слезы.
– Ох, жена моя, я давно так не смеялся. Так, говоришь, прикрывался шароварами?
– Половинкой шаровар, милый, половинкой…
– Да, жаль, что меня там не было.
– Увы, мой супруг, жизнь несправедлива. И не все удовольствия достаются столь легко.
Визирь улыбнулся жене.
– Увы… Но, знаешь, я не очень расстроен.
– Думаю, теперь о звездочете тоже можно забыть?
– О да, моя греза. Теперь их осталось всего трое… А может, и двое… А может, и…
Халида вопросительно посмотрела на Шимаса.
– Я расскажу тебе все. Но сначала идем, я познакомлю тебя с моим давним и добрым другом. Он приехал издалека, но по дороге увидел много воистину преинтереснейшего. И кое о чем уже успел мне рассказать. Думаю, Жаку, бедняге, вскоре придется искать себе хоть какое-то занятие…
Шимас и Халида вошли в главную гостевую комнату, где с удобством расположился гость визиря – высокий и уверенный в себе молодой мужчина. Халиде показалось, что он лишь на пару-тройку лет старше ее мужа.
– Вот, друг мой, знакомься, это Халида, моя добрая супруга. – И, обернувшись к жене, продолжил: – Халида, это Фарух, мой давний друг. Когда-то мы все вместе служили под началом достойнейшего Абдульфакара, усердного командующего и настоящего солдата.
– Приветствую тебя в своем доме, добрый друг! Да снизойдет на тебя благодать Аллаха всесильного!
– Здравствуй и ты, почтенная Халида! Да будет всегда твой дом столь же приветливым и уютным!
– Я помешала вам, почтеннейшие? Прервала вашу беседу?
– О нет, мы просто вспоминали давние дни. Присядь, отдохни. Уважаемый Фарух хочет что-то рассказать мне.
– Так, быть может, я буду мешать?
– О нет, моя звезда! У меня нет от тебя никаких секретов… Говори же, Фарух!
Халида посмотрела на гостя чуть более внимательно. О, он разительно отличался от Шимаса, но что-то в выражении лица или в спокойном взгляде черных глаз напоминало Халиде ее любимого.
«Должно быть, он так же, как мой Шимас, не боится ничего в целом мире… Похоже, что он точно так же привык полагаться в первую очередь на свои силы и на свой разум…»
– Итак, – продолжил свой рассказ гость визиря, – с того дня, когда мы в последний раз встречались, прошло более года. Добрейший Абдульфакар, истинный воин, дал мне рекомендацию к своему давнему соратнику, достойному Аббасу, начальнику стражи моего родного города. Тот принял меня сурово, но, проверив в деле, взял в свой полк. О чем ни он, ни я ни разу не пожалели. Не могу сказать, что служба моя тяжела, но городок наш приграничный, и потому всегда следует держать ухо востро.
– О, мой друг, и это говоришь ты… Не тебя ли у нас звали Фарухом-Лисой? Не ты ли держишь ухо востро всегда?
– Ты прав, Шимас. Эта служба как раз по мне. И лишь в отлучках я становлюсь не таким бдительным, хотя и расслабляться себе позволить все равно не могу. Да, наверное, этому не научусь уже никогда. Ибо везде и всегда я вижу недоговоренности, обломки истины… Словно всегда и везде я обречен складывать из мозаики дней картины истины…
Шимас склонился к жене.
– Фарух-хитрец всегда умел говорить красиво. И делать вид, что он несчастнейший из мужчин, у него тоже всегда получалось превосходно…
И Фарух рассмеялся, кивая.
– О да… Женщины без слез меня слушать просто не могут… Клянусь, что глаза твоей прекрасной жены уже исполнились жалости ко мне!
– Довольно, болтун. Не за тем же ты искал мой дом, чтобы вызвать рыдания у моей мудрой супруги…
– О нет, – кивнул Фарух, – вовсе не за этим. Я искал тебя, друг мой, чтобы поведать историю, которую в свою очередь поведал мне мой земляк, внук мудрейшего книжника и уважаемого в городе мудреца; юноша, которого я встретил на вашем шумном базаре в рядах медников, где он продает блюда и кувшины изумительной красоты и изящества.
Юношу этого знал весь наш город. Ибо молодой Амин, несмотря на свой юный возраст, был лучшим в городе кузнецом и медником, талантливым и уверенным человеком. Все изменилось в тот день, когда умерла его матушка, уважаемая госпожа Малика, женщина больших душевных сил, растившая сына сама. Юношу словно подменили. Он решил продать мастерскую и отправиться сюда, в столицу. Стремление его было столь велико, что с большим трудом родне и друзьям удалось уговорить его ничего не продавать, а в столицу отправиться с поручением от всего города – продать на столичном щедром базаре все, что может предложить наш небольшой городок, и прославить нашу тихую родину своим замечательным искусством.
Амин внял мудрым советам и отправился в столицу. И здесь я увидел его, опечаленного и озадаченного. Ибо он, как оказалось, ведом вовсе не интересами нашего городка, его цель совсем иная – матушка перед смертью передала ему записку для человека, который, как оказалось, вовсе не умер, оставив достойную госпожу Малику с крохой сыном на руках. Ее возлюбленный, отец Амина, был учеником сначала в медресе, а потом собирался стать кади. И вот теперь молодой Амин ищет возможности встретиться с верховным судьей страны, почтенным Саддамом, для того чтобы передать предсмертное письмо матери.
– Встретиться с уважаемым кади Саддамом? – переспросил Шимас.
Халида готова была поклясться, что такого выражения лица она не видела у мужа никогда. Смесь удовольствия и гадливости, радость от выигранной партии и досада, что игра закончилась слишком быстро…
– О да, с кади Саддамом… Амин прекрасно понимает, что кади слишком занятой человек, что передать письмо от матери такому высокому сановнику воистину невозможно. И потому ищет посредников, которые могут помочь в этом.
– Разумный юноша. И поэтому ты, хитрец, пришел ко мне.
– И поэтому тоже. Ибо ты, достойный Шимас, не менее занятой человек и сановник столь же высокий. Быть может, тебе будет легче представить юношу, чтобы тот выполнил последний завет своей уважаемой матушки…
– Представить-то дело нетрудное. Но что, если в письме содержится нечто более чем неприятное для достойнейшего кади? Что, если там ложь, или оскорбление, или клевета?
Фарух пожал плечами.
– Амин клянется, что каждое слово письма матери пронизано лишь любовью и уважением. Но все же готов показать это письмо тому, кто возьмется ввести его в дом кади и отрекомендовать как честного и правдивого человека.
– Преинтересная история… И что, этот юный мастер готов прийти и рассказать все это сам?
– О да, Шимас. Мальчишка поклялся матери, что выполнит ее волю. И потому полон надежды на то, что ты сможешь ему помочь.
– Да будет так, друг мой. Если мальчишка столь честен, что готов показать письмо первому встречному…
– …Первому встречному визирю, мудрейшему из мудрых… – ехидно добавил Фарух.
– …Первому встречному визирю, – кивнул в ответ Шимас, – пусть приходит ко мне завтра, после вечерней молитвы. Думаю, от беседы с ним вреда не будет никому – ни ему, ни мне, ни нашему кади.
Макама двадцать первая
Шимас готов был возненавидеть стены своего кабинета – комнаты уютной, располагающей к размышлениям не менее, чем к долгим и не всегда приятным беседам. Он понимал, что сам вызвал столь обильный поток грязи, сердясь на себя лишь за то, что обречен в нем плыть до тех самых пор, пока зло не будет покарано, и опасаясь, что это не случится еще очень долго.
– А теперь документы от стражей наших границ. Донесения мытных стражей не настораживают. Утаивается не более, чем в иные дни и иные годы. Люд не стал честнее, но просто понимает, что, получив тамгу, сможет спокойно и достойно представлять свои товары, не боясь излишних вопросов, да и дополнительных трат.
– Разумно…
Визирь лениво перелистывал донесения, чего, конечно, не стал бы делать в любой другой день. Вернее, не стал бы делать до встречи с горе-заговорщиками. Ибо стоило потянуть ему из клубка тайн только одну ниточку, как следом стало раскрываться такое воистину невообразимое количество больших и малых секретов и недомолвок, что ему уже было не просто страшно – ужас, казалось, поселился в каждом углу его кабинета, да и его души.
– О да, – проговорил начальник мытной стражи, сегодня сделавший честь визирю и самостоятельно привезший десятки и десятки донесений. – Быть может, разумно. Но мне кажется, что просто расчетливо. Хотя иногда, поверь мне, в нашей работе встречаются случаи более чем удивительные. Взять хотя бы тот, что произошел сегодня поутру прямо на моих глазах.
Визирь с интересом поднял глаза на говорившего. Увы, он, Шимас, уже не надеялся, что ему расскажут нечто просто забавное. И потому заранее приготовился выслушать не просто курьезную историю, но набор неких фактов, из которых следует непременно в дальнейшем сделать выводы, дабы разоблачить очередного негодяя.
– На рассвете до столицы дошел караван из далеких восходных стран. О, караван богатый, щедрый… Но нас таким, конечно, не удивить. Путь каравана, как и других торговых посольств, непременно проходит по дорогам сопредельной страны Аль-Баради, с которой у нас, к счастью, заключен мир. Разумные купцы и опытные караванщики платят не колеблясь – зачем товарам пылиться на складах, если можно получить за них звонкие золотые и наконец расслабиться в уюте родного дома.
Удивительный человек, о котором я веду свой рассказ, тоже платил не колеблясь. Он утверждал, что ему поручено доставить в наш город груз драгоценных хорасанских ковров.
– Отменный груз… А ковры-то хороши? Или дешевая подделка?
– Вот и мы решили посмотреть, не подделка ли это. Ковры-то оказались настоящими, благородного шелка. Но они вовсе не были главным грузом… Ибо в них этот безумец завернул мешочки с золотыми монетами…
– Он вез на продажу золотые монеты? – Визирь подумал, что разум его покидает.
Начальник мытной стражи усмехнулся.
– О нет, конечно, золото он вез вовсе не на продажу. Когда нашим глазам предстало такое удивительное зрелище, мы, конечно, решили посмотреть, каким еще грузом отягощен наш незадачливый купец. И оказалось, что главный груз вез он в переметной суме – то были, о визирь, письма с расчетами.
– Прости, уважаемый, какие письма с расчетами?
– Очень простыми. Некий ростовщик по имени Абульраза…
– Прости, почтенный, ты сказал – ростовщик по имени Абульраза?!
– Ты не ослышался, достойнейший и мудрейший. Правоверный, который не боится запретов и не следует шариату… Да, ростовщик по имени Абульраза составил несколько писем, в которых подробно описывал, сколько процентов причитается каждому, кто у него поместил деньги в рост, за истекший месяц.
– Забавно. Но вовсе не наказуемо… Хорошо хоть наши сограждане не грешат тем, что занимаются ростовщичеством…
– Увы, мудрейший, но столько золота… Не просто много – очень много… Столько, что, похоже, в рост помещена не горсть золотых, а казна небольшой страны…
– Казна, говоришь… Не мог бы ты послать за этими более чем интересными письмами, достойнейший? Мне что-то пришла охота почитать их…
– Мудрейший, я знал, что тебе будет это более чем интересно. И потому захватил эти удивительные документы с собой.
– А глупец посыльный? Его ты отпустил?
Начальник стражи посмотрел на визиря насмешливо.
– Прости, умнейший, но твой юный возраст иногда подводит тебя… Как же я могу отпустить нарушителя границ, человека, который попирает законы? Конечно, он сидит в помещении для арестантов. И ждет моего возвращения… О, самым легким наказанием для него станет высылка из страны, высылка навсегда.
Шимас покачал головой.
– Не думаю, что мы должны щадить преступников. Покажи мне письма, а потом мы с тобой еще раз вернемся к этой увлекательной теме.
Визирь углубился в чтение. Все письма начинались одинаково: «Любимый племянник! С радостью сообщаю тебе, что тетушка пребывает в добром здравии, что лекарство, которое ты прислал, ей замечательно помогло, и теперь она в силах уже сама гулять по саду. Что же касается предмета, о котором ты просил меня узнать, то…»
Далее письма тоже, казалось, были более чем невинными и одинаковыми. Речь шла о гарнцах зерна и киратах пряностей. Но только полный безумец не прочитал бы, что на самом деле некий добрый «дядюшка» педантично, до последнего фельса, сообщает о величине процентов, начисленных за истекший месяц.
Шимас пробежал глазами сначала один листок – одно письмо, потом второй…
– Да, почтеннейший, презабавно. Этот воистину наглый наглец не боится даже подписываться собственным именем…
– О мудрейший, у меня есть сомнения в том, что имя этого нечестивца – подлинное. Хотя сейчас важно не это, а имена тех, кому эти письма адресованы…
Увы, Шимас от гнева не обратил внимания на самое важное. И он подосадовал, что служака чуть ли не пальцем тычет в верхние строки писем, которые для мытной службы, да и для службы пошлин и сборов, представляют самый большой интерес.
Визирь буквально впился взглядом в верхние строки писем. И ему стало совсем нехорошо. Ибо он увидел среди тех, кто пользовался услугами презренного ростовщика, десяток знакомых имен… Имен, знакомых не ему одному, знакомых всему дивану…
Чем больше рассматривал Шимас эти с виду невиннейшие листочки, тем темнее и мрачнее делалось у него на душе. Хотя, конечно, отдавать в рост свои деньги вовсе не является прегрешением для правоверного, даже мудреца дивана.
– Аллах всесильный, – прошептал визирь, увидев еще одно имя на самом нижнем из писем. Он еще раз прочитал его, а потом очень медленно прошелся глазами по всем строкам с расчетами.
– И этот презренный говорил, что нет никаких доказательств. Что его имя чисто, как свет луны. Что главный письмоводитель украл из казны налоги и вытащил кошель с черными алмазами для совей любовницы… Хотя нет, не говорил он о любовнице…
– О чем ты, мудрейший? – с опаской спросил начальник стражи.
Визирь улыбнулся.
– Воистину, сегодня отличный день! И ты, уважаемый, будешь достойно вознагражден. И за то, что твои люди держат глаза открытыми, и за то, что у тебя хватило разума показать мне эти более чем поучительные письма. И за то, что ты помог мне найти пропавшую казну…
Начальник мытной стражи низко поклонился. Он не совсем понимал, чем так доволен визирь. Но, трезво рассудив, что все беды происходят от избытка знаний, переспрашивать не стал.
«Прощай, глупый казначей, казначей-вор… Теперь в заговоре злодеев уже только двое… А что для меня двое ничтожных, вздумавших убийством купить себе покой на годы? Воистину, не враги. Забавно, что вздумали они купить этот покой у меня же… Хотя меня и не узнали. Но все же следует примерно наказать их. Да попытаться сделать это так, чтобы более никогда ни у одного мудреца ли, советника ли, просто человека с крохой власти в руках не возникло прискорбного желания властью этой воспользоваться для собственного блага, а не для блага державы!»
Увы, визирь Шимас был молод. А потому не знал, что всех, в таком желании повинных, да и просто замеченных, наказать нельзя – ибо на это не хватит не то что одной человеческой жизни, но и тысячи таковых.
Макама двадцать вторая
– Да воссияет небесный свод над этим домом! Да продлится жизнь в нем тысячу счастливых лет!
Рослый и сильный, но совсем еще юный Амин упал на колени перед визирем.
– Здравствуй, юноша! Вставай! Вставай же! Тебя привел сюда мой друг, а ты ведешь себя как последний раб на базаре. Да поднимись же, мальчишка!
– Вставай, дурачок! – прошипел и Фарух, насильно поднимая юного гостя визиря.
– Слушаю и повинуюсь, – пролепетал тот и поднялся.
– Ну вот, – с удовольствием проговорил Шимас, – присядем же, о мои гости, здесь, в прохладе, и насладимся беседой. Но лишь до того мига, пока нас не позовут за стол ароматы яств.
– Какая великая честь… – посеревшими губами прошелестел юный Амин. – Беседовать с самим великим визирем и вкушать хлеб в его доме…
– Здесь я не визирь, мальчик. А лишь друг твоего земляка, мудрого и прозорливого Фаруха.
– Прости меня, почтенный хозяин этого уютного дома, достойный Шимас…
– Говори, малыш, здесь тебе опасаться нечего.
– Но почтенный Фарух мне сказал, что ты, уважаемый, сможешь помочь мне передать письмо моей матушки – предсмертное письмо – верховному судье, достойнейшему кади Саддаму.
– О да, мальчик. Я могу это сделать. Конечно, мы с кади не на короткой ноге. Но все же он не откажет мне в просьбе и выслушает человека, которого я к нему приведу.
– Благодарю тебя, уважаемый! – Юноша вскочил с подушек и принялся истово кланяться.
– Да успокойся же, мальчишка! – в сердцах воскликнул Шимас. – Фарух, усади его. И придерживай, чтобы он опять не начал бить поклоны. И не за что пока, да и вопросы мои, думаю, будут ему здорово неприятны.
– Я готов ответить на любой твой вопрос, почтеннейший!
– Вот и отлично, юный Амин! Мой друг Фарух вкратце рассказал мне твою историю. И теперь я лишь уточню то, что мне пока непонятно.
– Я весь обратился в слух!
– Итак, твоя матушка, как говорил мне мой друг, растила тебя одна?
– О да, моя матушка всю жизнь любила моего отца. Она рассказывала мне, когда я был малышом, что лучше, нежнее, благороднее не было человека во всем мире.
– Она говорила тебе, от чего он умер?
– Я много размышлял об этом, уважаемый, уже став вполне взрослым. Она никогда не говорила, что он умер, или убит, или погиб. Просто в моей глупой голове сложилось такое впечатление.
Шимас кивнул и вновь заговорил:
– Итак, матушка вырастила тебя…
– О да, А дед с бабушкой привили любовь к труду и чтению. А дядя с тетушкой дали в руки ремесло и научили видеть красоту металла… О, я воистину счастливый человек – ибо рос в любви.
– И вырос юношей доверчивым, легковерным…
Амин покраснел столь сильно, что краской налились даже уши.
– Ничуть я не легковерен… Просто предпочитаю верить людям до того мига, пока не пойму, что они лгут…
– Ну да оставим это, – нетерпеливо прервал собеседников Фарух. – На смертном же одре матушка передала тебе письмо для верховного судьи, уважаемого кади Саддама. Что же она сказала при этом?
– Она передала письмо. Сказала, что я могу его прочитать. Могу передать кому угодно, чтобы тот, прочитав, убедился в искренности ее слов и помог мне. А когда я встречусь с верховным судьей, то должен поступить только так, как он мне скажет.
– И все?
– О да, и все.
– И ты послушаешься? Молча уйдешь? Или покорно дашь бросить себя в зиндан? Или гордо взойдешь на плаху?
Амин со страхом посмотрел на Шимаса.
– В зиндан? На плаху? За что?
– О нет, не обращай внимания на мои слова. Пока не обращай.
– Матушка, – прошептал Амин, – мне сказала, что лучше и честнее верховного судьи нет на свете человека. И потому его повеление будет единственно мудрым и безусловно верным. И в повиновении такому человеку не может быть ничего недостойного.
– И поэтому ты ищешь человека, который ввел бы тебя к кади?
– Конечно, ибо понимаю, что так кади мне поверит. А вот если бы я попытался войти с улицы…
– О, я даже думать не хочу о том, что было бы в этом случае. Но сейчас оставим разговоры. Покажи мне матушкино письмо, достойный мастер. А после этого мы решим, как поступить.
Юный Амин повиновался без колебаний. Шимас развернул свиток и углубился в чтение.
О, можно было ожидать, что письмо будет полно воспоминаний. Или, быть может, подробностей, о которых не следует знать кому-либо из посторонних. Но письмо, что читал Шимас, оказалось куда короче. Всего несколько строк, которые сделали бы честь любой, даже самой благородной женщине. Хотя после прочтения письма Шимас был готов назвать покойную матушку Амина воистину благороднейшей из женщин мира.
– Мальчик мой, знаешь ли ты о том, что написано в этом письме?
Амин повесил голову.
– Я не решился заглядывать. Хотя признаюсь, визирь, что мне бы хотелось этого более всего на свете. Матушка, передавая мне свиток, сказала, что я могу его прочесть, но если у меня хватит сил сдержаться и этого не делать – не читать строк, предназначенных не моим глазам. Матушкиных повелений я ослушаться не мог.
– Воистину, почтеннейший, твоя матушка тебя воспитала человеком слова. И это более чем уважаемо!
– Ты поможешь мне, великий визирь?
– Мальчик мой, я же говорил тебе, что здесь я не великий визирь, а всего лишь Шимас, который принимает в гостях своего старинного друга и его земляка…
– Прости, уважаемый! Ты поможешь мне, Шимас?
– О да! Я непременно помогу тебе. Более того, я сделаю так, что кади не сможет тебя не принять. А сейчас отправляйся спать – время уже позднее. Я пришлю тебе записку о том, когда и куда тебе прийти.
– Благодарю тебя, достойнейший! Сто тысяч раз благодарю!
– Фарух! Немедленно уйми мальчишку!
– Амин, друг мой, успокойся. Пока благодарить не за что. Дождемся посыльного от нашего доброго хозяина, дождемся мига, когда ты сможешь передать достойному кади письмо матушки… А вот после этого и настанет черед падать в ноги, благодарить мудрейшего из мудрых за помощь, а Аллаха всесильного и всемилостивого – за покровительство.
– Да будет так! – склонился в поклоне Амин, но увидев нахмуренные брови Шимаса, выпрямился и промолчал всю дальнейшую беседу двух давних приятелей.
– Достойнейшие, мудрейшие из мудрых, совесть и честь нашей державы! Дошли до меня слухи столь чудовищные, что я, визирь Шимас, им поверить не в состоянии. Говорят, что вы, почтенные, скрылись от своих сограждан за непроницаемыми стенами, за которыми живется сладко и спокойно.
Мудрецы переглянулись. Вернее будет сказать, что они переглядывались все время этой недолгой, но весьма сердитой речи визиря. Переглядывались, но молчали – ибо дело обстояло именно так, как сказал Шимас. Они и впрямь старались не видеть и не слышать ничего вокруг, отгородившись сотнями первых и вторых советников, старших и младших писцов от всего мира.
Шимас обвел глазами тех, кто безмолвно ему внимал. И молчание это было лучшим из ответов на его незаданный вопрос. Воистину, то были не слухи, а правда. Но сейчас Шимасу нужно было не признание этого более чем очевидного факта, а нечто иное.
– Дошли до меня слухи и о том, что никто из наших сограждан не может пробиться даже к верховному судье. Что ни прошения, ни послания не передать ему даже в сопровождении огромных взяток!
О, тут Шимас слегка приукрасил то, что слышал – ибо слышал он как раз противоположное. Упорно говорили, что величина взятки напрямую зависит от того, насколько серьезное прошение пытается передать проситель кади.
– Это гнусные слухи, мудрейший, – прогудел со своего места верховный судья. – Я рассматриваю десятки прошений каждый день. Сотни и сотни людей добились справедливого решения, честно рассказав мне самому как было дело и кто виноват в ложном доносе.
«А значит, сотни и сотни тугих кошелей легли в твою руку, дабы добиться этого самого справедливого решения. Да и неизвестно еще, с чьей точки зрения справедливого…»
Увы, Шимас сам уже чувствовал, что перестает верить людям, что готов заподозрить любого в самой черной лжи и самой грязной клевете. Что мир вокруг стремительно приобретает все более темные тона. И что вскоре все вокруг будет окрашено одной лишь черной краской.
– Быть может, это и слухи, достойный кади, но вот только вчера вечером к моим ногам припал некий юноша, который даже не пытается передать тебе послание сам. Который ищет всевозможные ходы и лазейки, чтобы найти уважаемого человека, готового ввести его за руку в твое присутствие. Ввести так, чтобы юноша этот был уверен – его выслушают и не выгонят уже в следующую секунду.
– Глупый мальчик! Достаточно было просто позвонить в колокольчик у моей двери. Его бы и выслушали, и приняли прошение, и… Достаточно было просто позвонить в колокольчик.
– Увы, справедливейший. Даже если это и так. Кроме того, по городу ходят более чем скверные слухи, в которые мой разум просто отказывается верить. Говорят, что правды больше не найти в нашем диване, что мы лишь сборище болтунов, которые весь день могут решать, чем латать небесный свод в дни дождливые и чем увлажнять его тогда, когда в наш прекрасный город приходит лето.
Мудрецы заулыбались. О да, они тоже слышали о том, как славно посмеялся великий халиф Гарун аль-Рашид над своими никчемными мудрецами, когда выставил вместо себя какого-то глупца и повелел считать халифом именно его.
– И это лишь глупые слухи и глупая ложь, о великий визирь, – вновь проговорил кади. – Ибо мы – увы, это бывает – иногда чересчур велеречивы. Но сие происходит только из-за того, что стараемся обосновать свой взгляд по любому поводу наиболее точно и наиболее подробно. И еще (конечно, это подтвердят все, кого я вижу здесь), это происходит потому, что мы полны уважения к каждому в диване и за его стенами. И мы не можем позволить себе гневных, а уж тем более бранных слов в адрес кого-либо из живущих под этим небом и заседающих в этих достойных стенах.
– О да, мудрейший. Но что же нам делать с тем, что никто не может передать тебе прошение? Или это тоже слухи? Неужели нам следует повелеть глашатаям объявить в городе, что кади отныне принимает по четным дням?
– Я готов выслушать любого, мудрейший. И в любое время.
Шимас увидел, что кади начинает злиться, но пока еще держит себя в руках.
– Тогда более не будем говорить об этом сегодня. Я повелю проверить все слухи, а потом расскажу высокому собранию о результатах этой проверки. Перейдем к…
Но кади перебил Шимаса. Должно быть, привыкнув к тому, что в его словах никто не сомневается, он не мог не пытаться переубедить визиря.
– Повторяю, высокое собрание: я готов выслушать любого, в любое время, дневное оно или ночное, нахожусь ли я в диване или вкушаю вполне залуженный отдых.
Мудрецы молчали, словно набрав в рот воды. Шимас с удовольствием заметил, что кади выведен из равновесия. И что все, кто в этот момент присутствовал в диване, превратились в молчаливые изваяния.
– Я готов, – чуть более громко, чем обычно, в третий раз повторил кади, – принять любого и в любое время…
– Да будет так, кади! Дабы закончить раз и навсегда этот разговор, я пошлю сейчас за тем неумным юношей, чтобы он передал тебе прошение, о котором столь много и горячо говорил мне. А убедившись, что ты это прошение у него взял и прочитал, смог убедить в этом и всех, кто по глупости смеет верить подобным лживым и неразумным слухам.
– Да будет так, великий визирь! – кивнул кади.
Макама двадцать третья
Шимас жестом призвал к себе одного из писцов и, черкнув несколько слов на листке бумаги, что-то вполголоса писцу повелел. Тишина в диване была не просто гулкой. Она была молчаливо-кричащей. Кади оглядывался по сторонам с таким видом, будто ему нанесли поистине смертельное оскорбление. Сочувствующие взгляды мудрецов могли, конечно, слегка успокоить верховного судью. Но не успокаивали – ибо он клокотал от ярости.
«Аллах всесильный, сопливый мальчишка! Да какое может быть дело великому визирю, главе дивана, до слухов, какими полнится глупый базар? И почему ты, несчастный безумец, смеешь на основании каких-то глупых слухов обвинять почтенных и уважаемых мудрецов, воистину цвет нации? Да, я никого не принимаю! Да, суд вершат советники моих советников! Но не для того же я, в самом деле, карабкался вверх, не для того роздал, должно быть, тысячи и тысячи золотых, подкупая всех и каждого, чтобы выслушивать глупые просьбы недалеких и неумных просителей. Не для того я стал кади, чтобы звучали подобные слова в мой адрес. Воистину, это переходит все границы! И мальчишка должен быть наказан вместе со своим другом, безумным халифом…»
Увы, визирю не надо было уметь читать мысли, чтобы догадаться, о чем сейчас думает кади. Да, Шимас не любил играть, если знал, что удача на его стороне, но нужно было прилюдно высечь этого напыщенного индюка, который решил, что он – воплощение закона.
Распахнулись двери, и в сопровождении стражника дивана и писца на пороге появился Амин.
– Стража может покинуть нас – этот юноша вошел в диван по приглашению визиря! – сухо проговорил старшина писцов.
Стража покинула зал с мраморными колоннами.
– Говори же, юноша, – обратился Шимас к Амину. – Сейчас перед тобой весь диван. И сам кади. Он клянется, что готов принять любого в любое время. Вот твой шанс!
Юный мастер поклонился столь низко, сколь это вообще было возможно, и, сделав несколько шагов, оказался прямо перед достойным Саддамом, восседавшим на своем месте с грозным и суровым лицом.
– Да пребудет с тобой, светоч справедливости, милость Аллаха всесильного на долгие годы! Я нижайше прошу принять это письмо. Передать его я поклялся у смертного одра самого дорогого для меня человека. И сейчас полон гордости – ибо выполнил последнюю волю его.
Кади, не вставая, взял в руки свиток и положил его рядом с собой. Амин, вновь поклонившись, теперь еще более низко, все отступал назад, пока не оперся спиной о стену.
Мудрецы молчали. Молчал и визирь. О, он не мог допустить, чтобы свиток этот остался непрочитанным и был разорван на мелкие клочки. Более того, он не мог допустить и того, чтобы письмо уважаемой Малики, матери Амина, было прочитано в одиночестве.
Тишина казалась кади воистину сложенной из тяжких камней, каждый из которых давил на его разум. Юноша, несчастный долговязый юноша, смотрел на него так, что судье хотелось задушить его собственными руками и сию же минуту.
Взгляд же, которым визирь окинул кади, был более чем красноречив. Он почти вслух обвинил кади в трусости и лжи. И Саддам, еще не так давно спокойный и даже чуть меланхоличный, не выдержал. Он понял, что должен прочитать это послание, и хуже того – прочитать вслух, перед всем диваном. И перед этим ничтожным глупцом, у которого хватило наглости пасть к ногам визиря… «О Аллах всесильный! И за этот позор ты тоже ответишь, презренный мальчишка! Ответишь вместе со своим никчемным другом. Я выдержу несколько минут бесчестия. А твоя же кара будет длиться куда дольше… Не будь я верховным судьей, кади, самим законом нашей прекрасной страны!»
Кади развернул свиток. Он старался держаться совершенно спокойно, но визирь отлично заметил, что пальцы кади дрожат, как дрожит от гнева подбородок, вернее, подбородки.
Кади пытался пробежать глазами те несколько строк, что открылись его взгляду. Но почувствовал, что делать этого не следует – уж слишком пристально смотрит на него визирь, уж слишком громко молчат мудрецы. И тогда кади начал:
– «О мой любимый… Как давно не произносила я этих слов! Воистину долгих два десятка лет! Да и сейчас мои уста сомкнуты, ибо слова эти появились лишь на пергаменте. И сердце мое отозвалось невероятной, чудовищной болью. Ибо если ты читаешь их, значит, твоей Малики больше нет на свете. Давний недуг подтачивает мои силы. И в тот день, когда тело мое будет предано земле, мой сын – наш сын, – которого я назвала Амином, отправится в путь, чтобы доставить тебе мой последний привет, мое прощение и мою горячую благодарность.
Да, друг мой, я благодарю тебя. И благодарила все эти годы – ибо в тот миг, когда поняла я, что ты одарил меня сыном, вся жизнь моя наполнилась смыслом и светом. Я воспитала его в любви и почтении и сейчас могу с гордостью сказать, что Амин вырос достойным юношей – честным, верным слову, благородным и не отступающим от цели ни на шаг. А потому я прощаю тебе то, что ты соблазнил юную дурочку сладкими речами, медоточивыми обещаниями, в которых не было ни грана правды.
Я прощаю тебе, Саддам, и позорное бегство из нашего города – ибо ты тогда был молод и неопытен. Ты лишь готовился к той великой судьбе, что ожидала тебя, и потому не мог рисковать даже одним днем своей жизни.
И наконец, я прощаю тебе то, что ты вырвал из книги имама запись о наказании за свое прегрешение. Ибо тридцать палок, думаю, стали для тебя наказанием вполне достаточным. Думаю, что они памятны тебе и поныне.
Прощай же, уважаемый кади, единственный мужчина, которого я любила. Сейчас я ухожу спокойно и с легкой душой – ибо простила всех, кто обидел меня.
Малика, дочь Махмуда, книжника».
Кади замолчал. И, лишь замолчав, в полной мере осознал все, что прочел.
Да, он еще и сейчас, спустя более чем два десятка лет, помнил эту прекрасную девушку – нежную, пылкую и такую легковерную. Помнил он и свои обещания, так и оставшиеся пустыми словами… И конечно, помнил те тридцать палок, которыми наградил его глупый судья городка, дабы он, Саддам, в полной мере осознал степень важности каждого слова мужчины.
Нет, Саддам ни о чем не сожалел. Его жизнь сложилась именно так, как он этого и хотел. И были в его жизни женщины… О, сколь много их было. И, наученный горьким опытом, не обещал он ни одной из них долгой и счастливой совместной жизни. О нет, он наслаждался их ласками, обещая их мужьям помилование, прощение долгов или свободу. То была вполне разумная и к тому же почти невинная плата за свободу добытчика и кормильца. А потому кади не видел здесь ничего зазорного.
Нет, Саддам не сожалел ни о чем… Кроме того, к чему вынудил его сейчас визирь. Ибо, лишь замолчав, понял судья, что последние минуты его спокойной и достойной жизни истекли в тот миг, когда закончил он чтение глупого письма дурочки Малики. И еще об одном сожалел кади – о том, что первый советник решил уничтожить сначала халифа.
«О, Шимас оказался воистину подколодной змеей! В тысячу раз опаснее халифа и в тысячу раз хитрее… Его, его первого следовало убить!»
– Достойное письмо и достойные слова. Теперь ты видишь, юноша, что кади готов встретиться с любым и в любой час? Что кади никогда не откладывает рассмотрения решения дольше, чем на минуту?
– О да, великий визирь, – проговорил юноша, низко кланяясь. – Я вижу, что все разговоры были лишь глупыми и пустыми пересудами. Что наш верховный судья прост и близок народу, близок каждому из нас.
Старшина писцов проводил все время кланяющегося юношу. Шимас улыбался – так мог улыбаться простак, услышав подтверждение какой-то очевидной истины.
Но кади прочел в этой улыбке столь много, что, не говоря более ни слова, поспешил покинуть диван. Его дни были сочтены – и сложить с себя полномочия оставалось единственным верным решением.
– Воистину, воздаяние за каждый наш поступок всегда соизмеримо с этим поступком. И за невыполненным некогда обещанием обязательно последует наказание, равно как последует оно и за кровавым преступлением.
О, сейчас никто из мудрецов не взглянул с удивлением на визиря, произнесшего эти слова. Ибо каждый из них вспоминал свои прегрешения и молил Аллаха всесильного, чтобы его гнев не был столь скор.
Макама двадцать четвертая
Шимас почувствовал, что смертельно устал. Он понял, что так сильно не уставал ни в бою, ни в походе. Но сейчас на его плечи давили каменные стены дивана, купол, выложенной затейливой мозаикой, минареты с притаившимися на вершине муэдзинами, все дворцы великой и прекрасной страны Аль-Миради. И ответственность, что была во много раз более тяжелой, чем дворцы, мечети и все камни его любимого города.
Думать о том, что сегодня в диване следовало бы принять хоть одно важное решение, ему не хотелось. И потому он просто молчал, радуясь мгновению тишины. О, в его неподвижности не было ни грана злого умысла. И все же он чувствовал, что с каждой минутой растет напряжение. Словно мудрецы гадают, кого на этот раз постигнет кара за не столь давние прегрешения. Каждый боится, что именно его…
Молчание затягивалось, но сейчас уже визирь молчал намеренно. Он вышел из задумчивости и теперь бросал тяжелый взгляд то на одного своего советника, то на другого. И сам чувствовал себя сейчас огромным питоном в зверинце халифа, который выбирает, какую бы из толстеньких ленивых мышек съесть первой. А какую оставить на сладкое.
И, чтобы картина была более полной, Шимас усмехнулся. О, то был воистину звериный оскал, а не ухмылка человека, пусть и злобная!
Молчал и сидящий рядом с визирем первый советник. О да, он сегодня собирался после дивана зайти в тихую харчевню и потолковать с долговязым франком о цене за свой грязный труд. Но прилюдное уничтожение кади отбило у него всяческую охоту вообще куда-то зачем-то выходить. Ибо он, первый советник, внезапно ощутил, что остался в коконе заговора совсем один. Казначей томился в зиндане, и уже было понятно, что скоро ему оттуда не выбраться; уважаемый попечитель заведений призрения, глупый сластолюбец, выставленный лжецом и растлителем, был теперь нужен первому советнику не более, чем палящее солнце в знойный день. Тучный и болтливый Сулейман-звездочет третий день отлеживался дома после выволочки, которую ему устроила жена, поклявшаяся завтра же подать прошение о разводе и отобрать у ничтожного все. От кади Саддама тоже было мало проку – ибо теперь он, похоже, будет верховным судьей совсем недолго.
«Аллах всесильный! Остался я, я один. Быть может, хоть меня минует злая несправедливость судьбы? Быть может, именно мне уготована великая цель – избавить страну от молодого и глупого халифа? А вместе с ним и от этого докучливого безумца, который верит слухам, который решает проверить все счета и хранилища казны…»
Гневный взор первого советника впился в лицо визиря, суровое и холодное. И тут словно пелена спала с глаз Хазима.
Ибо перед ним сидел он, Жак-бродяга, долговязый фрак, который преподавал его, Хазима, соотечественникам изящное искусство обращения с оружием! И только шрама – уродливого шрама от страшного сабельного удара через все лицо – не было…
«О я несчастнейший! – воскликнул про себя первый советник. – Как же я, мудрый человек, придумавший заговор, ясно видевший перед собой цель и нашедший средства для достижения этой цели, как же я не узнал в болтливом франке нашего визиря?»
И Шимас, словно услышав мысли первого советника, поднял на него глаза. Что-то в выражении лица достойного Хазима или, быть может, в изломе бровей подсказало визирю, что советник его узнал.
«Ну вот и отлично, достойный Хазим, – подумал визирь. – Теперь ты в полной мере осознал, что стало с твоим воистину детским заговором… Как раньше понял, что никого из соратников рядом с тобой не осталось… Это станет тебе преотличным уроком, воистину так!»
Чем больше всматривался первый советник в визиря, тем яснее видел, что он и франк Жак – один и тот же человек. Тот же поворот головы, тот же голос, тот же немалый рост. Те же руки…
«Аллах всесильный, почему я раньше не обратил внимания на его руки? Их же нельзя спутать ни с какими другими руками! Почему шрам, уродливый шрам через все лицо, отвлек меня от вполне различимого шрама на руке? Почему не увидел в той драке, что огромный иноземец сам представляется мне, словно предлагает пригласить его поучаствовать в деле?»
И мудрый внутренний голос (а такой есть даже у самого глупого из глупцов) услужливо подсказал Хазиму ответ: «Ты не увидел потому, что смотрел иными глазами. Потому, что не пытался в незнакомце узнать преотлично знакомого человека. Потому, что искал не соперника, а соратника; потому что, воистину глупец из глупцов, думал – уйдя от центра столицы на самую глухую окраину, окажешься там в безопасности… Безумец из безумцев!»
О, теперь он уже не думал о своем заговоре, о нет. Ибо то оказался не заговор, а постыдная и глупая сделка… Которая к тому же провалилась в тот миг, как была затеяна. Хазим вновь вспоминал, как приглашал отобедать в уютном кабачке в дальнем конце города то одного, то другого. И как принимал их сухие кивки за безоговорочное согласие на то, что сейчас виделось первому советнику безумнейшей из авантюр.
«Должно быть, он стал следить за нами уже тогда… А я, безмозглый осел, так ни разу и не вспомнил, что наш халиф служил в одном полку с визирем. И что оба они прошли войну от первого до последнего ее дня. И что умения лазутчиков, наблюдательность стрелков и отвага конников для них обоих вовсе не пустой звук. Как я мог забыть об этом? Как мог столь осерчать на более чем мудрые перемены, начатые халифом, дабы цвела наша прекрасная страна? Как мог пасть столь низко, чтобы захотеть убить этого достойнейшего во всех смыслах молодого и сильного человека?»
Увы, мысли первого советника не мог слышать никто. А он, привыкнув лицедействовать перед всем миром, не мог уже остановиться и продолжал гримасничать перед самим собой.
«Он стал следить за нами уже тогда… Он видел каждый наш шаг… Он затеял эту драку… Он показал себя во всей красе… Но почему же юный наш мудрый и сильный визирь не пресек наши попытки собраться, просто отправив за каждым из нас стражу?»
Чем больше размышлял первый советник, тем дальше от разумных объяснений уходил. О, он уже готов был смириться и со слежкой, устроенной визирем с первых дней своего появления в диване. Он буквально уже оправдывал ее, соглашаясь, что следует, более того, просто необходимо бестрепетной рукой навести на новом месте свои порядки – чтобы все, кто оказался под его началом, сразу поняли, у кого теперь власть и чьего гневного окрика следует бояться.
Плоды размышлений первого советника вовсе не интересовали визиря. Более того, он, как и любой настоящих игрок в шахматы, уже давно просчитал и то, что вскоре советник его узнает, и то, что он при этом подумает, и даже то, какие выводы для себя сделает. Шимас знал только одно – следует нанести удар первым. И удар такой, чтобы этот горе-заговор распался, толком даже не встав на ноги. И ему это преотлично удалось.
«Аллах всесильный! Но что было бы, если бы я не поинтересовался происшествием на мытном нашем кордоне? Или не рассказал жене о своем более чем забавном приключении? Или…»
В диване задумались всего двое. Визирь размышлял о том, сколь благоволит к нему Аллах всесильный, позволивший обезопасить халифа от неумных и недалеких царедворцев, вздумавших пресечь жизнь Салеха. Первый же советник сокрушался о том, сколь не благоволит к нему Аллах всесильный, отобравший единственный шанс оставить все, как было при старом халифе…
Остальные же, присутствовавшие в диване, затаив дыхание, ждали того мига, когда визирь вынесет приговор каждому из них.
Но Шимас молчал. Страх мудрецов и советников был более чем очевиден. Он воистину кричал, пусть и безмолвно. Но он, визирь, правая рука молодого халифа Салеха, прекрасно видел этот страх, слышал этот крик…
«Ну что ж, с них довольно… Жаль только, что придется менять их всех сразу. А потом долго учить тех, кто придет им на смену. Но, Аллах всесильный, и в этом мое счастье – у меня есть силы для этого и терпение, чтобы дождаться того дня, когда мои мудрецы моего дивана станут моими верными и усердными помощниками».
Шимас встал.
– Воистину, сегодняшнее заседание было более чем плодотворным. Зло наказано, а добро торжествует…
«Увы, совсем ненадолго. Но торжествует!»
И Шимас продолжил:
– Да пребудет с каждым из вас милость Аллаха всесильного! И пусть сегодняшние удивительные события станут для каждого из тех, кого я вижу сейчас перед собой, событиями воистину поучительными!
Холодный страх заплескался в глазах мудрецов и советников дивана. Но Шимасу уже более не было до них никакого дела – судьба их была решена. Оставалось лишь одно, самое последнее на сегодня…
Визирь обернулся к первому советнику, подмигнул ему и проговорил:
– И помни, дядя, если тебя обидит кто, ты мне свистни… Слово Жака – приду и всех в капусту изрублю…
Макама двадцать пятая и последняя
Солнце висело совсем низко над горизонтом, когда Шимас смог наконец остаться вдвоем с Халидой. Он вдруг почувствовал, что ему вовсе нет необходимости рассказывать своей жене о всех самых мелких подробностях: той вполне достаточно самого факта – ее муж здесь, рядом с ней, он доволен и спокоен.
Халида же прекрасно видела, что Шимаса наконец отпустило беспокойство, которое не уходило все эти дни.
– Так, значит, ты одержал победу, о муж мой, свет моих очей?
– О нет, великолепная… Я лишь мечтаю подарить несколько минут наслаждения лучшей из женщин под этим небом.
Халида рассмеялась. Ну что ж, если Шимас не хочет говорить сейчас ни о чем, то захочет позже. Уж она-то своего дождется.
И девушка отдалась сильным и таким любимым объятиям, моля Аллаха лишь об одном – чтобы он даровал им радость любви еще на долгие и долгие годы.
– Я хочу подарить тебе сказку, любимый, – прошептала Халида.
– Мне не надо ничего, моя греза. Лишь оставайся со мной всегда, – промолвил он, отвечая объятиями на объятия, а поцелуями на поцелуи.
Халида подняла на мужа глаза, и у Шимаса перехватило дух. О, эти преданные глаза, эта прекрасная душа! Да, Халида сделала для него куда больше, чем думала. В полумраке стерлись воспоминания о всем прошлом, и лишь она, отчаянная и преданная, и он, безумный мститель и влюбленный глупец, остались во всем мире. Удивительная горячая волна благодарности затопила его разум и внезапно переросла в вожделение, какого Шимас и не ожидал от себя. Он схватил девушку в объятия и поцеловал. Она тут же обвила его руками, и их сердца неистово забились от возбуждения. Она приникла к нему, и ею овладела сильнейшая жажда любви. Его губы прижались к ее губам. Они искали, просили, умоляли, вытягивали из нее отклик на его призыв. Халиду поглотила его страсть. О, она и не предполагала, что робкий язычок пламени светильника в старой лампе на пороге опочивальни сотворит такое чудо.
Она была вся в огне. Его язык вошел в ее рот, и она играла с ним, сосала и пощипывала нежно и возбуждающе.
Она была неистова и требовательна. Она прошептала ему на ухо:
– Вот это и есть моя сказка!
– Любимая, я не могу благодарить тебя вслух. Все слова мертвы. Но я не задержусь с ответом.
– Мой Шимас, как же мне плохо без тебя!
Шимас ничего не ответил, лишь в глубине его глаз зажглось нежное, предназначенное только ей сияние. Он обнял ее и этого простого прикосновения было довольно, чтобы силы почти оставили ее.
Она не протестовала, когда он распустил шнуровку жилета, а потом и снял его совсем. Вслед за жилетом пала к ее ногам длинная рубаха из тончайшего батиста. Халида стояла, слегка дрожа, но отнюдь не от холода, ибо в опочивальне было тепло и уютно. Шимас отступил назад, любуясь женой и ее совершенным телом. Не произнося ни слова, он снял платье и отбросил его в дальний угол. Легкая улыбка коснулась ее губ, когда такое прекрасное, хорошо знакомое ей тело вновь предстало перед ней. Она протянула руку и с каким-то новым, удивившим ее саму чувством, принялась гладить его грудь. Их взгляды встретились, и он тоже улыбнулся.
– Кто будет первым, любимая? – мягко спросил он.
В ответ она лишь молча распустила тяжкий узел волос на затылке. Черная волна хлынула вниз.
У него перехватило дыхание, когда он увидел ее такой, какой дано видеть возлюбленному свою прекрасную любимую. Протянув к ней руки, он медленно привлек ее к себе и заключил в объятия. Он стоял, прижимая ее к себе, ощущая тепло ее тела, просто наслаждаясь ощущением ее близости. Она не двигалась в кольце его объятий. Он нежно гладил волосы, наслаждаясь их шелковистыми прикосновениями и купаясь в волнах прекрасного аромата, и от волшебной тяжести его ладони по ее телу пробегала восхитительная мелкая дрожь.
Халида сделала движение, чтобы освободить руки, и они медленно заскользили вверх по его широкой груди. Потом ее пальцы остановились, и она стала гладить мягкие волоски, которые покрывали его грудь. Он терпеливо переносил это восхитительное раздражающее движение, пока игра наконец не утомила ее. Ее руки скользнули вверх и обвили его шею.
Она подняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. Они слились воедино. Неистовая страсть вспыхнула между ними. С тихим возгласом он наклонил голову и вновь завладел ее ртом. С нежным вздохом она покорилась ему, ее губы смягчились под его губами.
Вместе они упали на колени, все еще держа друг друга в объятиях. Они целовались и целовались, пока она наконец не отняла губы и не рассмеялась, задыхаясь.
Он признался:
– Я не могу насытиться тобой, любимая!
Она тихо ответила:
– О, мой прекрасный! И я не могу насытиться тобой. Мне все время кажется, что ты лишь телесно здесь, со мной. Что душа твоя столь далеко… И я боюсь, что вскоре у меня недостанет сил, чтобы удержать здесь, подле себя, твое тело.
Шимас покачал головой.
– О нет, прекраснейшая! Твои объятия для меня слаще целого мира. И только здесь, рядом с тобой, я могу быть настоящим, живым человеком. Только подле твоих ног я превращаюсь из коварного царедворца в обычного человека, к тому же без памяти влюбленного в собственную жену. Здесь я живу. А там… – Его лицо омрачилось. – Там я пытаюсь кому-то что-то доказать, чего-то несбыточного добиться. Там – мое поле боя, а тут… О, тут моя тихая пристань.
Легкая тень беспокойства легла и на ее прекрасное лицо, и он почти застонал:
– Халида, неужели так будет всегда? Неужели лишь в тиши твоих объятий смогу я оставаться самим собой?
Она обвила его руками и прижала к себе.
– О нет, мой прекрасный! Вскоре ты везде будешь самим собой. Совсем скоро…
– О, большего я и не хочу… Но… – Тут его глаза блеснули, и Халида с удивлением увидела, что исчез усталый царедворец, а рядом с ней появился удивительно сильный и удивительно пылкий любовник. О, это было воистину колдовское превращение, достойное и этих стен, и обещанной сказки. – Но как же быть с твоим обещанием?
– О-о-о… Теперь замолчи, Шимас! – приказала она и, притянув к себе его голову, припала устами к его устам в долгом и нежном поцелуе.
Его сильная рука ласкала ее груди, и Халида с наслаждением погрузилась в его объятия. Каждая их встреча была словно первая. Она удивлялась этому своему ощущению, но отделаться от него не могла. Он наклонил голову и прильнул к ее груди. Она прижала его к себе так крепко, как только могла.
– Ох, Шимас, – прошептала она, – ты сочтешь меня слишком нетерпеливой, но меня так переполняет желание насладиться тобой. Это словно первое прикосновение – оно жжет и распаляет! Не играй со мной долго, умоляю!
Он оторвал голову от ее упругих грудей и, чуть-чуть изменив положение, мягко вошел в ее лоно. Она вздохнула и отдалась ритмичным движениям любви.
– О, прекраснейшая, единственная женщина в мире, – прошептал он, – я люблю тебя!
– Я люблю тебя! – прошептала она в ответ. И Халиду закружила буря страсти, которая начала бушевать в ней. Она стонала и металась, когда ее желание снова и снова достигало пика. Но он все еще не давал ей остановиться и отдохнуть, и когда она, не выдерживая более этой сладостной пытки, взмолилась, он засмеялся во весь голос, но не стал торопиться, пока не понял по ее стонам, что она уже более не может этого выносить. Только тогда он бросился вместе с ней в темную пропасть страсти, испытывая неодолимое желание обладать ею всегда.
Свеча слабо мерцала, и дрожь охватила обнаженные тела. Они были вместе, и это было воистину самым правильным, что только могло быть в их жизни.
Халида почувствовала спокойное дыхание мужа. Он, должно быть, мечтал, что ему удастся тихо и незаметно сбежать в теплый сон от ее любопытных расспросов. Но она, Халида, не могла этого стерпеть.
– Не спи же, муж мой! Не спи, проснись!
И девушка весьма чувствительно потрясла Шимаса за плечо. Тот раскрыл глаза и недовольно пробурчал:
– Аллах всесильный, даже дома нет мне покоя! Остановись, женщина, не тряси меня словно яблоню!
– Я не трясу тебя словно яблоню! Я трясу тебя словно хитреца, который хочет сбежать от расспросов.
Шимас нежно улыбнулся жене. Ну как он мог допустить, что она не поинтересуется последним актом драмы, глупец?
– Ну, что ты хочешь узнать, прекраснейшая?
– Как ты разоблачил кади и достойного Хазима?
– Кади разоблачил себя сам – я лишь заставил его сдержать слово. А первый советник… Ему я не сказал ни слова, но более, думаю, он не появится ни в диване, ни в нашей жизни…
– Ты шутишь?
– О нет, красавица. Просто он меня узнал – в своем злейшем враге он узнал своего подручного. Он узнал Жака-бродягу…
– О Аллах всесильный. И?..
– И струсил… Более того – он, полагаю, напридумывал себе столько страхов и бед, что готов был сбежать на самый край мира, только чтобы оказаться как можно дальше от проницательных моих глаз.
– Трус… Презренный трус.
– О да. Просто горстка трусов и глупцов, которым новый халиф мешал спокойно жить. Горстка безумцев, которые ценят свое спокойствие и сытое чрево значительно больше, чем человеческую жизнь… Но успокойся, теперь все в прошлом. И, думаю, пора моему Жаку, недалекому и бесприютному приятелю, наконец исчезнуть.
Халида пристально посмотрела на мужа. О нет, он не шутил. Более того, он был спокоен и безмятежен.
– Аллах великий, Шимас! Ты решил отправить его на покой? И более не вынимать из сундука иноземное платье?
– Да зачем теперь? Никто более не будет искать Жака-бродягу у чинийца Чэня…
– И это самый хитрый и самый изворотливый из всех известных мне мужчин! Да разве этот глупый заговор был единственным? Да разве мало в нашем прекрасном городе несправедливости?
– О чем ты, моя греза?
– О том, друг мой, мой прекрасный и сильный муж, что платье твоего Жака тебе послужит еще не один десяток раз. Ибо не все и не всегда можно доверить городской страже. Должен же быть кто-то, кого можно позвать в случае, когда бессильны законы, ибо они зачастую защищают не справедливость, а богатство, не обиженных, а обидчиков!
– Я перепишу эти законы!
– О да, мой любимый. Но, думаю, случится это еще очень и очень не скоро! И потому мне кажется, что твоя тайна, о визирь Шимас, твой Жак-бродяга скорее станет легендой, чем кучкой старого платья на самом дне забытого сундука.
История о мудром молодом визире и его тайне более чем поучительна. Но не менее поучительна и последняя история Шахразады – история о смелом Хасибе и мстительной Царице змей.
1
Решительный, благоразумный, осторожный (араб.).
(обратно)2
Саида – госпожа (араб.).
(обратно)3
Сулейман – Соломон (араб.).
(обратно)
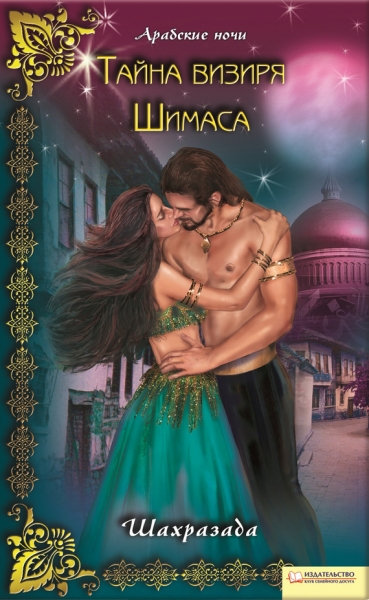





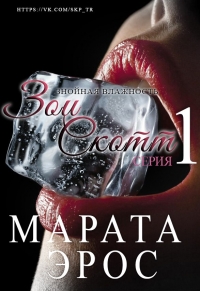




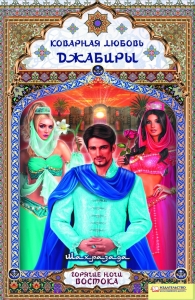

Комментарии к книге «Тайна визиря Шимаса», Шахразада
Всего 0 комментариев