Маркиз Донасьен-Альфонс-Франсуа де Сад Эрнестина Шведская повесть
Маркиз де Сад и его книги
Определения «безнравственно», «отвратительно», «ужасно» обычно сопровождают высказывания о творчестве французского писателя второй половины XVIII века маркиза де Сада. Созданная им разрушительная теория, согласно которой личности дозволяется во всем следовать своим самым низменным инстинктам, получать наслаждение от страданий других людей, убивать ради собственного удовольствия, стала называться «садизмом». Сочинения маркиза были вынесены за рамки большой литературы, а имя его предано забвению. В 1834 году в «Revue de Paris» впервые после смерти писателя были опубликованы о нем такие строки: «Это имя известно всем, но никто не осмеливается произнести его, рука дрожит, выводя его на бумаге, а звук его отдается в ушах мрачным ударом колокола».
Неодобрительные, мягко говоря, характеристики, даваемые де Саду и большинству его романов, небезосновательны. Однако сводить его творчество только к описаниям эротических извращений было бы неправильно, равно как и из случаев неблаговидного поведения писателя делать вывод о его личности в целом. Де Сад — сын своего бурного времени, очевидец и участник Великой французской революции, свидетель противоречивых послереволюционных событий, человек, проведший в заточении почти половину своей жизни. Его творчество во многом отражает кризис, постигший человечество на одном из поворотных этапов его истории, причем формы этого отражения созданы мрачной фантазией писателя, а концепция и тематика неотделимы от современных ему литературных и философско-политических воззрений.
Начавшийся в 80-х годах прошлого столетия процесс реабилитации писателя де Сада продолжается вплоть до наших дней и еще далек от своего завершения. Героев де Сада, живущих в поисках удовольствий, которые они находят в насилии и сексуальных извращениях, иногда отождествляют с личностью самого автора. Разумеется, жизнь «божественного маркиза», полная любовных приключений, отнюдь не являлась образцом добродетели, но и не была редким для своего времени явлением. Для сравнения можно вспомнить громкие процессы о нарушении норм нравственности и морали земляком де Сада, знаменитым оратором революции Мирабо.
Изощренный эротизм был в моде среди определенных кругов дворянского общества. Французские аристократы нередко развлекались фривольными картинами любви. Осуждая их эротические пристрастия, философы-просветители сами поддавались всеобщему увлечению. Пример тому — фривольный роман Дени Дидро «Нескромные сокровища», имеющий мало общего с возвышенными идеалами Просвещения. Философия гедонизма, исповедовавшаяся французской аристократией и превращавшая ее жизнь в сплошную погоню за мимолетными галантными наслаждениями, опосредованно отражала кризис феодального строя, рухнувшего и погребенного под обломками Бастилии 14 июля 1789 года.
Революционный взрыв был порожден не только всеобщим возмущением чересчур вызывающим поведением утопавших в роскоши всемогущих аристократов, не только стремлением буржуазии к уничтожению сословных привилегий, но и огромной работой просветителей, поставивших своей задачей обновление существующих порядков. Многие писатели-просветители стали властителями дум именно потому, что выступали как глашатаи смелых общественных идей. Блестящая плеяда философов, среди которых Монтескье, Вольтер, Дидро, д'Аламбер, Руссо, создала теоретические основы для построения нового, приходящего на смену феодализму общества. Материалистические воззрения Вольтера, эгалитаристские теории Руссо нашли свое отражение в революционной практике якобинцев и их вождя Робеспьера. Именно в этой богатой идеями и событиями обстановке были созданы программные сочинения де Сада. И именно в это время в общественном мнении начал формироваться мрачный облик личности писателя.
В 1989 году во всем мире отмечался 200-летний юбилей Великой французской революции, события, оказавшего огромное влияние не только на историю Франции, но и на развитие мирового сообщества в целом. Юбилейные торжества стали новым стимулом в исследованиях жизни и творчества маркиза де Сада, в стремлении осмыслить феномен Сада в контексте революции, разрушившей обветшалое здание французской монархии и провозгласившей Республику «единую и неделимую». Для защиты идей Свободы, Равенства и Братства республиканское правительство предприняло ряд чрезвычайных мер, приведших в результате к развязыванию в стране политики Террора: благородные устремления якобинцев обернулись кровавой трагедией. В результате переворота 9 термидора (27 июля 1794 года) Террор был отменен, однако лишь после того, как все якобинские вожди и их многочисленные сторонники сложили свои головы на гильотине.
Революционная трагедия не могла пройти бесследно для переживших ее участников. Де Сад был одним из немногих писателей, принимавших непосредственное участие в деятельности революционных институтов, наблюдал революционные механизмы изнутри. Ряд современных исследователей творчества де Сада считают, что в его сочинениях в мрачной гротескной форме нашли свое фантасмагорическое преломление кровавый период Террора и исповедуемая якобинцами теория всеобщего равенства. Противоречивые мнения о произведениях маркиза свидетельствуют о том, что творчество этого писателя еще не изучено в полной мере.
Донасьен-Альфонс-Франсуа маркиз де Сад родился 2 июня 1740 года в Париже. Его отец, Жан-Батист-Франсуа, принадлежал к старинному провансальскому дворянскому роду. Среди предков маркиза с отцовской стороны — Юг де Сад, ставший в 1327 году мужем Лауры ди Нови, чье имя обессмертил великий Петрарка. По линии матери, Мари-Элеоноры, урожденной де Майе де Карман, он был в родстве с младшей ветвью королевского дома Бурбонов. В романе «Алина и Валькур», герой которого наделен некоторыми автобиографическими чертами, де Сад набрасывает своего рода автопортрет: «Связанный материнскими узами со всем, что есть великого в королевстве, получив от отца все то изысканное, что может дать провинция Лангедок, увидев свет в Париже среди роскоши и изобилия, я, едва обретя способность размышлять, пришел к выводу, что природа и фортуна объединились лишь для того, чтобы осыпать меня своими дарами».
До четырех лет будущий писатель воспитывался в Париже вместе с малолетним принцем Луи-Жозефом де Бурбон, затем был отправлен в замок Соман и отдан на воспитание своему дяде, аббату д'Эбрей. Аббат принадлежал к просвещенным кругам общества, состоял в переписке с Вольтером, составил «Жизнеописание Франческо Петрарки». С 1750 по 1754 год де Сад обучался у иезуитов в коллеже Людовика Великого, по выходе из которого был отдан в офицерскую школу. В 17 лет молодой кавалерийский офицер принимал участие в последних сражениях Семилетней войны, а в 1763 году в чине капитана вышел в отставку и женился на дочери председателя налоговой палаты Парижа Рене-Пелажи де Монтрей. Брак этот был заключен на основе взаимовыгодных расчетов родителей обоих семейств. Сам де Сад не любил жену, ему гораздо больше нравилась ее младшая сестра, Луиза. Будучи живее и способнее старшей сестры, она, возможно, сумела бы понять противоречивый характер маркиза.
Впрочем, роман их был лишь отсрочен на несколько лет: в 1772 году де Сад уехал в Италию вместе с Луизой.
Не найдя счастья в браке, Сад начал вести беспорядочную жизнь и через полгода в первый раз попал в тюрьму по обвинению в богохульстве. Рождение в 1764 году первенца не вернуло маркиза в лоно семьи, он продолжал свою свободную и бурную жизнь либертена. Либертенами де Сад именовал главных героев своих жестоких эротических романов, которых по-другому можно назвать просвещенными распутниками. С именем де Сада связывали различные скандалы, оскорбляющие общественную нравственность и мораль. Так, например, известно, что в 1768 году на Пасху Сад заманил в свой маленький домик в Аркейе девицу по имени Роз Келлер и зверски избил ее. Девице удалось сбежать, она подала на маркиза в суд. По указу короля де Сада заключили в замок Сомюр, а затем перевели в крепость Пьер-Энсиз в Лионе. Дело Роз Келлер, точные обстоятельства которого теперь уже, вероятно, выяснить не удастся, явилось первым камнем, заложившим основу зловещей репутации маркиза.
Через полгода Сад вышел на свободу, но путь в Париж для него был закрыт. Ему предписали жить в своем замке Ла Кост на Юге Франции. Сад сделал попытку вернуться в армию, однако служба его не устроила, и он продал свой офицерский патент.
В 1772 году против маркиза было возбуждено новое уголовное дело: он и его лакей обвинялись в том, что в одном из веселых домов Марселя принуждали девиц к совершению богохульных развратных действий, а затем опаивали их наркотическими снадобьями, что якобы привело к смерти нескольких из них.
Доказательств у обвинения было еще меньше, чем в деле Роз Келлер, не было и жертв отравления, однако парламент города Экса заочно приговорил маркиза и его слугу к смертной казни. Небезынтересно отметить, что свидетелем со стороны обвинения на этом процессе выступал Ретиф де ла Бретон, ставший к этому времени автором нескольких получивших известность романов, будущий знаменитый писатель, летописец революционного Парижа и автор «Анти-Жюстины», романа столь же фривольного, как и программные сочинения маркиза. Оба писателя крайне отрицательно отзывались о сочинениях друг друга.
Спасаясь от судебного преследования, де Сад вместе с сестрой жены бежал в Италию, чем навлек на себя неумолимую ярость тещи, мадам де Монтрей. Обвинив зятя в измене и инцесте, она добилась у короля Сардинии разрешения на его арест. Маркиз был арестован и помещен в замок Мьолан, неподалеку от Шамбери. По его собственным словам, именно здесь началась для него жизнь «профессионального» узника. Через год он бежал из крепости и скрылся в своем замке Ла Кост, где в течение пяти лет продолжал вести весьма бурную жизнь.
Возникавшие периодически скандалы удавалось замять. Де Сад совершил путешествие в Рим, Флоренцию, Неаполь, где собирал предметы искусства. Несмотря на запрет, он часто приезжал в Париж. В одном из писем этого периода де Сад сам именовал себя либертеном и решительно отвергал определения «преступник» и «убийца». Однако обвинение в убийстве продолжало висеть над ним. Когда же наконец оно было снято, де Сад снова попал в тюрьму, на этот раз на основании «lettre de cachet», королевского указа о заключении в тюрьму без суда и следствия, полученного мадам де Монтрей. 14 января 1779 года, когда маркиз в очередной раз приехал в Париж, он был арестован и отправлен в Венсенский замок. В 1784 году его перевели в Бастилию, в камеру на втором этаже башни Свободы, где условия жизни узников были значительно хуже, чем в Венсенской крепости. Когда однажды де Саду было неожиданно отказано в прогулке, он с помощью железной трубы с воронкой на конце стал кричать из окна, что здесь, в тюрьме, «убивают узников», и, возможно, внес этим свою лепту в скорое разрушение крепости. На следующий день скандального узника по просьбе коменданта перевели в Шарантон, служивший в то время одновременно и тюрьмой, и приютом для умалишенных.
В Бастилии заключенный много читал, там же появились его первые литературные произведения: страстный антиклерикальный «Диалог между священником и умирающим» (1782), программное сочинение «120 дней Содома» (1785), где изложены главные постулаты садистской философии, роман в письмах «Алина и Валькур» (1786–1788), единодушно называемый в одном ряду с такими выдающимися произведениями эпохи, как «Жак-фаталист» Дидро и «Опасные связи» Шодерло де Лакло. Интересно, что роман Лакло вместе с собранием сочинений Вольтера был в списках книг, доставленных узнику в бастильскую камеру.
В 1787 году Сад написал поэму «Истина», посвятив ее философу-материалисту и атеисту Ламетри, а через год была начата повесть «Эжени де Франваль». Здесь же, в Бастилии, всего за две недели родилось еще одно знаменитое сочинение — «Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» (1787). По замыслу автора оно должно было войти в состав предполагаемого сборника «Новеллы и фаблио XVIII века». Однако судьба «Жюстины» сложилась иначе. Увидев свет в 1791 году во второй редакции, отличающейся от первой только увеличением числа эпизодов, повествующих о несчастьях добродетельной Жюстины, в 1797 году роман, еще более увеличившийся в объеме — от 150 до 800 страниц — вышел уже под названием «Новая Жюстина, или Несчастная судьба добродетели». Его сопровождало своего рода дополнение — история Жюльетты, сестры Жюстины. Жизнеописание Жюльетты, как следует из его названия «Жюльетта, или Преуспеяния порока», — это вывернутый наизнанку рассказ о Жюстине: испытания, приносившие Жюстине лишь духовные и телесные страдания, стали для Жюльетты источником удовольствий и благополучия.
Первоначальный замысел «Новелл и фаблио XVIII века» также не был осуществлен. Короткие повествования, созданные писателем в разное время, были объединены в два сборника. Первым была книга из одиннадцати исторических и трагических новелл под названием «Преступления любви, или Безумства страстей» (1800) с предваряющей их статьей автора «Размышления о романах». Сборник под названием «Короткие истории, сказки и фаблио», объединивший в основном забавные истории, был издан лишь в 1926 году. Известно также, что в 1803–1804 годах де Сад собирался объединить два десятка трагических и веселых рассказов из этих сборников под названием «Французский Боккаччо», указывающим на следование автором вполне определенной литературной традиции. Но это произошло только в конце XX века: настоящее издание, представляя новеллы из обоих сборников, частично воплощает авторский замысел.
В апреле 1790 года, после принятия декрета об отмене «lettre de cachet», де Сад был освобожден. К этому времени его жена юридически оформила их разрыв, и де Сад остался практически без средств к существованию. Имя его по злосчастной оплошности было занесено в список эмигрантов, что лишило его возможности воспользоваться оставшейся ему частью имущества. Де Сад устроился суфлером в версальском театре, где получал два су в день, которых едва хватало на хлеб. В это время он познакомился с Констанс Кене, ставшей ему верной спутницей до конца жизни.
Маркиз постепенно возвращался к литературному труду, стремясь восстановить потерянную во время перевода из Бастилии в Шарантон рукопись «120 дней Содома», представлявшую собой рулон бумаги длиной 20 метров. Заново изложить содержание утраченного романа Сад попытался в «Жюльетте, или Преуспеяниях порока», что привело к значительному увеличению объема сочинения.
Но свиток с рукописью романа все же сохранился, и в 1900 году он был обнаружен немецким психиатром и сексопатологом Евгением Дюреном, который вскоре и опубликовал его, сопроводив собственным комментарием медицинского характера. Однако подлинно научное издание романа, подготовленное известным французским исследователем творчества де Сада — Морисом Эном, вышло только в начале 30-х годов.
На свободе гражданин Сад принял активное участие в революционных событиях. «Я обожаю короля, но ненавижу злоупотребления старого порядка», — писал маркиз де Сад. Не будучи в первых рядах творцов Революции, он тем не менее более года занимал значимые общественные посты и обращался к нации от имени народа. В 1792 году он нес службу в рядах национальной гвардии, участвовал в деятельности парижской секции Пик, лично занимался состоянием парижских больниц, добиваясь, чтобы у каждого больного была отдельная больничная койка. Составленное им «Размышление о способе принятия законов» было признано полезным и оригинальным, напечатано и разослано по всем секциям Парижа.
В 1793 году де Сад был избран председателем секции Пик. Поклявшись отомстить семейству де Монтрей, он тем не менее отказался внести эту фамилию в проскрипционные списки, спасая тем самым ее членов от преследований и, возможно, даже от гильотины. В сентябре того же года де Сад произнес пламенную речь, посвященную памяти народных мучеников Марата и Лепелетье. Выдержанная в духе революционной риторики, она призывала обрушить самые Суровые кары на головы убийц, предательски вонзающих нож в спину защитников народа. По постановлению секции речь была напечатана и разослана по всем департаментам и армиям революционной Франции, направлена в правительство — Национальный Конвент. В соответствии с духом времени де Сад внес предложение о переименовании парижских улиц. Так, улица Сент-Оноре должна была стать улицей Конвента, улица Нев-де-Матюрен — улицей Катона, улица Сен-Никола — улицей Свободного Человека.
За три недели до нового ареста де Сад, возглавлявший депутацию своей секции, зачитывает в Конвенте «Петицию», в которой предлагается введение нового культа — культа Добродетелей, в честь которых следует «распевать гимны и воскурять благовония на алтарях». Насмешки над добродетелью, отрицание религии, существования Бога или какой-либо иной сверхъестественной организующей силы были отличительной чертой мировоззрения де Сада, поэтому подобный демарш воспринят многими исследователями его творчества как очередное свидетельство склонности писателя к черному юмору, примеров которого так много в его романах. Однако подобная гипотеза вызывает сомнения, ибо после принятия 17 сентября 1793 года «закона о подозрительных», направленного в первую очередь против бывших дворян, эмигрантов и их семей, де Сад, все еще числившийся в эмигрантских списках, не мог чувствовать себя полностью в безопасности и поэтому не стал бы только ради ехидной усмешки привлекать к себе пристальное внимание властей. Тем более что в обстановке начавшегося Террора де Сад проявил себя решительным противником смертной казни, считая, что государство не имеет права распоряжаться жизнью своих граждан. С подобными взглядами его участие в революционных судебных процессах, происходивших в секции, было весьма сомнительным.
В результате в декабре 1793 года де Сада арестовали по обвинению в модерантизме и поместили в тюрьму Мадлонет. Затем его переводили из одной парижской тюрьмы в другую, и к лету 1794 года он оказался узником монастыря Пикпюс, превращенного в место содержания государственных преступников. Среди прочих заключенных там в это время находился и известный писатель Шодерло де Лакло. Неподалеку от монастыря, возле заставы дю Трон, стояла гильотина, и тела казненных хоронили в монастырском саду. Позднее, через год после освобождения, де Сад так описывал свои впечатления от тюрем революции: «Мой арест именем народа, неумолимо нависшая надо мной тень гильотины причинили мне больше зла, чем все бастилии, вместе взятые».
Приговоренного к смерти, его должны были гильотинировать вместе с двумя десятками других узников 8 термидора (26 июля). Счастливый случай спас де Сада: в неразберихе, царившей в переполненных тюрьмах, его просто потеряли. После переворота 9 термидора действие распоряжений якобинского правительства было приостановлено, и в октябре 1794 года по ходатайству депутата Ровера де Сад был освобожден.
В 1795–1800 годах во Франции и Голландии вышли основные произведения де Сада: «Алина и Валькур, или Философический роман» (1795), «Философия в будуаре» (1795), «Новая Жюстина, или Несчастная судьба добродетели» и «Жюльетта, или Преуспеяния порока» (1797), «Преступления любви, или Безумства страстей» (1800). В этом же году де Сад издал свой новый роман — «Золоэ и два ее приспешника», в персонажах которого публика сразу узнала Наполеона Бонапарта, недавно провозглашенного Первым Консулом, его жену Жозефину и их окружение. Разразился скандал. Наполеон не простил писателю этого памфлета, и вскоре де Сад как автор «безнравственных и аморальных сочинений» был заключен в тюрьму Сен-Пелажи.
В 1803 году маркиз был признан душевнобольным и переведен в психиатрическую клинику в парижском пригороде Шарантон. Там де Сад провел все оставшиеся годы жизни и умер 2 декабря 1814 года, в возрасте 75 лет. В своем завещании он просил не подвергать тело вскрытию и похоронить его в Мальмезоне, в принадлежавшем ему ранее имении. Исполнено было только первое пожелание писателя, местом же упокоения стало кладбище в Шарантоне. По просьбе родственников могила де Сада осталась безымянной.
За годы, проведенные в Шарантоне, писателем был создан ряд исторических произведений, опубликованных в основном уже после его смерти: роман «Маркиза де Ганж», полностью использующий арсенал готического романа; сентиментальная история под названием «Аделаида Брауншвейгская», отличающаяся глубиной проработки исторического материала; роман «Изабелла Баварская, королева Франции». Там же, при покровительстве директора клиники, маркиз имел возможность реализовать обуревавшую его с юношеских лет страсть к театру. На спектакли, поставленные де Садом и исполняемые пациентами клиники, съезжался весь парижский свет. Обширное драматическое наследие де Сада, состоящее из пьес, сочинявшихся автором на протяжении всей жизни, еще ждет своих исследователей и постановщиков.
Творчество маркиза де Сада находится в сложном соотношении со всем комплексом идей, настроений и художественных течений XVIII века. Эпоха Просвещения дала миру не только безграничную веру в мудрость разума, но и безмерный скептицизм, не только концепцию естественного, не испорченного обществом человека, но и философию «естественного права», в рамки которой свободно укладывалось право сильного помыкать слабым. Своим романом «Опасные связи» Шодерло де Лакло заложил традиции описания порока «без прикрас» с целью отвратить от него читателя. У де Сада показ извращенного эротизма, растления и преступлений становится своего рода художественным средством, способом познания действительности. Либертены, программные герои де Сада, живут в смоделированном автором мире, где убийство, каннибализм, смерть есть естественный переход материи из одного состояния в другое. Для природы же все состояния материи хороши и естественны, а то, что не материя, — ложь и иллюзия. Следовательно, и заповеди христианской морали, проповедуемые церковью, ложны; нарушая их, человек лишь следует законам природы. В этом мире, где нет ни Бога, ни веры в человека, автор присутствует лишь в качестве наблюдателя.
В новеллах (повестях) и коротких историях, представленных в настоящем сборнике, де Сад выступает прямым наследником традиций французской и европейской новеллистики. Нет сомнения, что при написании их он вспоминал не только о Боккаччо, чье имя даже хотел вынести в заглавие сборника, но и о Маргарите Наваррской и новеллистах прошлого, XVII века, когда короткие истории значительно потеснили толстый роман. Так, во Франции большим успехом пользовались любовные рассказы госпожи де Вильдье и исторические повести мадам де Лафайетт, чье творчество де Сад в «Размышлениях о романах» оценивает очень высоко.
Действие ряда повестей разворачивается на широком историческом фоне: в «Жюльетте и Ронэ» автор живописует положение Франции после мирного договора между французским королем Генрихом II и королем Испании Филиппом II, подписанного в 1559 году в Като-Камбрези; в «Лауренции и Антонио» описывает Флоренцию времен Карла V. Маркиз не обходит стороной и сказочные феерии — к ним относятся «Родриго, или Заколдованная башня», «Двойное испытание», где герой без колебаний нанимает целую армию актеров и строит роскошные декорации, дабы перенести возлюбленных своих в мир волшебных сказок и чудесных историй. Галантные празднества, описанные в этой новелле, напоминают пышные представления в Версале эпохи Людовика XIV, продолжавшиеся, хотя и с меньшим размахом, и во времена де Сада. Страсть маркиза к театру, сопровождавшая его на протяжении всей жизни, ярко проявляется здесь в описаниях поистине фантастических садов и хитроумных бутафорских трюков.
Многие персонажи де Сада вынуждены играть комедию или, напротив, трагедию, которой нередко заканчивается переодевание («Жена кастеляна де Лонжевиль», «Эрнестина»), или другое театральное действо, разыгранное перед взором героя («Эжени де Франваль»). Долгое сокрытие истины также приводит к плачевным результатам («Эмилия де Турвиль», «Флорвиль и Курваль»).
Повесть «Эжени де Франваль» занимает особое место среди новелл де Сада. Создаваемая одновременно со «120 днями Содома», она развивает многие идеи этого произведения. Герой ее, господин де Франваль, — либертен, и высшей формой любви для него является инцест. Со свойственным персонажам маркиза многословием Франваль теоретически обосновывает свою слепую страсть к собственной дочери и ненависть к жене, которую он успешно внушает дочери, прилежно внимающей поучениям распутного отца. Но трагическая страсть Франваля, как и жестокие удовольствия аристократов-либертенов из «120 дней», могут существовать лишь в замкнутом, отгороженном от внешнего мира пространстве. Вторжение извне разрушает выстроенную либертеном модель существования ради получения наслаждения, и преступные любовники гибнут.
«Преступления любви» — жестокие истории, но они жестоки прежде всего своими психологическими коллизиями, в них нет ни скабрезностей, ни описаний эротических оргий. Любовь становится в них всепоглощающей, разрушительной страстью, уничтожающей все на своем пути, сжигающей в своем пламени и самих любовников. В отличие от программных произведений автора, здесь мучения причиняются не телу, а душе, и искусство де Сада проявляется не в фантасмагорическом описании сцен насилия, но в создании поистине непереносимых, жестоких ситуаций для своих героев. При этом, разумеется, предполагается, что последние обладают чувством чести и стремлением к добродетели, то есть качествами, вызывающими наибольшее отвращение у либертенов. Так, например, в «Эрнестине» автор описывает не мучения гибнущего на эшафоте Германа, а страдания Эрнестины, которую заставляют смотреть на казнь возлюбленного, не смерть Эрнестины, а терзания ее отца, невольно убившего собственную дочь.
Современник готического романа, де Сад не чуждается романтических декораций, мрачных предзнаменований, нагнетания тревоги («Флорвиль и Курваль», «Дорси»). Наследник традиций смешных и поучительных средневековых фаблио, писатель выводит на сцену любвеобильных монахов и обманутых ими мужей («Муж-священник», «Долг платежом красен»).
Но какова бы ни была пружина интриги, раскручивающая действие новеллы, механика развития сюжета почти всегда одинакова: зло вступает в сговор против добродетели, последняя торжествует, хотя зачастую ценой собственной гибели, зло же свершается, хотя и терпит поражение. Однако, по словам самого писателя, породить отвращение к преступлению можно, лишь живописуя его, возбудить же жалость к добродетели можно, лишь описав все несчастия ее. Заметим, что именно за чрезмерное увлечение в описании пороков, превратившееся, по сути, в самоцель, книги де Сада были осуждены уже его современниками.
Страсть к заговорам, проявившуюся в повестях, некоторые исследователи творчества писателя объясняют комплексом узника, присущим де Саду. Действительно, проведя взаперти не одно десятилетие, он постоянно ощущал себя жертвой интриг, о чем свидетельствуют его письма, отправленные из Венсенского замка и из Бастилии. В глазах заключенного любая мелочь, любая деталь становится значимой, подозрительной, ибо он не может проверить, что имеет под собой основу, а что нет. Поэтому линейное развитие действия новелл обычно завершается логической развязкой, как в классической трагедии или детективном романе. Но если в хорошем детективе читатель зачастую попадает в ловушку вместе с его героями и с ними же идет к познанию истины, у де Сада читатель раньше догадывается или узнает о причинах происходящего и, в отличие от героя, для которого раскрытие истины всегда неожиданно, предполагает развязку.
Рассказы де Сада дидактичны, что, впрочем, характерно для многих сочинений эпохи. Вне зависимости от содержания, в них одним и тем же весьма выспренним слогом прославляется добродетель и отталкивающими красками расписывается порок, а на этом своеобразном монотонном фоне кипят бурные страсти, описанные эмоционально и выразительно. И в этой стройности, четкости построения сюжета, в сдержанности изображения страстей проявляется мастерство автора, крупного писателя XVIII века. Существует мнение, что де Сад неискренен в своих рассказах, что его прославление добродетели есть не более чем маска, за которой на время спряталось разнузданное воображение автора, посмеивающегося над теми, кто поверил в его возмущение пороком. Но как бы то ни было, знакомство с новеллистикой писателя, ранее неизвестной нашему читателю, представляется увлекательным и небезынтересным.
Е. Морозова
Маркиз де Сад Донасьен-Альфонс-Франсуа Эрнестина Шведская повесть
После Италии, Англии и России мало стран кажутся мне столь же заслуживающими внимания, как Швеция. Но если мое воображение воспламенялось при мысли о возможности увидеть знаменитые края, давшие миру Алариха, Аттилу и Теодориха — этих героев, ставших во главе многочисленных войск, сумевших ввергнуть в трепет императорских орлов, чьи крылья простирались почти надо всем миром, и заставивших римлян отступить до стен собственной столицы, то душа моя горела желанием увидеть родину Густава Вазы[1], королевы Кристины[2] и Карла XII[3]… Каждый из них был известен по-своему: первый прославился своей философией, качеством редкостным и поистине бесценным для суверена, своим достойным уважения благоразумием, заставляющим склонять головы те религии, что начинают препятствовать не только власти правительства, коей они должны подчиняться, но и счастью народов, единственному объекту деятельности законодателей; вторая прославилась величием души, предпочтя одиночество и литературные занятия блеску трона; третий — своим геройством и доблестями, заслужившими ему бессмертное прозвище Александра Македонского. Если все эти предметы вызывали восхищение мое, то с еще большим жаром желал я выразить восторг свой народу мудрому, добродетельному, сдержанному и великодушному, ибо он поистине может служить образцом среди прочих народов Севера!
Именно с таковыми намерениями 20 июня 1774 года я отбыл из Парижа и, проехав Голландию, Вестфалию и Данию, к середине следующего года прибыл в Швецию.
После трехмесячного пребывания в Стокгольме объектом моей любознательности стали знаменитые рудники, описания коих читал я во множестве и где рассчитывал я повстречаться с приключениями наподобие тех, о которых повествует нам аббат Прево в своих анекдотах. Мне это удалось… однако, сколь велика была разница!
Итак, я направился сначала в Упсалу, город, расположенный по обоим берегам реки Фюрисон. Будучи долгое время столицей Швеции, город этот и по сей день является вторым по значимости после Стокгольма. Прожив в нем три недели, я отправился в Фалун, древнюю колыбель скифов, бывшую столицу Далекарлии, чьи жители до сих пор сохраняют нравы и обычаи предков. Покинув Фалун, я прибыл на рудник Таперг, один из самых значительных в Швеции.
Рудники, являясь самым богатым источником доходов государства, быстро подпали под власть англичан по причине долгов, сделанных владельцами рудников, и представителей сей нации, всегда готовых дать взаймы тем, кого они вскорости рассчитывают закабалить, препятствуя их коммерции либо подрывая могущество их своими ростовщическими займами.
Когда прибыл в Таперг, мое воображение заработало еще до того, как я спустился в подземелья, где жажда роскоши и скаредность нескольких человек весьма умело поглотили все прочие их качества.
Побывав недавно в Италии, я поначалу представлял, что рудники Таперга будут похожи на катакомбы Рима или Неаполя. Я ошибался: хотя они и более глубоки, но я не испытал в них столь гнетущего чувства одиночества.
В Упсале мне дали в проводники человека образованного, много читавшего и не чуравшегося сочинительства. К счастью для меня, Фалькенейм (таково было его имя) прекрасно говорил по-немецки и по-английски, на тех единственных для меня языках, употребляемых на Севере, с помощью которых я мог с ним объясняться. На первом, предпочитаемом нами обоими, мы могли договориться о любом предмете, и мне было весьма просто понять ту историю, кою я сейчас и намереваюсь вам поведать.
С помощью корзины и веревки — механизма, устроенного так, что использование его не представляет ни малейшей опасности, — мы опустились в шахту и уже через минуту находились на глубине ста двадцати туазов[4] от поверхности земли. Не без удивления увидел я там улицы, дома, храмы, постоялые дворы. На улицах царило оживление: люди трудились, жандармы надзирали, судьи вершили суд — словом, было все, что подобает самому цивилизованному городу Европы.
Пройдя мимо странных сих обитателей, мы вошли в таверну, где Фалькенейм получил от трактирщика все, что требуется для подкрепления сил, а именно: отменного пива, сушеной рыбы и особого сорта шведского хлеба, весьма распространенного в местных деревнях и выпекаемого из еловой хвои и березовой коры, смешанных с соломой, дикими кореньями и овсяной мукой. Что еще может желать путешественник для удовлетворения скромных своих потребностей? Философ, путешествующий по миру, дабы поучиться, должен приспосабливаться к любым нравам, к любым религиям, к любой погоде и любому климату, любым постелям и любой пище, оставив праздному столичному бездельнику предрассудки, а также роскошь… вызывающую роскошь, что, никогда не отвечая насущным потребностям, каждый день изобретает повод, дабы расходовал он состояние и здоровье свое.
Наша скромная трапеза подходила к концу, когда один из работников рудника, в куртке и штанах голубого цвета, с плохоньким маленьким паричком на голове, подошел к Фалькенейму и поздоровался с ним по-шведски. Из уважения ко мне провожатый мой ответил ему по-немецки, и заключенный (а это был один из них) тут же перешел на этот язык. Несчастный, видя, что беседа ведется исключительно ради меня, и догадавшись, откуда я родом, сделал мне комплимент по-французски, а затем осведомился у Фалькенейма, что нового в Стокгольме. Он назвал множество имен придворных, поговорил о короле и все это с такой свободой и изяществом, что я невольно прислушался к его речам. Он спросил у Фалькенейма, не думает ли тот, что однажды ему выйдет помилование, на что провожатый мой ответил отрицательно и сочувственно пожал собеседнику своему руку.
Узник тотчас же удалился: в глазах его было страдание, и он напрочь отказался разделить с нами трапезу, как мы ни настаивали. Через минуту, однако, он вернулся и спросил Фалькенейма, не сочтет ли тот за труд передать одно письмо, кое он сейчас же напишет. Мой провожатый пообещал ему выполнить просьбу, и заключенный вышел.
Как только он ушел, я обратился к Фалькенейму:
— Кто этот человек?
— Один из самых блестящих дворян Швеции, — ответил тот.
— Поистине это удивительно.
— Впрочем, здесь ему неплохо: терпимость государя нашего можно сравнить с великодушием Августа по отношению к Цинне[5]. Человек, коего вы только что видели, граф Окстьерн, один из тех мятежных сенаторов, что выступили против короля в 1772 году[6]. Как только мятеж был подавлен, сенатора осудили за совершение ужасных преступлений. По закону ему был вынесен смертный приговор, но король, памятуя о той ненависти, что выказывал ему граф ранее, приказал привести его к себе и сказал: «Граф, судьи мои приговорили вас к смерти… Несколько лет назад такой же приговор вы вынесли и мне. Но именно поэтому я спасаю вам жизнь. Я хочу доказать вам, что сердце того, кого вы почли недостойным занимать трон, не чуждо милосердия». Окстьерн припал к ногам короля, заливаясь слезами. «Мне хотелось бы вовсе избавить вас от наказания, — произнес король, поднимая его, — однако число преступлений ваших не позволяет мне сделать этого. Я отошлю вас на рудники; счастья вы там не обретете, но, по крайней мере, сможете там жить… А теперь уходите». Окстьерна привезли сюда, и вы только что видели его. Идемте, — добавил Фалькенейм, — уже поздно, мы заберем письмо по дороге.
— Но, сударь, — сказал я своему провожатому, — вы разбудили мое любопытство, и я готов еще хоть неделю оставаться в сих местах. Я ни за что не покину чрево земное, пока вы доподлинно не поведаете мне историю этого несчастного. Хотя он и преступник, лицо его показалось мне не лишенным благородства… Ему ведь нет еще и сорока? Желал бы я когда-нибудь увидеть его на свободе: мне кажется, он снова смог бы стать честным человеком.
— Он — честным? Никогда… никогда!
— Сударь, пощадите любопытство мое и удовлетворите его своим рассказом.
— Хорошо, я согласен, — ответил Фалькенейм, — к тому же время, что займет мой рассказ, даст несчастному возможность написать письмо. Пошлем сказать ему, что он может не торопиться, а сами перейдем в заднюю комнату, там нам будет спокойнее… Однако меня вовсе не радует необходимость посвящать вас в эту историю: она, несомненно, приглушит то сострадание, кое негодяй этот разбудил в вас. Я предпочел бы оставить вас в неведении, дабы вы могли сохранить чувство, возникшее в вас с первого взгляда на него.
— Сударь, — заметил я Фалькенейму, — ошибки человека учат меня постигать натуру его, а в путешествиях своих я преследую именно эту цель. Чем более отклоняется человек со стези, предписанной ему законом или природой, тем более изучение характера его становится интересным и тем больше вызывает он во мне любопытства и сострадания. Добродетель требует лишь почитания, путь ее — это путь счастья… и добродетельный человек должен быть счастлив, ибо тысячи объятий распахнутся ему навстречу, когда противник станет его преследовать. Но все мгновенно отворачиваются от преступника… краснеют, когда требуется протянуть ему руку помощи или же выказать сострадание. Всех обуревает страх заразиться его недугом, и потому его изгоняют изо всех сердец; из-за гордыни мы начинаем оскорблять того, кому, согласно законам человечности, следовало бы помочь. Неужели, сударь, можно встретить смертного, чья судьба была бы более занимательна, чем удел того, кто с невероятной высоты сорвался в бездну горестей, того, кто, привыкнув лишь к милостям фортуны, испытывает теперь лишь удары ее… кто терпит все беды, вызванные нуждою, а в душе своей слышит горькие упреки совести, пробуждающейся от уколов ядовитого жала отчаяния? Он, он один, дорогой мой, достоин сострадания моего. Я не стану повторять вслед за глупцами: «Он сам виноват» — или же следовать примеру тех бездушных, кто в жестокосердии своем твердит: «Нет ему прощения». Ах, что мне за дело до той черты, кою переступил он и презрел, что мне за дело до того, что совершил он! Он человек и, стало быть, слаб… Он преступник, но он несчастен, и мне жаль его… Рассказывайте же, рассказывайте, Фалькенейм, я сгораю от нетерпения.
И мой почтенный друг рассказал мне все.
В начале нынешнего века один дворянин, католик по вероисповеданию и немец по рождению, вследствие одного дела, не порочащего, однако, вовсе чести его, вынужден был покинуть свою родину. Зная, что в Швеции хотя и осудили заблуждения папистов, но относятся к таковым весьма терпимо, особенно в провинции, он прибыл в Стокгольм. Молодой, прекрасно сложенный, грезящий о военных подвигах и славе, пылкий и стремительный, он понравился Карлу XII и был удостоен чести сопровождать его во многих походах. Он был с ним в злосчастной битве под Полтавой, следовал за королем при отступлении под Бендерами, разделил с ним турецкий плен и вместе возвратился в Швецию.
В 1718 году, когда государство потеряло своего героического короля под стенами Фредериксхалля в Норвегии, Сандерс (так звали того дворянина, о котором я веду рассказ) получил патент полковника, в звании этом вышел в отставку и удалился в Нордкопинг, торговый город, расположенный в пятнадцати лье от Стокгольма, на канале, ведущем от озера Венерн прямо к Балтийскому морю через провинцию Эстерйетланд.
Сандерс женился, у него родился сын, которого короли Фридрих[7] и Адольф-Фредерик[8] приняли столь же любезно, как и предшествующий король — самого отца. Благодаря своим собственным заслугам продвигался он по службе; как и отец его, заслужил чин полковника, будучи еще молодым, вышел в отставку и также уехал в свой родной Нордкопинг, где по примеру отца женился на дочери небогатого негоцианта. Она умерла двенадцать лет спустя, произведя на свет Эрнестину, героиню нашей истории, случившейся три года назад.
Следовательно, Сандерсу было тогда сорок два года, Эрнестине же исполнилось шестнадцать, и она по справедливости считалась одним из прекраснейших созданий, которое когда-либо порождала Швеция. Она была высокого роста, прекрасно сложена, имела облик благородный и гордый, самые прекрасные живые черные глаза и густые длинные волосы того же цвета, что весьма редко встречается в нашем климате. Но несмотря на это, кожа ее была необычайно бела и прекрасна. Находили, что она имела сходство с великолепной графиней Спарра, знаменитой подругой нашей ученой королевы Кристины, и сравнение сие было справедливо.
Юная Сандерс еще не достигла упомянутого нами возраста, но сердце ее уже сделало свой выбор. Часто слыша от матери, сколь жестоко для молодой женщины, обожающей своего мужа, постоянно разлучаться с ним, когда государственная служба призывает его то в один город, то в другой, Эрнестина, с одобрения отца своего, вынесла решение в пользу молодого Германа. Он исповедовал одну с ней религию и, чувствуя призвание свое к коммерции, получал образование в конторе господина Шольтца, самого известного негоцианта Нордкопинга и одного из самых богатых людей Швеции.
Герман и сам принадлежал к сословию негоциантов. Родителей своих утратил он еще в ранней юности. Отец, умирая, поручил его господину Шольтцу, старинному своему компаньону, поэтому молодой человек проживал у него в доме. Заслужив доверие своего покровителя благодаря упорству и смекалке, Герман, хотя ему еще не было и двадцати двух лет, уже вел все счета торгового дома Шольтца, как вдруг глава его внезапно скончался, не оставив наследников. Отныне молодой человек находился во власти вдовы негоцианта, женщины сильной и высокомерной, которая, несмотря на все советы супруга своего относительно Германа, казалось, была решительно настроена избавиться от молодого человека, если тот не будет отвечать ее чаяниям.
Герман, словно созданный самой природой для Эрнестины, был столь же красивым мужчиной, как суженая его — прекраснейшей из женщин, и они оба обожали друг друга. Такой юноша, несомненно, мог внушить любовь вдове Шольтц, женщине сорока лет, но еще свежей. А так как сердце его было занято, то совершенно ясно, что он не отвечал на намеки своей хозяйки и, сомневаясь в искренности ее любви к нему, благоразумно делал вид, что ничего не происходит.
Однако страсть эта беспокоила Эрнестину Сандерс. Она знала госпожу Шольтц как женщину решительную, предприимчивую, с характером вспыльчивым и ревнивым; подобная соперница весьма волновала ее. Тем более что для Германа Эрнестина была менее выгодной партией, нежели вдова Шольтц: со стороны полковника Сандерса не имела она ничего, хотя от матери и унаследовала некоторое состояние. Но разве можно было сравнить его с богатством, которое вдова Шольтц могла предложить своему юному служащему?
Сандерс одобрял выбор дочери. Не имея иных детей, он обожал ее. Зная, что Герман обладает некоторым состоянием, умен и благовоспитан, а главное — сумел завоевать сердце Эрнестины, Сандерс был далек от того, чтобы препятствовать столь подходящей партии. Но судьба не всегда желает нам блага: кажется, что удовольствие ее состоит именно в том, чтобы расстраивать самые добродетельные планы людей, дабы те из непредсказуемости сей вывели урок о том, что в этом мире не следует ни на что надеяться, ибо в нем царят превратности и хаос.
— Герман, — обратилась однажды вдова Шольтц к молодому возлюбленному Эрнестины, — вы уже достаточно поднаторели в торговле, чтобы завести наконец собственное дело. Состояние, оставленное вам вашими родителями, благодаря неусыпным заботам супруга моего и моим весьма увеличилось, и вы вполне можете воспользоваться им по своему разумению. Заведите же свое дело, друг мой, а я вскоре намерена удалиться на покой. При первом же подходящем случае мы произведем расчеты наши.
— К вашим услугам, сударыня, — ответил Герман. — Вы знаете, что я честен и не корыстен. Я совершенно спокоен за состояние свое, находящееся в ваших руках, также и вы можете быть спокойны за деньги, доверенные вами мне.
— Но, Герман, разве вы не хотите зажить собственным домом?
— Я еще молод, сударыня.
— Вы наилучшим образом подходите в мужья женщине рассудительной. Я уверена, что именно таковой вы составите счастье.
— Прежде чем думать о женитьбе, мне бы хотелось увеличить свое состояние.
— Жена помогла бы вам в этом.
— Женившись, я желал бы полностью посвятить себя жене и детям.
— Таким образом, вы хотите сказать, что ни одна женщина еще не затронула вашего сердца?
— В этом мире есть лишь одна женщина, кою почитаю я, как собственную мать, и буду служить ей столь долго, сколь долго ей будет угодно принимать услуги мои.
— Я не спрашиваю вас о такого рода чувствах, друг мой, я признательна вам за них, однако не они ведут к браку. Герман, я хочу знать, есть ли у вас на примете женщина, с которой хотели бы вы разделить судьбу свою?
— Нет, сударыня.
— А почему же тогда вас все время видят в семействе Сандерса? Что делаете вы в доме этого человека? Он — военный, вы — негоциант; общайтесь с людьми вашего сословия, друг мой, и оставьте в покое всех прочих.
— Сударыня, вам известно, что я католик. Полковник тоже католик. Мы встречаемся, чтобы молиться… вместе ходим в отведенную нам часовню.
— Я никогда не стану хулить религию вашу, хотя сама и исповедую иную веру. Впрочем, я совершеннейше убеждена в бесполезности всех подобных глупостей, каковы бы они ни были. Как вам известно, Герман, я всегда была терпимо настроена на этот счет.
— Тем лучше! Тем более, сударыня, вы понимаете, что именно вера… влечет меня в дом полковника.
— Герман, есть и иная причина ваших частых к нему визитов, и ее вы скрываете от меня: вы любите Эрнестину… эту девчонку, которая, на мой взгляд, не обладает ни красотой, ни умом, хотя весь город и говорит о ней как об одном из чудес Швеции… Да, Герман, вы любите ее… любите, не отпирайтесь, я это знаю.
— Мадемуазель Эрнестина Сандерс прекрасно ко мне относится, сударыня… Но ее происхождение… положение… Знаете ли вы, сударыня, что ее предок, полковник Сандерс, знатный дворянин из Вестфалии, был другом короля Карла XII?
— Да, знаю.
— Тогда судите сами, сударыня, могу ли я быть ей подходящей партией.
— Вот и я вам говорю, Герман, что она вам не пара. Вам нужна женщина зрелых лет, которая смогла бы позаботиться о вашем состоянии и о вас самих, словом, женщина моего возраста и с моим состоянием.
Герман покраснел, отвернулся… Но так как в эту минуту подали чай, то разговор прервался. После завтрака Герман вернулся к своим занятиям.
— О, дорогая моя Эрнестина! — сказал на следующий день Герман юной Сандерс. — Увы, жестокая эта женщина воистину имеет на меня виды, более у меня нет сомнений. Вам известны ее завистливый характер и то влияние, которым пользуется она в городе[9]. Эрнестина, боюсь, что может случиться непоправимое.
Когда вошел полковник, влюбленные поделились с ним своими опасениями.
Сандерс, хотя и считался старым воякой, был человеком рассудительным и вовсе не стремился рассориться со всем городом. Видя, что покровительство, оказываемое им Герману, непременно настроит против того вдову Шольтц и всех ее друзей, он счел своим долгом посоветовать молодым людям смириться с обстоятельствами. Он даже попытался доказать Герману, что вдова, от которой тот зависел, по сути является для него более выгодной партией, нежели Эрнестина, а что до возраста той, так следует больше уважать ее богатство, нежели внешность.
— Дорогой мой, я вовсе не отказываю вам в руке моей дочери, — продолжил полковник. — Я давно знаю вас… уважаю вас, вам принадлежит сердце возлюбленной вашей. Я готов пойти на все, но представьте отчаяние мое, если мне доведется узнать о сожалениях ваших… Вы оба молоды; в вашем возрасте живут любовью и не думают об иной жизни. Однако сие ошибочно: не будучи подкрепленной достаточным состоянием, любовь чахнет, а выбор, сделанный под воздействием ее одной, быстро оборачивается раскаянием и сожалениями.
— Отец мой, — воскликнула Эрнестина, бросаясь к ногам Сандерса, — достойный творец дней моих, не лишайте меня надежды стать женой моего дорогого Германа! С самого раннего детства обещали вы ему мою руку… Надежда эта — единственная моя радость; лишить ее меня может только смерть. Привязанность эта заполняет всю жизнь мою; и сколь сладостно видеть, что чувства твои находят одобрение у отца твоего! Герман же обретет в любви, кою он питает ко мне, силы, необходимые для сопротивления соблазнам госпожи Шольтц… О, отец мой! Не покидайте нас своими заботами!
— Встань, любимая дочь моя, — ответил полковник, — моя обожаемая дочь… Раз в Германе заключено все счастье твое, раз вы оба так любите друг друга, то успокойся, дорогая дочь, у тебя никогда не будет иного мужа… Ведь если подумать, то Герман ничего не должен этой женщине… рвение его вызвано лишь признательностью. Он вовсе не обязан приносить себя в жертву, дабы заслужить доброе ее к себе отношение. Но следует все же постараться не испортить ни с кем отношения…
— Сударь, — вскричал Герман, заключая полковника в объятия, — вы разрешили мне называть вас отцом — теперь же обещание ваше, данное от всего сердца, делает меня навеки вашим должником!.. Всеми силами постараюсь я заслужить то, что вы сделали для меня: часы, посвященные заботам о вас и драгоценнейшей дочери вашей, станут самыми прекрасными часами жизни моей, они скрасят старость вашу… Отец мой, не тревожьтесь… мы не станем наживать себе врагов. Я не давал ни одного обещания вдове Шольтц. Вручу ей все ее счета в образцовом порядке и заполучу у нее свои бумаги… Что еще сможет удержать меня у нее?
— Ах, друг мой, ты не знаешь людей, если осмеливаешься рассуждать столь дерзко! — возразил полковник, охваченный неким беспокойством, с коим ему никак не удавалось совладать. — Нет такого преступления, на которое не была бы способна женщина, когда дело идет о том, чтобы отомстить презревшему ее любовнику. Коварная, она выпустит свои отравленные ядом ненависти стрелы, они долетят до нас, и тогда, Герман, вместо желаемых тобою роз нам придется срывать цветки кипариса[10].
Эрнестина и возлюбленный ее провели остаток дня, успокаивая Сандерса и стараясь развеять страхи его. Они постоянно рисовали перед ним сладостные картины ожидающего их счастья: ничто так не убедительно, как красноречие влюбленных. Их логика — логика сердца, а та никогда не сравнится с логикой разума. Герман отужинал у дорогих своих друзей и в надлежащий час удалился, опьяненный надеждой и счастьем.
Так прошло около трех месяцев. За это время вдова не возобновляла разговора своего, впрочем, и сам Герман не осмеливался заговорить о разделе имущества. Полковник убедил молодого человека, что в их случае отсрочка не представляет ни малейшего неудобства. Эрнестина была еще молода, а отец был не прочь присоединить к небольшому ее приданому маленькое наследство, кое должна была она получить от своей тетки, некой вдовы Плорман, проживающей в Стокгольме. Тетка была уже в изрядном возрасте и могла скончаться с минуты на минуту.
Тем временем вдова Шольтц, сгорая от нетерпения, но будучи вместе с тем достаточно предусмотрительной, дабы не повергнуть служащего своего в замешательство, первая вернулась к прерванному разговору, спросив Германа, подумал ли он над ее словами, сказанными во время прошлой их беседы наедине.
— Да, — ответил возлюбленный Эрнестины, — и если сударыня желает поговорить со мной о счетах и о разделе имущества, то я к ее услугам.
— Но, Герман, кажется, не только об этом шла у нас речь.
— А о чем же еще, сударыня?
— Я спрашивала вас, не хотите ли вы зажить своим домом и не нашли ли вы себе избранницу, способную помочь вам вести этот дом.
— Мне кажется, я ответил, что желал бы скопить еще немного денег, прежде чем жениться.
— Да, вы так сказали, Герман, но я решила, что ослышалась. Сейчас же само выражение лица вашего свидетельствует о том, что вы лжете.
— Ах, сударыня! Вы прекрасно знаете, что ложь никогда не оскверняла уста мои. С самого детства рос я подле вас, вы оказали мне честь, заменив мне мать, кою я утратил в младенчестве. Так не думайте же, что признательность моя ослабла или же угасла вовсе.
— Опять ты о признательности, Герман! Я хотела бы услышать от тебя о чувствах более нежных.
— Но, сударыня, разве сие зависит от меня?..
— Предатель, так это все, что заслужила я за свои заботы? Теперь-то я ясно вижу неблагодарность твою. Так, значит, я трудилась ради чудовища… Что ж, Герман, открою тебе чувства свои: с той поры, как я стала вдовой, я мечтаю о союзе с тобой… Порядок, в который привела я дела твои… умножила достояние твое… отношение мое к тебе… глаза мои, несомненно, выдавали мою страсть… Все, все, о коварный, кричало тебе о чувствах моих. Но ты отплатил мне равнодушием и презрением!.. О Герман, ты еще не знаешь, что за женщину ты столь жестоко оскорбил… не знаешь, на что она способна… Ты это узнаешь — но будет слишком поздно… А теперь уходи… да, уходи… Готовь мои счета, Герман, я же верну твои, и мы расстанемся… навсегда… Думаю, что жилище себе ты найдешь без затруднений, ибо дом Сандерса, конечно же, распахнет тебе свои двери.
Признание, сделанное ему, ясно дало понять нашему юному влюбленному, что главное для него — скрыть от госпожи Шольтц свою страсть к Эрнестине, дабы не навлечь на голову полковника гнев и месть злопамятной вдовы. Поэтому Герман ограничился коротким ответом, что покровительница его ошибается, и желание его сохранить свободу, пока не умножит он состояния своего, вовсе не соотносится с каким-либо проектом относительно дочери полковника.
— Друг мой, — возразила ему госпожа Шольтц, — я не хуже вас знаю ваше сердце: невозможно, чтобы вы столь чурались меня, если бы не пылали страстью к другой. Хотя я уже и не первой молодости, но вы, что же, считаете, что во мне не осталось ни единой прелести, дабы привлечь к себе супруга? Поверьте мне, Герман, вы бы полюбили меня, несомненно, полюбили, если бы не эта тварь. Я ненавижу ее и именно ей буду мстить за ваше презрение ко мне.
Герман содрогнулся. Ясно было, что полковник Сандерс, будучи в отставке и не обладая значительным состоянием, вряд ли имел в Нордкопинге такое же влияние, как вдова Шольтц. Молва о последней простиралась необозримо далеко, тогда как первый уже давно прозябал в безвестности. Люди же в Швеции, как, впрочем, и повсюду, уважают своих ближних лишь по причине милости к тем власть имущих или же из-за их богатства. Посему на полковника смотрели как на простое гражданское лицо, и его весьма просто было раздавить с помощью влияния и золота, а госпожа Шольтц, как и все низкие души, именно на это и рассчитывала.
Однако Герман спохватился раньше, и, не спеша предъявлять счета, он бросился на колени перед госпожой Шольтц и стал умолять ее успокоиться. Он заверил ее, что в сердце у него не было ни единого чувства, направленного против той, от кого видел он одни лишь благодеяния; он заклинал ее не думать о разделе имущества, которым она ему пригрозила. При том влюбленном состоянии души молодого человека госпожа Шольтц не могла надеяться достичь большего; уповая, что чары ее со временем непременно возьмут свое, она успокоилась.
Герман не преминул сообщить об этом разговоре полковнику, и благоразумный сей человек, постоянно опасавшийся скандала из-за коварного нрава вдовы, попытался еще раз убедить юношу уступить желаниям своей хозяйки и отказаться от Эрнестины. Но оба влюбленных снова пустили в ход все то, что, по их мнению, должно было наилучшим образом напомнить полковнику данное им обещание и обязать его никогда от него не отступать.
В таком положении дела находились уже полгода, когда граф Окстьерн, этот негодяй, коего вы только что видели здесь, в руднике, где он томится вот уже год и будет пребывать вечно, был вынужден приехать из Стокгольма в Нордкопинг, чтобы забрать значительную сумму денег, помещенную отцом его у госпожи Шольтц. Отец графа недавно умер, и сын унаследовал эту сумму. Вдова, зная, что Окстьерн — сын сенатора и сам заседает в сенате, приготовила ему самую лучшую комнату в доме, намереваясь принять его со всей доступной ей роскошью.
Граф прибыл. Уже на следующий день любезная хозяйка дала в честь его роскошный ужин, а затем устроила бал, на который были приглашены самые красивые девушки города. Не была забыта и Эрнестина. С тревогою воспринял Герман решение ее пойти на этот бал: увидев столь очаровательную особу, граф вряд ли сможет остаться равнодушным и, конечно же, уделит ей подобающее внимание. Но может ли Герман противостоять подобному сопернику?
Гадая о возможности такого несчастья, Герман спрашивал себя: в силах ли Эрнестина отказаться стать супругой одного из самых знатных сеньоров Швеции? И не родит ли это роковое стечение обстоятельств союз таких могущественных людей, как вдова Шольтц и Окстьерн, направленный против Германа и Эрнестины? Как же было Герману не думать о возможных бедах для себя? Сможет Ли он, слабый и несчастный, отразить удар, направленный против хрупкого его существа столь могущественными врагами?
Он поделился размышлениями своими с возлюбленной. Честная девушка, нежная и чувствительная, готова была пожертвовать суетными удовольствиями ради чувства, ее сжигающего, и заявила Герману, что не пойдет на бал к госпоже Шольтц. Молодой человек был того же мнения. Но так как в их тесном кругу ничего не делали, не спросив мнения Сандерса, то влюбленные отправились к нему за советом. Полковник же не согласился с ними. Он сказал, что отказ неминуемо повлечет за собой разрыв с вдовой Шольтц и коварная эта женщина в скором времени откроет причину его. Для них же в подобных обстоятельствах весьма важно наилучшим образом ублажать ее, а поступок сей, несомненно, вызвал бы сильнейшее ее раздражение.
Затем Эрнестина осмелилась спросить своего возлюбленного, чего он, собственно, опасался, не скрыв от него, что подобные подозрения причинили ей боль.
— О друг мой! — воскликнула прелестная девушка, сжимая руки Германа. — Даже если самые могущественные люди Европы соберутся на сем балу, разве должны они непременно воспылать страстью к твоей дорогой Эрнестине и разве поклонники эти делают честь той, коей отдано предпочтение? Ах, Герман, не бойся ничего: плененная тобой уже не сможет воспылать страстью к другому. Я лучше буду жить с тобой в рабстве, нежели без тебя поднимусь на трон. Разве объятия любимого не дороже всех благ мира?.. Так будь же справедлив ко мне, Герман, у тебя нет оснований опасаться, что на этом балу я увижу того смертного, кто вытеснит образ твой из моего сердца. Дай мне спокойно любить тебя, друг мой, ибо ты всегда будешь для меня столь же любезен, сколь и любим.
Тысячей поцелуев покрыл Герман руки возлюбленной своей. Он поборол опасения свои, однако полностью от них не избавился. В сердце влюбленного всегда гнездятся некие предчувствия, которые редко его обманывают, а Герман испытывал именно их.
Прекрасная Эрнестина появилась среди приглашенных госпожи Шольтц, словно роза среди полевых цветов. На ней был скифский костюм, который в далеком прошлом носили женщины ее родины. Благородные и гордые черты ее как нельзя лучше соответствовали сему убранству. Тонкая и гибкая фигура необычайно выгодно была подчеркнута облегающим, без единой складки платьем, обрисовывающим дивные формы. Прекрасные волосы, скрывающие колчан со стрелами, лук, что держала она в руке, — все это делало ее похожей на Амура, переодевшегося Беллоной. Можно было с уверенностью сказать, что каждая из стрел, выпущенных небесным этим созданием, тотчас же повергала жертву к изящным ножкам Эрнестины.
Если несчастный Герман смотрел на входящую Эрнестину со страхом, то граф Окстьерн, увидев ее, был охвачен таким живейшим волнением, что на несколько минут даже потерял дар речи. Вы сами видели Окстьерна, он необычайно красивый мужчина, но что за душа скрывалась под сей привлекательной оболочкой! Граф, несметно богатый и с недавнего времени полновластный хозяин состояния своего, не знал удержу в своих страстях. Ни доводы разума, ни препятствия не останавливали его, но лишь распаляли буйный его нрав. Не имея ни принципов, ни добродетелей, однако же преисполненный предрассудков, горделивый без меры, готовый бросить вызов самому государю, Окстьерн был уверен, что ничто в мире не может воспрепятствовать его страстям. Таким образом, все те, кто имел несчастье стать предметом любви его, тут же подвергались самым яростным преследованиям. Чувство это для души благородной почти что равно добродетели, для души же развращенной, подобной душе Окстьерна, оно становится источником многих преступлений.
Как только опасный сей человек увидел нашу прекрасную Эрнестину, так сразу же возымел коварный замысел соблазнить ее. Он много танцевал с ней, сел подле нее за ужином и столь явно выказывал свои чувства, что никто в городе более не сомневался, что она скоро станет либо женой, либо любовницей Окстьерна.
Трудно описать состояние Германа во время событий сих. Он был на балу, но, видя возлюбленную свою под опекой столь знатного вельможи, разве имел он возможность хоть на миг приблизиться к ней? Несомненно, Эрнестина ничуть не изменилась по отношению к Герману, однако может ли юная девушка сопротивляться гордыне своей? Может ли она хоть на миг не опьяниться воздаваемыми ей прилюдно почестями? Поклонение это, столь для нее лестное, лишь подтверждает славу о красоте ее — так разве вспомнит она о том, что еще совсем недавно жаждала вызывать восхищение только у одного мужчины? Эрнестина видела, что Герман был взволнован, но Окстьерн был в ударе, все собравшиеся восхваляли красоту ее, и горделивая Эрнестина забыла о том, какое горе причиняет поведение ее несчастному возлюбленному.
Не забыт был и полковник. Граф долго говорил с ним и, предложив свои услуги в Стокгольме, убедил полковника, что тот еще слишком молод, чтобы прозябать в отставке и не стремиться к повышению в чине, на которое он по рождению и талантам своим вполне мог рассчитывать. Граф мог бы поспособствовать ему в этом, как, впрочем, и во всем остальном, оказав протекцию при дворе. Окстьерн умолял полковника не пренебрегать его предложением, ибо услуга эта доставит ему лишь величайшую радость, а столь достойный человек, коим является полковник, непременно сможет отплатить ему тем же.
Бал закончился поздно ночью, все разошлись.
На другой день сенатор попросил госпожу Шольтц в мельчайших подробностях рассказать ему о юной скифской красавице, чей образ не покидал его с той самой минуты, как только он увидел ее.
— Это самая красивая девушка в Нордкопинге, — ответила негоциантка в восторге от того, что граф, покусившись на возлюбленную Германа, может быть, вернет ей сердце молодого человека. — Поистине, сенатор, во всем краю нет девушки, которая могла бы сравниться с ней по красоте.
— Во всей стране? — возмутился граф. — Во всей Европе, сударыня!.. А чем она занимается? Каков ее образ мыслей? Что любит она? Кто возлюбленный этого небесного создания? Кто может оспаривать у меня обладание этим сокровищем?
— Не буду говорить вам о рождении ее, вам известно, что она дочь полковника Сандерса, человека заслуженного и благородного. Однако вы, вероятно, не знаете, и известие это может вас огорчить, ибо чувство ваше по отношению к ней вполне определенно, что она в ближайшее время собирается выйти замуж за одного молодого служащего из моего торгового дома. Она влюблена в него до безумия, и он отвечает ей взаимностью.
— Такой союз для Эрнестины? — воскликнул сенатор. — Сей ангел — и станет женой простого клерка!.. Этому не бывать, сударыня, не бывать! Вы должны помочь мне, чтобы смехотворный брак сей не был заключен. Эрнестина создана, чтобы блистать при дворе, и я хочу, чтобы она появилась там под моим именем.
— Но как можно, граф!.. Дочь бедного дворянина… наемника!..
— Она — дочь богов, — вскричал разъяренный Окстьерн, — и должна пребывать в святилище их.
— Ах, сенатор! Молодой человек, о котором я вам говорила, будет в отчаянии: редко встретишь чувства столь нежные… столь искренние.
— Сударыня, менее всего меня волнуют подобные соперники. Существо, стоящее столь низко, — разве может он помешать мне? Вы найдете средство удалить молодого человека, а если он не согласится добровольно… Предоставьте действовать мне, госпожа Шольтц, предоставьте дело мне, и мы избавимся от этого мужлана.
Коварная Шольтц обрадовалась и, вовсе не собираясь охлаждать пыл графа, представила ему препятствие, стоящее на пути любви его, весьма легко преодолимым.
Но пока у вдовы Шольтц происходил этот разговор, Герман пребывал у ног своей возлюбленной.
— Ах, разве я не говорил, Эрнестина, — восклицал он, заливаясь слезами, — разве не предвидел, что проклятый бал сей принесет нам только горе? Каждая из похвал графа, словно удар кинжала, пронзала сердце мое. Неужели вы и сейчас все еще сомневаетесь в том, что он обожает вас, неужели признания его не были достаточно ясны?
— Что мне за дело, ревнивец? — отвечала юная Сандерс, стараясь успокоить предмет единственной любви своей. — Что мне за дело до фимиама, что угодно было ему воскурять, если сердце мое принадлежит только вам? Неужели вы считаете, что я поверила его лести?
— Да, Эрнестина, именно это я и подумал и не ошибся: ваши глаза сияли от гордости, что вы сумели понравиться ему, вы были заняты исключительно им.
— Ваши упреки огорчают меня, Герман, оскорбляют меня. Я была уверена, что утонченность чувств ваших поможет вам избавиться от пустых страхов. Что ж! Поверьте эти страхи отцу моему, и, дабы успокоить подозрения ваши, я согласна, чтобы брак наш был заключен уже завтра.
Герман быстро ухватился за это предложение. Он вошел к Сандерсу вместе с Эрнестиной и, бросаясь в объятия полковника, заклинал его всем самым для него дорогим не препятствовать долее его счастью.
Не встречая сопротивления иных чувств, гордыня преуспела в сердце полковника значительно больше, нежели в сердце Эрнестины. Будучи человеком честным и искренним, он был далек от пренебрежения обязательствами, взятыми им на себя перед Германом, но покровительство Окстьерна ослепило его. Он прекрасно понял, какое сильное впечатление произвела дочь его на сенатора. Друзья его сообщили, что если страсть эта будет иметь вполне законные последствия, на что он вправе был надеяться, то будущность дочери от этого только выиграет. Мысли эти не покидали его всю ночь, он уже строил планы, суетные и тщеславные. Словом, момент был выбран плохо, более неподходящего случая Герман найти не мог.
Однако Сандерс остерегся напрямую отказать молодому человеку: подобные действия были противны его сердцу. Кто мог подтвердить, что планы его выстроены не на песке? Кто мог утвердить его в реальности мечтаний, коими начал он питаться? И посему он прибег к привычным своим доводам: юный возраст дочери, надежды на наследство госпожи Плорман, страх навлечь на Эрнестину и Германа месть коварной Шольтц, которая, найдя поддержку у сенатора Окстьерна, не замедлит пустить в ход свои козни. И разве время, пока граф находится в городе, может быть названо удачным? Совершенно необязательно затевать этот брак немедленно, ведь если Шольтц непременно решит противодействовать ему, то именно тогда, когда граф осыпает ее своими милостями, она будет наиболее опасной.
Эрнестина же торопилась более, чем когда-либо. Сердце упрекало ее за вчерашнее поведение, и она спешила доказать возлюбленному своему, что ветреность отнюдь не принадлежит к недостаткам ее. Полковник, в растерянности, ибо он не привык сопротивляться уговорам дочери, попросил ту дождаться лишь отъезда сенатора и пообещал, что сразу же после этого он первый устранит все препятствия к их браку. Если будет необходимо, он сам поговорит с вдовой Шольтц, успокоит ее и побудит к разделу имущества, без которого юный Герман не может окончательно расстаться со своей хозяйкой.
Герман удалился весьма недовольный. Хотя он снова уверился в чувствах возлюбленной своей, мрачные предчувствия снедали его, и ничто не могло их заглушить.
Едва он вышел из дома Сандерса, как туда прибыл сенатор в сопровождении вдовы Шольтц. По собственным словам сенатора, тот пришел отдать долг уважения почтенному воину, ибо он счастлив, что познакомился с полковником во время путешествия своего. Граф также попросил разрешения засвидетельствовать почтение свое любезной Эрнестине. Полковник и дочь его приняли эти заявления вежливости как подобает. Вдова Шольтц, спрятав на время злобу и ревность, ибо понимала, что еще не раз успеет выпустить наружу эти жестокие чувства, осыпала полковника комплиментами. Еще больше ласковых слов сказано было Эрнестине, и беседа прошла столь приятно, сколь вообще это могло быть в подобных обстоятельствах.
В течение многих дней Сандерс и дочь его, вдова Шольтц и граф обменивались визитами, давали обеды то в одном доме, то в другом, но ни разу несчастный Герман не был приглашен на приятные эти собрания.
Во время встреч сих Окстьерн не упускал ни единой возможности высказать любовь свою, и мадемуазель Сандерс более не сомневалась, что граф воспылал к ней самой жгучей страстью. Но сердце Эрнестины служило ей надежным сторожем, а необычайная любовь ее к Герману помогла ей ни разу не попасть в ловушку, расставленную гордыней. Она отклоняла любые предложения. На празднествах, куда приводили ее, она чувствовала себя стесненно и предавалась мечтаниям, каждый раз по возвращении домой она просила отца не брать ее более с собой. Однако время было упущено: Сандерс, у которого, как я вам уже сказал, не было, как у дочери его, веских причин сопротивляться соблазнам Окстьерна, с легкостью поддался им.
Между полковником, вдовой Шольтц и сенатором состоялась тайная беседа, где несчастный Сандерс был окончательно введен в заблуждение. Хитрый Окстьерн, ничем себя не компрометируя и ничего письменно не обещая, заметил, что необходимо наконец сдвинуть дело с мертвой точки. Соблазн был для Сандерса слишком велик, и он не только пообещал графу отказать Герману, но и дал слово покинуть свое жилище в Нордкопинге и приехать в Стокгольм, где, воспользовавшись оказанной ему протекцией, он станет наслаждаться королевскими милостями, коими, по словам графа, он будет осыпан.
Эрнестина, давно уже не видевшая своего возлюбленного, тем не менее не переставала писать ему. Но зная, что тот способен учинить скандал, — а она не любила бурных сцен, — она по-своему рассказывала ему о происходящих событиях. Впрочем, она еще не окончательно уверилась в слабости отца своего; прежде чем в чем-либо убеждать Германа, она решила сама разобраться в происходящем. Однажды утром она пришла к полковнику и почтительно к нему обратилась:
— Отец, кажется, сенатор намеревается долго пробыть в Нордкопинге. Однако вы пообещали вскоре устроить брак мой с Германом. Разрешите спросить, осталось ли ваше решение прежним и в чем необходимость дожидаться отъезда графа, дабы заключить брак, коего мы все столь страстно желаем?
— Эрнестина, — ответил полковник, — садитесь и выслушайте меня. Дочь моя, пока я считал, что счастье и состояние вы можете обрести, соединившись с молодым Германом, я не сопротивлялся тому. Напротив, вы сами видели, сколь охотно шел я навстречу желаниям вашим. Но с тех пор, как я понял, что вас ждет блестящее будущее, то почему же, Эрнестина, я должен им пожертвовать?
— Блестящее будущее, говорите вы? Если вы, отец мой, радеете о счастье моем, то его для меня не будет нигде, кроме как подле Германа, только с ним буду я счастлива. Однако оставим это, я, кажется, мешаю планам вашим… С содроганием думаю я об этом… Ах! Молю вас, не приносите меня в жертву.
— Но, дочь моя, продвижение мое зависит от осуществления этих планов.
— О отец! Если граф обещает вам свою протекцию лишь в обмен на руку мою… Что ж, наслаждайтесь обещанными почестями. Но та, кого продаете вы в обмен на них, не доставит удовольствия тому, кто на него надеется: я умру раньше, чем стану принадлежать графу.
— Эрнестина, я считал душу вашу более нежной… полагал, что вы любите отца своего.
— Ах, любезный создатель дней моих, а я думала, что дочь ваша вам всего дороже… Злополучные обстоятельства!.. Гнусный соблазнитель!.. Мы были так счастливы, пока этот человек не появился здесь… Единственное препятствие стояло перед нами… мы бы преодолели его, уверена в этом, ибо отец мой был рядом. Сегодня же он покинул меня, и мне остается только умереть…
И несчастная Эрнестина, поглощенная горем своим, испускала столь жалобные вздохи, что они были в состоянии разжалобить самую черствую душу.
— Выслушай, дочь моя, выслушай меня, прежде чем так горько печалиться, — сказал полковник, ласками осушая слезы, бегущие ручьями из глаз Эрнестины. — Граф хочет позаботиться о моей карьере. Хотя он прямо и не сказал мне, что цена хлопот его — твоя рука, нетрудно догадаться, что именно таковы его намерения. Он уверен, что сможет вернуть меня на службу. Он требует, чтобы мы переехали жить в Стокгольм, и обещает сделать жизнь нашу там весьма приятной. По его словам, как только мы приедем в столицу, он сам явится ко мне с приказом о выплате пенсиона в тысячу дукатов, причитающегося мне за службу… за службу отца моего. Граф сказал, что двор давно бы пожаловал мне этот пенсион, если бы кто-нибудь сумел замолвить за нас словечко… Эрнестина, неужели ты отвергнешь милости двора? Неужели упустишь и свою судьбу, и мою?
— Нет, нет, отец мой, — твердо ответила дочь Сандерса, — нет. Однако я заклинаю вас подвергнуть графа испытанию, каковое, уверена я, он не выдержит. Если граф действительно стремится оказать вам все упомянутые благодеяния, если он воистину честен, то он должен быть верен слову своему, не имея в том ни малейшей выгоды. Если же он ставит условия, значит, чувства его корыстны и лицемерны: это не друг, но коварный соблазнитель.
— Он собирается жениться на тебе.
— Он не сделает этого. Послушайте меня, отец, если чувства, кои питает к нам граф, подлинны, то они не зависят от чувств, коими он воспылал ко мне. Он не может доставить вам удовольствие ценою страданий моих. Если он чувствителен и добродетелен, то он должен оказать вам обещанные благодеяния бескорыстно. Дабы узнать истинный образ мыслей его, скажите ему, что вы принимаете все его предложения, и просите доказательства великодушия его: прежде чем покинуть город, пусть он устроит свадьбу дочери вашей с любимым ею человеком. Если граф благороден, честен и бескорыстен, то он согласится; если же под прикрытием служения вам он стремится отдать меня на поругание собственным страстям, то он непременно разоблачит себя. Надо, чтобы он ответил на ваше предложение, не выказав при этом удивления, ибо он, по словам вашим, еще ни разу открыто не просил руки моей.
Если в ответе его прозвучит желание получить вознаграждение за благодеяния свои, значит, он более рвется потворствовать своим страстям, нежели помочь вам. В таком случае душа его черна, и вам следует остерегаться любых подношений его, каков бы ни был лак, их покрывающий. Честный человек не может добиваться руки женщины, зная, что сердце ее отдано другому. Нельзя оказывать покровительство отцу за счет унижения дочери… Проверка эта покажет истинный характер его, так заклинаю вас, испробуйте ее. Если она удастся… то есть я хочу сказать, если мы убедимся, что намерения графа благородны, то вы согласитесь со всеми предложениями его и карьера ваша не повредит моему счастью. Мы все будем счастливы… да, отец, мы все будем счастливы, и угрызения совести не будут мучить вас.
— Эрнестина, — молвил полковник, — вполне возможно, что граф окажется честным человеком, но при этом ценою благодеяний своих все равно объявит руку твою.
— Да, не зная, что рука моя уже обещана другому. Но если, узнав об этом, он будет продолжать настаивать и сделает принуждение мое условием карьеры вашей, значит, исключительно эгоизм выступает побудителем его: утонченность чувства исключена. И с этого времени нам следует с опаской относиться к любым его предложениям…
И Эрнестина бросилась в объятия полковника.
— О, отец мой! — воскликнула она, заливаясь слезами. — Не откажите мне, устройте графу проверку! Отец, заклинаю вас, не будьте столь жестоки, не жертвуйте с беспечной легкостью счастьем дочери вашей, которая обожает вас и хочет жить исключительно ради вас! Несчастный Герман умрет от горя, проклиная нас, я же последую за ним в могилу, и вы потеряете двух самых дорогих сердцу вашему друзей.
Полковник любил свою дочь, он был благороден и великодушен. Нельзя упрекать его за излишнюю доверчивость, которая, наилучшим образом свидетельствуя о чистоте и искренности прекрасной души его, тем не менее часто делает честного человека добычей мошенников. Сандерс пообещал дочери все, чего она требовала, и на следующий день поговорил с сенатором.
Окстьерн, более лживый, нежели мадемуазель Сандерс изобретательна, вместе с коварной вдовой Шольтц уже принял все необходимые меры и поэтому ответил полковнику самым удовлетворительным образом.
— Неужели вы поверили, дорогой мой, что в предложениях моих кроется корысть? Вглядитесь же в душу мою: желание быть вам полезным наполняет ее, и стремление это лишено каких бы то ни было задних мыслей. Разумеется, я влюблен в вашу дочь, скрывать это от вас было бы бесполезно. Но узнав, что она не считает меня достойным составить счастье ее, я вовсе не собираюсь принуждать ее к этому.
Конечно же, я не обещаю вам присутствовать при заключении брака вашей дочери, хотя, как мне показалось, именно таково было ваше желание: церемония эта слишком тяжко отозвалась бы в душе моей. Принося себя в жертву, я не могу убить себя своею собственной рукой. Однако брак этот состоится, я сам об этом позабочусь, поручив дело вдове Шольтц. Раз дочери вашей предпочтительней стать женою простого клерка, нежели одного из первых сенаторов Швеции, то она вольна распоряжаться собой. Не бойтесь, выбор ее не повлияет на желание мое помочь вашему продвижению.
Мне надобно срочно уехать: как только я улажу некоторые дела, я пришлю свой экипаж за вами и за вашей дочерью. Вы приедете в Стокгольм вместе с Эрнестиной; Герман может последовать за вами и там, в столице, сочетаться браком с вашей дочерью или же, если это подходит ему больше, ожидать вас здесь, ибо должность, которую я хочу для вас выхлопотать, будет приятным дополнением к бракосочетанию детей ваших.
— Достойный человек, — воскликнул Сандерс, пожимая руку графу. — Какая утонченность чувств! Милости, коими вы нас удостаиваете, ценны вдвойне, ибо свидетельствуют о бескорыстии вашем и великодушии… Ах, сенатор! Вы дали мне узреть вершину благородства человеческого: столь прекрасное деяние должно быть запечатлено в храме и храниться там для потомков, ибо в наш век подобные добродетели редки.
— Друг мой, — произнес граф в ответ на восхваления полковника, — честный человек сам первый наслаждается при виде плодов благодеяний своих: разве не в этом счастье его?
Полковник поспешил сообщить дочери о сем важном разговоре с Окстьерном. Эрнестина была растрогана до слез и с легкостью всему поверила: чистые души доверчивы, их легко убедить, они с радостью поддаются на уговоры наши. Герман, однако, был менее легковерен. Несколько неосторожных слов, вырвавшихся у вдовы Шольтц, пребывавшей в радостном настроении, ибо месть ее начала осуществляться, заронили в нем некие подозрения, о которых он и сообщил своей возлюбленной. Нежное создание успокоило его. Эрнестина попыталась доказать, что человек знатный и занимающий столь высокое положение, как Окстьерн, не способен лгать… Невинная душа! Она не ведала, что пороки, подкрепленные блестящей родословной и богатством, расцветают благодаря своей безнаказанности, отчего и становятся более опасными.
Герман заявил, что хочет сам объясниться с графом; Эрнестина запретила ему делать это. Молодой человек отчаянно сопротивлялся ее приказу; слушая лишь голос гордости, любви и отваги, он вооружился двумя пистолетами. Назавтра утром он пришел в спальню графа и застал того еще в постели.
— Сударь, — отважно начал он, — я считаю вас человеком чести. Ваше имя, положение в обществе, богатство — все это убеждает меня в сказанном. Так вот, сударь, я требую, чтобы вы дали слово, засвидетельствовав его на бумаге, что вы полностью отказываетесь от притязаний на Эрнестину. В противном случае я предлагаю вам один из этих пистолетов, дабы мы оба могли убить друг друга.
Сенатор, поначалу ошеломленный неожиданным комплиментом, начал уговаривать Германа как следует подумать, прежде чем совершать таковые шаги, и напомнил ему, что человеку его сословия не пристало делать подобные предложения знатной особе.
— Воздержитесь от оскорблений, сударь, — ответил Герман. — Я пришел сюда не для того, чтобы их выслушивать, но, напротив, чтобы потребовать у вас ответа за обиду, нанесенную мне стараниями вашими соблазнить мою возлюбленную. Вы утверждаете, что сословие мое ниже вашего, сударь? Сенатор, каждый человек имеет право требовать от другого возмещения убытков либо за имущество, у него похищенное, либо за оскорбление, ему нанесенное. Предрассудки, разделяющие сословия, — не более чем химера. Природа создала всех людей равными, нет ни одного, кто бы не появился на свет из лона ее жалким и нагим, ни одного, кого бы она породила и подвела к концу жизни его иным способом, нежели прочие свои создания. Различия между людьми состоят единственно в добродетели: достоин презрения лишь тот, кто использует дарованные ему права согласно ложным установкам, дабы безнаказанно предаваться пороку. Встаньте, граф! Будь вы сам принц, я все равно потребовал бы у вас удовлетворения. Окажите же мне его, ибо если вы не поспешите защитить себя, то я прострелю вам голову.
— Одну минуту, — сказал Окстьерн, одеваясь, — сядьте, молодой человек, и прежде, чем мы станем драться, давайте вместе позавтракаем. Вы ведь не откажете мне в таком пустяке?
— К вашим услугам, граф, — ответил Герман, — но надеюсь, что после вы все же последуете приглашению моему…
Граф позвонил; подали завтрак, и сенатор, приказав оставить его наедине с Германом, после первой чашки кофе спросил его, согласовал ли он действия свои с Эрнестиной.
— Разумеется, нет, сенатор, она даже не знает, что я отправился к вам.
— Но если дело обстоит именно так, то в чем тогда причина неуместного поведения вашего?
— Опасения быть обманутым, уверенность, что если кто-либо влюбился в Эрнестину, то он уже не сможет отказаться от нее, наконец, желание самому во всем разобраться.
— Скоро вы все поймете, Герман. Я должен побранить вас за беззастенчивое поведение ваше… и хотя подобный необдуманный шаг, возможно, и изменил бы планы мои относительно дочери полковника, я тем не менее сдержу слово… Да, Герман, вы женитесь на Эрнестине: я это обещал, и так будет. Я вовсе не уступаю вам, молодой человек, я вообще не создан для того, чтобы уступать. Одна лишь Эрнестина может добиться от меня всего, и ее счастью я приношу в жертву свое собственное.
— О какое великодушие!
— Повторяю, вы мне ничем не обязаны. Все, что я делаю, я делаю только ради Эрнестины, и лишь от нее жду я изъявления признательности.
— Позвольте же и мне разделить эту признательность, сенатор, и принести вам тысячу извинений за свою горячность… Но, сударь, если я могу рассчитывать на ваше слово, а вы намереваетесь сдержать его, то не откажетесь ли вы подтвердить мне это письменно?
— Я? Я напишу все, что вы хотите, но это лишнее; подозрения ваши напоминают безрассудный поступок, который вы только что себе позволили.
— Но это надо, чтобы успокоить Эрнестину.
— Она не так подозрительна, как вы, и доверяет мне. Однако пусть будет по-вашему, я дам вам письменное подтверждение слов своих, но записку я составлю сам, адресуя ее лично Эрнестине. Иным образом условие ваше для меня невыполнимо. Оказывая вам услугу, я не могу одновременно терпеть унижение от вас…
И сенатор, взяв письменный прибор, начертал следующие строки:
«Граф Окстьерн обещает Эрнестине Сандерс предоставить ей полную свободу выбора, а также принять необходимые меры, дабы она скорейшим образом смогла насладиться радостями Гименея, чего бы то ни стоило тому, кто боготворит ее и готов отдать себя на ужасное заклание».
Несчастный Герман, не понимая истинный жестокий смысл записки сей, взял ее, покрыл страстными поцелуями, снова принес свои извинения графу и помчался к Эрнестине, неся ей мрачный трофей победы своей.
Мадемуазель Сандерс еще раз пожурила Германа, обвинила его в недоверии к ней. Она потребовала, чтобы отныне Герман никогда более не доходил до крайностей с людьми, чье положение в обществе выше его собственного. Она опасалась, что граф, уступив из-за осмотрительности, после размышлений может прийти к решениям, кои станут роковыми для них обоих и в любом случае неизмеримо повредят отцу ее.
Герман успокоил возлюбленную, показав ей записку… Она прочла, также не поняв скрытого смысла. Сообщили обо всем полковнику, и тот еще живее, нежели дочь его, высказал свое неодобрение поведения молодого Германа. Однако в конце концов все успокоились, и трое друзей наших, вполне доверившись обещаниям графа, расстались.
После сцены с Германом Окстьерн тотчас же спустился в комнаты вдовы Шольтц. Он поведал ей о случившемся, и эта злобная женщина, убедившись окончательно, что соблазнить молодого человека ей не удастся, решила полностью посвятить себя содействию графу в его замыслах, обещав помогать ему во всем, пока несчастный Герман не будет сокрушен.
— Я знаю верное средство его погубить, — заявила гнусная мегера. — У меня есть второй ключ от его кассы, он не знает о нем. В скором времени мне надобно выплатить сто тысяч дукатов гамбургским негоциантам, и лишь от меня зависит успех сей операции. Если денег не окажется на месте, то ему ничего не останется, как жениться на мне, иначе он пропал.
— В последнем случае вы сразу дадите мне знать, — сказал граф. — Будьте уверены, я стану действовать так, что наша месть свершится наилучшим образом.
Затем оба негодяя, объединенные общей жестокой целью, обсудили, как осуществить коварные замыслы свои наиболее ужасным образом, то есть согласно обоюдному их желанию.
Завершив беседу, Окстьерн отправился попрощаться с полковником и его дочерью. С трудом удалось ему разыграть перед девушкой не обычные любовные устремления, но благородство и бескорыстие. Двоедушие его ввело всех в заблуждение. Он напомнил Сандерсу свое обещание составить ему протекцию и договорился о путешествии полковника в Стокгольм.
Граф хотел подготовить им квартиру у себя в доме, но полковник ответил, что предпочитает остановиться у своей кузины Плорман, которая, как ожидал он, должна была завещать свое состояние дочери его. Приезд этот стал бы для Эрнестины поводом поухаживать за старой женщиной, укрепив тем самым возможность значительно увеличить в будущем состояние свое. Окстьерн одобрил этот план; было договорено об экипаже, ибо Эрнестина боялась путешествовать по морю. Они расстались, выражая друг другу всю возможную признательность, а о поступке молодого человека не было даже и речи.
Вдова Шольтц продолжала скрывать свои истинные намерения от Германа. Она более не заговаривала с ним о своих чувствах и выказывала лишь внимание и заинтересованность в работе его. Она не сказала ему, что ей известно о его безрассудном визите к сенатору, а наш молодой человек был убежден, что раз случившееся отнюдь не делает чести графу, то тот будет тщательно скрывать его.
Однако Герман знал, что полковник и его дочь должны были скоро покинуть Нордкопинг. Уверенный в сердце возлюбленной своей, в дружеском расположении к нему полковника и в обещаниях графа, он не сомневался, что первое, что сделает Эрнестина по прибытии в Стокгольм, — это укрепит влияние свое на сенатора и настоит, чтобы тот скорейшим образом устроил брак их. Юная Сандерс подкрепляла уверенность Германа и сама искренне верила в осуществление этих планов.
Прошло несколько недель, и вот в Нордкопинг прибыла роскошная карета, сопровождаемая множеством лакеев, коим было поручено передать полковнику Сандерсу письмо от графа Окстьерна, а также выполнять все приказания этого офицера, касающиеся их с дочерью путешествия в Стокгольм, для чего и была прислана означенная карета.
В письме к Сандерсу говорилось, что извещенная графом вдова Плорман уже подготовила для родственников самые лучшие комнаты и они вольны прибыть к ней в любое угодное им время. Граф же с нетерпением ждет той минуты, когда сможет сообщить своему другу Сандерсу об успехах его шагов, предпринятых в пользу полковника. Что касается Германа, добавлял сенатор, то он считал, что лучше всего будет предоставить тому возможность спокойно уладить свои дела с госпожой Шольтц, по завершении которых он, обретя и умножа состояние свое, смог бы с большим основанием предстать перед прекрасной Эрнестиной и просить руки ее. От этой отсрочки все только выиграют, ибо полковник также успеет получить пенсион и, может быть, даже повышение в чине, что, несомненно, послужит к вящему благосостоянию дочери его.
Эта оговорка не понравилась Эрнестине, в ней проснулись некие подозрения, и она тут же сообщила о них отцу. Полковник же, как обычно, одобрил планы Окстьерна.
— Как же мог граф, — вопрошал он дочь, — побуждать Германа покинуть Нордкопинг, прежде чем тот рассчитается с вдовой Шольтц?
Эрнестина пролила немало слез. Терзаемая противоречивыми чувствами — любовью и желанием не повредить отцу, — она не осмелилась настаивать, хотя могла бы воспользоваться моментом и напомнить сенатору о его обещании.
Следовало готовиться к отъезду. Полковник пригласил Германа на ужин, дабы они могли попрощаться. Он пришел, и грустное свидание это было смягчено живейшим сочувствием друг другу его участников.
— О, дорогая моя Эрнестина, — сказал Герман, заливаясь слезами, — я расстаюсь с вами, не зная даже, когда снова увижу вас… Вы оставляете меня один на один с коварным врагом… женщиной, которая, скрывая истинные свои чувства, только и ждет подходящего момента явить подлинные намерения свои. Кто поможет мне, кто оградит от ужасных слухов, кои, несомненно, станет распускать эта мегера, когда убедится, что я, как никогда, готов следовать за вами, и мне придется открыто заявить ей, что я никогда не женюсь ни на ком, кроме вас?.. А вы, вы сами, о Великий Боже, куда едете вы?.. Во власть человека, некогда любившего вас… любящего вас и по сей день, чья готовность пожертвовать страстью своей весьма сомнительна. Он соблазнит вас, Эрнестина, ослепит блеском своим, и несчастному, всеми покинутому Герману останется лишь искать утешение в слезах.
— Герману всегда будет принадлежать сердце Эрнестины, — ответила мадемуазель Сандерс, сжимая руки возлюбленного своего. — Неужели он, обладая сокровищем этим, все еще боится быть обманутым?
— Ах, только бы не утратить его, — воскликнул Герман, бросаясь к ногам своей возлюбленной. — Лишь бы Эрнестина не уступила соблазнам, что будут окружать ее! Пусть знает она, что никто на этой земле, кроме Германа, не сможет любить ее столь же преданно!
И злосчастный молодой человек осмелился умолять Эрнестину дозволить ему сорвать с ее несравненных губ бесценный поцелуй, что хранил бы он в сердце своем как залог нерушимости их клятв.
Разумная и осмотрительная мадемуазель Сандерс, никогда не позволявшая никому подобной вольности, посчитала обстоятельства исключительными. Она устремилась в объятия Германа, и тот, сжигаемый любовью и желанием, весь во власти мрачной радости, что находит выражение свое лишь в слезах, запечатлел клятву верности на самых прелестных устах в мире, и уста эти, прижатые к губам его, подарили ему сладостное доказательство взаимной любви и верности.
Тем временем наступил печальный час расставания. Для влюбленных сердец — в чем разница между часом разлуки и часом смерти? Можно безошибочно утверждать, что при расставании с тем, кого любим, сердце либо разбивается на куски, либо жестокая рука вырывает его из груди нашей. Душа, привязанная к возлюбленному предмету, делается вялой в жестокий сей миг. Мы хотим бежать и тут же возвращаемся, целуем дорогое создание, не зная, что же еще сделать, дабы смягчить горечь разлуки… Все способности наши исчезают, силы, поддерживающие жизнь, покидают нас: то, что остается нам, уже безжизненно, а в предмете, с коим нас разлучают, сосредоточивается все существование наше.
Было решено сесть в карету сразу после ужина. Эрнестина смотрела на возлюбленного своего и видела, как слезы струятся из глаз его; душа ее разрывалась…
— О, отец мой, — воскликнула она, заливаясь слезами, — смотрите же, на какую жертву я иду!
И, бросаясь в объятия Германа, говорила ему:
— Тебя, только тебя я любила всегда и только тебя буду любить я до самой могилы. Сейчас, в присутствии отца моего, прими клятву мою — никогда не принадлежать никому, кроме тебя. Пиши мне, думай обо мне, не слушай ничего, что бы ни говорили обо мне, и прокляни меня, если когда-нибудь другой мужчина, а не ты, получит мою руку или мое сердце.
Состояние Германа близко было к безумию; распростершись на земле, целовал он ноги возлюбленной своей, словно страстными поцелуями этими, в коих запечатлелась пылкая душа его, огненными этими поцелуями хотел удержать он Эрнестину…
— Я больше не увижу тебя… никогда не увижу, — говорил он ей, захлебываясь от рыданий. — Отец мой, разрешите мне следовать за вами, не разлучайте меня с Эрнестиной или, если уж таков — увы! — печальный жребий мой, лучше пронзите шпагой грудь мою!
Полковник стал утешать друга, дал слово, что никогда не будет противиться желаниям дочери. Но ничто не могло успокоить растревоженную любовь. Мало кто из влюбленных расстается в столь жестоких обстоятельствах. Герман хорошо понимал это, и сердце его разрывалось на части.
Наконец наступил час отъезда. Эрнестина, вся в слезах, печально села в карету рядом с отцом, и на глазах возлюбленного карета увезла ее. В эту минуту Герману показалось, что смерть накинула печальный саван свой на погребальную колесницу, увозящую бесценное его сокровище. Печальным криком призывал он Эрнестину, страдающая душа его летела ей вослед… Но видение исчезло… Все проходит… все теряется в густой ночной тьме. В подавленном состоянии возвратился несчастный к вдове Шольтц и этим еще больше возбудил ревность опасного сего чудовища.
На следующий день полковник с дочерью прибыли в Стокгольм. Карета остановилась у ворот дома госпожи Плорман, где их встретил сенатор Окстьерн. Граф помог Эрнестине выйти из кареты. Хотя полковник уже много лет не видел своей родственницы, он был принят ею превосходно. Не трудно было заметить, что покровительство сенатора чудесным образом повлияло на этот великолепный прием. Эрнестина стала объектом восторгов и восхищений: тетка уверяла, что ее милая племянница затмит всех красавиц столицы. В тот же день был разработан план, как представить юной красавице все удовольствия, коими славится столица, дабы ослепить ее, оглушить и заставить забыть своего возлюбленного.
Разумеется, госпожа Плорман не устраивала у себя приемов; эта женщина, весьма почтенного возраста и к тому же скаредная, почти ни с кем не встречалась. И, возможно, именно по этой причине граф, знавший ее давно, вовсе не противился выбору жилища, сделанному полковником.
У госпожи Плорман жил еще один родственник, молодой офицер Гвардейского Королевского полка. Родство его было более близким, нежели родство Эрнестины, и вследствие этого он имел больше прав на наследство. Его звали Синдерсен, он был храбр и хорош собой, однако не питал расположения к родственникам, которые, будучи не столь близки тетке его, имели тем не менее те же надежды, что и он. По этой причине между ним и семейством Сандрес установились весьма прохладные отношения. Однако он был любезен с Эрнестиной, проявлял уживчивость с полковником и благодаря светскому лоску, иначе именуемому обходительностью, выказывал родственникам лишь нежные чувства, кои и должно было проявлять.
Но оставим полковника обустраиваться на новом месте, а Окстьерна — развлекать отца, удивлять дочь и пребывать в стремлении преуспеть в замыслах своих и в надежде на триумфальное их завершение. Вернемся в Нордкопинг.
Через неделю после отъезда Эрнестины прибыли негоцианты из Гамбурга и потребовали сто тысяч дукатов, кои должна была им вдова Шольтц. Сумма эта, без сомнения, имелась в кассе Германа. Но мошенничество свершилось: второй ключ был пущен в дело, и деньги исчезли. Госпожа Шольтц, оставившая негоциантов у себя обедать, предупредила Германа, что ему следует немедленно приготовить нужную сумму, ибо гости, вероятно, захотят в тот же вечер отбыть. Герман давно не заглядывал в кассу, однако был уверен, что деньги там лежат. Ничего не подозревая, открыл он кассу и чуть не упал в обморок, видя, что денег там нет. Он побежал к своей покровительнице…
— О сударыня, — вскричал он, обезумев, — нас обокрали.
— Обокрали, друг мой?.. Но никто не входил ко мне, я отвечаю за дом свой.
— Однако, сударыня, должно быть, кто-то проник в него, ибо деньги из кассы исчезли… Не можете же вы заподозрить меня в этой краже.
— Раньше не могла, Герман, но когда любовь начинает кружить голову такому мальчишке, как вы, то вместе с ней в сердце его входят всяческие пороки… Несчастный молодой человек, будьте осторожны в поступках своих. Сейчас мне понадобились мои деньги. Если вы взяли их, сознайтесь сами. Если вы будете упорствовать и не захотите признаться, то, может быть, выяснится, что не вы один замешаны в этой печальной истории… Эрнестина уехала в Стокгольм именно тогда, когда исчезли мои деньги… и как знать, не находится ли она за пределами королевства? Она уехала раньше вас, значит, это подготовленное ограбление.
— Нет, сударыня, нет, вы сами не верите тому, что говорите, — твердо ответил Герман, — не верите, сударыня… Ни один мошенник не начинает карьеры своей с кражи подобной суммы, а те преступления, что обдумываются заранее, совершаются обычно теми, кто уже подвержен влиянию порока. Что до сего дня сделал я такого, что вы можете обвинить меня в подобном лихоимстве? Если бы я обокрал вас, разве оставался бы я все еще в Нордкопинге? И разве неделю назад вы не предупредили меня, что должны уплатить эту сумму? Если бы я взял эти деньги, разве стал бы я спокойно дожидаться разоблачения, позора своего? Разве поведение мое не опровергает все ваши домыслы?
— Не мне судить об обстоятельствах, смягчающих поступок ваш, Герман, но он меня глубоко оскорбил. Могу сказать лишь одно: вы один отвечаете за мою кассу. Когда мне понадобились деньги, касса оказалась пустой, замки ее не взломаны, никто из прочих слуг моих дома не покидал. Кража эта — без взлома, без видимых следов — могла быть, таким образом, совершена только тем, у кого есть ключ. В последний раз советую вам, Герман, одумайтесь. Я могу задержать гамбургских негоциантов еще на сутки. Но завтра верните мои деньги… Или вами займется правосудие.
Герман удалился в таком отчаянии, что состояние его легче было представить себе, чем описать. Он заливался слезами и обвинял Небо, давшее ему жизнь, но уготовившее столько несчастий. Два выхода виделись ему: бежать или убить себя… Но едва лишь он представил их себе, как тут же в ужасе отринул… Умереть, не смыв позорного пятна, не сокрушив обвинений, кои приведут в отчаяние Эрнестину! Разве утешится она, зная, что отдала сердце свое человеку, способному на такую низость? Нежная душа ее не выдержит позора, она зачахнет от горя… Бежать — значит признать себя виновным, но как можно отвечать за преступление, которого ты и не думал совершать?
Герман предпочитал положиться на волю судьбы и сел писать письмо, ища защиты у сенатора и поддержки у полковника. Он был уверен в первом и не сомневался во втором. Молодой человек описывал им ужасное свое несчастье, убеждал их в своей невиновности и давал понять сенатору, сколь мрачное завершение может иметь сие приключение, ибо обвинение исходит от женщины, чье сердце переполнено ревностью, а она, несомненно, воспользуется случаем и уничтожит его. Он просил скорейшим образом дать ему совет в роковых этих обстоятельствах и вручал себя Небу, смея надеяться, что справедливость его всегда на стороне невиновного.
Не трудно себе представить, что молодой человек провел ужасную ночь. Ранним утром вдова Шольтц пришла к нему в комнату.
— Так что же, друг мой, — обратилась она к нему с видом чистосердечным и любезным, — готовы ли вы признать свои ошибки? Решились ли вы, наконец, поведать мне причину столь странного поведения вашего?
— Мне не в чем признаваться, сударыня, я готов предстать перед любым судом, — мужественно отвечал молодой человек. — Я бы не остался у вас, если бы действительно был виновен: вы дали мне возможность бежать, но я не воспользовался ею.
— Возможно, вы знали, что вам не удастся далеко уйти, а побег лишь усугубил бы вашу вину. Ваше бегство выдало бы в вас новичка; упорство ваше свидетельствует о вашей закоренелости.
— Давайте сначала проверим счета, сударыня, я готов приступить к ним в любую минуту, и пока не обнаружили вы в счетах моих ошибки, вы не имеете права так со мной разговаривать. Посему я вынужден потребовать от вас более веских доказательств и впредь не намерен выслушивать оскорбления ваши.
— Герман, разве этого ожидала я от вас, кого я воспитала и на кого возлагала все надежды мои?
— Вы не отвечаете на вопросы мои, сударыня; подобные уловки удивляют меня и наводят на подозрения.
— Напрасно, Герман, пытаетесь разозлить меня. Напротив, вам бы следовало постараться смягчить гнев мой.
И с новым пылом она продолжила:
— Разве не знаешь ты, жестокий, что за чувства питаю я к тебе? Так кто же, по-твоему, может более желать сокрыть ошибки твои, нежели не я?.. Как смеешь ты думать иначе? Ценой собственной крови готова я искупить преступление твое!.. Слушай, Герман, я могу все исправить, в моем банке есть сумма вдесятеро большая, нежели та, что требуется для сокрытия позора твоего. Сознайся же, это все, что я требую от тебя… Женись на мне, и я все забуду.
— Так вы хотите, чтобы ценой ужасной лжи я стал несчастным до конца дней своих?
— Несчастным до конца дней твоих… И это говоришь ты, коварный! Ах, вот что значат для тебя узы, кои мечтаю я заключить с тобой! Да знаешь ли ты, что одно мое слово может погубить тебя навеки?
— Вам давно известно, сударыня, что сердце мое мне не принадлежит: владычицей его стала Эрнестина. И все, что могло бы воспрепятствовать союзу нашему, мне глубоко противно.
— Эрнестина? Не думай о ней, она уже стала женой графа Окстьерна.
— Женой?.. Не может быть, сударыня, она вручила мне сердце свое и слово. Эрнестина не могла обмануть меня.
— Все, что свершилось, было обговорено заранее и одобрено полковником.
— Праведное Небо! Возможно ли это! Мне должно самому разобраться во всем. Я немедленно отправляюсь в Стокгольм… Там я увижу Эрнестину и узнаю, лжете ли вы мне или нет. Впрочем, что я говорю? Эрнестина не может предать своего возлюбленного! Нет, нет… вы не знаете ее сердца и потому говорите такое; скорее дневное светило прекратит освещать землю нашу, чем подобная низость запятнает душу ее.
С этими словами молодой человек хотел броситься вон из дома. Госпожа Шольтц удержала его:
— Герман, вы погубите себя. Выслушайте меня, мой друг, взываю я к вам… Зачем же жертвовать собой? Шесть свидетелей дадут против вас показания: вас видели, когда вы выносили деньги из дома. Известно и применение, которое вы им нашли: не доверяя графу Окстьерну, вы, заполучив сто тысяч дукатов, хотели похитить Эрнестину и увезти ее в Англию… Расследование уже началось, но повторяю вам, я еще могу остановить его. Вот моя рука, Герман, примите ее, и все уладится!
— Скопище низостей и лжи! — воскликнул Герман. — Неужели ты не видишь, что лживые и противоречивые слова твои выдают тебя? Если, как ты говоришь, Эрнестина уже стала женой сенатора, то зачем тогда мне красть у тебя деньги, а если эти деньги взял я, то как она может быть женой графа? Ты можешь продолжать бесстыдно лгать, но все это не более чем ловушка, подстроенная мне злобой твоей. Но я найду… надеюсь, что найду способ восстановить свою честь, кою ты пытаешься запятнать. Те, кто подтвердят невиновность мою, докажут тем самым преступление твое, совершенное лишь потому, что тебе угодно отомстить мне за отказ.
Сказав это, он вырвался из объятий Шольтц, пытавшейся удержать его, и устремился на улицу в надежде тотчас же уехать в Стокгольм… Несчастный! Он и не подозревал, что оковы уже приготовлены… Десяток здоровяков схватили его возле дверей дома и позорно, словно последнего мерзавца, поволокли в тюрьму. Кровожадное существо радовалось, проводив его взглядом и убедившись, что чаша страданий Германа переполнена и безмерное отчаяние вот-вот поглотит его.
— Увы! — горестно восклицал Герман, видя себя в обители преступления. — Значит, несправедливость тоже может торжествовать. Но разве вправе я бросать вызов Небу, ведь самое страшное ждет меня впереди, отчего душа моя болит еще сильней. Окстьерн… Коварный Окстьерн! Ты сам выстроил этот заговор, принес меня в жертву своей ревности и ревности твоей сообщницы… И вот в один миг человек оказывается на последней ступени унижения и несчастья! Я думал, что лишь преступник может пасть столь низко… Нет, оказывается, достаточно одного лишь наговора — и тебя уже считают преступником. Стоит лишь заиметь могущественных врагов, и ты тут же будешь уничтожен!
Но ты, моя Эрнестина… ты, чьи клятвы до сих пор согревают мне душу, со мной ли по-прежнему любовь твоя? Испытываешь ли ты те же чувства, что и я? Не удалось ли им запятнать душу твою?.. О, праведное Небо! Какие гнусные подозрения! Значит, еще не столь сурово я наказан, раз хоть на миг мог усомниться в тебе, значит, еще не все возможные беды обрушились на меня… Эрнестина виновна? Эрнестина — и предала возлюбленного своего!.. Неужели ложь и лицемерие смогли зародиться в этой чувствительной душе?.. А ее пылкий поцелуй, что все еще горит на губах моих… этот единственный поцелуй, которым она удостоила меня, — разве могли подарить его уста, оскверненные ложью?.. Нет, нет, дорогая возлюбленная моя, нет!.. Нас обоих обманывают… Эти чудовища хотят воспользоваться плачевным положением моим и свести меня с ума!.. Небесный ангел мой, не дай этим лицемерам соблазнить тебя! И пусть душа твоя, столь же чистая, какой ее изначально создал Господь, найдет в чистоте этой прибежище от всего земного нечестия!
Глухая, тупая боль охватила несчастного. Чем более осознавал он ужасную участь свою, тем сильнее становились страдания его. И вот он уже бьется в своих оковах, то ему хочется бежать за доказательствами невиновности своей, то припасть к ногам Эрнестины; то катается по полу, оглашая своды пронзительными воплями; поднимается, бросается на цепи, которыми приковали его к стене, разбивается в кровь… Окровавленный, падает он возле оков своих, ничуть, впрочем, не поколебленных, разражается рыданиями… и только слезы эти, равно как и безмерное отчаяние, охватившее разбитую душу его, еще связывают Германа с жизнью.
Ничто в мире не сравнится с положением узника, в чьем сердце пылает любовь. Невозможность выразить страсть свою тут же открывает недобрую сторону этого чувства: божественный лик любезного сердцу существа является перед узником в окружении ядовитых гадов, впивающихся в его сердце; тысячи химер помрачают взор его. То спокойный, то взволнованный, то доверчивый, то подозрительный, ищущий истину и страшащийся находки своей, он ненавидит… и обожает предмет своей страсти, прощает ему все и тут же обвиняет его в коварстве. Душа страдальца — бесформенная субстанция, где, словно в волнах разгневанного моря, чувства его, едва запечатлевшись, тут же размываются и поглощаются пучиной.
Если бы кто-нибудь сейчас и поспешил на помощь Герману, то он оказал бы ему весьма печальную услугу, ибо чаша жизни его была наполнена до краев лишь горькой желчью! Но понимая, что защищать его некому, а единственное желание его — увидеть Эрнестину — осуществится только тогда, когда он докажет невиновность свою, Герман сумел совладать с собой.
Началось следствие. Однако дело его, слишком серьезное для провинциального суда, коим являлся суд в Нордкопинге, было отдано на рассмотрение судей в Стокгольм. Туда же увезли узника… довольного… если это вообще было возможно в положении его: Герман утешался тем, что он дышит одним воздухом с Эрнестиной.
«Я нахожусь в том же городе, что и она, — удовлетворенно думал он. — Возможно, я смогу дать ей знать об участи своей… Не прячут же они ее!.. Может быть, мне даже удастся увидеть ее. Но что бы ни случилось, здесь я буду менее досягаем для стрел врагов моих. Невозможно представить, что тот, кто находится подле Эрнестины, не стал бы чище под благородным влиянием души ее. Добродетельные чувства Эрнестины распространяются на всех, кто ее окружает… Они словно лучи светила, что согревают землю нашу… Там, где находится она, мне нечего бояться!»
Несчастные влюбленные, в каком призрачном мире живете вы!.. В этом мире находите вы утешение свое, а это уже немало. Покинем же опечаленного Германа, чтобы посмотреть, как устроились в Стокгольме интересующие нас люди.
Эрнестина, проводя время в развлечениях и порхая с праздника на праздник, не забыла милого своего Германа. Очи ее постоянно лицезрели все новые забавы, но в сердце царил образ возлюбленного и душа ее стремилась только к нему. Ей хотелось, чтобы и он разделил с ней развлечения ее, без Германа она не находила в них удовольствия. Она рвалась к нему, он мерещился ей повсюду, а когда видение исчезало, действительность казалась ей еще мрачней.
Несчастная не знала, в каком ужасном положении оказался властитель дум ее. Она получила от него лишь одно письмо, написанное накануне прибытия гамбургских негоциантов, поскольку были приняты все меры, дабы с тех пор она не имела от него известий. Когда она высказывала беспокойство свое отцу или сенатору, те напоминали ей о множестве важных дел, которые предстояло выполнить молодому человеку, и нежная Эрнестина, чья трепетная душа страшилась скорби, тихо соглашалась с тем, что ей говорили, и ненадолго умолкала. Новые сомнения просыпались в ней — их снова усыпляли: полковник — по доверчивости, граф — обманывая ее. Однако она успокаивалась, и незаметно пропасть под ногами ее разверзалась все шире.
Окстьерн не забывал и о Сандерсе. Он познакомил его с несколькими министрами. Подобное знакомство льстило самолюбию полковника и побуждало его терпеливо ждать, когда граф исполнит свои обещания. Окстьерн же беспрестанно повторял, что, сколь ни велики старания его, при дворе все всегда совершается медленно.
Сей коварный соблазнитель иногда воображал, что сможет преуспеть, даже не совершая преступления и пощадив, таким образом, жертву свою. Тогда он пытался говорить на языке любви с той, кого страстно желал совратить.
— Я все чаще сожалею о данном мною слове, — говорил он Эрнестине, — могущество очей ваших лишает меня мужества: честь повелевает соединить вас с Германом, но сердце мое противится этому. О, праведное Небо! Почему природа наделила прекрасную Эрнестину столькими совершенствами и столькими слабостями — сердце Окстьерна? Не будь вы столь прекрасны, я бы ревностнее служил вам и, быть может, уже сдержал бы свое слово, не будь вы столь неприступны, я, возможно, уже не любил вы вас.
— Граф, — взволнованно ответила Эрнестина, — я думала, что вы давно уже совладали со своими чувствами, и не подозревала, что за буря кроется в душе вашей!
— Значит, вы несправедливы к нам обоим, неужели вы всерьез считаете, что любовь к вам может угаснуть, и вообразили, что, раз воспылав в сердце моем, она не останется там навечно!
— Но разве страсть эта совместна с честью? И разве не клялись вы, что привезете меня в Стокгольм лишь для того, чтобы способствовать карьере отца моего и моему союзу с Германом?
— Опять этот Герман, Эрнестина! Так что ж, роковое имя это вечно будет на устах ваших?
— Нет, сенатор, но я буду произносить его до тех пор, пока драгоценный лик того, кому принадлежит оно, будет воспламенять душу Эрнестины. И предупреждаю вас, что изгладить образ сей может только смерть. Граф, почему вы медлите с выполнением обещания вашего?.. Послушать вас, так я уже давно должна была бы снова обрести нежный и единственный предмет страсти моей, почему же он не едет?
— Его расчеты с вдовой Шольтц — вот единственная причина его задержки.
— Когда же он закончит их? И приедет ли он в Стокгольм?
— Да… да, Эрнестина… Обещаю вам, что вы увидите его, чего бы мне это ни стоило… и где бы это ни произошло… Конечно, вы увидите его… А каково будет мое вознаграждение за сию услугу?
— Следует извлекать удовольствие из чувства пользы своей для ближнего, граф. Это самая большая награда для душ чувствительных.
— Вы требуете, чтобы я принес себя в жертву. Но это слишком высокая цена, Эрнестина. Неужели вы считаете, что многие способны на такое?
— Чем больше усилий это будет вам стоить, тем выше будет мое уважение к вам.
— Ах, уважение — какое это холодное чувство и как несравнимо оно с тем, что питаю я к вам!
— Но если лишь уважение испытываю я к вам, готовы ли вы им удовлетвориться?
— Никогда… никогда! — воскликнул граф, бросая бешеные взоры на несчастное создание. И, резко встав и собираясь покинуть ее: — Ты еще не знаешь, кого доводишь ты до отчаяния… Эрнестина… девица недалекая и самонадеянная… Нет, ты еще не знаешь мятущуюся душу мою, не знаешь, куда могут завести ее твои презрение и надменность!
Само собой разумеется, что последнее слова графа взволновали Эрнестину. Она тут же сообщила о них полковнику, но тот, все еще уверенный в честности сенатора, вовсе не усмотрел в них того смысла, который узрела в них Эрнестина. Доверчивый, но тщеславный, Сандерс нередко возвращался к мысли, что неплохо бы Эрнестине предпочесть графа Герману. Но дочь напомнила ему о данном слове. Честный и искренний полковник был рабом слова и уступил рыданиям Эрнестины, пообещав ей напомнить сенатору данную клятву или же, если он убедится, что Окстьерн с ним неискренен, сразу же увезти дочь в Нордкопинг.
И именно в это время жестоко обманутые, несчастные отец и дочь получили письмо от вдовы Шольтц, с которой, по их мнению, они простились навсегда. Письмо это объясняло молчание Германа: он чувствовал себя прекрасно, но был безмерно занят выправлением счетов, где обнаружились некоторые неточности. Молчание Германа следовало приписать лишь печали, испытываемой им от разлуки с любимой. Именно поэтому и вынужден был он прибегнуть к помощи благодетельницы своей, дабы подать о себе весть лучшим друзьям. Он умолял их не беспокоиться, потому что не позднее чем через неделю госпожа Шольтц сама повезет его в Стокгольм припасть к стопам возлюбленной своей Эрнестины.
Письмо это несколько успокоило нежную возлюбленную, однако не полностью…
— Письмо написать недолго, — рассуждала она. — Почему же Герман сам не написал его? Он знает, что я больше поверю единственному слову, написанному его рукой, нежели целому посланию, исполненному женщиной, не доверять которой мы имеем полное основание.
Сандерс успокоил дочь; доверчивая Эрнестина на какое-то время вняла увещеваниям полковника. Но гнетущее беспокойство скоро снова завладело ее сердцем.
Тем временем дело Германа не продвигалось. Сенатор успел повидать судей и посоветовал им вести следствие в строжайшей тайне, доказав, что, если дело получит огласку, сообщники Германа — те, у кого находятся деньги, — сразу же скроются за границу и предпримут необходимые предосторожности, дабы никто ничего не смог разведать… Доводами этими он обязал чиновников хранить молчание. Итак, хотя расследование велось в том же самом городе, где проживали Эрнестина и ее отец, никто из них ни о чем не ведал и никаких сведений до них не доходило.
Так обстояло дело, когда полковник впервые в жизни получил приглашение на обед к военному министру. Окстьерн не мог его туда сопровождать. По его словам, у него самого в этот день было около двадцати человек приглашенных, но он не забыл напомнить Сандерсу, что милость эта была делом его рук, и не преминул добавить, что никоим образом не следует отклонять подобное приглашение. Полковник вовсе не желал быть неблагодарным и не предполагал, что коварно задуманный обед сей положит конец его счастью. Итак, он оделся со всей возможной тщательностью, поручил дочь госпоже Плорман и отправился к министру.
Не прошло и часа, как Эрнестина увидела, что к ней в комнату входит госпожа Шольтц. Обмен любезностями был краток.
— Торопитесь, — сказала вдова, — мы едем к графу Окстьерну; я только что привезла к нему Германа. Я приехала к вам, дабы сообщить, что покровитель ваш и возлюбленный ждут вас, оба с равным нетерпением.
— Герман ждет меня?
— Он самый.
— А почему же тогда он сам за мной не приехал?
— Первой заботой его было оказать почтение графу, что справедливо. Влюбленный в вас сенатор пожертвовал собой ради этого молодого человека: так разве Герман не должен быть ему признателен? Разве сенатор не заслужил его благодарности? Однако вы сами видите, что они тут же отправили меня за вами. Настал день, когда граф исполнит обещание свое, мадемуазель, — продолжала вдова Шольтц, бросая притворно дружелюбный взгляд на Эрнестину. — Так едемте же насладиться плодами его.
Несчастная девушка, раздираемая желанием бежать туда, где, по словам Шольтц, ожидал ее Герман, и страхом совершить необдуманный поступок, отправившись к графу без сопровождения отца, застыла в нерешительности, не зная, что же ей делать. И так как вдова продолжала торопить ее, Эрнестина решила прибегнуть к помощи тетки Плорман, попросив проводить ее или, по крайней мере, отправить с ней кузена Синдерсена. Но последнего дома не случилось, а госпожа Плорман, поразмыслив, ответила, что дворец сенатора пользуется весьма доброй славой и молодая девушка ничем не рискует, отправившись туда одна. Племянница ее и сама хорошо знает дворец, ибо много раз бывала там с отцом. К тому же Эрнестину уже сопровождает дама весьма почтенного возраста, а именно госпожа Шольтц, и посему никакая опасность ей не угрожает. Она добавила также, что если бы не сильные боли, уже десять лет удерживающие ее в стенах собственного дома, она бы с удовольствием выполнила просьбу племянницы.
— Вы ничем не рискуете, племянница, — заявила госпожа Плорман. — Спокойно отправляйтесь к сенатору, вас там ждут. Как только вернется полковник, я предупрежу его, и он тотчас же отправится за вами.
Эрнестина, в восторге от того, что совет тетки совпал с ее собственными рассуждениями, словно на крыльях устремилась к карете вдовы Шольтц, и вскоре они уже подъезжали к дому сенатора. Тот ожидал их на пороге дома.
— Идите же, очаровательная Эрнестина, — обратился он к девушке, подавая ей руку. — Идите и насладитесь триумфом своим. Принимая жертву мою и жертву достойной этой женщины, идите и убедитесь сами, как великодушие натуры возвышенной возобладает над всеми прочими чувствами…
Эрнестина забыла о своей сдержанности, сердце ее трепетало от нетерпения. Предвкушение счастья красит девушку; никогда еще Эрнестина не была столь очаровательна, столь достойна всеобщего восхищения… Однако некоторые обстоятельства заронили тревогу в ее сердце и несколько остудили охватившие ее пылкие чувства. Хотя день был в самом разгаре, в доме не было видно ни одного лакея… Мрачная тишина царила в нем; не слышно было ни звука; двери тотчас же закрывались за ними; чем дальше они шли, тем темнее становилось вокруг. Все это столь испугало Эрнестину, что она едва не лишилась чувств и с трудом дошла до комнаты, предназначенной для ее встречи с любимым. Наконец она достигла ее.
Гостиная эта, достаточно просторная, окнами выходила на городскую площадь, однако окна были наглухо закрыты. Одно-единственное окошко слегка приоткрылось, и через опущенные жалюзи в комнату проникали слабые лучи солнца. Эрнестина вошла и огляделась; в комнате никого не было. Несчастная едва дышала, но, видя, что безопасность ее зависит исключительно от ее мужества, она спокойно произнесла:
— Сударь, что означает сия пустота, сия пугающая тишина… эти двери, что столь тщательно закрываются следом, эти окна, едва пропускающие свет? И где же Герман?
— Сядьте, Эрнестина, — сказал сенатор, усаживая ее между собою и коварной Шольтц. — Успокойтесь и выслушайте меня. С тех пор как вы, дорогая, покинули Нордкопинг, случилось многое. Тот, кому вы вручили сердце свое, к несчастью, оказался его недостоин.
— О Небо! Вы пугаете меня!
— Ваш Герман — негодяй, Эрнестина. И теперь речь идет о том, чтобы узнать, не были ли вы соучастницей кражи, совершенной им у госпожи Шольтц. На вас также пало подозрение.
— Граф, — произнесла Эрнестина, вставая; движения ее были столь же благородны, сколь и уверенны, — ваша хитрость раскрыта. Я беззащитна… я погибла… я в руках злейших врагов своих… О, что за страшные муки ожидают меня… — И она, упав не колени и воздев руки к небу, воскликнула: — Верховное Существо, лишь в тебе вижу я защитника своего! Не дай невинности погибнуть в смертельных объятиях преступления и порока!
— Эрнестина, — сказала госпожа Шольтц, поднимая ее и против воли усаживая в отведенное ей кресло, — здесь не взывают к Богу, здесь надо отвечать. Сенатор вас ни в чем не обвиняет. Ваш Герман украл у меня сто тысяч дукатов и уже собирался приехать и похитить вас, как, к счастью, замысел его был раскрыт. Герман арестован, но деньги мои не найдены, значит, он не успел растратить их: возможно, они находятся у вас. Дело Германа принимает самый печальный оборот; свидетели показывают против него. Многие жители Нордкопинга видели, как ночью он выносил из моего дома мешки, старательно пряча их под плащом. Таким образом, преступление доказано, и любовник ваш находится в руках правосудия.
Эрнестина: Герман виновен! Эрнестину подозревают! И вы поверили этому, сударь?.. Могли этому поверить?
Граф: Эрнестина, у нас нет времени на обсуждение этого дела, нам надо скорейшим образом разрешить его. Не желая напрасно огорчать вас, я, прежде чем предпринять тот шаг, который вынужден был сделать, сам все разузнал. Против вас нет улик, одни лишь подозрения, вот почему я обещаю избавить вас от унизительного заключения… Я обещал помогать отцу вашему, и я сдержал свое слово. Но для Германа… никогда: он виновен… Скажу вам больше, дорогая, хотя слова эти и заставляют меня содрогаться: он приговорен…
Эрнестина (побледнев): Приговорен… Герман… сама невинность!.. О, праведное Небо!..
— Все можно исправить, Эрнестина, — живо продолжал сенатор, заключая ее в объятия, — все еще можно исправить, клянусь вам… Об одном лишь молю: не препятствуйте страсти моей, окажите мне немедля ту милость, что давно добиваюсь я от вас, и я бегу к судьям… Они здесь, Эрнестина, — сказал Окстьерн, указывая в сторону площади, — они собрались, чтобы покончить с этим делом… Я лечу к ним, приношу им сто тысяч дукатов, заявляю, что ошибка произошла по моей вине, госпожа Шольтц, отказавшись от каких-либо претензий к Герману, подтверждает, что в счета вкралась ошибка и сумма эта дважды побывала в употреблении. Одним словом, я спасаю вашего любовника… Даже больше, я сдержу данное вам слово: через неделю вы станете его женой… Соглашайтесь, Эрнестина, и не будем терять времени… подумайте о деньгах, которые мне придется пожертвовать… о преступлении, в коем вас обвиняют… об ужасном положении Германа… о счастье, что ожидает вас, если вы удовлетворите желание мое.
Эрнестина: Мне — дозволить совершить над собой такую гнусность! Такой ценой искупить преступления, которые ни Герман, ни я никогда не совершали!
Граф: Эрнестина, вы в моей власти: то, чего боитесь вы, произойдет и без вашего согласия. Я возвращаю вам вашего возлюбленного всего лишь при условии добровольно оказания вами милости, кою получить я могу и без этого условия… Время торопит… Через час будет поздно, через час Герман будет мертв, вы же в любом случае будете обесчещены… Подумайте о том, что отказ ваш, погубив любовника вашего, все равно не спасет вашей стыдливости. Жертвуя этой стыдливостью, почитаемой лишь в воображении вашем, вы вернете к жизни того, кто вам дорог… Доверчивая, исполненная глупых добродетелей девица! Тебе некуда деваться, ты уступишь… не сможешь отказать мне! Соглашаясь на предложение мое, ты теряешь всего лишь некое эфемерное достояние… Отказываясь же, ты жертвуешь человеком, и тот, кого почитаешь ты самым дорогим на свете, будет уничтожен упрямством твоим… Решай же, Эрнестина, решай, даю тебе пять минут.
Эрнестина: Я уже все решила, сударь: предотвращая преступление, нельзя совершать новое. Я хорошо знаю возлюбленного своего и уверена, что он не смог бы наслаждаться жизнью, зная, что мне пришлось заплатить за нее своей честью. Он не смог бы жениться на мне после такого позора. Таким образом, вина тяжким бременем ляжет на сердце мое, и счастья мне это не принесет. Я равно буду несчастна, если не спасу его, ибо он, конечно же, будет сломлен клеветническими измышлениями вашими. Дайте мне уйти, сударь, не добавляйте к своим преступлениям нового. Подозреваю, что их уже и так немало на вашей совести… Я отправлюсь умирать подле возлюбленного моего, пойду разделить страшную судьбу его. Я умру, но останусь достойной Германа, и посему лучше я погибну добродетельной, нежели буду жить в нечестии…
Тогда граф пришел в ярость.
— Бежать от меня? — воскликнул он, пылая от любви и ярости. — Ускользнуть, не удовлетворив страсть мою? Не надейся, не обольщай себя надеждой, неприступное создание… Скорее молния расколет землю, чем я верну тебе свободу, не погасив пламени желания моего! — рычал он, заключая несчастную в объятия…
Эрнестина вырывалась… но напрасно… Окстьерн пришел в неистовство, вид его был ужасен…
— Подождите… подождите немного, — вмешалась вдова Шольтц, — может быть, сопротивление ее происходит от того, что она все еще сомневается в истинности слов ваших?
— Может быть, — согласился сенатор, — значит, надо убедить ее…
И схватив Эрнестину за руку, он потащил ее к окну, выходящему на площадь, и быстро распахнул его.
— Смотри же, изменница! — говорил он ей. — Там уже приготовлен эшафот для Германа.
На площади действительно возвышались кровавые сии подмостки, и несчастный Герман, собираясь расстаться с жизнью, преклонил колена перед исповедником… Эрнестина узнала его, она пыталась закричать, рвалась, члены ее ослабевали…
Все способствовало коварным планам Окстьерна… Он схватил несчастную и, вовсе не заботясь о состоянии ее, свершил преступление свое. Он утолил ярость, подвергнув надругательству достойное сие создание, забытое Небом и несправедливо отданное во власть самой нечестивой страсти. Эрнестина была обесчещена, так и не придя в сознание… В ту же минуту меч правосудия опустился на голову соперника Окстьерна: Германа больше нет.
После оказания помощи Эрнестина пришла в себя. Первое произнесенное ею слово — Герман; первое желание ее — схватить кинжал… Она встала, подошла к ужасному окну, все еще открытому, желая броситься вниз, но ее удержали. Она спросила о возлюбленном своем. Ей ответили, что его больше нет и она единственная повинна в его смерти… Она содрогнулась, начала бредить, слова безумия слетали с губ ее, рыдания прерывали их… однако глаза оставались сухими… И тут она заметила, что стала добычей Окстьерна… Она устремила на него яростный взор.
— Так, значит, это ты, негодяй, — воскликнула она, — похитил у меня и честь и возлюбленного?
— Эрнестина, все еще можно исправить, — возразил ей граф.
— Я знаю, — ответила Эрнестина, — несомненно, все уладится. Но могу ли я наконец покинуть этот дом? Насытилась ли злоба твоя?
— Сенатор, — убеждала его вдова Шольтц, — нельзя дать ей уйти… Она погубит нас. Что нам за дело до жизни этой девицы!.. Пусть она расстанется с ней, смерть ее послужит залогом нашей безопасности.
— Нет, — твердо говорил граф, — Эрнестина знает, что жалобы на нас ни к чему не приведут. Она потеряла своего любовника, но еще многое может сделать, дабы составить карьеру отца своего. Она будет молчать, и впереди ее ждет благоденствие.
— О каких жалобах говорите вы, сенатор? Неужели вы считаете, что я буду жаловаться?.. Сообщница ваша, пожалуй, может вообразить, что я способна на такое… О нет, сударь! Есть оскорбления, о которых женщина молчит… ибо она не может рассказать о них, не унизившись сама. Признания, вынуждающие ее краснеть, разбередят стыдливость ее гораздо более, нежели полученное ею возмещение сможет удовлетворить месть ее. Откройте двери, выпустите меня, сенатор, и будьте уверены в моем молчании.
— Эрнестина, вы свободны… Но, повторяю, судьба ваша в ваших руках.
— Я знаю, — гордо произнесла Эрнестина, — и честь моя в том порукою.
— Какая неосторожность! — воскликнула вдова Шольтц. — О граф! Я никогда бы не согласилась вступить в заговор, знай я, что вы так малодушны.
— Эрнестина не предаст нас, — ответил граф, — она знает, что я все еще люблю ее, знает, что ее брак со мной может стать платой за ее молчание…
— Ах, не бойтесь, не бойтесь, — говорила Эрнестина, садясь в ожидающий ее экипаж, — я желаю лишь восстановить честь свою, не запятнав ее вновь поступком низким… Вы будете довольны мною, граф: действия мои послужат к чести нашей — и моей, и Германа. Прощайте.
Эрнестина, возвращаясь к себе, остановилась посреди той площади, где возлюбленный ее только что простился с жизнью. Она пробралась сквозь толпу, насытившую взоры свои устрашающим зрелищем. Мужество придавало ей силы, принятое решение поддерживало ее.
Наконец она возвратилась домой. В то же время вернулся и отец ее: коварный Окстьерн сумел задержать его в отлучке ровно столько времени, сколько понадобилось ему для совершения преступления… Полковник увидел дочь свою растрепанной, бледной, в полном отчаянии, однако глаза ее были сухи, поступь горделива и речи ясны.
— Идемте, отец, мне надо поговорить с вами.
— Дочь моя, ты пугаешь меня… Что случилось? Ты уходила в мое отсутствие? Я слышал разговор о казни какого-то молодого человека из Нордкопинга… Мне стало тревожно… Я был взволнован… Объясни же! Я чувствую, что где-то рядом притаилась смерть.
— Выслушайте меня, отец, сдержите слезы ваши… — И бросившись в объятия полковника: — Мы не рождены для счастья, отец. Есть творения, коих природа создает лишь для того, чтобы обрушивать на них несчастье за несчастьем в то короткое время, что им отпущено для жизни на этой земле. Все не могут претендовать на равное счастье, надо подчиниться воле Неба.
Дочь ваша останется с вами, она будет тешить вашу старость, станет опорой… Несчастный молодой человек из Нордкопинга, о котором услышали вы, — это Герман. Только что, на моих глазах, он взошел на эшафот… Да, отец, у меня на глазах… Кое-кто очень хотел, чтобы я увидела это, и я видела… Он стал жертвой ревности вдовы Шольтц и бешеной страсти Окстьерна. Но это еще не все, отец. Не только о смерти своего возлюбленного вынуждена я рассказать вам — есть еще ужасная новость: дочь ваша вернулась к вам обесчещенной. Окстьерн… пока казнили одну жертву, негодяй издевался над другой.
При этих словах Сандерс в ярости вскочил.
— Довольно, — вскричал он, — я ясно вижу долг свой! Сына отважного соратника Карла XII не надо учить, как мстят предателям. Через час, дочь моя, или я буду мертв, или честь твоя будет восстановлена.
— Нет, нет, отец, нет, — восклицала Эрнестина, не давая полковнику удалиться, — заклинаю именем того, кто вам всего дороже: не берите на себя бремя мести. Подумали ли вы о том, какова будет участь моя, если я потеряю вас? Оставшись одна, без поддержки, в коварных лапах этих чудовищ… Неужели вы считаете, что они оставят меня в покое, а не попытаются уничтожить?.. Живите же ради меня, отец, ради дорогой вашей дочери! Лишь вы можете поддержать ее и утешить в неизбывном ее горе, лишь ваши руки смогут утереть слезы ее…
Слушайте же, что я придумала. Речь пойдет о незначительной жертве, которая, быть может, окажется излишней, если мой кузен Синдерсен проявит великодушие. Опасения, что тетка в своем завещании окажет предпочтение мне, — единственная причина, что вносит некоторую натянутость в отношения наши. Я рассею его страхи, подпишу полный отказ от прав на наследство и тем заинтересую его в своем деле. Он молод, храбр… он военный, как и вы. Синдерсен отправится к Окстьерну и кровью смоет нанесенное мне оскорбление. А так как честь наша непременно должна быть восстановлена, то, если он падет, отец мой, я более не буду удерживать вашу руку. Вы в свою очередь отправитесь к сенатору и отомстите сразу и за поруганную честь дочери вашей, и за смерть своего племянника. Таким образом, предатель, обманувший меня, будет иметь сразу двух противников вместо одного. Как знать, может быть, мы сумеем найти себе еще союзников?
— Дочь моя, Синдерсен слишком молод для такого противника, как Окстьерн.
— Не бойтесь, отец, предатели всегда трусливы, и одержать победу будет нетрудно… Ах, как я жду этого поединка!.. Условие, что я поставила вам… Я требую… у меня есть некоторые права на вас, отец. Несчастье мое предоставило мне их. Так не отказывайте мне в этой милости, прошу вас… припав к ногам вашим, молю вас о ней.
— Я не могу отказать тебе, я согласен, — ответил полковник, поднимая дочь. — Уверенность, что мы тем самым умножим число врагов оскорбителя чести нашей, побуждает меня пойти навстречу твоим желаниям.
Эрнестина обняла отца и быстрее ветра полетела к родственнику своему. Вскоре она вернулась.
— Синдерсен готов на все, отец, — сообщила она полковнику, — но из-за тетки он просит пока никому ни о чем не говорить. Родственница наша будет безутешна, если узнает, что случилось после того, как я последовала ее совету, данному от чистого сердца. Синдерсен желает все скрыть от госпожи Плорман. Он не увидится и с вами до завершения дела, но если потребуется, вы последуете за ним.
— Согласен, — сказал полковник, — пусть мчится он вершить месть. Я готов поддержать его…
Все тихо… Эрнестина уснула, сон ее спокоен. На следующий день рано утром граф Окстьерн получил письмо следующего содержания, написанное незнакомой рукой:
«Ужасное преступление не остается безнаказанным, гнусное оскорбление не остается неотмщенным. Поруганная честь девушки должна стоить жизни оскорбителю ее или тому, кто решится мстить за нее. Сегодня в десять часов вечера офицер, одетый в красное, со шпагой будет прогуливаться подле двери дома вашего. Он надеется, что встретит вас там. Если вы не явитесь, тот же самый офицер придет к вам завтра и прострелит вам голову».
Слуга без ливреи, доставивший письмо, согласно приказу дожидался ответа. Ему возвратили его послание с короткой припиской: «Явлюсь непременно».
Но коварный Окстьерн страстно желал знать, что же произошло в доме госпожи Плорман после возвращения Эрнестины. Потратив немало золота, ему удалось получить интересующие его сведения. Он узнал, кто такой офицер в красном; узнал также, что полковник приказал своему доверенному слуге приготовить ему английский мундир, дабы неузнанным следовать за тем, кто отважился мстить за честь дочери его, и, в случае если тот будет побежден, заступить на его место. И вот уже Окстьерн знал все и даже больше, чем потребно ему для осуществления своего страшного замысла.
Наступила ночь, необычайно темная. Эрнестина предупредила отца, что Синдерсен отправляется через час, она же, будучи в состоянии полнейшего изнурения, просит разрешения удалиться к себе. Полковник был очень рад, что остается один, пожелал дочери доброй ночи и, когда та вышла, приступил к последним приготовлениям, чтобы пойти за тем, кто будет сражаться за честь семейства его. Вот он уже на улице… Ему неизвестно, как будет одет Синдерсен: Эрнестина не показала ему вызов. Выполняя просьбу молодого человека сохранить дело в тайне и не желая заронить подозрения в сердце дочери, он ни о чем ее не спрашивал, словно ему до этого и дела не было. Полковник шел вперед: место поединка ему известно, и он уверен, что сумеет узнать племянника. Он прибыл в указанное место: еще никого нет; он стал прохаживаться. Тут какой-то незнакомец без оружия, со шляпой в руке подошел к нему.
— Сударь, — обратился этот человек к отцу Эрнестины, — вы ли полковник Сандерс?
— Да, он самый.
— Тогда знайте же, Синдерсен вас предал: он не будет драться с графом. Однако граф спешит следом за мной и намеревается сразиться с вами в смертельном поединке.
— Слава Богу! — радостно воскликнул полковник. — Большего я и желать не мог!
— Однако, сударь, прошу вас не произносить ни слова, — продолжал незнакомец. — Место это весьма ненадежное: у сенатора много друзей, они могут прибежать, дабы разнять вас… Сам граф того не желает и хочет дать вам полное удовлетворение… Итак, атакуйте быстро и молча… А вот и он — тот офицер в красном, что приближается к вам с противоположной стороны улицы.
— Согласен, — ответил полковник. — А теперь быстрее уходите, мне не терпится скрестить с ним шпаги…
Незнакомец удалился. Сандерс сделал еще два шага. Наконец в темноте он различил одетого в красное офицера, быстро направляющегося прямо к нему. Не сомневаясь, что это Окстьерн, полковник устремился на него, обнажив шпагу и не произнося ни слова из опасения, что поединок их могут прервать. Офицер стал молча защищаться, выказывая при этом недюжинную отвагу. Однако ловкость его уступала яростным атакам полковника, несчастный упал на землю и стал корчиться в пыли в предсмертных конвульсиях…
В этот миг раздался женский стон; горький этот вопль пронзил душу Сандерса… он подошел ближе: и увидел, что человек, им убитый, вовсе не тот, кого хотел он поразить. Праведное Небо!.. В поверженном он узнал дочь свою… Это она, отважная Эрнестина, решившая сама отомстить за поругание или погибнуть! И вот уже, захлебываясь в собственной крови, испустила она тихий вздох в объятиях отца своего.
— О страшный час! За что настал ты для меня? — застонал полковник. — Эрнестина! Тебя, дочь моя, убил я собственной рукой! О, горе мне! Кто же подстроил роковой этот поединок?..
— Отец, — слабым голосом ответила Эрнестина, сжимая полковника в объятиях, — я не узнала вас. Простите, отец, что я осмелилась обнажить шпагу против вас… Простите ли вы меня?
— Великий Боже! И ты еще просишь простить тебя, когда моя рука отправила тебя в могилу! О, бедная душа, сколько еще отравленных стрел надобно будет Небу, дабы поразить нас?
— Это дело рук коварного Окстьерна… Ко мне подошел незнакомец и сказал, что сенатор просит меня хранить молчание во время поединка, дабы друзья его не пришли и не развели нас. Незнакомец описал одежду вашу, сказав, что именно так будет одет граф… Я поверила ему… О, гнусное скопище пороков!.. Я умираю… Но умираю в объятиях ваших: после всех бед, обрушившихся на меня, такая смерть для меня наиболее желанна. Поцелуйте меня, отец, и примите последнее прости злосчастной Эрнестины.
С этими словами несчастная умерла. Сандерс поливал ее тело слезами… Но месть заглушала боль. Он оставил окровавленный труп, дабы воззвать к закону. Погибнуть самому… или погубить Окстьерна! Лишь на судей осталась у него надежда… Он Не должен, не может более, не унижая себя, связываться с этим негодяем, ибо тот скорее прикажет тайно его убить, нежели отважится встретиться с ним в честном поединке. Покрытый кровью собственной дочери, полковник бросился в ноги городским судьям, изложил им ужасное стечение несчастных обстоятельств, разоблачил гнусности графа… Пробудив у них недовольство, возмущение, полковник напомнил, как из-за злого умысла предателя этого несправедливо решено дело Германа… Судьи обещали, что невиновный будет отомщен.
Несмотря на влияние, которым пользовался сенатор, его арестовали той же ночью. Уверенный, что все преступления его сойдут ему с рук, или просто не уведомленный шпионами своими, сенатор преспокойно спал в объятиях вдовы Шольтц: отомстив врагам своим, два чудовища таким образом отпраздновали победу свою. Их обоих препроводили в тюрьму. Дело велось со всей строгостью… Честность и неподкупность председательствовали на суде. Оба преступника наговаривали друг на друга, обвиняли один другого… Добрая память Германа восстановлена. Вдова Шольтц заплатит за злодеяния свои на том же самом эшафоте, где по ее вине умер безвинный.
Сенатор был приговорен к такому же наказанию, но король смягчил его, заменив казнь пожизненной ссылкой в рудники.
Из имущества преступников король Густав назначил полковнику пенсию в десять тысяч дукатов, а также пожаловал ему чин генерала. Но Сандерс ничего не принял.
— Сир, — сказал он монарху, — вы слишком добры. Если все эти милости вы предлагаете мне в награду за мою службу, то они непомерно велики, я не заслужил их… Если же этим вы хотите возместить утраты мои, то этого будет недостаточно. Сир, душевные раны не излечиваются ни золотом, ни почестями… Я прошу Ваше Величество оставить меня один на один с отчаянием моим; вот та единственная милость, о которой я прошу.
— Итак, сударь, — прервал рассказ свой Фалькенейм, — вот и вся история, которую вы просили меня рассказать. Мне жаль, что пришлось выполнить вашу просьбу, потому что нам еще раз надобно встретиться с графом Окстьерном; теперь вид его вызовет у вас отвращение.
— Я весьма снисходителен, сударь, — ответил я, — и склонен прощать любые ошибки, совершаемые под воздействием существа нашего. Злодеев, коих встречаем мы среди честных людей, что в большинстве своем населяют мир наш, рассматриваю я как некое отклонение природы, ибо та, украшая обиталище наше, чередует красоту и уродство. Но ваш Окстьерн, и в особенности вдова Шольтц, злоупотребили правом на слабость, предоставляемым человечеству философами. Невозможно мириться с подобными преступлениями. В поведении и одного, и другой есть обстоятельства, заставляющие трепетать от ужаса. Надругаться над несчастной девушкой в ту минуту, когда возлюбленный ее идет на казнь, затем убить несчастную рукой ее собственного отца — столь отвратительные поступки побуждают нас сожалеть о своей принадлежности к роду человеческому, ибо, к несчастью, ее приходится разделять с этими извергами.
Едва лишь я договорил, как появился Окстьерн и принес письмо. Он был достаточно проницателен и прочел на лице моем, что меня посвятили в историю похождений его… Он посмотрел на меня и обратился ко мне по-французски:
— Сударь, пощадите меня. Огромное состояние, блестящее имя, влияние — вот те сирены, лести которых я поддался. Познав горе, я познал и угрызения совести. Отныне я хотел бы жить среди людей, ибо уверен, что более не смогу ни сделать их несчастными, ни навредить им.
Бедняга сопроводил слова свои слезами, однако я не чувствовал себя вправе разделить их. Провожатый мой взял письмо и обещал сделать все возможное. Мы уже собрались уходить, когда увидели, что улица запружена толпой и та приближается к месту, где мы находились… Мы остановились. Окстьерн все еще был с нами. Постепенно мы разобрали, что во главе толпы шли двое мужчин, они о чем-то яростно спорили. Заметив нас, они направились нам навстречу. Окстьерн узнал их.
— О, Небо! — воскликнул он. — Что это?.. Полковник Сандерс в сопровождении министра рудников! А там еще и наш пастор… Значит, они пришли за мной, господа. Неумолимый враг мой настиг меня даже в недрах земных!.. Чего еще требует он, дабы утолить месть свою?
Окстьерн не успел договорить, как полковник приблизился к нему.
— Вы свободны, сударь, — сказал он ему. — Своим освобождением вы обязаны тому, кому нанесли безмерно тяжкое оскорбление… Сенатор, я получил освобождение ваше; король предложил мне чины, почести — я отказался от всего, испросив лишь одну милость — даровать вам свободу… Я получил ее, вы свободны и можете следовать за мной.
— О великодушный человек! — воскликнул Окстьерн. — Неужели это правда? Я свободен… и свободен благодаря вам!.. Вам, кто хотя и пытался взять жизнь мою, но все еще не покарал меня, как я того заслуживаю…
— Я был уверен, что вы догадаетесь о намерениях моих, — сказал полковник, — знал, что ничем не рискую, возвращая вам свободу. У вас не будет возможности злоупотребить ею… Впрочем, разве все несчастья ваши смогут искупить мои собственные? Разве обрету я покой, видя мучения ваши? Разве заключение ваше может искупить ту кровь, что вы пролили? Я был бы столь же жесток, как вы… и столь же несправедлив, если бы верил в это. Разве, заключив человека в тюрьму, общество тем самым исправляет зло, что причинил он… Нет, если общество желает, чтобы человек искупил содеянное им зло, надо отпустить его на свободу. Тогда все станут творить добро, вместо того чтобы прозябать в оковах. Все, что изобретает деспотизм у одних народов или строгость законов у других, сердце честного человека отвергает… Уходите отсюда, граф, уходите, повторяю вам — вы свободны.
Окстьерн хотел броситься в объятия благодетеля своего.
— Сударь, — холодно молвил Сандерс, сопротивляясь побуждению графа, — мне не нужна ваша признательность, я не хочу, чтобы вы узрели в поступке сем лишь добрую волю, ибо у меня есть и своя собственная цель… Покинемте же скорей это место; я не менее вас стремлюсь увидеть вас на свободе, дабы все вам объяснить.
Сандерс, видя, что мы шли вместе с Окстьерном, и узнав, кто мы такие, попросил нас подняться вместе с ним и графом. Мы согласились. Вместе с полковником граф выполнил некоторые формальности, необходимые для его освобождения. Нам вернули оружие наше, и мы поднялись наверх.
— Господа, — обратился с нам Сандерс, как только мы оказались наверху, — окажите мне любезность стать свидетелями того, что я сейчас сообщу графу Окстьерну. Вы, вероятно, поняли, что в руднике я не мог ему все сказать: там было слишком много посторонних.
Так как мы постепенно продвигались вперед, то скоро оказались вблизи живой изгороди, скрывавшей нас от любопытных глаз. Тогда полковник, схватив графа за воротник, воскликнул:
— Сенатор, наконец настало время объясниться. Надеюсь, вы достаточно сообразительны, чтобы понять, что единственным и страстным желанием моим при получении освобождения вашего было желание скрестить с вами шпаги в смертельном поединке, и достаточно храбры, чтобы не отказать мне в этом.
Фалькенейм пожелал выступить миротворцем и разнять двух противников.
— Сударь, — сухо сказал ему полковник, — вы знаете, какое оскорбление нанес мне этот человек. Душа дочери моей требует отмщения: один из нас должен остаться на этом месте. Королю все известно; вручая мне приказ об освобождении этого человека, он не стал отговаривать меня от поединка. Так дайте же мне выполнить свой долг, сударь.
И полковник, сбросив камзол, взял в руки шпагу… Окстьерн тоже схватил шпагу, однако едва лишь она оказалась в его руке, как он взял ее за лезвие одной рукой, а другой сжал острие шпаги полковника и, опустившись на одно колено, протянул Сандерсу эфес оружия своего.
— Господа, — сказал он, обращая к нам взор свой, — я беру вас в свидетели поступка моего. Я хочу, чтобы вы оба знали, что я не заслужил чести сражаться с этим честным человеком, но признаю право его распорядиться жизнью моей и молю его забрать ее у меня… Возьмите мою шпагу, полковник, возьмите, я отдаю ее вам. Вот сердце мое, пронзите же его оружием своим, я сам направлю удар ваш. Отбросьте сомнения, прошу вас, отдайте наконец земле того, кто столь долго осквернял ее.
Сандерс, удивленный поведением Окстьерна, приказал ему защищаться.
— Я не сделаю этого. А если вы не захотите воспользоваться оружием своим, что удерживаю я в руках, — твердо отвечал Окстьерн, направляя в обнаженную грудь свою острие шпаги Сандерса, — если не используете его, дабы прекратить дни мои, то заявляю вам, полковник, что я сам заколю себя у вас на глазах.
— Граф, оскорбление можно смыть только кровью… только кровью, защищайтесь же!
— Я знаю, — ответил Окстьерн, — поэтому подставляю грудь свою под ваш удар, разите же… Это моя кровь должна пролиться.
— Но я вовсе не намерен убивать вас, — отвечал Сандерс, пытаясь высвободить шпагу свою из рук Окстьерна, — только по законам чести можно покарать нечестие.
— Я недостоин такой чести, сударь, — отвечал Окстьерн. — Но раз вы не хотите получить удовлетворение так, как я того заслуживаю, значит, мне самому надо избавить вас от этих забот…
И он пронзил себя шпагой полковника, лезвие которой все еще держал в руке. Из раны на его груди полилась кровь. Полковник молниеносно выхватил шпагу.
— Довольно, граф, — закричал он. — Кровь ваша пролилась, я удовлетворен… Пусть Небо решит участь вашу, я же не желаю быть вашим палачом.
— Обнимемся, сударь, — произнес Окстьерн, потерявший уже довольно много крови.
— Нет, — ответил Сандерс, — я могу простить преступления ваши, но не могу питать к вам дружеских чувств.
Мы поспешили перевязать рану графу. Великодушный Сандерс помог нам.
— Идите, — сказал он сенатору, — идите и наслаждайтесь свободой, я дарю ее вам. Если можно, постарайтесь добрыми поступками искупить грехи ваши, иначе мне придется отвечать перед всей Швецией за преступления, что содеял я, вернув ей чудовище, от коего она уже сумела избавиться… Господа, — продолжил Сандерс, обращаясь ко мне и Фалькенейму, — я все предусмотрел. Экипаж, ожидающий в гостинице, куда вы направитесь, предназначен Окстьерну, но вы можете уехать вместе с ним. Мои лошади ждут меня в другом месте. Засим я прощаюсь с вами. Дайте мне честное слово, что вы дадите королю подробный отчет обо всем, что вы здесь видели.
Окстьерн еще раз попытался броситься в объятия освободителя своего, заклинал того удостоить его дружбы своей и, перебравшись жить в его дворец, разделить с ним его состояние.
— Сударь, — отвечал полковник, отталкивая его, — я не могу принять ни благодеяний ваших, ни дружбы и требую от вас лишь соблюдения верности добродетели. Не дайте мне раскаяться в поступке моем… Вы утверждаете, что готовы утешить меня в печалях? Наилучшим утешением моим станет добродетельное поведение ваше. Любой ваш достойный поступок, весть о котором молва донесет до уединенного жилища моего, быть может, когда-нибудь избудет глубочайшую скорбь души моей, ибо раны ее, нанесенные злодеяниями вашими, глубоки. Если же вы продолжите нечестивый путь свой, весть о первом же преступлении вашем оживит в памяти моей образ той, кого вы убили моей рукой, и боль о прошлом погубит меня. Прощайте! Расстанемся, Окстьерн, и дай Бог нам больше никогда не встретиться…
С этими словами полковник удалился… Окстьерн, заливаясь слезами, последовал за ним… Шатаясь, сделал он шаг вперед… Мы остановили его и в почти бессознательном состоянии отнесли в карету, которая быстро доставила нас в Стокгольм.
Месяц несчастный находился между жизнью и смертью. Когда здоровью его уже более ничего не угрожало, он попросил нас сопроводить его к королю. Монарх приказал нам рассказать обо всем, чему мы стали свидетелями.
— Окстьерн, — обратился затем к сенатору Густав, — вы убедились, что преступление посрамляет человека и унижает достоинство его. Ваше положение, состояние, рождение — все возвышало вас над Сандерсом, однако добродетели полковника поставили его на недосягаемую для вас высоту. Так воспользуйтесь же достойно тем благом, которое он умолял вам вернуть. Я выполнил его просьбу, Окстьерн. Надеюсь, что после полученного урока вы не станете более предаваться свойственным вам разнузданным порокам либо сами немедля определите наказание свое, прежде чем я узнаю о новом проступке вашем.
Граф бросился к ногам властителя своего и клялся, что отныне поведение его будет безупречно.
Он сдержал слово: тысячи поступков, один великодушнее и прекраснее другого, искупили ошибки графа в глазах всей Швеции. Пример его подтвердил мудрость этой нации, определившей, что мстительность или деспотизм владык не всегда способны направить человека на путь истинный, а тем паче удержать его на нем.
Сандерс вернулся в Нордкопинг; жизнь его протекала в полном одиночестве. Каждый день оплакивал он обожаемую дочь свою. В утрате этой его утешали лишь те хвалы, которые, как каждодневно узнавал он, возносили тому, кому он возвратил свободу.
— О добродетель! — часто восклицал он. — Быть может, несчастья мои были необходимы, дабы привести Окстьерна в храм твой! Если так, то пусть это послужит мне утешением. От преступлений этого человека пострадал лишь я, благодеяниями же его воспользуются многие.
1
Густав Ваза, убедившись, что римское духовенство, деспотическое и непокорное по природе своей, присвоило часть власти государя, разоряет народ и уже ничто не может исправить нрав его, ввел в Швеции лютеранство, предварительно вернув народу огромные богатства, украденные у него католическими попами. — Примеч. авт.
Густав Эриксон из рода Ваза, шведский король (1523–1560), при котором была восстановлена независимость Швеции, провел королевскую реформацию. — Примеч. пер.
(обратно)2
Шведская королева (1632–1654), дочь Густава II Адольфа. — Примеч. пер.
(обратно)3
Король Швеции (1697–1718). — Примеч. пер.
(обратно)4
Туаз — старинная французская мера длины, равная 1,949 м. — Примеч. пер.
(обратно)5
Имеется в виду герой пьесы французского драматурга Пьера Корнеля «Цинна, или Милосердие Августа» Гней Корнелий Цинна, участвовавший в заговоре против римского императора Августа, который, после раскрытия заговора, пощадил заговорщиков. — Примеч. пер.
(обратно)6
Здесь уместно напомнить, что в восстании этом король был на стороне народа, а сенаторы выступали против народа и короля. — Примеч. авт.
Густав III, король Швеции (1771–1792), опираясь на армию, совершил в 1772 году государственный переворот, ликвидировав правление феодально-аристократической олигархии и установив неограниченную власть короля. — Примеч. пер.
(обратно)7
Король Швеции (1676–1751). — Примеч. пер.
(обратно)8
Король Швеции (1751–1771). — Примеч. пер.
(обратно)9
Нордкопинг — истинно торговый город, и, следовательно, такая женщина, как госпожа Шольтц, оказавшаяся во главе богатейшего торгового дома Швеции, естественно, должна обладать большим влиянием в обществе. — Примеч. авт.
(обратно)10
Кипарис — погребальное дерево у народов Средиземноморья. — Примеч. пер.
(обратно)
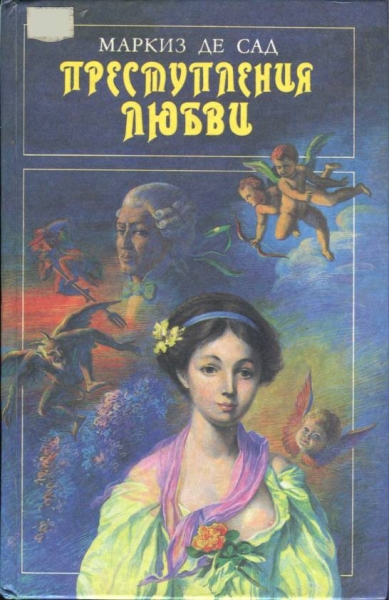

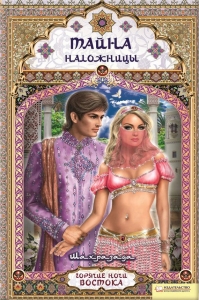
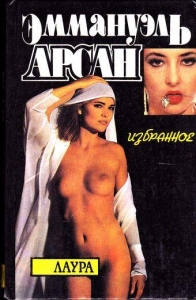

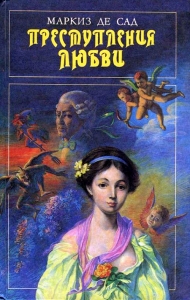

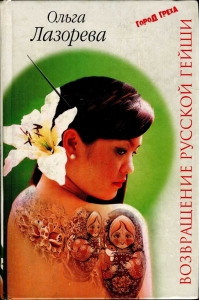
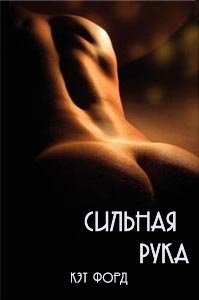

Комментарии к книге «Эрнестина», Маркиз де Сад
Всего 0 комментариев