Валерий Большаков ПОМОР
Пролог
Россия, Шенкурский уезд Архангельской губернии.
Май 1867 года.
…Олёна преставилась на Рождество, и Фёдор Чуга овдовел.
Долго чахла Олёнка, с самого лета маялась непонятной хворью, всё мужа жалеючи — как же ему одному-то, без неё? А к зиме слегла, да и не поднялась больше. Померла.
Уж как изводился Чуга — и к травницам обращался, и доктора из самого Архангельска заманивал, да всё без толку. Пользовали женку травами да медами, заговорами врачевали, мощи прикладывали, лекарь городской средство выписывал патентованное, а Господь всё одно прибрал душу Олёнкину, чистую и безгрешную.
Фёдор всё пытался свыкнуться с потерей своей, да не выходило у него. Вот же ж вчера только тепла была, дышала, молитву шептала, глядела на мужа скорбно, чисто ангелица, прости, Господи… А нынче нет её! Не стало. Вот уж и поминки справили, и день девятый минул, и сороковой отошёл…
Мела, мела зима лютая, завевала порошу. Жарко была печь натоплена, а на сердце — стужа.
…Похоронили Олёну на приходском кладбище, под сенью многовековых сосен и елей. В малолетстве Чуга пугался бывать здесь, за низким замшелым срубом бревенчатой ограды, где вера истинная будто и не обарывала идолища поганые.
У самого входа на кладбище простенькая часовенка стояла — три почерневшие иконки на полочке — вот и всё убранство. А сразу за резной калиткой густой зелёный полумрак нависал, из кружев густого подлеска срубцы выглядывали — низкие, в землю вросшие «избушки» в два-три венца, кровлей в два ската крытые, — с коньками фигурными, с причалинами резными по торцам — всё как у живых людей, да только под срубцами мёртвые спали в гробах своих. И столбцы, столбцы вокруг — надмогильные знаки. Вехи в сажень,[1] то круглые, то граненые, под остроугольными кровельками. Так и веяло от них капищем языческим да жутью всякой.
Отца-то Фёдор схоронил далеко от этих мест, на пустынном берегу студёного моря, среди безлесных песчаных дюн. Огромный массивный крест в три роста человеческих отмечал могилу Труфана Чуги, сурового помора, не ведавшего страху, а вокруг — пустыня холодная, полуночная, где одни лишь волны рокочут без умолку да ветер свищет по голым пескам…
— Олёна… — выдавил Фёдор, но голос человеческий угас в зелёных кладбищенских потёмках, будто и не было последнего зова.
Вздохнув тяжко, Чуга погладил нежно крышу тесовую на Олёнином срубце, да и побрёл себе вон.
Смутно было на душе. Тоска неуёмная не покидала помора, скрываясь в закутках памяти: только припомнишь милое лицо, голосок любимый — и как иглою тебя всего пронижет, и больно до слёз. И вроде как иссохла влага горючая ещё в детские годы, а вот поди ж ты… Жжёт.
Чуга грузно сбежал к мелкой, каменистой Ваенге. На мосту он обернулся, перекрестился на церковь и пошагал на берег левый, где издревле стояла Харитоновка.
Деревня была велика — пятнадцать дворов — и жила не бедно. Все дома могучи, как терема, с крытыми дворами да со светёлками, с бревенчатыми взвозами до ворот вторых этажей,[2] куда телеги въезжали пароконные или воловьи упряжки. Избою назвать такой-то домище просто язык не поворачивался.
Все дома на «весёлое» место глядели — к реке были обращены. На косогоре мельница крылья раскинула, а журавли колодезные будто за нею тянулись, повыше задирая тощие шеи.
Палисадников с садочками и близко не видать — север. Огороды одни, а за ними лес дремучий вставал. На лужках коровки бродили пёстрые, колокольцами позванивали. Знатная порода, холмогорская. Хоть и мелкая скотинка, а молочка вдоволь даёт.
От пронырливых коровок и огороды, и всю деревню изгородями окружили из наискось поставленных жердей — не проберутся бурёнки.
«Терем» самого Фёдора с краю стоял — огромный домина, «кошелем» выстроен. Могучий сруб отливал свежей желтизной — и пяти лет не минуло с новоселья. Век простоит.
По гулким ступеням крыльца помор поднялся наверх. Миновал сени, перешагнул порог большой горницы, тихой и светлой. Ни одна из широких цельных плах, которые складывали пол, не скрипнула под ногой Чуги, человека рослого, сложения богатырского и весу немалого. Добротная построечка. Для Олёны срублена, для сынков и дочек. Наследника у Фёдора так и не появилось, а нынче и рожать-то некому. И что ему делать теперь, когда в доме стыла тишина? Мёртвая тишина…
Чуга поклонился иконам в «красном углу», отливавшим тусклым золотом надраенных окладов, бездумно похлопал крепко сбитую печь. Еще недавно Олёнка в ней пироги пекла, хлеб ставила, камни калила, чтобы согреть пойло для скотины…
Фёдор бесцельно послонялся, кружа по горнице. То стены, гладко обтёсанные, рукою тронет, то на широкую лавку присядет, то вышитое полотенце зачем-то пощупает, то в зеркальце глянет — на скуластое лицо с широковатым носом и плотно сжатыми губами, на зоркие серые глаза, таящие пустоту, на хмурый лоб и чёлку соломенного цвета. Добрый молодец…
Выйдя на балкон, Чуга долго смотрел на тот берег сверкающей на солнце Ваенги, на горку, где крепко сидела деревянная приходская церковь Св. Николая — мощный четверик, а на нём восьмерик[3] с высоким шатром, утянутым вверх и увенчанным изящной главкой, крытой узорным лемехом.
«Совсем обветшала церквушка, — подумал Фёдор, — стара больно. И крест покосился…»
Храм примыкал к ограде кладбища, словно охраняя покой умерших, и горе снова угнездилось в сердце помора. Чуга вернулся в горницу и сел за стол, уложив на белую скатерть свои сильные руки. Ладони — сплошная мозоль…
Эти руки и дом ладили, и дикий лес сводили, выгадывая место под полюшко, и паруса ставили, и зверя добывали… И оглаживали прелести красавицы-жены.
Фёдор со стоном вцепился в волосы, затряс головой, отгоняя пленительные видения. Да и разве одно тело женино было ему любо? Грудей он нащупался вдоволь, но только в Олёне нашёл заботу и ласку, ощутил покой и то, невыразимое словами, что не от красы плотской нарождается, но западает в душу и греет пуще всякого очага.
Чуга стиснул кулаки. Силы в нём немерено. Дух, правда, ослаб, но минут тяжкие дни — и он укрепится. Но что делать-то? Как ему дальше жить? Для чего и для кого силушку прикладывать?
Фёдор усмехнулся неласково. Для кого… А ты помни, да живи! Вот тебе и весь сказ.
С крыльца донеслись тяжёлые шаги, звякнул засов на отворяемой двери, но помор даже головы не поднял, будто и не в его дом пожаловал гость — коренастый, основательный мужичина виду значительного, хоть и с порчинкой — чёрные волосы блестят от бриллиантина, усики нафабрены в две запятые. Купец Окладников, дальняя родня Чуги.
— Здорово, Фёдор, — сказал купчина внушительно, подсаживаясь к столу.
Хозяин помалкивал сперва, а после буркнул:
— Принёс?
— А то! — бодро откликнулся Окладников.
Он выложил на стол брякнувший сверток, развернул плотную ткань.
— Глянь-кось. «Смит-вессон» прозываются.
Фёдор без интереса поднял глаза, осматривая пару револьверов 44-го калибра с рукоятками, отделанными ореховым деревом. Потом взял один, взвесил в руке приятственную тяжесть, проверил баланс.
— Новьё?
— А то! — солидно отозвался Окладников.
— Врёшь, поди…
— Как можно? Пистоль-то американский, а производства нашенского, все хвалят.[4] Вот и патроны, — купец выложил кожаный мешочек. — Говорят, в Америке этой все с ими ходят да палят друг в дружку беспрестанно, кажный божий день…
— Ну-к, што ж, вот и я оружный буду.
— Оберегайся только, а то и до беды недолго… Пульнёшь, да не в того! Знаешь, чай, где в ём дуло?
— Да уж дал Бог памяти…
Чуга откинул барабан «смит-вессона» и зарядил пустые каморы пятью патронами. Шестую оставил пустовать — в неё-то и упёрся боёк. Так спокойнее будет, а то мало ли…
— Не передумал ли землю родную покидать? — стал уважливо допытываться Окладников. — Всё ж таки дедовские места, и Олёна…
Тут он смолк, ругая себя за лишнее, но Фёдор не осерчал, головою только мотнул.
— Нету боле Олёны, — глухо проговорил Чуга, — а то, что схоронено, — не она вовсе, а прах её, тлен, червям пожива. В раю моя девонька. А небеса — они везде, равно для всех. Олёнка с облацех повсюду меня углядит — и в Расее, и в Америке.
— Ох и далёко ж ты собрался… — завздыхал купец. — Шибко далёко… Што и говорить, беда у тебя, да ведь избывная. Молодой ты ещё, голову на плечах имеешь и не лодырь, вечно в деле. На печи лёжа, кроме пролежней, мало что нажить можно, а уж ты-то, ежели с морем игру затеешь, умеючи да опасливо, внакладе не будешь. Нам, поморам, в плаваньях не учиться стать!
— В толк не возьму, — проворчал Фёдор, подозрительно взглядывая на Окладникова, — к чему ты клонишь… А, Еремей Панфилыч? Али опять на палубу зовёшь?
— Опять, Фёдор Труфанович! А ты думал? Коли всё ладно будет, я тебе и пароход доверю. Ей-бо, пра!
Нахмурился Чуга и покачал головой.
— Невмоготу мне здесь, — сказал он, — давит всё… На чужбине мне полегче будет, хоть речи родной не услышу. Про дом-то мы как, сговорились?
— А то! Половину себе забираю, половину сестрёнице твоей. Честное купеческое!
— Ин ладно, бери…
Поднявшись, Фёдор задвигался по горнице, кидая пожитки в кожаный мешок. Куртку уложил овчинную и носки тёплые, Олёной вязанные, пару рубах байковых, шапку меховую — вдруг зима американская сурова? Поглубже запихал револьверы с патронами. Сам-то Чуга собран был с утра самого — сапоги яловые, с блеском, в них портки заправлены, сверху жилет-безрукавка накинут, а под ним рубаха простая, с напуском, у ворота Олёной вышитая. Первый парень на деревне…
Натянув картуз, Фёдор вздохнул шумно и присел, держа мешок между колен.
— Посидим на дорожку…
Еремей Панфилыч пригорюнился сидючи. Всё ж справного морехода теряет. Молодые-то, что в форменках щеголяют, по механизмам смыслят кой-чего, в башках у них знания набито, как селёдки в бочках. А моря не знают.
— Ну бывай здоров, пойду.
Фёдор Чуга забросил мешок за спину, схватясь за лямку, и покинул свой дом. Навсегда.
Глава 1 СЕВЕР
Архангельск встретил Фёдора нудной моросью, но к полудню развиднелось. Хмурное небо прояснилось, и только дали расплывались в дымке.
Город будто заснул — прохожие выглядели вялыми, движения особого не заметишь. Лошади, и те не катили бодро коляски, а влачили их по улицам, клоня понуро гривастые шеи. Да и чему удивляться? Ровно пять лет тому назад «высочайшим повелением» архангельский порт упразднили. Ни к чему-де нам гавань на севере, коли к петербургским причалам суда не заманишь. В общем, прижали поморов окончательно.
А началось всё ещё при Петре, великом разорителе Поморья. Император ничего лучшего не придумал, чем отобрать у Архангельска морскую торговлю, переведя её на Санкт-Петербург. Окладников, когда поддавал хорошенько, ёдко прохаживался насчёт монаршей дурости. «Што есть море Балтийское? — вопрошал купец и сам же ответ давал: — Лужа. Пруд мелкий. Захочет немец запереть нас, не дать ходу кораблям — и перекроет проливы. И всё! Запрудит — ни войти ни выйти. А Чёрное чем лучше? Всей разницы, што там вся власть у турка — чуть што не по нему, он — раз! — и свои проливы на чепь! Не-е, одно лишь море Студёное — наше, вот уж где морская дорога истинно Божья. Плыви куда хошь…»
А кто запретил поморам кочи строить, повелев бриги да шняки иноземные на воду спускать? Он же, Пётр Алексеевич. Шибко не любил император родную землю, всё в Европу окошки тужился распахивать, а думать не поспевал.
Как Баренц-то на бриге во льды затесался, не знал царь разве? Льдины тот бриг как скорлупку раздавили, в щепочки, а вот лодье поморской или кочу никакие торосы не страшны. Днище-то у них кругляшом сделано — сойдутся ежели льдины, то выдавят коч наверх, не сомнут, оцарапают разве чуток, а после снова опустят в разводье. Как же можно было лучший корабль для вод северных худым посчитать?
И после всех этих горестей и бедствий, отпущенных поморам по «высочайшему повелению», сами же архангелогородцы памятник Петру затеяли ставить![5]
Фёдор покривился — ниже пасть в угодничестве своём да верноподданичестве не смогли, видать. Уж лучше Ивану Грозному чего воздвигли бы, основателю Архангельска. Суров был Иоанн Васильевич, зато дело знал туго — ведал, где Руси ворота морские отворять… Не то что нынешний царь-император. Это ж додуматься надо было — Аляску по дешёвке продать![6] Хватило ж ума…
Выйдя к порту, Чуга только головой покачал — пустота на рейде. Одни карбасы рыбацкие качаются у причалов, ловя ленивую двинскую волну, да белый пароход с высокой чёрной трубой колёсами вертит, копотные клубы дыма распуская над зелёной водой.
Не судьба, вздохнул Фёдор. Видать, придётся ему с этим пароходом до Вологды плыть, а после к Питеру подаваться али в Либаву[7] — оттуда только и доберёшься до страны Америки.
Приглядевшись, помор рассмотрел у дальнего причала большую шхуну — пока к самой пристани не выйдешь, не увидишь парусника, амбаром скрыт соляным.
Чуга решительно двинулся туда и на полдороге различил флаг американский, полоскавшийся под слабым южным ветерком-обедником. Повеселев, Фёдор прибавил шагу.
Корабль был старой постройки, но добротным — двухмачтовая гафельная шхуна.[8] Ржавый низ, чёрные борта, невысокая надстройка белым крашена. Названа шхуна по-английски, «Одинокой звездой».[9] На палубу вёл широкий трап со сбитыми поперечинами; череда краснорожих подвыпивших грузчиков-амбалов таскала тюки с паклей, загружая трюм. Рядом, на литом кнехте, восседал толстяк-здоровяк с обширной плешью и попыхивал трубкой. Облачённый в безразмерный свитер, плоховато скрывавший объёмистое чрево, он сидел, широко расставив ноги в парусиновых брюках и уперев руки в колени. Лицо его было цвета седельной кожи, под сенью лохматых, выгоревших на солнце бровей прятались хитрые голубенькие глазки, а сломанный нос озвучивал каждый вдох и выдох, издавая громкое сипение.
— По-русски говоришь али как? — спросил его Фёдор.
Голубые бусинки блеснули разумением, но толстяк-здоровяк не вымолвил и полслова. Чуга поднапрягся, складывая знакомые английские слова, осевшие в памяти за время плаваний. Тогда-то он сносно говорил на «инглише», но времени сколько минуло… Фёдор осведомился:
— В Америку ходить?
Толстяк прогнусавил:
— Ходить.
— Кто шкипер?
— Я.
— До Нью-Йорка не подбросишь?
Шкипер вынул трубку и гулко расхохотался, обдавая помора запахом крепкого табака и виски. Утерев выступившие слёзы, он сказал:
— Пассажиры у меня уже есть, а тебя, так и быть, подброшу, если матросом пойдёшь.
— Один только этот рейс? — уточнил Фёдор.
— Конечно! — вылупил шкипер глазки. — А ты что подумал?
— Подумал, — проворчал Чуга. — Вдруг ты мой… меня «зашанхаить»[10] решил. На год-другой.
Толстяк-здоровяк с укором посмотрел на помора.
— Плавал хоть?
— Было дело. На аглицком клипере «Тайпин» в Китай хаживал за чаем. С корветом «Гридень» ходил во Владивосток.
— Вот это я понимаю! — воскликнул шкипер. — Кончаем погрузку и выходим. Идём в Лондон, оттуда в Нью-Йорк. Плачу двадцать пять долларов в месяц, расчёт в порту прибытия. По рукам?
— По рукам!
Скрепив сделку извечно мужским жестом, толстяк-здоровяк крикнул:
— Сай! — Повернувшись к Фёдору, он объяснил: — Это помощник мой, Сайлас Монаган. Проходимец, каких мало, но штурман отменный.
— Тебя-то как звать-величать?
— Я — Вэнкаутер Фокс, капитан и владелец этой лоханки, — важно сказал толстяк-здоровяк. — Ещё вопросы есть?
— Будут, — пообещал Чуга. — Потом.
— О’кей, парень, — ухмыльнулся шкипер. — Ты мне нравишься! Сайлас! Якорь тебе в глотку…
— Тут я, Вэн, — перегнулся через перила длинный как жердь Монаган, узкоплечий и тонкошеий. Острое лицо и хрящеватый нос помощника лишь подчеркивали общую худобу. Близко посаженные зелёные глаза Сайласа светились недобрым огоньком.
Оглядев Фёдора, он сказал:
— Не понимаю, мастер, зачем нам ещё один матрос? Деньги девать больше некуда?
— Поговори мне ещё… — проворчал Фокс. Повернувшись к Фёдору, капитан резко спросил: — Пьёшь?
— Что? — спокойно поинтересовался помор.
— Водку! Виски! Джин!
— В рот не беру.
— Слыхал, Сайлас? Где Айкен?
— Отсыпается…
— Скажи Мануэлю, пускай выволакивает этого пьянчугу и скатывает на причал. Пинков надаю лично!
Монаган хмуро кивнул и пропал из поля зрения.
— Мануэль Бака — это наш боцман, — сказал Вэнкаутер. — В паре штатов его разыскивают за убийства, так что лучше с ним не задирайся, понял? А то знаю я вас, русских…
Вскоре показалась удалая тройка — уже знакомый Чуге Сайлас и плотный человек с чёрными усами, смуглый и темноглазый, видать тот самый Мануэль Бака, вели, вернее сказать, тащили третьего — нескладного и лохматого, с большими ногами и руками, в рваной матросской робе.
По трапу ведомый спустился сам, пару раз споткнувшись, но каким-то чудом удержав равновесие. Пошатываясь, он устремил мутный взор на шкипера и промычал:
— З-звали?
— Погуляй, Айкен, — ласково сказал шкипер и сунул ему целковый, — погуляй.
Обрадованный неожиданной добротой, матрос тут же устремился в город, на поиски ближайшего трактира.
— Занимаешь его место, — распорядился Фокс, — и ждёшь отплытия.
— Да, сэр, — пробасил Фёдор, ступая на трап.
На палубе его ждал Бака. Боцман щеголял в просторной тужурке и коротких, широких штанах. Волосатые ноги его были обуты в самодельные туфли, плетённые из кожаных ремешков, — очень удобные в штормящем море, когда волны, бывает, и палубу окатывают. Такая обувка не скользит.
— Пошли, — буркнул Мануэль, теребя сразу оба символа боцманской власти — посеребренную дудку, свешивавшуюся с немытой шеи на цепочке, и плётку-линёк с железками-утяжелениями для пущей убойности.
— Пошли, — согласился Чуга.
Боцман отвёл новичка в сырой, вонючий кубрик и молча удалился, многозначительно вертя линьком.
В кубрике было грязно и душно, на нижней койке сидели два матроса и резались в карты. Ещё двое дремали на верхних местах. Лежбище для пятого обнаружилось возле пыльного иллюминатора — продавленная плетёная койка, которую по утрам полагалось сворачивать и подвешивать к переборке. Конечно, не кровать с балдахином, но на «Гридне» Фёдор и вовсе в гамаке-«авоське» спал.
Грязь и вонь отозвались в Чуге воспоминанием об Олёне. Для неё чистота и порядок были символами веры, она постоянно мыла, чистила, скребла, стирала, тёрла, подметала…
Не здороваясь, Фёдор с трудом раздраил иллюминатор.
— Ты чего делаешь? — раздражённо повернулись картёжники.
— Проветриваю помещение, — коротко ответствовал помор и осмотрелся. — Развели срач…
— Ты кто такой, а? — С верхней полки спрыгнул мускулистый детина с волосами, выгоревшими добела. — Или жить устал?
Детина лениво почесал мощную шею, и в руке его возник, будто из воздуха, длинный и тонкий кинжал — «арканзасская зубочистка».
Такие, случается, носят в потайных ножнах на спине, подвешивая шнурком к шее.
— Как звать? — спросил Чуга хладнокровно.
— Коттон Тэй, — осклабился детина, поигрывая кинжалом.
— А я — Фёдор. По-вашему если — Теодор. Так вот, Котт, или как там тебя… Сейчас ты спрятать… спрячешь свою ковырялку — и бегом за шваброй.
— А если не сбегаю? — промурлыкал Коттон.
Помор не стал тратить слова на объяснения — молниеносным движением перехватив руку с кинжалом, он заломил её, отбирая «зубочистку», и так крутанул Тэя, что того пронесло по всему кубрику и крепко приложило к трапу.
Не глядя на распластанного детину, Чуга показал пальцем на другого «отдыхающего», с интересом следившего за развитием событий с верхней койки.
— Ведро принести с водой, — велел помор. — Ополоснуть не забудь. Вам тоже зря не сидеть, — перевёл он взгляд на картежников. — Искать тряпки.
Матрос, занимавший место наверху, задумчиво почесал широкую грудину, размалёванную русалками, достал из-под матраца свинчатку и мягко спрыгнул на заплёванный пол. Оба картежника одинаково ощерились, вооружаясь кастетами.
…В следующую секунду шкипер со своим помощником наблюдали забавную сцену — сначала четверо матросов, с придушенными воплями, были по очереди вышвырнуты на палубу, а потом по ступенькам поднялся Чуга — могучий, равнодушный, холодный — и спокойно повторил приказ:
— Швабра. Ведро. Тряпки.
Капитан тихонько захихикал, качая головой, и сказал в сторону Мануэля, словно размышляя:
— Может, мне и боцмана послать следом за Айкеном? Этого русского хватит, чтобы заменить обоих!
Сайлас Монаган кисло улыбнулся, а боцман сжал рукою свою дудку, словно опасаясь, что её вот-вот отнимут. Костяшки его пальцев побелели.
Половины часа хватило, чтобы навести порядок в кубрике, — пол сиял белым деревом, иллюминатор, протёртый до невидимости, пускал «солнечные зайчики» на чистые одеяла, а медный штормовой фонарь под потолком горел надраенным металлом ярче, чем в те редкие моменты, когда его зажигали.
Матросы и сами поразились перемене. Они стояли в проходе, неуверенно переминаясь, поглядывая то друг на друга, то на помора.
— Вот так живут люди, — веско сказал Чуга. — Запомнить? И чтоб больше не путать кубрик со свинарником.
Он оглядел их всех — здоровенного Коттона Тэя; худого, но жилистого Эфроима Таггарта; кряжистого и кривоногого, схожего с крабом Табата Стовела; долговязого Хэта Монагана — то ли брата, то ли свата Сайласа. Нормальные, в общем-то, парни. Не без мути в головах, конечно, так ведь все такие. Цельные да ладные натуры, где вы? Ау!
— И последнее, — сказал Фёдор, усаживаясь на тяжёлую табуретку, принайтованную[11] к полу. — В мешке у меня тёплая одежда, денег там нет. Замечу, что лазал кто, — руки повыдёргиваю.
Матросы ему поверили.
Двумя часами позже Чугу привлёк шум на пристани. Холодное безразличие, поселившееся в нём с похорон Олёны, мешало позывам божьего мира найти отклик в душе, но остатки былого любопытства живы были — надо ж кругом-то посматривать, для здоровья полезно. Помор поднялся на палубу. Трюм был полон, грузчики, получив свои медяки, удалились шумной ватагой. Прибыли пассажиры.
На причале стояла пролётка, двое — белый мужчина в мягкой фланелевой рубашке, в потёртых «ливайсах»,[12] которые неплохо сочетались с ношеным сюртуком, и настоящий негр в коротких, не по росту, штанах и кургузой курточке — выгружали кожаные саквояжи и шляпные коробки, а по трапу поднималась молодая девушка в модном платье из джерси. Оно весьма выгодно облегало девичью грудь, подчёркивало крутизну бёдер и узину талии. Девушка шла уверенно, без ойканья, изящно придерживая подол. Когда она повернула голову в капоре и посмотрела в сторону Фёдора, Чуга увидел прелестное личико девочки-ангелочка, обрамлённое локонами приятного каштанового оттенка.
Встретившись с твёрдым взглядом помора, голубые глаза пассажирки расширились, словно дивясь увиденному. Пухленькие губки девушки приоткрылись — вот-вот с них сорвётся слово, но нет, длинные трепещущие ресницы опустились, пригашивая синие огонёчки.
— Пожалуйте, мисс Дитишэм, — суетился шкипер, — каюта готова, всё в лучшем виде, так сказать, а наш кок обещал нынче угостить настоящей русской ухой — из стерляди!
— Должно быть, это вкусно, — рассеянно произнесла мисс, с любопытством оглядываясь вокруг — и словно не замечая бросаемых на неё жадных взглядов. — Зеб, — обратилась она к негру, — занеси вещи в каюту, я потом их разберу.
— Да, мэ-эм, — сказал тот на южный манер — с мягким выговором, и осклабился, сверкая идеальными зубами.
Белый мужчина, до сей поры не издавший ни звука, отпустил извозчика и поднял на борт последний, весьма укладистый баул.
— Познакомьтесь, господа, — сказала мисс Дитишэм, представляя его, — это Флэган Бойд. Он сопровождает меня повсюду, оберегая от всяческих напастей.
Флэган молча поклонился. Полы его сюртука слегка откинулись, демонстрируя ремень с двумя кобурами, из которых торчали рукоятки револьверов с костяными щёчками. Воронёная сталь блестела потёртостями, из чего Фёдор заключил — револьверы Бойд носил явно не для красоты.
После обеда стало теплее, свинцовое небо посветлело. Затрепетали листья берез, лёгкой рябью покрылась двинская вода — словно мурашки прошли по реке.
— Отдать носовой! — гаркнул повеселевший шкипер. — Отдать кормовой!
Чуга, находившийся ближе всех к полубаку,[13] сноровисто ухватился за лохматый канат и перекинул его на пристань.
Рывками, с громким шуршанием, фок-мачта оделась парусами. Набиравший силу ветер с юга выдул полотнище фока-гафеля, белённое солнцем, и разгладил все складки. С протяжным скрипом описал дугу гик, переброшенный на правый борт, — шхуну заметно повлекло вперед, заплескала вода, рассекаемая форштевнем.
Архангельск отдалился, приблизилось двинское устье, рассечённое на рукава песчаными островами, намытыми рекой. Шхуна втянулась в одно из русел.
Постепенно рукав делался полноводнее, берега словно отходили в стороны. Вот и последний островок, покрытый высокой травой, остался за кормой. Низкий берег, окрашенный солнцем в лиловые тона, медленно тонул в белёсом тихом море. У горизонта волны загорелись, зарозовели, отражая огненно-багровое небо. И в небе, и на море застыли сиреневые облака.
Задул шелоник,[14] шкипером Вэнкаутером зовомый зюйд-вестом. Ветер нагнал тучи, солнце едва просвечивало сквозь них и казалось бледным мохнатым шаром. Потемнело. Море заугрюмело. С грязного, низкого неба просеялась холодная морось.
Вэнкаутер приказал поднять все паруса, и «Одинокая звезда» побежала шибче.
«По пятнадцати вёрст[15] парусит, — подумал Фёдор. — Хорошо поспевает».
Капризная погода снова переменилась. Шелоник дул по-прежнему и угнал тучи за предел небес. Тепла не прибавилось, зато перестало моросить.
Чуга стоял у борта, держась за ванты, и провожал глазами родные края. «Вот тебе и весь сказ…» — мелькнуло у него. Может, и не придётся более глазами шарить по скучным песчаным берегам Двины, заваленным плавником, по беспорядочно скученным избушкам, чернеющим на золотом песке.
Не доведется видеть, как рдеет по болотистым местам морошка, как бурые мишки топчутся по ягоде, объедаясь на зиму. Как стелется вокруг ровная тундра, бугристая да ямистая, а белые совы сидят на кочках, похожие на пятна не сошедшего снега…
Может статься, что никогда более не услыхать ему благовеста, доносящегося с островерхих деревянных церквей, прилепившихся на угорьях…
Никогда?.. Ну зарекаться — тоже не дело. Кто ж судьбу свою ведает? Судьба непостоянна и переменчива, как женщина. Ни с того ни с сего так взбрыкнуть может, что только диву даёшься.
Тут на палубу вышла мисс Дитишэм. Оставаясь в прежнем платье, она сменила капор на шляпку. Не успела девушка сделать и пары шагов, как резкий порыв ветра сорвал с её головки кокетливый головной убор.
— Ах!
Фёдор мгновенным движением поймал шляпу и с поклоном передал пассажирке.
— Благодарю вас, — чопорно сказала девушка, надевая потерю и подвязывая ленту под остреньким подбородочком. — Вы норвежец?
— Русский, мэм.
— О! — Бровки мисс Дитишэм взметнулись, изображая удивление. Она продолжила на родной речи помора: — А как вас зовут?
— Фёдором кличут. А фамилие моё — Чуга.
— А я — Марион.
«Марьяна», — перевел для себя Фёдор, а вслух сделал комплимент:
— Хорошо вы по-нашему говорите.
— А я всегда стараюсь выучиться языку той страны, где обитаю, пусть даже временно. Когда мы жили во Франции, я брала уроки французского, а потом мы переехали в Россию… Мой отец работает в американском посольстве. — Марион запнулась и договорила тише: — Работал…
Поймав вопросительный взгляд Фёдора, девушка объяснила:
— Отец… Он умер в начале весны.
Чуга покивал хмуро и вдруг, неожиданно для себя, сделал признание:
— А я жену схоронил, Олёнку…
— Ой…
Поглядев на помрачневшего Чугу, Марион осторожно спросила:
— Вы так назвали её… ласково. Любили, да?
— Любил.
Они замолчали, но общее горе словно сблизило их, размывая обычное отчуждение между случайными попутчиками.
— Мне было пятнадцать лет, — негромко заговорила мисс Дитишэм, — когда мы покинули Штаты. Тогда шла война, северяне наступали, а нас они объявили врагами. Мой отец был плантатором, у него работало много чёрных невольников, но мы никогда их не обижали, во всей округе царил мир и покой. Я помню нашу усадьбу — белую-белую, с колоннами, и парк, и как съезжались гости — мужчины в чёрном, а дамы в длинных платьях… Как звучала музыка, и все танцевали, и смеялись, и звенели бокалами… А потом пришли «мешочники»-северяне. Пролилась кровь. Усадьбу нашу сожгли, а маму мы похоронили на семейном кладбище…
— Чай, отец ваш за южан воевал?
— Отец вообще не воевал! — резко ответила Марион. — Даже оружия в руки не брал. «За кого мне идти в бой? — говорил он. — За этого выскочку Девиса? Не желаю. Переметнуться к „Честному Эйбу“?[16] Нет уж, увольте. Я не рвусь в герои, но и предателем стать не спешу!» Мы с папой и верным Зебони бежали в Новый Орлеан, оттуда добрались до Нью-Йорка. Там живёт мой дед, он из тех, кого называют «старыми деньгами». Дед всю жизнь работал, он честным путем нажил своё состояние. А теперь пришли иные времена, времена новых богатеев — Моргана, Гулда, Вандербильта. Это люди жестокие и бесчестные. Их бог — это доллар, нажива — их цель, а в купле-продаже кроется смысл жизни.
Отец просто не смог бы устроиться в Нью-Йорке, этом «Вавилоне-на-Гудзоне». Он был истинным джентльменом с Юга, и волчьи нравы Уолл-стрит были писаны не для него. Отцу повезло — его старый знакомый, Кассиус Клей, был назначен послом в Россию. Он взял нас с собой… Отец работал в посольстве, а я «украшала приёмную», как шутил дядя Кассиус. И вот я совсем одна…
— Теперь что ж, изо всей родни один дед остался?
— Дед и тётя Элспет, его вторая жена. Ещё у меня есть дядя Джубал, но он живёт далеко на Западе, в Калифорнии. У него там ранчо.
Фёдор Чуга кивал, хотя многие слова слышал впервые. Вроде и по-русски с ним говорили, а вот поди ж ты… И где там Север, где Юг в этой Америке? Чего южане с северянами не поделили?[17] А Запад тут при чём?
Помор покосился на девушку. Хороша… И молода совсем. Годков осьмнадцать ей. Или все двадцать. Глядел он на неё с удовольствием, но ретивое да игривое не шло на ум — душа будто смёрзлась и оттаивала медленно, по капле. Хорошеньких девиц Чуга завсегда примечал, да и он им гож был, однако, как женился, ни с кем не путался — Олёны было довольно. Мыслимо ли это — ещё за кем-то ухлёстывать, когда душа полна до краю? Идёшь, бывало, по лесу, вспомнишь Олёнку — и улыбаешься… Никогда прежде не верил Фёдор, что женщина способна так круто жизнь его поменять, а вот поди ж ты… Главное, смысл появился. Раньше-то, когда Чуга в море уходил или зверя промышлял, то цель в уме держал простую — лишний целковый заиметь к вящей пользе, чтобы, значит, на хозяйство пустить. А после женитьбы он понял своё предназначение, знал, ради кого пушнину добывает, ради кого старается. Это было так здорово — жить с толком! И вот снова ни пользы, ни смысла… Ну цель-то у него есть, хоть и смутная, а там, глядишь, и смысл обрести удастся…
— А вы почему молчите? — обратилась к помору Марион. — Вы тоже что-нибудь расскажите!
— Да чего там рассказывать…
Фёдор поправил ладанку с прядью Олёнкиных волос, висевшую на шее вместе с нательным крестиком, и девушке открылся страшный шрам на груди помора — четыре розовых узловатых полоски тянулись от могучей шеи наискосок, прячась под рубашкой.
— Это кто вам оставил? — округлила глаза мисс Дитишэм. — Медведь?
— Тигр, — неохотно сказал Чуга.
— Тигр?! — восхитилась Марион и велела: — Рассказывайте!
— Ну-к что ж… Лет пять тому ходил я, вольноопределяющийся Чуга, на корвете «Гридень». Плыли мы аж до самого Владивостоку — это крепость новая, напротив Японии, в Уссурийском крае.
— Далеко как!
— Да уж… Раньше там военный пост стоял, нынче — порт, а всё одно пусто и дико кругом. Царь наш лет семь как оттяпал тот край у китайского богдыхана. Вот и старался застолбить да удержать те земли. Там бухта есть замечательная, прозвали её уподобительно — Золотым Рогом. Со всех сторон она сопками огорожена, а на берегу палатки, казармы бревенчатые, склады всякие, баня, флигель офицерский. Вот и вся крепость. Ещё домов с полсотни наберётся, казенных да частных, десятка два глинобитных мазанок и фанз — всё это на версту растянулось вдоль берега, а в бухте наши корветы стоят, джонки китайские, шхунки японские…
— А кто там живёт, во Владивостоке?
— Военные наши стоят, Четвертого Восточносибирского линейного батальону. Переселенцев мало, манзы, в основном, проживают. Туземцы попадаются, гольды и тазы.
— Я не поняла… Манзы — это кто?
— Китайцы это. Так их там прозывают — манзы. Хилые все и будто пришибленные. Все с косичками ходят, в синих халатах драных, любят трубки курить. У меня там знакомец имелся, Ю Фонтай, так он говаривал: «Циво манза нузи? Мало-мало кулить. Шибко холосо!» Они там — всё: и огородники, и лавочники, и прислуга, — во Владивостоке по-вашему говаривали: «бои». — Фёдор усмехнулся. — Меня дюже уважали, окрестили «тигрой-капитаном». Ну настоящий-то капитан ростом не вышел. В шинели ходил, очки носил. Вылитый доктор.
— Да, вас с врачом не спутаешь! — рассмеялась Марион. — А почему «тигра»? Из-за шрама?
— Да нет… Видать, свиреп был. Уговоры-то бесполезны, людишки крепкой воле подчиняются. Ежели к ним с добром, так они тебе на голову сядут, и… Хм. М-да. Послушаются окрика — хорошо, строптивы будут — силком заставляешь. Люди, они и есть люди… А тигров там — страсть! И каких! Те, што в Инднях проживают, не чета уссурийским. Здоровущи, мохнаты! Попадись такому лев в лапы — одна грива от «царя зверей» останется… Тигры в первый же год всех псов владивостокских поели, любят они собачатину. А я один раз кабана с полосатым не поделил, вот он меня и цапанул малость…
— Страшно было? — округлила глаза девушка.
— Знамо дело, страшно. Тигр одним шибом лапищи голову лошади снимает, как же тут не забояться?
— А туземцы на вас нападали?
— Да нет, мирные они. Вот хунхузы — те да.
— А хунхузы — это кто?
— А это китайские разбойники. По-нашему если, «краснобородые». Не знаю уж, кто так назвал. Через границу к нам шастали, грабили, убивали, девок наших уводили… Олёнка моя оттудова, из Владивостока, дочерь унтер-офицера Гурьева. Как-то раз большая банда хунхузов налетела, еле отбились. Отца-то Олёнкиного подранили тогда шибко, так он и не оклемался, помер. А дочку его хунхузы с собой забрали, я их у самой границы догнал, на речке Суйфун. Там всех и положил, желтопузых да краснобородых… Гурьев не отошёл ещё, когда мы с Олёной возвернулись, радовался… От боли стонет, а рот в улыбке кривит. Я как раз в обратный путь собирался, корвет наш к отплытию готовился, и упросил меня унтер дочку его с собой забрать, до дому вернуть…
Чуга вздохнул понезаметней, к морю оборотясь, и краем глаза уловил Флэгана Бойда, маячившего по левому борту. «Стережёт Марьяну…» — усмехнулся Фёдор. И в то же мгновение спину его обжёг хлёсткий удар боцманского линька.
— Почему не на вахте, флотяга? — зарычал Мануэль, отводя руку с плетью. — Кто позволил с пассажирами разговоры разговаривать?!
Второй удар боцман нанести не смог — Чуга врезал ему под дых с полуоборота и, продолжая движение, локтём той же правой дал в челюсть. Баку отнесло к надстройке.
— Ещё раз меня тронешь, — предупредил помор, — так я твою дудку тебе в гузно затолкаю и дудеть заставлю!
Мануэль не внял. Отбросив линёк, он выхватил нож-наваху. Фёдор, однако, лишь казался добродушным увальнем, этаким русским медведем, однако мало кто знает, как резв и быстр бывает топтыгин — и коня обгонит, ежели нужда возникнет.
Метнувшись к боцману, Чуга перехватил руку с ножом и крепко приложил её к дощатой переборке. Тут же отобрал наваху и пригвоздил ею грязную скрюченную ладонь Баки к доскам.
Боцман завизжал по-поросячьи, запрокинув голову и елозя свободной рукой по облупленной краске.
— В чём дело? — послышался сердитый окрик Монагана.
Помощник капитана выбрался из низкой двери, ведущей в надстройку. С кормы подошёл и сам Вэнкаутер. Увидев пришпиленного боцмана, он расплылся в ухмылке злобной радости, чем немало подивил Чугу, и спокойно удалился.
— В чём дело, я спрашиваю? — повысил голос Сайлас.
— Всё в порядке, сэр, — неожиданно заговорил Флэган Бойд. — Просто мекс напал на Теодора, а тот дал сдачи.
Гневно зыркнув на Чугу, Монаган с трудом выдернул нож, просекший руку Мануэлю, и подхватил сомлевшего боцмана.
Помощник капитана поволок Баку прочь, придушенно уговаривая «пострадавшего». Мануэль стонал и шипел, обещая Чугу изувечить, а Монаган бубнил, чтобы «никаких мокрых дел до Лондона». При чём тут Лондон, спрашивается?..
Фёдор проводил глазами странную парочку, чувствуя, что ему полегчало, — как громоотвод улавливает молнии небесные, так и наваха «разрядила» Чугу, сбросила накопленную ярость.
— Вы такой жестокий! — сказала Марион.
Помор глянул на девушку. Юная лицемерка выговаривала ему с осуждением, однако в глазах её сияли ужас и восторг.
— А иначе никак, — проворчал Фёдор.
— Я навидалась русских мужиков, но вы совсем иной…
— Я — помор, а не холоп! — отрезал Чуга. — В предках у меня сплошь вольные новгородцы да пираты-ушкуйники. Мы ни перед кем спин не гнули, а кланялись Богу одному. Мужики!.. — хмыкнул он. — Пока тех мужиков баре делили, поморы весь Север держали. А Сибирь кто воевал? Ермак, из ушкуйников. Он у нас был, как этот… слово такое мудрёное есть, на «К»…
— Конкистадор? — подсказала мисс Дитишэм.
— Во-во! Он самый и есть.
Тут Марион несколько смешалась. Фёдор был не её круга человек, но своеволие, доминировавшее в характере девушки, не позволяло победить кастовой спеси. И с Чугой было так интересно… Вот только как ей продолжить разговор?
Украдкой глянув на потомка новгородцев, Марион заметила ещё один шрам у него на щеке — тонкий вертикальный порез, как кто полоснул лезвием по лицу.
— А это у вас откуда? — указала она пальчиком.
Фёдор задумчиво погладил старую рану. Говорить ему не хотелось, и так разоткровенничался не по делу. Но не молчать же…
— Зулус пометил, — сказал он. — Хватил ножом так, што чуть лицо не развалил. Хорошо хоть глаз цел…
— Расскажите! — взмолилась Марион.
— Да чего там… Когда наш «Гридень» в обрат двинулся, надо было почту закинуть в Кейптаун. А туда, помню, много переселенцев понаехало. Делали они себе фургоны, сбивались в караваны, да и отправлялись землю добывать, именуясь — я запомнил — «фоортреккеры». По-нашему, наверное, «первопроходцы». А местные белые звались бурами. Ну вот. Стоим мы в кейптаунском порту, Столовой горой любуемся, на буров поглядываем, и вдруг — на тебе! Олёнка пропала. Я сутки по всему городу мотался, пока не вызнал — первопроходцы её прихватили, понравилась она какому-то фоортреккеру недоделанному. Я хватаю штуцер, хватаю коня — и за ними. И живо уразумел, пошто переселенцы по одному не ездят. Угодил я в засаду к зулусам. Выскочило их человек десять, чёрные все, голые, копьями потрясают, по щитам колотят и всё норовят живьём взять. Ну, когда я пятого пристрелил, они передумали и достали луки…
— Вы их победили, — уверенно сказала девушка.
— Да-к што в том сложного-то? Они на меня со стрелами, а я по ним из ружья! Нет, разок попали — стрелой руку мне продырявили… И коня закололи. Ну я руку кое-как перемотал и дальше пешком двинул. Да-а… Дикая страна — Африка. Иду я, значит, по той саванне, головой верчу туда-сюда. Гляну налево — три львицы на скале развалились, лежат, морды в крови — видать, откушали. Гляну направо — слоны бредут и эти, шеистые такие… жирафы. Шёл я, шёл, пока не увидел пыль впереди. Догнал-таки караван. Повстречал я того паскудника, что Олёнку увёл, поговорил с ним за жизнь, пока тот не помер. Тут все прочие на меня кинулись. Ну, думаю, всё, отжил своё Фёдор Чуга. Нет, зулусы «помогли»! Как навалятся на караван, как дадут нам, белым, жару! Што ты… Пыль кругом, крики, ружья палят, стрелы свистят… Весь день бились, до самого вечеру. Фургоны в круг выставили, залегли, кто где мог, и пошла веселуха. Вот там-то я и сцепился с этим зулусом. Шибко прыгучий был — с дерева на верх фургона сиганул, а оттуда на меня. Распорол мне всю харю… извиняйте. Чуть зрения не лишил, зараза чёрная. А у меня, как назло, патроны кончились, один нож в руке. Ну справился же как-то… Фоортреккеров тогда сильно поубавилось, почти всех извели зулусы. Кто выжил, конями отдарились, и мы с Алёнкой вернулись до своих… А привёз я её до дому и понял, что жить не могу без дочери унтер-офицера Гурьева. Обвенчались мы с нею и прожили аж четыре года, душа в душу, слова худого друг дружке не сказавши… И вот опять я в море. Один.
Марион вздохнула сочувственно, а Чуга вытащил из кармашка большие серебряные часы, глянул, сколько времени натикало, и откланялся — подходил его черёд вахту стоять.
Глава 2 «БОЛЬШОЙ ДЫМ»[18]
Плавание шло спокойно, скучно даже. Шхуна обогнула угрюмые скалистые берега Мурмана, слева по борту потянулась суровая земля фьордов. Порою ветер отчаянно свежел, и холодная свинцовая зыбь вскипала барашками, предвещая бурю, однако мрачные знамения так и не исполнились. А после, когда «Одинокая звезда» спустилась ближе к южным широтам, команда и вовсе забыла о знобком дыхании студёных морей — близились английские берега.
Фёдора океан успокаивал, приводя в равновесие «зыбкого сердца весы». Все предки, считай, с морем дружны были — варяги, новгородцы, ушкуйники-безобразники, передавшие Чуге свой буйный нрав. Ещё дед Фёдора успел-таки волны на подлинной лодье побороздить — крепкой, ладной посудинке о трёх мачтах, пока вовсе поморов не прижали. А море осталось — холодное, суровое, жестокое. И в лад ему крепчал дух гордых наследников Господина Великого Новгорода. Одни, как Ломоносов, свою тропу в науках торили, другие, как купцы Строгановы, великого богатства и чести добивались, в графы выходили, а третьи, как Чуга, на чужбину подавались, счастья искать…
Отстояв своё у штурвала, помор примостился на полубаке, удобно устроившись на бухте манильского троса. Натянутый стаксель[19] прикрывал его, как зонтиком, а вытянутый вперёд бушприт словно грозил горизонту, повторяя мерные качания шхуны, чей нос валко проседал, вспенивая расходившиеся буруны, и вздыбливался снова.
Океан расходился во все стороны, покатые валы плавно вздымались и опадали — Атлантика словно дышала, свободно и шумно, разнося извечные запахи соли и йода. Пугливую душу страшил распахивавшийся простор, а вот помора наполнял трудно передаваемым ощущением бескрайности зримого мира. Где ещё на белом свете сыщешь такую же неохватность пространства и огромное, необозримое небо над головой? Разве что в степи, но там иное. Когда травы колышутся вокруг, клонясь широкими разливами под вольным ветром, то, будь ты конный али пеший, всё одно в уме держишь понятие — земля под ногами. Суша. Твердь.
А в море, хошь не хошь, смиряешься с мыслью о том, что под тонкой скорлупкой днища корабля — бездна, тёмная, солёная пучина, невесть каких гадов и чудищ скрывающая…
Под фока-гик, поскрипывавший на ветру, поднырнул Флэган, удерживая рукой свою шляпу, и дружески, по-свойски улыбнулся помору.
— Привет, — сказал он, усаживаясь рядом на выщербленную ступеньку трапа.
— Здорово, — буркнул Фёдор, не привыкший к бесцеремонности американцев. Хрен поймёшь, что у них шло от ощущения внутренней свободы, а что от агрессивного желания выставить свою независимость напоказ. Гражданин США словно бросал вызов всему свету: «А ну-ка, отними у меня волю! Попробуй только!»
Усмехнувшись, Чуга метнул взгляд на трепыхавшийся флаг, полосатый как матрас, краплённый тридцатью шестью звёздочками.[20] Уж больно много воли взяли…
— Слышь? — сказал он. — Объясни мне одну вещь…
— Хоть две! — ухмыльнулся Бойд.
— Что это такое — Запад ваш? Марьяна его по-разному кличет — то Дальним, то Диким…
— Марьяна? — хохотнул Флэган. — Ну ты даёшь! — Сбив на затылок свою широкополую шляпу, он вздохнул и проговорил с мечтательностью в голосе: — Запад, амиго,[21] есть земля обетованная… Нью-Йорк — это Восток, там всё чинно-благородно, мелкие людишки, мелкие страстишки. Даже банды нью-йоркские — мелочь пузатая, распоясавшаяся шпана. Надо отъехать за тысячу миль на закат, хотя бы до Миссисипи — это большая река, вроде вашей Волги, — потом пересечь прерии, а когда увидишь Скалистые горы, сразу поймёшь, что попал на Запад — на Запад с большой буквы!
Помолчав с минуту, Бойд снова вздохнул.
— Эх, Теодор, — сказал он с тоскою. — Знал бы ты, как там здорово! На Западе жгучие пустыни и глубочайшие ущелья, высокие горы и тёмные леса. Там в любую секунду можно схлопотать пулю или стрелу… Бывало, я подыхал от жажды, полз, подстреленный скотокрадом, и проклинал свою дурь, заманившую меня в сторону от больших городов. И что? Я гулял по Парижу и Петербургу, каждый день принимал ванну, пил шампанское и заедал устрицами… Но знаешь, чего мне тогда хотелось больше всего? Телятины с бобами! Да чтобы их приготовили на костре из веточек пахучего креозотового кустарничка, и чтобы рядом булькал кофейник, а вокруг ночь, далеко-далеко койот воет, рядышком лошади травку щиплют…
Чуга покачал головой.
— Не поверю, что людей тянет туда запах кофе, — проворчал он.
Флэган хмыкнул.
— Ясное дело! Люди, они и есть люди, на Запад их манит золото. Только оно там разное…
— Как это?
— А ты когда-нибудь добывал золотишко?
— Приходилось. Мыл в Сибири.
— О, Сибирь! Стало быть, имеешь понятие, как блестит рыжий металл. Вот и бежит народ на этот блеск! Кто-то богатеет, деньгами швыряется, а девять из десяти остаются ни с чем. Горбатятся, жилы рвут, поживой для стервятников делаются… А есть и другое золото на Западе, оно из земли растёт.
— Врёшь небось, — нахмурился Фёдор.
Бойд захихикал.
— Не-е! Трава это, понял? Уж такая расчудесная, что скот на ней весь год кормится. Засыхает та муравка на корню, и коровы её из-под снега добывают. Так и хрумкают всю зиму, пока зелёная не взойдёт. Богатые ранчеро держат по пять, по шесть, даже по десять тысяч голов скота. Во как!
Чуга подумал.
— Я бы лучше так, — сказал он рассудительно, — на ранчо. И штоб коровки…
— Ха! Я бы тоже.
Помолчав немного, Фёдор осторожно спросил:
— А ты хорошо стреляешь?
Флэган внимательно посмотрел на него.
— Плохие стрелки долго не живут, — сказал он, криво усмехаясь. — Хотя куда мне до Клэя Эллисона или Дикого Билла Хикока![22] Эти одной пулей делают на голове пробор, а двумя другими подравнивают волосы за ушами. Да и чёрт с ними, я за славой ганфайтера[23] не гонюсь — уж больно худая она и беспокойная. Ведь каждый сопляк, скопивший на «кольт», но не наживший мозгов, мечтает сразиться с тобой, лишь бы доказать, какой он крутой! А чего ты спрашиваешь?
— Да говорят, у вас в Америке все палят с утра до вечера, только успевай перезаряжать…
Бойд весело рассмеялся.
— Правда-правда! Любим мы это дело!
— Научи этому делу и меня. С винтовкой-то я справлюсь, однако с пистолем не «дружу», особливо в вашей манере — навскидку. Научишь?
Флэган построжел.
— А чего ж, — пожал он плечами, — можно. На-ка, примерь!
Расстегнув пряжку оружейного пояса с патронташем и кобурами из чёрной кожи, Бойд протянул его Фёдору. Достав из кобуры «ремингтон-нэви» 36-го калибра,[24] он опорожнил барабан, высыпав патроны на ладонь, и сунул револьвер обратно.
— Надевай!
Опоясавшись, Чуга глянул на «учителя». Тот покачал головой.
— Не пойдёт. У тебя кобура висит слишком низко — на всю длину руки. Лучше так, — поправил Бойд пояс на Фёдоре, — чуть ниже бедренного сустава. Понял? Чтобы рукоятка примерно здесь была — посередине между локтем и запястьем свободно опущенной руки. Видишь?
— И чего теперь?
— А теперь выхватывай!
Помор опустил ладонь на рукоятку и вынул оружие из кобуры.
— Не годится! — замотал головой Флэган. — Пока ты так будешь револьвер тащить, тебя всего свинцом нашпигуют. Я ж говорю — выхватывай! В поединке выигрывает тот, кто быстрее. Вернее… Хм. Тут сложно. Скорость, конечно, важна, но что с неё проку, если ты выстрелил первым — и промахнулся? Или чуток задел пулей противника? А тот, хоть и не так быстр, как ты, но стреляет наверняка? И конец тебе…
Критически оглядев Фёдора, он велел:
— Ну-ка, выпрямись! Стой свободно, как тебе удобно, понял? Конечно, если пригнёшься, попасть в тебя будет сложнее, так ведь и ты будешь весь как скованный, чуть что — пошатнёшься, оступишься… Расслабься! Пусть рука скользит к рукоятке, будто сама по себе. Большой палец опускай на курок… взводи его… указательный мя-ягко, не-ежно ложится на спусковой крючок… Как выхватишь, руку не вытягивай, как аристократ на дуэли. Упрись локтем в бедро, но не целься — просто направь дуло в корпус противнику, как будто пальцем показываешь, и стреляй!
Фёдор выхватил, как учили. Сухо щёлкнул боёк.
— Во! Совсем другое дело! А прицел можно менять, слегка сдвигая левую ногу… Ты, главное, не пугай стволом и не играйся. А то есть такие — воображают из себя невесть что, пыжатся, бахвалятся, крутят револьвер на пальце… Так и доиграться можно, ведь у спускового крючка нет, считай, свободного хода. Крутанет такой стрелок свою пушку — и себе же в животе дырку провертит… Ну что? Занимайся!
И Чуга взялся заучивать свой первый урок.
Ранним утром «Одинокая звезда» отшвартовалась у лондонской пристани. Таможенники в синих мундирах покрутились и отбыли, а докеры в изгвазданных робах принялись за разгрузку.
Марион, под охраной Флэгана, отправилась в город. Корабельный кок — Лысый Хиггинс — примерял старенький цилиндр. Тоже, видать, намылился гульнуть. Один Мануэль не покидал каюты, накачиваясь ирландским виски.
Заняв бритву у хозяйственного Зебони, Чуга сбрил бородку и усы, а после приложил к саднившей коже горячее полотенце, смоченное в кипятке. Хорошо!
Он глянул на себя в облупленное зеркальце. Безбородое лицо выглядело непривычно — лишившись кудреватой растительности, оно стало твёрже и как-то мужественней, что ли.
Усмехнувшись, Фёдор обошёл надстройку и выплеснул в Темзу мыльную воду из тазика. Сощурившись, он огляделся.
Лондон его не впечатлил. Это был самый большой город на белом свете, но уж больно мрачно выглядела столица Британской империи — тёмной, серой, закопченной. Из сотен труб непрестанно валил дым, мешаясь с извечным туманом, оседая копотью, сеясь с грязным моросящим дождиком. По реке сплавлялись баржи, шлёпали колёсами пароходы, медленно, словно заторможенно проплывали редкие парусники — замызганные посудины, побеждённые углём и сталью.
И шумы над Темзой расходились машинные — свистел пар, лязгали цеплявшиеся шестерни, громыхали цепи и сочленения. Неожиданно Чуге послышался торопливый говорок Сайласа Монагана:
— Да всё нормально, Хэт! Просто Мануэль, свинья такая, запил, а мне нужен верный человек!
— Отметелить кого?
— Нет. Ты про князя слыхал?
— Какого ещё князя? — не дошло до Хэта.
— Ну князя! Как тебе ещё объяснить? На нашей лоханке ихнее сиятельство[25] собралось махнуть в Америку! Понял?
— А чего на нашей? Садился бы на пароход…
— Так он же не просто так, а с инкогнитом!
— С кем, с кем?
— При чём тут «с кем»? — раздражённо проговорил Монаган, теряя терпение. — Это так говорят, когда кто-то путешествует тайно, чтобы его не увидел никто. Понял?
— А-а…
— Он уже заплатил мастеру[26] сто долларов. Представляешь, что у него в багаже?!
— А-а! — простодушно обрадовался Хэт. — Донести помочь? Так это я завсегда!
— Тогда приоденься. Князь всё-таки…
— А… то дело, ну… — Монаган-матрос постучал каблуком по палубе. — Что, отменяется?
— Тише ты! — цыкнул Монаган — помощник капитана. — Всё остаётся в силе. Как в море выйдем, тогда… Ну всё! Давай переодевайся по-быстрому…
Фёдор послушал торопливый топоток Сайласа и увесистые шаги Хэта, основательного парня «от сохи».
Интересно, подумал Чуга, что эти прощелыги затеяли? Сам он не испытывал особого страху. Весь тот сброд, с которым Фёдор делил кубрик, представлялся ему мелкой шпаной, по-настоящему опасные люди не топтали палубу «Одинокой звезды».
— Тео! — послышался сиплый голос Вэнкаутера. — Ты где?
— Тут я, сэр, — откликнулся помор.
Шкипер обрядился в клетчатый костюм из джерси, со складками, не разгладившимися от долгого лежания в сундуке.[27] Было заметно, что Фокс изрядно выпил, оттого походка его стала шаткой, лицо обрюзгло, обвисло, отекло, а в покрасневших глазах задержалось тоскующее выражение брошенной собаки.
— Побрился? — буркнул капитан. — Эт пра-льно… Поехали со мной, поможешь. Не доверяю я Саю…
Нахлобучив картуз, Чуга сказал:
— Я готов.
— Пошли… — сделал широкий жест Вэнкаутер.
Они спустились на причал, где уже стоял кэб — элегантный двухколёсный «хэнсом», запряжённый гнедой лошадью. Кэбмен в сером плаще и котелке расположился за коляской, натягивая вожжи поверх открытой кабинки. Ещё один кэб уже отъехал и разворачивался. Фёдор узнал пассажиров — это были Сайлас и Хэт.
— Залезай, — сказал шкипер и прикрикнул: — Чаринг-Кросс!
— Да, сэр, — ответил «кэбби», понукая лошадь.
Поплутав по лабиринту тесных улочек, мастерских, складов, повозка миновала довольно опрятную улицу, обставленную фахверковыми домами в елизаветинском стиле, и выкатилась на людный Стрэнд.[28]
Здесь было шумно. Цокот копыт по брусчатке и грохот железных ободьев заглушали говор нарядной толпы, кроме разве что осипших голосов пирожников, расхваливавших свой товар. Удерживая корзину на голове и вовсю трезвоня колокольчиком, торгаши разносили пирожки с мясом, ревенем, вишнею, яблоками, пышки, булочки из Челси — с корицей, лимонной цедрой и смородиной. Мальчишки, встречая пирожников, мяукали и гавкали, но те лишь добродушно отмахивались, предлагая сыграть в орлянку. Покупатель подбрасывал пенни[29] — и тут уж кому как повезёт. Выигрывал торговец — забирал пенс себе. Проигрывал — отдавал пирожок бесплатно.
Тут же в толпе бродили лоточники, чьи куртки и брюки были припорошены мукой, — эти продавали чёрствый хлеб. Публика, что побогаче, могла зайти в булочную, чтобы купить свежий, а вот работяги с Ист-Сайда брали вчерашний — всё ж подешевле.
У дверей театров дежурили продавцы бутербродов с ветчиной. Готовые накормить желающих за полпенса, они носились с большими плоскими корзинами, полными сэндвичей, или катили перед собой тележки со снедью.
«Чего это я всё принюхиваюсь?» — нахмурился Чуга и вспомнил, что не успел позавтракать. Ну пенс на пирог с рыбой сыщется в его карманах…
— Будешь? — спросил Вэнкаутер, доставая из кармана плоскую фляжечку. — Ржаное!
Фёдор помотал головой.
— Ну как знаешь… — и шкипер хорошо приложился, выдохнул, занюхал рукавом, крякнул. — Ты, парень, как — женат?
— Был, — коротко ответил Чуга.
Облизнувшись и пряча фляжечку, Фокс кивнул.
— Вот и я попался в Евины сети… — сказал он. — Пенни её зовут. Пеннивелл Монаган.
Помор вопросительно глянул на капитана. Тот угрюмо кивнул.
— Сестрица она нашему Сайласу. Стерва, каких свет не видывал! Сколько раз я её бросал, а всё без толку. Тянет! Пять раз от неё уходил — и возвращался обратно… А жадна до чего! Чего скопил, этой… этой… отнёс, а ей всё мало! Стал контрабандой промышлять, в такое дерьмо вляпался, что… — Шкипер махнул рукой. — А по весне перегорел будто. Всё мне обрыдло, и подался я до Европы, лишь бы сучку эту не видеть подольше. Раньше-то скучал, томился по ней, а как предложили мне фрахт до Архангельска, так я обрадовался даже. Вот жизнь…
Вперив мутный взгляд в лошадиный зад, Вэнкаутер смолк. Фёдор не знал, стоило ли ему высказываться, но шкипер сам положил конец его недолгим раздумьям.
— Приехали, — промычал он. — Вылазь.
Кэб остановился на углу Чаринг-Кросс-роуд, где стоял мрачного вида отель. Этажей в нём было много, а с виду тюрьма тюрьмой. «Хэнсом» помощника капитана уже стоял у парадного.
— Здесь, что ли? — удивился Хэт.
— А где? — несколько агрессивно спросил Сайлас. Приметив Чугу, он скривился.
— Ну-у, князь всё-таки… — растерянно пробормотал матрос. — Я думал, он в замке будет каком или во дворце…
— Раз уж решил за океан податься, — назидательно сказал помощник капитана, — стало быть, продал он свой замок! Понял?
— А-а…
— Пошли, — буркнул Фокс.
Минуя дремлющего швейцара, моряки поднялись на третий этаж, попав в коридор, куда выходили двери номеров. Шипящие газовые факелы, поднятые бронзовыми конечностями статуй, плоховато освещали ковровую дорожку под ногами, атласные обои на стенах и двери из тёмного дерева. В конце коридора, под аркой фигурного окна, чах фикус в кадке.
— Тридцать восьмой апартамент, — объявил Вэнкаутер, пошатнувшись, и решительно постучал в дверь.
— Да-да! — откликнулся молодой голос. — Войдите!
Сайлас моментально сорвал с головы мятую фуражку и первым переступил порог.
— Князь… э-э… как вас там? — осведомился он.
Навстречу вошедшим шагнул парень лет двадцати пяти. На нём были клетчатые брюки в обтяжку, как у Фокса, и твидовый пиджак. Рыжеватые волосы и конопушки придавали нечто мальчишеское его породистому, холёному лицу, и тут не помогали ни пушистые бакенбарды, ни щёточка усов — солидности князю они не придавали, а пронзительные голубые глаза глядели живо и с юмором. Тонкие губы вроде бы и стремились поправить положение, сжимаясь в полоску, но ненадолго — приятная улыбка тотчас же размыкала их.
— Я… — вякнул Монаган, но шкипер властно отодвинул его.
— Меня зовут Вэнкаутер Фокс, — величественно отрекомендовался он, — я капитан шхуны «Одинокая звезда».
— Туренин,[30] — представился князь, — Павел Андреевич. Это я с вами тогда договаривался?
Фокс кивнул так резко, что еле удержал равновесие.
— Когда отправляемся, капитан? — чопорно спросил Туренин.
— Как только изволите прибыть на борт, так сразу.
— Я готов!
Сай Монаган оглянулся в растерянности.
— А где же ваши вещи? — пролепетал он.
— Всё своё ношу с собой! — рассмеялся Павел, подхватывая кожаный саквояж.
Лицо Хэта вытянулось.
— И всё? Вы же этот… ну как граф!
Туренин вздёрнул голову.
— Рюриковичи мы, — надменно проговорил он. — Мои предки верой и правдой служили царям-государям, но нынче от былого блеска остался лишь гордый герб. Имение пришлось продать, чтобы расплатиться с долгами, а я, как видите, собрался в поход за славой и богатством!
«Нормальный вроде парень, — подумал Чуга. — Не корчит из себя барина…»
Вэнкаутер отвесил шутовской поклон, и вся компания покинула княжеские апартаменты.
Когда многочисленная «свита» Туренина вернулась, Марион уже была на борту, красуясь в новой шляпке с Хай-стрит.
— Представляете?! — кинулась она к Фёдору. — Мы встретили карету с самой королевой Викторией!
— Да неужто? — улыбнулся Чуга.
— Да-да! — возбуждённо тараторила девушка. — А потом мы обедали в ресторане «Гэлант Эндивор», что на Кингз-роуд в Челси. Подавали индюшку с орехами, и там ещё был очень вкусный сыр — «стильтон» называется…
Тут она заметила незнакомца и чопорно поклонилась.
— Позвольте вам представить Паула Андрэ… — развязно проговорил Сайлас и ухмыльнулся: — Как там дальше, князь?
— Павла Андреевича Туренина, — ровным голосом проговорил его сиятельство.
— Во-во!
— Очень приятно, Павел Андреич, — церемонно сказала девушка, подавая руку. — Мисс Марион Дитишэм.
Князь непринуждённо коснулся губами изящных пальчиков.
— Просто Павел, — проговорил он со скользящей улыбкой, — этого достаточно.
— Ну довольно по палубе шаркать, — грубо сказал Сайлас. — Отчаливать пора! Хэт! Эфроим! Тэбби! — Глянув на Чугу, он рявкнул: — А ты чего стоишь?! Марш на корму!
Фёдор молча двинулся, куда сказано. Из каюты, где почивал Мануэль, накатывали сопение, стоны и причмокивания. Пьянь отсыпалась…
…К вечеру того же дня шхуна обогнула мыс Норт-Форленд и проследовала в Дуврский пролив, который французы упорно именовали Па-де-Кале.
Глава 3 БУНТ
Ирландия, дивный зелёный остров, осталась далеко за кормой. Вокруг простёрся океан, без конца и без края, Большая Солёная вода, как индейцы говаривали. Только раз далеко на севере зачернел пароходный дым, но за ночь всё рассеялось, и снова одни лишь обливные валы заполонили весь видимый мир, от горизонта до горизонта. Они катились, как в давние первобытные времена, волнуясь над солёной пучиной. Синее небо, зелёное море и чёрная шхуна. Картинка!
Скучать Фёдору не доводилось — то с парусами возня, то за штурвалом топчешься, а выдастся свободный часок — с револьвером «играешься». Обычно Чуга удалялся, куда было можно на корабле, скажем на бак. Там, прикрытый парусами, он повторял и повторял свои штудии, учился мгновенно выхватывать револьвер. Мушка мешала, цеплялась — Фёдор её спилил напрочь. Бывало, по три часа упражнялся, хватаясь за рукоятку до самого обеда, и потом ещё, пока рука совсем не переставала слушаться упрямого хозяина. И начинало получаться. Однажды, когда Бойд застал его врасплох, Чуга просто в изумление пришёл — «смит-вессон» сам будто прыгнул ему в руку! Одно, неуловимое глазом, слитное движение — и дуло холодно глянуло на Флэгана.
— Ничего себе… — пробормотал Бойд и внимательно посмотрел на Чугу. — А ты делаешь успехи.
— Как учили, — хмыкнул Фёдор, бросая револьвер обратно в кобуру.
На седьмой день пути Лысый Хиггинс превзошёл себя — наловив свежей рыбы, он сварил потрясающую уху. Наваристую, густую, пахучую — объелись все. Еле достояв вахту, Чуга спустился в кубрик и прилёг. После сытного обеда по закону Архимеда полагается поспать…
Часика два он покемарил. Разбудил его резкий звук выстрела, а затем поднялась суматошная, беспорядочная пальба, перебиваемая дикими криками и чернейшими ругательствами.
Сунув руку под тощую подушку, Фёдор сжал рукоятку «смит-вессона» и мягко вскочил. С тем чтобы кидаться на палубу, он решил повременить. Сперва устроим «проверку на вшивость»…
Сдёрнув матрас с верхней койки, Чуга скрутил его валиком и прикрыл своим одеялом. Сунув револьвер за пояс, Фёдор отступил в закуток, куда сваливали рваные снасти. Расчёт его оправдался — от входа донеслись тихие шаги по трапу. Показался Мануэль. Ощерив щербатые зубы, Бака вскинул «кольт» и выпустил три пули, изорвав скатанный матрас. На четвёртый раз боёк клацнул впустую, озвучивая грустный факт — боцман извёл все патроны.
— Не повезло, — хладнокровно заметил Фёдор, выступая из закутка.
Бака выпучил глаза, хватаясь за второй револьвер, торчавший у него из низко подвешенной кобуры, полоской кожи привязанной к бедру. Грохнул выстрел из «смит-вессона», и Мануэля отбросило к трапу. Мыча, боцман сполз на пол, слепо шаря руками по груди, по грязной рубахе, мокнущей кровью.
— Т-ты… — прохрипел он, падая на колени. — Ты…
— Я, — не стал скрывать Чуга.
Надувая розовые пузыри, Бака рухнул лицом на пол. Фёдор поспешил наверх, не обуваясь, и выскользнул на палубу. Он опоздал на долю секунды — в пяти шагах от него прижимался к фок-мачте Флэган Бойд. Тоже босой, без шляпы, но с двумя револьверами в руках, он высматривал кого-то на корме. Вдруг за его спиной шевельнулся брезент, накрывавший носовой трюм, и показался Коттон Тэй. Стоя на коленях, он хищно улыбнулся — и открыл огонь с двух рук, стреляя Флэгану в спину. Бойда бросило на мачту, его тело сильно вздрагивало при каждом попадании.
И лишь теперь Чуга вскинул револьвер, стреляя с бедра, как его учил Флэган, метя Коттону в живот и грудь. 44-й калибр швырнул Тэя к правому борту, да с такой силой, что убийца не удержался на палубе — ударившись о планшир, он перекинулся за борт, нелепо задирая тощие ноги.
Из-под фока-гика вынырнул Хэт, увидал дуло «смит-вессона» — рука помора была недвижима, как длань памятника, — и тут же отбросил оружие, словно оно жгло ему пальцы.
— Я — пас! — прохрипел он.
Чуга бросился к Флэгану.
— Бойд! Как ты?
Затуманенные глаза ганфайтера прояснились.
— А-а, Тео… — Губы Флэгана дрогнули. — Боюсь, уже никак… Возьми мой пояс… Дарю… — Веки у Бойда опустились, словно тот отходил, но вот открылись снова. Взгляд, затуманенный страданием, прояснился. — Жалко-то как…
Вздрогнув, вскинувшись в последний раз, он медленно вытянулся на палубе.
Зарычав от бешенства, Фёдор взял в левую дареный «ремингтон».
— Сидеть и не рыпаться! — сказал он Хэту ледяным тоном, и тот мелко закивал головой.
Чуга оглянулся. На носу никого. В проходе между надстройкой и левым бортом видны были чьи-то ноги. Бунт на корабле? Не о том ли Хэт Сайласа пытал? Надо полагать, Монаган всё и затеял…
Скользнув по стенке, Чуга выглянул. У левого борта лежал, раскинув руки и ноги, Табат Стовел. Труп Табата.
Посмотрев вверх, Фёдор не стал раздумывать — заткнув револьверы за пояс, он полез на верх пристройки, цепляясь за фока-гик и подтягиваясь. Став на карачки, подобрался к самому краю и увидал Эфроима Таггарта.
Матрос подпрыгивал на полусогнутых, будто учёную обезьяну изображал. В руке его плясал «кольт».
Неожиданно он выстрелил. Вслед за этим послышался насмешливый крик Туренина:
— Не попал! Что, трусишка, руки дрожат?
— Выходи! — заорал Эфроим. — Иначе я за себя не отвечаю!
Вместо ответа грохнул выстрел. Пуля 45-го калибра легко продырявила деревянную переборку и засела у Таггарта в плече, разворачивая стрелка. Бранясь, Эфроим нажал на курок — и тут на него пала тень. Резко вскинув голову, он увидел Чугу.
— Привет, — сказал Фёдор и выстрелил.
Пуля вошла Таггарту точно в ключичную ямку, разворачивая грудину. Готов.
Помор соскочил на палубу и крикнул:
— Павел, не стреляй! Марьяна, ты как?
— Жива! — донёсся вздрагивающий голос девушки. — Где Флэган?
— Убит.
Из дверей показался Туренин. Левая нога его была в крови, князь прихрамывал, но улыбался. В руке он сжимал новенький «адамс».[31]
— Привет! — сказал Павел.
— Здоров, — буркнул Чуга. — Обходишь справа, я слева. Наступаем на шканцы![32]
— Есть! — осклабился его сиятельство.
На шканцах Фёдору предстала заключительная картина трагедии, разыгравшейся в открытом море. Раненый Вэнкаутер лежал на палубе, опираясь на локоть и прислонясь к кормовой надстройке. Он тяжело и хрипло дышал, не сводя пристального взгляда с Сайласа Монагана. В сторонке, высоко задрав руки, стоял Лысый Хиггинс, бледный и потный.
— Ты мне надоел, Вэн, — торжествующе цедил Сайлас, ещё не ведая, что скоротечный бой на палубе окончился не в его пользу. — Короче, подписываешь бумаги и передаёшь шхуну мне. Лоханку потеряешь, зато живой останешься!
Сделав знак князю, Чуга сказал негромко:
— Погоди подписывать…
Монаган развернулся, как ужаленный, и выстрелил. Левую руку Фёдора будто кто раскалённым шкворнем проткнул. Грохнул «смит-вессон», трижды расходуя патроны. Сайласа отбросило, он с размаху треснулся головой о гик, но ему уже не было больно. Князь медленно опустил свой «адамс».
— Спас-сибо… — выдавил Фокс.
— Не за что, — без улыбки сказал помор.
Чуга помаленьку отходил. Скоротечный бой вспыхнул и угас, разбередив хоть и буйную, но свыкшуюся с законом натуру Фёдора. Бунт на корабле всегда карался по всей строгости, а тут он сам подавил мятеж. Липкая боязнь заскреблась в душе — кабы чего не вышло… Одно дело — драка в портовой таверне и совсем другое — застрелить боцмана со штурманом на пару.
— Марион! — крикнул Туренин. — Можете выходить! Всё кончено!
Девушка вышла в сопровождении Зебони — мисс Дитишэм была бледна, а негр посерел от страха. Поднятые руки кока пали, шлёпая по ляжкам.
— Слава те, Господи! — выдохнул Хиггинс.
— Флэгана жалко… — всхлипнула Марион.
— Миста-ар Бойд хороший человек был. — Зеб сокрушённо покивал курчавой головой.
— Тео, — разлепил губы Вэнкаутер, — принимай командование. Я не жилец…
— Марьяна, — сказал Фёдор, — сможете за раненым поухаживать?
— Конечно! — воскликнула девушка. — Зеб, быстренько принеси жёлтый баул!
Слуга умчался, а Чуга усмехнулся, глядя на Туренина.
— Теперь вы с Зебом, да кок, да Хэт, — сказал он, — вся команда этого корабля.
— Мы справимся, капитан! — осклабился князь.
Ничего не изменилось в мире. По-прежнему катились океанские валы и светило солнце. Как день, как неделю назад, качалась на волнах шхуна, упрямо стремясь к западу.
Равнодушные небеса не заметили убавления душ человеческих, а мёртвые тела вряд ли достигнут дна — погружаясь в мрачные глубины, они насытят сонмы тварей морских и растворятся в вековечном круговороте живой и косной материи.
Да и людям недолго помнить о чужих смертях — минуют считаные дни, и тошные воспоминания сотрутся, оставив в сознании малозначимый след.
Чуга стоял за штурвалом. Хиггинс варил обед вполовину меньше прежнего. Хэт старательно драил палубу. Флэгана Бойда похоронили по морскому обычаю — зашили мёртвое тело в холстину и предали его океану, а Павел почитал из Библии.
— Слишком быстро всё произошло, — призналась Марион. — И слишком много всего нехорошего сразу.
— Так оно и бывает, — нахмурился Чуга, которому выпало взять на себя ответственность за корабль, за его пассажиров и нести её.
Слава богу, что гафельная шхуна не требовала большой команды. Не нужно лазать по мачтам, ставя или убирая паруса, всё делается с палубы. И всё же пятерых маловато. Особенно если учесть, что большая часть из них — «сухопутные крысы», которым не скомандуешь: «Поворот оверштаг!» — и всё на этом. Нет, надо будет долго и нудно объяснять, что именно делать, куда бежать, за какие снасти тянуть. Однако и выбора не было. Помнится, он недовольничал, когда капитан «Гридня» стал учить вольноопределяющегося Чугу основам штурманского дела. Зато как это дело пригодилось ему теперь!
Ночь прошла спокойно. Ветер дул по-прежнему, не меняя направления, «Одинокая звезда» шла ходко, и всего делов оставалось — выдерживать курс. Растолковав Зебу с Павлом, как обращаться со штурвалом да как сверяться с компасом, Фёдор залёг часика на два. Но князь не разбудил его ни через три, ни через четыре часа.
Проснувшись почти в два ночи, Чуга забеспокоился. Однако, судя по звёздам, шхуна держала курс. Покачав головой, помор приблизился к мостику ощупью — бортовой фонарь погас. Внезапно расслышав два голоса, он замер.
— …Никогда не любил охотиться, — негромко говорил Туренин. — Не то чтобы я был жалостлив к тварям Божьим, как эти слезливые дамочки из общества защиты животных, отнюдь нет. Если приходит нужда, я завалю оленя или, там, горного барана. Просто я никогда не понимал этого странного «джентльменского» увлечения, вроде охоты на лис, когда целой толпой и сворой собак гоняют по лесу обезумевшую зверюгу. А у нас, в России, волка травят всем скопом… Безо всякой нужды, просто так, потехи ради. В Индии мне пришлось убить великолепнейшего тигра, отпробывавшего человечины и взявшего дурную привычку завтракать жителями одной затерянной деревни. Полосатый хищник обнаглел до того, что свил логово в заброшенном храме рядом с селением. Там я его и пристрелил, прямо у подножия статуи многорукого Шивы, словно в жертву принёс… А в Восточную Африку меня занесла мода — в высшем свете сочли хорошим тоном охоту на слонов…
— Жалко слоников, — подала голос Марион. — Зачем их убивать? Они же безобидные!
— Хм… Безобидные… Вы просто не видели, что бывает с человеком, которого догонит разъярённый слон, — тело превращается в лепёшку!
— А вот не надо было к слоникам приставать! — запальчиво парировала девушка.
Князь весело рассмеялся.
— И то верно! Ну слоников ваших я не трогал — зачем? Убивать ради мяса? Кто ж такую прорву съест? Легче подстрелить антилопу. А заваливать слона ради его бивней — настоящее варварство. Носорогам в этом отношении тоже не повезло — их уничтожают из глупости. Престарелые арабы верят, что порошок из рога этих гигантов вернёт им мужскую силу. С тем же успехом они могли бы перемалывать рога козлов или баранов!
Марион засмеялась.
— Да! А в Африке я, в основном, по сторонам смотрел и совершенно случайно убил льва. В саванне растёт высокая-превысокая слоновья трава, она скроет человека любого роста. И вот я пробираюсь по тропе, а на меня из зарослей выскакивает огромный лев! Я и выстрелил…
Фёдор усмехнулся. Ну хоть не хвастает своими охотничьими подвигами.
— Павел! — громко позвал он. — Ты почему меня не разбудил?
Лица его сиятельства и мисс Дитишэм были подсвечены слабым сиянием фонаря, поэтому Чуга затруднился бы сказать, что они выражали.
— Да вот, засиделись что-то, — смутился Туренин, — заболтались…
— Марш спать, — проворчал помор. — Оба…
— Слушаюсь, капитан! — дурашливо ответила Марион.
Проводив глазами полуночников, Чуга вздохнул. Сам себе он показался вдруг древним стариком, забывшим пору молодости…
…За ночь шхуна сбилась с курса, да и ветер стал отходить.
— К повороту оверштаг! — трубно взревел Фёдор, заняв место рулевого.
— Да, са-а!.. — рявкнул Зебони, по-южному выговаривая «сэр».
Чёрный слуга и князь, упорно зубрившие корабельные словечки, вытянулись во фрунт. Рядом, оставив на время черпак, встал по стойке «смирно» Хиггинс. Чуть сзади пристроился Хэт.
— Поворот! — гаркнул Чуга, уваливая шхуну. — Стаксель-шкот травить! Грота-гика-шкот выбрать! Фока-гика-шкот выбрать!
Зеб с его сиятельством бросились в разные стороны, мигом забыв моряцкие штудии, тут же вернулись, едва не столкнувшись с коком, покрутились, переспрашивая друг друга, пока, наконец, не ухватились за нужные снасти.
Фёдор положил руль на ветер — «Одинокая звезда» ощутимо заворачивала к северо-западу.
— Фока-гика-шкот потравить! Грота-гика-шкот потравить! Правый стаксель-шкот выбрать!
Верхние паруса — топсели, — обычно венчавшие обе мачты шхуны, Чуга побоялся устанавливать. Не дай бог, запутается его команда!
— Фока-гика-шкот выбрать! Грота-гика-шкот выбрать! Шкоты закрепить!
«Одинокая звезда» уверенно шла на запад, чуток забирая севернее, нацеливаясь на далёкий ещё Нью-Йорк. Князь Туренин, словно оправдывая название шхуны, неприкаянно торчал на баке. «Чего-то он так увял?» — подумал Фёдор, наблюдая за Павлом, непривычно молчаливым и как-то разом поскучневшим. Буркнув: «Так держать!» — помор доверил штурвал Монагану и протопал в капитанскую каюту. Марион уже была здесь и живо обернулась навстречу, улыбаясь Фёдору.
— Как он? — спросил Чуга.
Между девичьих бровок возникла морщинка.
— Вэн потерял много крови, — негромко проговорила мисс Дитишэм, — но раны не воспалены…
— Если до сих пор не сдох, — поставил свой диагноз Фокс, — то, может, ещё и выкарабкаюсь…
— Молчите! — строго сказала девушка. — Вам нельзя разговаривать!
— Слушаюсь…
Капитан будто усох и постарел — бледный, небритый, с чёрными, запекшимися губами, он представлял собой душераздирающее зрелище.
— Всё ладно будет, — подобающе выразился Фёдор.
— Всё будет о’кей! — подхватила Марион.
Выйдя на палубу, Чуга оглядел океанские просторы. Атлантика добродушно качала шхуну, не мешая той стремиться на запад. Фёдор покачал головой. Море-океан отделило его от России, от Севера родимого. Время минет, и сотрётся в памяти оставленный дом, шумливая Ваенга, могилка Олёнкина… Чуга вздохнул.
— О чём вздыхаете? — незаметно подойдя, ласково спросила мисс Дитишэм.
Помор обернулся.
— Да так… — отделался он никчёмными словами.
Марион встала рядом с ним, подставляя хорошенькое личико солёному ветру, и глянула искоса.
— У меня такое впечатление, — сказала она, надувая губки, — что вы меня избегаете.
— Разве?
— Да-да! Не глядите даже в мою сторону!
— Просто не хочется быть третьим лишним.
— Вы дурак! — выпалила мисс Дитишэм.
Это было сказано от души, безо всякого жеманничанья, и Федор не выдержал, рассмеялся. Тут же и Марион прыснула в кулачок.
— Простите, — пробормотала она, — вырвалось. С князем мы друзья, а вы… Мне с вами ничего не страшно. Так спокойно становится… и я сразу начинаю чувствовать себя женщиной!
Девушка мило покраснела, и губы Фёдора наметили улыбку. Марьяна…
Она совсем молоденькая — и совершенно не испорченная. Девушка нравилась ему именно своей детской непосредственностью, радостной открытостью миру, мечтательностью и предчувствием счастья. Хотя, что там скрывать, Марион было чем пленять, к тому же природа одарила её особым женским обаянием, которое волновало каждого мужчину, просто смотревшего на неё. Такая вскружит голову любому… да только не ему. Слишком уж он здравомыслящ и трезв, порывам нет места в его душе.
«Или ты уже успел состариться в свои тридцать два?» — подумал помор. «Федюнька», — ласково называла его Олёна. А кто он на самом деле? Суровый Фёдор Труфанович? Мрачный Чуга? Способна ли Марьяна тронуть его заскорузлую, ороговевшую натуру?
Помор покачал головой в лад своим грустным мыслям. Когда расстаёшься с любимым человеком, ставшим близким тебе и родным, в душе остаётся рана. Сколько ей суждено заживать? Когда она перестанет саднить?
Чуга поднял голову к небу, и солнечное тепло согрело его лицо, словно кто погладил ласково. Фёдор улыбнулся. Пожалуй, человек, не любивший по-настоящему, мог подумать, будто он зарок давал какой — верность хранить той, что была ему всех дороже. Да нет… Себя-то, живого, зачем хоронить? Олёна всегда ему счастья желала, а бобылю какая радость жить? Не в этом дело…
Не готов он пока к новой амурной круговерти. Болит сердце-то. Щемит. Коли одна всего тебя занимает, куда ж другую-то вместить? А просто так побаловаться, плоть свою потешить… Почто так-то Марьянку обижать? Эта барышня заслуживает большего. То-то и оно…
— А чего это князь наш такой смурной ходит? — перевёл Чуга разговор.
— Влюбился князь, — гордо сказала девушка.
— В кого? — нарочито удивился Фёдор.
— В меня, в кого же ещё? — фыркнула Марион, вздёргивая носик. — А я ему возьми да и расскажи, по какой надобности в Нью-Йорк следую.
— Это по какой же?
— Замуж выхожу! — важно ответила мисс Дитишэм.
— Ах, вот оно что… Не повезло, выходит, князю. А кому повезло?
— Его зовут Роуэлл Дэгонет. Он молод и состоятелен, из хорошей семьи… Правда, он далеко-далеко не такой мужественный, как вы, но что уж тут поделаешь. Отец всегда хотел, чтобы мы с Роуэллом были вместе. И дедушка…
— А вы?
Марион вздохнула.
— Не знаю… — пригорюнилась она. — Роуэлл хороший, добрый, но… Не знаю.
— Смотрите мне, — шутливо пригрозил Чуга, — чтоб счастливы были!
— Буду, — робко улыбнулась мисс Дитишэм. — Наверное…
Глава 4 ВОСТОК
Подходила к концу вторая неделя плавания, когда показалась земля. Попотел Чуга изрядно, курс исчисляя, зато вышел куда хотел. Корабельные дымы подтверждали близость нью-йоркского порта — севернее поспешал пароход «Россия», а южнее коптил небо крейсер «Нью-Арк».
Фёдор глядел на тёмную, неровную полосочку на горизонте с глухим волнением. Америка…
Чего ему ждать от американской земли? Может, зря он одолевал океан и ему тут ничего не «светит»? Тысячи и тысячи таких, как он, решительных, сильных людей подавались за море в поисках лучшей доли, но многие ли из них нашли своё счастье? Надо быть отчаянным и безрассудным человеком, или решительным, уверенным в себе, или, как он с Турениным, потерять всё, что имел, дабы порвать с привычным окружением, бросить постылую родину — и начать всё с самого начала, пойти ва-банк!
Кому-то повезёт, кто-то выберется из нищеты, разбогатеет, выйдет в люди. А сколько безвестных могил останется от тех, кто хоть на миг ослаб духом и сдался? Не смог переиграть судьбу?
Человек всегда надеется на лучшее, поскольку не помнит, что смертен. Если же утратишь надежду, бессильно опустишь руки, то это всё равно, что умереть. Тот, кто надеется, не расстаётся с волей к жизни. Он идёт вперёд, падает, поднимается, битый, стреляный, обобранный, — и с упорством продолжает путь. А на американской почве «голубые цветы надежды» прорастают лучше всего — это свободная страна, во множестве мест ещё ничейная, нехоженая даже, и ты можешь застолбить свой удел. Стать кем-то.
«Стану!» — твёрдо решил Фёдор. Глядишь, и затянется рана в душе, уйдёт горе, и лишь одна светлая печаль сопутствовать будет помору Чуге.
Америка…
И вот берег приблизился вплотную, разошёлся устьем залива, взгромоздился сонмищем крыш на Манхэттене, над которыми, будто маяк, парила церковь Святой Троицы, самое высокое здание Нью-Йорка.[33]
— Убрать стаксель! Травить грота-гика-шкот! Подать носовой! Убрать кормовой! Убрать грот!
«Одинокая звезда» мягко привалила к пирсу, замерев, как усталый конь, добредший таки до стойла. Город, как рекомая избушка на курьих ножках, был повёрнут к порту задом — за пристанью поднимались скучные узкие дома в пять-шесть этажей, по фасадам которых спускались ажурные лестницы.
Расквитавшись с иммиграционными и таможенными чиновниками, экипаж шхуны сошёл на берег. Хэт Монаган потоптался, поклонился неуклюже всей честной компании, да и пошёл себе. Лысый Хиггинс помог Вэнкаутеру спуститься по трапу.
— Теодор! — окликнул Фокс помора. — Погодь…
Чуга, поправив лямку заплечного мешка, обернулся к шкиперу.
— Спасибо, — серьёзно сказал тот, — спас мою собственность и мою жизнь. Я уж думал, немила она мне, ан нет — охота ещё небо покоптить, хе-хе…
Опираясь на палку, Вэнкаутер порылся в кармане и выудил оттуда пять золотых монет.
— Держи, ты их заработал. Тут сотня долларов.[34] Душонку свою я ценю дороже, хе-хе, но больше с собой нет.
Фёдор отказываться не стал, ссыпал золото в карман и пожал шкиперу руку.
— Ну прощевай, Вэн. Может, свидимся ещё.
— Удачи, Тео.
Чуга догнал Павла и нетерпеливо подпрыгивавшую Марион.
— Ну что? — сказал он. — Прощаемся?
— Ну уж нет! — воспротивилась девушка. — Мы все едем к нам на Пятую авеню! Дедушка будет страшно рад!
— Боюсь, сударыня, — тонко улыбнулся князь, — что он откажет от дома двум босякам, вроде нас с Фёдором. Наши наряды далеки от тех, которые приличествуют великосветским гостиным.
Видя, как огорчилась Марион, помор мягко добавил:
— Уж позвольте сперва обновку справить.
— Но вы придёте? — Мисс Дитишэм с тревогой и настойчивостью заглянула Чуге в глаза.
— Обязательно, — пообещал тот.
— Ну-у да, в общем, — промямлил Туренин.
— Я буду ждать! Попробуйте только не прийти!
Раз десять повторив свой адрес, перемежая кокетливые мольбы со смешными угрозами, Марион поймала брауновскую бричку, такую же привычную для Нью-Йорка, как кэб для Лондона, и была такова.
— И что теперь делать прикажешь? — Князь с укором посмотрел на Фёдора. — Друг мой, я дал барышне слово, но у меня в кармане ровным счётом десять соверенов![35]
— Пустое! — отмахнулся помор. — Зато у меня ровно сто долларов. На палубу и твоя кровь капала, так что…
— Это исключено! — твёрдо заявил Туренин. — Я хоть и нищий, но дворянин. Деньги твои, Фёдор, и только твои! — Тут он замялся. — Но… если ты займёшь мне пару «золотых орлов»,[36] то…
— Замётано!
Углядев подальности подозрительные фигуры — припортовая босота! — Чуга счёл за лучшее достать из мешка верный «смит-вессон» и сунуть его за пояс.
— Пошли отсюда.
Выйдя на Бродвей, Фёдор увидел совсем другой Нью-Йорк — нарядный, чопорный, спешащий делать деньги. По улице в разных направлениях носились двухместные «браун-купе», покачивались на рессорах ландо и фиакры, давились в тесноте пассажиры трясущегося омнибуса. Гвалт стоял изрядный, перестук колёс и цокот копыт добавляли шума в общую копилку.
В то же самое время наивеличайший город Америки производил впечатление очень большой деревни. Лондон или Санкт-Петербург были городами устоявшимися, сложившимися, а вот «Большое яблоко»[37] пребывал в вечном движении. Сотни тысяч людей со всего света прибывали сюда, чтобы рассеяться по великой земле вплоть до Калифорнии — или осесть на берегах Гудзона. Больше всего в нью-йоркском порту сходило ирландцев, евреев, немцев и шведов — и сразу начинались междоусобицы. Ирландцы не выносили негров и постоянно схватывались с ними, местные старожилы терпеть не могли ирландцев, так что драки и поножовщина были обычным делом, особенно в Сохо, что за Кэнел-стрит.
— И где у них тут одёжей торгуют? — вопросил Чуга, вертя головой.
— В дорогие магазины готового платья, вроде бродвейского «Стюарта», заглядывать не советую, — ответствовал князь. — Нашего «золотого запаса» может не хватить.
— С жиру беситься не будем, — поддержал его Фёдор. — Нам бы чего подешевше, но чтоб пристойно.
— Сам я тут не бывал… — проговорил Павел, оглядываясь. — Но при мне упоминали универмаг Хогвоута…[38] Кстати, там мистер Отис устроил свой лифт.
— Универмаг? — нахмурился Чуга. — Это ещё что за диво?
— Универсальный магазин, где торгуют всем сразу — и одеждой, и обувью, и посудой, и чем угодно.
— А лифт?
— Этого дива я и сам ни разу не видел! Съездим?
— А чего ж… Поехали!
Князь вскинул руку, останавливая брауновский экипаж.
— До Стринг-стрит, к «Хогвоуту»!
— Да, сэр, — кивнул возница, легонько стегая коня подвласой масти — вороного с бурыми подпалинами.
Словно пересиливая себя, Туренин рассказывал с наигранным азартом:
— Когда тут жили одни индейцы из племени гуронов, остров назывался Манна-хатта. Одни холмы вокруг лежали да лес стеной. А между холмов, с одного конца острова до другого, тянулась лощина. Вот по ней-то гуроны и проложили тропу, назвав её Виквасгек. Теперь её перекрестили в Бродвей…
— Всё-то ты знаешь… — проворчал Фёдор.
— Ну всё — это явный перебор! — усмехнулся Павел. — Но кое о чём понятие имею.
Откинувшись на мягкую подушку, он покосился на помора. Фёдор совершенно не походил на русских мужиков, хитроватых и боязливых, обожавших прибедняться. Тем и в голову не пришло бы равнять себя с князьями али с графьями. Нет, Чуга держится с достоинством истинных новгородцев, которые, бывало, тузили на вече неугодивших им правителей.
Наоборот, это «его сиятельство» постоянно следит за собой, чтобы не ляпнуть ненароком покровительственно-барское: «Эй, любезный!» Интересно, какого Фёдор о нём мнения, задумался князь. Вряд ли лестного… Чуга имеет все основания считать своего нечаянного знакомца легковесным барином, этаким пустышкой-аристократишкой, растратившим достояние предков и ныне оставшимся на бобах. Туренин незаметно вздохнул.
Он очень болезненно переживал «благородную бедность», завидуя сноровистым, сметливым купчикам. К великому сожалению, его родители были далеки от хозяйственных дел. Милые, славные люди, они вращались в мире поэтов и художников, разговаривали на нескольких языках, в подлиннике читая Плутарха или цитируя Шекспира. Отец бежал от мирских забот, а княгинюшка по-прежнему писала меню на карточках самого толстого бристольского картона с золотым обрезом, когда устраивала званые обеды. Оба скончались в нищете, под крышей нетопленого особняка, заложенного и перезаложенного. И дом, и поместье, экипажи и арабские скакуны — всё ушло с молотка.
Павел Андреевич Туренин, потомок Рюрика в двадцать каком-то колене, достойный член Английского клуба, сохранял невозмутимость в чисто британской манере, встречая и провожая невзгоды с лёгкой ироничной улыбкой. А ведь порой не улыбаться тянуло, а корчиться от унижения, выть от позора и боли. Но не показывать же окружающим, как ему худо…
И вот новый удар судьбы-негодяйки. Милая, нежная Марион выходит замуж, и не он её счастливый избранник. «Ничего, — усмехнулся князь, — и это стерпим…»
…Когда «купе Брауна» проехало перекрёсток с Пятой авеню, Павел кивнул в её сторону:
— Здешняя Оксфорд-стрит и Невский проспект. Тут живут самые богатые люди Нью-Йорка, почитающие себя знатью. Эсторы, Рашуорты, Торли… Из них только Дэгонеты ведут свой род от английских помещиков, а остальные — обычные мещане. Впрочем, Америка — слишком молодая страна, чтобы требовать от её жителей древних корней. Скажем, ван дер Лайдены являются прямыми потомками голландского губернатора Нового Амстердама, как тогда назывался Нью-Йорк, а времени-то прошло — каких-то двести лет![39] А до той поры индейцы не знали бремени белого человека. Хотя как сказать… Де Сото открыл Миссисипи ещё в начале XVI века, а Коронадо тогда же вышел к Скалистым горам… Ну каких-то двести пятьдесят!
Так, в приятных и познавательных разговорах, они доехали до универмага «Хогвоут», здоровенного пятиэтажного здания из чугуна и камня. Отпустив извозчика, друзья огляделись и сразу заметили всадника в широкополой шляпе, в джинсах и выгоревшей красной рубашке, с чёрно-белой жилеткой из коровьей кожи. Вытащив одну ногу из стремени, он перекинул её через луку седла и дивился огромным витринам магазина.
— Во понастроили! — весело обратился он к Чуге и Туренину. — Не то что у нас… Восток, одно слово!
Из нагрудного кармана рубашки у него свисали верёвочки кисета. Скрутив цигарку, всадник чиркнул спичкой о джинсы и закурил.
— А здесь чего, вообще? — кивнул он на универмаг.
— Магазин, — ответил Фёдор.
— Во! — удивился конник.
— Откуда, ковбой? — поинтересовался Павел.
— Из Техасу мы, — живо ответил всадник. — Я — Ларедо Шейн, а он, — ковбой похлопал гнедого по шее, — Принц!
Конь мотнул головой, словно подтверждая: да, я королевской крови.
— Сам-то я, как с гор спустился, так на Запад и подался, — охотливо продолжал Ларедо. — Всю жизнь, считай, коровам хвосты крутил. Вот и надумал глянуть, как оно тут, на Востоке, в Нью-Йорке ихнем.
— И как тебе град сей? — тонко улыбнулся князь.
— Уж шибко большой! — признался ковбой. — Я в каньонах не блуждал никогда и в пустыне дорогу сыщу — пройду как по ниточке, от источника к источнику, а здесь потерялся!
— Кричи: «Ау!» — рассмеялся Туренин.
Ларедо ухмыльнулся, и белые, незагорелые чёрточки у его глаз ужались в морщинки.
— Бывай! — сказал Чуга.
За дверями «Хогвоута» было людно, но друзья первым делом вошли в кабину лифта — опробовать любопытное изобретение. Лифт загудел и тронулся. До пятого этажа он поднимался минуту.
— Здорово! — хмыкнул Фёдор. — Ежели наперегонки — запыхаешься, пока добежишь. А тут стой себе да в зеркало глядись!
— Здорово, — согласился князь. — Ну пошли мерить!
Оба решили себе голову не морочить зря — каждый купил по чёрному сюртуку в рубчик, брюки из дангери[40] того же цвета, входившего в моду, да по паре ботинок. Чуге было непривычно носки натягивать заместо портянок, но делать нечего — обвыкай, пилигрим![41]
Белая рубашка приятно облегала тело, а вот узкий галстук-шнурок был, на взгляд Фёдора, лишним.
— Осталось купить шляпы, — сказал Туренин.
Чуга подумал, припомнил Бойда — тот с утра первым делом надевал шляпу, а уже потом штаны — и согласился. Но когда Павел подвёл его к прилавку, и услужливый продавец выложил стетсоновскую модель «Хозяин равнин»,[42] помор заворчал:
— Десять долларов за шляпу? Куда это годится?
— Друг мой, — покачал головой князь, — не стоит гоняться за дешевизной — это самая низкая цена, и шляпа того стоит. Солнце на Западе печёт так, что не обрадуешься!
— Чистейший фетр! — заверил Чугу продавец. — На него пошёл мех бобра, а потому шляпа не пропускает воду. Из неё можно поить коня!
— Давайте, — вздохнул Фёдор.
Обрядившись, они вышли на Бродвей, похожие как бобы в стручке, только помор нёс в руке свой вещевой мешок, а руку князя оттягивал саквояж.
На улице друзья встретили давешнего ковбоя. Вот только Ларедо уже не верхом сидел, а плёлся на своих двоих, звякая шпорами и перекашиваясь под весом тяжёлого седла.
— А Принц где? — удивился Чуга.
— Проиграл, — мрачно сообщил техасец.
— Так лучше бы седло на кон ставить, — сказал Туренин.
— Ага, ещё чего, — по-прежнему мрачно проговорил Ларедо. — Коняка-то мне в десятку обошёлся, а за седло я все двадцать выложил! Пойду, — вздохнул он, — отыграюсь, может…
— Удачи! — пожелал ему князь.
На Пятую авеню их доставила конка. В отличие от омнибуса, конка ехала по рельсам, оттого не чувствовалось тряски. Ещё б диванчики мягкие — и хоть спи.
Дом, принадлежащий Селертону Уортхоллу, дедушке мисс Дитишэм, отыскался в промежутке между Тридцатой и Сорок шестой стрит. Это был солидный особняк из камня коричневого оттенка, возле которого скучала парочка неприметных личностей в сером. Дом был выдержан в стиле 30-х годов — повсюду ковры, панели красного и палисандрового дерева, камины с полукруглыми арками под полками из чёрного мрамора, везде картины Хантингтона, Вербекховена, Кабанеля,[43] помпезная мебель буль, ажурная чиппендейл, простоватая истлейк.[44]
Ливрейные лакеи с поклоном приняли шляпы Чуги и Туренина и торжественно сложили в холле их ручную кладь.
— Теодор!
С радостным криком по лестнице сбежала Марион. Она была неотразима в чёрном бархатном платье с венецианскими кружевами.
Застеснявшись своего порыва, девушка остановилась в двух шагах от друзей, стараясь придать лицу чопорное выражение, но природная живость взяла своё — барышня рассмеялась и бросилась тормошить обоих.
— Вас не узнать! — тараторила она. — Выглядите как денди с Олд-Бонд-стрит![45] Пойдёмте, пойдёмте, вы поспели как раз к обеду!
— Так вроде ужинать пора, — подивился Фёдор.
— А здесь так принято! — прозвенел девичий голосок.
Посмеиваясь, Чуга направился следом за Марион. Павел ступал рядом, придав лицу скучающее выражение: дескать, и не такое видали.
Наверху, из комнаты напротив, доносился женский смех — дамы в шёлковых платьях с кружевами вокруг высоких вырезов и узкими сборчатыми рукавами завивали волосы щипцами, нагревая те на газовых горелках.
— Пойдёмте, пойдёмте! — звенела мисс Дитишэм, хватая Фёдора за руку. — Я познакомлю вас с дедушкой!
— Нравится вам здесь? — поинтересовался Чуга, приноравливаясь к семенящей походке Марион.
— Очень! — призналась девушка. — Наверное, я рождена для светской жизни! По понедельникам я буду посещать концерты, по средам — бывать в опере. Зимою, с декабря, начнутся балы, а вечерами — званые обеды. Я буду ужинать у Дельмонико,[46] ходить в театр Уоллока и в Музыкальную академию, наносить визиты и принимать гостей…
— Соскучитесь! — убеждённо сказал Фёдор. — Вы — птичка вольная, клетка не по вам, пущай даже и позолоченная.
— Ох, не знаю…
Марион провела друзей через анфиладу комнат в обширную гостиную. Хрустальные люстры отражались в натёртом паркете, литые карселевские лампы[47] с круглыми гравированными абажурами, прикрытыми зелёными бумажными заслонками, чередовались с пальмами в кадках. В одном углу стоял рояль «Стейнвей» с большой корзиной роз от Гендерсона,[48] в другом обитые парчою кресла были расставлены вокруг затянутых плюшем столиков, добавляя приватности. А посередине располагался огромный овальный стол в окружении бархатных стульев с высокими резными спинками. Стол был уставлен канделябрами и целыми ворохами столового серебра. Чуга подумал с тоскою, что обязательно опозорится за обедом.
— Позвольте вам представить Теодора Чугу, — торжественно провозгласила Марион. — А это Павел Туренин, русский князь!
Лишь теперь Фёдор разглядел сухопарого, моложавого старика в длинном чёрном сюртуке с бабочкой, совершенно седого, с пышными усами и бакенбардами а-ля Александр II, а рядом с ним раздобревшую даму в тёмно-лиловом атласном платье, с голубыми страусиными перьями на маленькой шляпке.
— Селертон Уортхолл! Элспет Кармайкл!
Дед Марьяны кивнул довольно дружелюбно, а вот «тётя Элспет» оставалась холодна.
В гостиной между тем становилось людно.
— Это моя кузина, — шептала мисс Дитишэм, представляя Фёдору гостей, — Эмма Рикрофт. А вот кузен Седрик. Друг семьи — Брайен Леффертс. Полковник Дермот Листердейл. Доктор Руфус ван Олдин…
— Ваше сиятельство, а встречались ли вы с императором? — бархатным голосом спросила мисс Рикрофт.
— Безусловно, мэм, — церемонно ответил Туренин.
— И всё же вы выбрали свободу? — томно осведомилась Эмма.
— Считайте это прихотью чудаковатого русского, мэм!
— А вы тоже кназ? — вцепилась кузина Марьяны в Чугу.
Уловив смешливую улыбку мисс Дитишэм, Фёдор вывернулся:
— Я тоже направляюсь на Запад, мэм.
Потребовалось вмешательство Марион, чтобы вывести его с «линии огня».
В это время гомон, доносившийся из комнат, усилился, перебиваемый восклицаниями, и в гостиную вошли трое. Впереди шагал коренастый и плотный мужчина лет тридцати пяти, с лицом холёным и властным. Одет он был очень богато, всякая вещь на нём словно кричала: «Я дорого стою!»
Маленькие глаза коренастого, чуть навыкате, смотрели остро, как бы оценивающе, а тонкие губы кривились в снисходительной, слегка презрительной усмешке.
— Это сам Мэтьюрин Гонт, — шепнул князь, — здешний миллионщик, воротила с Уолл-стрит. Холодный и безжалостный, как спрут.
— Не совсем так, — проговорила мисс Марьяна. — Похоже, что Гонт получает искреннее удовольствие, когда разоряет своих жертв, а щупальца он запустил повсюду — в золотые рудники, в угольные шахты, в железные дороги…
Фёдор, впрочем, не слушал своих друзей. Его вниманием завладели двое, пристроившиеся к богачу. Пожилой человек своею окладистой бородой и ухватками напоминал купца какой-то там гильдии. Под ручку с ним ступала высокая, стройная девушка в платье цвета сёмги, отделанном по подолу чёрными плиссированными рюшами. Её золотистые волосы были заплетены в толстую косу и украшены ниточкой жемчуга.
Завидя эту молодую особу, Чуга испытал «сердечный укол» — уж больно лепа была девица. «Больно лепа…»
Воистину, великий, могучий русский язык бледнеет перед женской прелестью! Какими словами передать чудную гармонию плотского и духовного в фигуре младой красавицы, когда жадный глаз ухватывает пленительный очерк груди, узину талии, крутой изгиб бёдер и лишь потом замечает некий внутренний свет, словно отводящий похотливые взгляды? Как описать обаяние незнакомки, очарование её улыбки или выражение карих очей, то насмешливое, то с затаённым искусом?..
— Кто эта барышня? — выговорил помор.
Мисс Дитишэм внимательно посмотрела на него и ответила:
— Её зовут Наталья Саввишна Коломина. Она из Форт-Росса,[49] что в Калифорнии. С нею дядя, Пётр Степанович Костромитинов, русский вице-консул в Сан-Франциско.[50] — Помолчав, Марион добавила не без коварства: — Наталья помолвлена с мистером Гонтом.
— Да неужто? — буркнул Фёдор, чуя сильнейшее раздражение.
— Ага! — мило улыбнулась мисс Дитишэм.
Гости разбрелись по гостиной. Мужчины кучковались вокруг Гонта, словно придворные близ монарха, женщины разбрелись по парам. Мисс Коломина скучала в одиночестве.
Чуга приблизился к ней и слегка поклонился.
— Меня зовут Чуга, — сказал он на родном языке, — Фёдор Чуга.
— Вы русский? — воскликнула девушка.
— Из поморов мы.
— Очень приятно, Фёдор! А я — Наталья. Давно вы в Америке?
— Первый день, — признался Чуга.
— О-о! Это очень большая страна! — оживилась Наталья. — Россия, конечно, побольше, но я не выезжала дальше Новоархангельска.[51] Папенька с маменькой мои из Москвы будут, а сама я родилась в Форт-Россе. Там, вообще, много наших…
— Никогда не был в Калифорнии, — улыбнулся Фёдор. — Расскажите, как там.
— Там здорово! — с чувством сказала Коломина. — Форт-Росс… он у залива Румянцева, а ещё там рядом река Славянка.[52] Ранча Петра Степановича — как раз на её южном берегу…
— Как-как? «Ранча»?
— Ну да! Мексиканцы-то всё по-своему лопочут, на «о» — ранчо, а мы по-нашенски. Ранча у Петра Степановича большая, её даже по-другому зовут — село Костромитиновское. Там у него и усадьба, и кажимы для бакеров…[53] Всё есть! Ранча Абросима Хлебникова почти рядом с заливом, мы её зовём «Хлебниковскими равнинами». А хозяйство Черных дальше всего от крепости, прозывается оно на всякий манер — и «Новая ранча», и «Равнина Черных», а сам Егор Леонтьич говорит по-простому: «Ранча Черных». Ещё там бостонец[54] один есть, Купер его фамилия, тоже скот разводит. Он держит ранчу верстах в тридцати от нас, вверх по Славянке. И мексиканцы с коровами дело имеют — тот же дон Гомес… Но наших всё равно больше — Круковых, Кусковых, Шелиховых, Ротчевых. Коломиных…
Наталья пригорюнилась.
— Папенька мой в прошлом годе пропал, — вздохнула она. — Как отъехал на промысел, так и всё… Он чагу заготавливал — это мамонтовые деревья такие,[55] вышины громаднейшей и во много обхватов. Они всё по ущельям растут, а мы из них черепицу делаем чажную. Ох… Передал только с Харитоном Медведниковым писульку свою, что отъезжает срочно в Аризону, большой заказ, дескать, и всё на этом. Говорят, индейцы на его обоз напали, команчи дикие. Наши-то следопыты в тех местах побывали, останки отцова товарища нашли и фургоны пожжённые, а вот самого папеньки никто не видал. Вот и маюсь я, не знаючи, то ли жив он, то ли сиротою зваться пора…
— Ежели тела отца вашего не сыскали, — с силою сказал Чуга, — стало быть, рано отпевать его. Всяко быват…
— Вот и я так думаю! — горячо сказала Коломина. — Надеюсь всё, жду…
Девушка смолкла, погружённая в мысли невесёлые, и Фёдор тоже разговора не вёл, уважая чужую печаль, пока Наталья не вздохнула, отчего высокая грудь её поднялась ещё выше.
— А Пётр Степанович всё замуж меня выдать норовит, — пожаловалась она, — и маменька про то же талдычит. Только не хочу я, без отцова-то благословения…
Чуга и виду не показал, что рад.
— Выходит, не мил вам жених?
Наталья заколебалась.
— Про Мэта всяческие гадости говорят, — сказала она, — и в жестокости винят, и за бессердечие пеняют, а того не ведают, что доброта в нём тоже скрыта. Вон Мэт старикам своим особняк купил в Гарлеме, с садиком и слуг нанял. Родители его ни в чём нужды не знают, а он их почти каждый день навещает. Братца меньшого Мэт в аглицкий Оксфорд пристроил и платит за всё, а сестричке своей учителей из самой Италии выписал, чтобы они с ней музыкой занимались и голосок её пестовали…
Фёдор в это самое время перехватил ревнивый взгляд Гонта и подумал, что благие побуждения так глубоко запрятаны в потёмках души миллионщика, что хрен найдёшь. Мэтьюрин вооружился моноклем, отчего бледное лицо его перекосилось, принимая брезгливо-надменное выражение.
Тут Чуга не удержался — склонившись, он сказал Наталье наполовину шутливо, наполовину всерьёз:
— Ох и много бы я дал, чтобы отбить вас у этого лощёного хлыща! Право, погодили бы вы с замужеством, пока я обернусь да разбогатею! Вот не знал ранее, куда в этой Америке деваться, а нынче ведаю — в Калифорнию мне дорога, не иначе.
Девушка вспыхнула и тихонько рассмеялась (лицо у Гонта пошло красными пятнами).
— А я не тороплюсь под венец, — сказала она с милой улыбкой. — Мы с дядей пробудем в Нью-Йорке недельки две, а после вернёмся в Сан-Франциско. Оттуда уже на ранчу. Мэт в наших местах недавно осел, а уже самым большим хозяйством обзавёлся — у него десять тысяч голов скота и сорок бакеров. Люди они все несносные, грубые, драчливые, только одного своего хозяина и слушаются — Мэт лучше их всех с револьвером обращается, да и подраться не дурак. Говорит, что ранча для него — место отдыха от трудов праведных…
— Ежели в гости загляну, не прогоните?
— От дома не откажем!
Фёдор по-светски откланялся, подмечая, какое зло берёт Мэтьюрина Гонта. Марьяну, как видно, тоже увлекло незримое соперничество. Встрепенувшись, она созвала гостей:
— К столу!
Фёдора и Павла усадили по правую руку от хозяина. Гости беседовали на темы, далёкие от интересов помора, — они снисходительно поругивали условия в Интерлакене и Гриндельвальде,[56] восхищались пением Итало Кампанини и Аделины Патти, а вот Чуга прилагал немалые усилия, справляясь со столовым серебром эпохи Георга II, да так, чтобы при этом не кокнуть фамильный сервиз севрского фарфора.
Подавали устричный суп, молодую индюшку с кукурузными блинчиками, жареную утку в смородиновом желе, а Зеб угодливо подливал красного «Шато-о-брион».
Туренин легко и непринуждённо справлялся с многочисленными приборами, и Чуга внимательно следил за князем — в какую руку тот берёт большую вилку, какой держит маленькую, как орудует ножом.
— Скажите, кназ, — заговорила настойчивая Эмма Рикрофт, обращаясь к Чуге, — на Запад вы направляетесь поохотиться? А на какую дичь? На бизонов, может?
— Нет, мэм, — усмехнулся Фёдор, поднимая бокал. — Я намерен завести ранчу.
— О-о!
— Ваше здоровье!
Позднее, когда молодой Роуэлл Дэгонет сел за рояль, и по гостиной понеслись звуки модного вальса,[57] пары закружились в танце. Чуга заметил, что мисс Коломина держится в сторонке, и предложил ей руку.
— Вы танцуете? — удивилась девушка.
— Пляшу, — усмехнулся помор.
— Ох, извините! — смутилась дама. — Говорю что попало!
— Пустое, — сказал кавалер, кладя руку на гибкую девичью талию.
Двигался Чуга легко, на всякий случай твердя про себя: «Раз-два-три… Раз-два-три…» — и даже тётя Элспет вынуждена была признать их с Натальей красивой парой.
— Вы хорошо танцуете, — проговорила Коломина.
— Есть кого кружить, — улыбнулся Фёдор.
Его так и тянуло облизать внезапно пересохшие губы. Сердце билось гулко, гоняя горячую кровь, а девушка — вот она, совсем рядом, мучительно близкая — и недоступная. Весь мир вращался очень далеко, вне кольца объятий, наплывая и скользя мимо неразличимыми цветными пятнами.
Музыка смолкла, и Чуга первый раз в жизни поцеловал девушке руку, благодаря за кружение вальса. Наталья казалась немного растерянной и смущённой, она смотрела на него, будто ожидая невысказанных слов.
Неуклюже поклонившись, Фёдор удалился в курительную комнату, где витал запах дорогих сигар. Смутно было у него на душе. Совсем недавно он посмеивался над амурными страданиями Павла, и вот Бог наказал его, самого заведя в медовую ловушку. Хм. Наказание? Или знамение? Провозвестие счастья?
— Что ты себе позволяешь? — донёсся из коридора резкий голос Гонта, вздрагивавший от ярости. — Как смеешь кокетничать с этим русским нищебродом?! Я ещё даже не взял тебя в жёны, а ты уже хвостом закрутила? Развратничаешь с первым попавшимся босяком?! Шлюха!
Сочный звук пощёчины был ему ответом.
— Ах ты… — задохнулся от злости Мэтьюрин. — Т-тварь!
Чуга выскользнул в коридор как раз вовремя, чтобы перехватить руку Гонта, занесённую для удара. Наталья стояла рядом, вытянувшись стрункой, бледная и прекрасная в гневе. Из гостиной выглядывали Роуэлл и Павел.
Развернув Мэта, помор увидал вблизи обрюзгшее лицо миллионщика, выпученные глаза, распущенный рот с капельками слюны на губах. Монокль болтался на шнурке, словно отсчитывая удары сердца, уязвлённого ревностью.
Содрогаясь от наслаждения, Фёдор ударил Гонта кулаком под дыхало. Хотел было заехать коленом, дабы расквасить нос противнику-сопернику, однако тот увернулся. Чуть не упав, Мэт отшагнул, восстанавливая дыхание, и бросился в атаку.
Крепкие, покатые плечи борца выдавали в нём давнее знакомство с боксом, и, как вскоре убедился Чуга, далеко не шапочное — Гонт двигался резво, ни одной лишней секунды не задерживаясь на одном месте. Его цепкие, лютые глаза смотрели зорко, с гнусным нетерпением живодёра — ах, скорей бы вцепиться в податливую плоть и терзать, бить, рвать!
От мощного хука правой Фёдор ушёл — и тут же заработал сокрушительный удар в скулу. Помора отнесло и основательно приложило к стенке, отделанной панелями из палисандра.
Привлечённые шумом драки, гости выбежали в коридор. Дамы заохали, запричитали. Костромитинов и полковник Листердейл бросились было разнимать поединщиков, но тут Роуэлл Дэгонет проявил характер — выхватив револьвер, он крикнул:
— Не трогать!
Князь Туренин красноречиво вытащил «адамс», одним видом своим удерживая толпу. Чуга оттолкнулся от стены, кидаясь к Гонту. Мэтьюрин ждал его, качаясь в классической стойке, подняв перед собой кулаки.
Фёдору боксировать не приходилось, зато опыта уличных драк ему было не занимать. Гонконг, Иокогама, Одесса, Марсель — всюду, где помору доводилось сходить на берег, случались встречи с местной шпаной, охочей до мордобития. Не всегда Чуге удавалось победы одерживать, зато опыт появлялся и дух крепчал.
Едва не заработав сокрушительный апперкот, Фёдор принялся дубасить Гонта, не позволяя тому и на секундочку опомниться. Уйдя в глухую защиту, Мэт отшагнул и набросился по новой, почём зря молотя кулаками.
Пропустив пару ударов в грудь, Чуга врезал Гонту по печени, но кулак прошёл вскользь, зато от сильного тычка Мэта у помора помутилось в голове. Миллионщик тут же воспользовался секундным преимуществом и саданул от души, прямым в подбородок. Фёдор свалился, слепо выставляя руки, и уже в падении ощутил вспышки боли — Гонт бил его ногами. Перебарывая дурноту, Чуга сделал подсечку, и Мэт приземлился на копчик. Передышка, пусть даже в четыре удара сердца, сделала своё дело — муть, колыхавшаяся под черепом, растаяла, вернулись все запахи и звуки. Миллионщик поднимался с колен.
Подтянув ноги, Фёдор присел на корточки — и резко вскочил, направляя удар и вкладывая в него вес тела. Кулак достиг цели — Гонта, едва успевшего встать, отбросило на стену, аж гул пошёл. Чуга тут же подскочил и, пока Мэт не опамятовался, провёл удар, целясь в голову, но не попал — противник резко пригнулся, огревая помора по рёбрам.
Напор у Гонта явно ослаб — сбил миллионщик «дыхалку». Фёдор извернулся, хватая Мэта за отвороты сюртука, и показал ему «ливерпульский поцелуй» — ударил головой в лицо. Хрюкнув, нелепо взмахнув руками, Гонт ударился о стену и свалился на пол.
— Хватит, Фёдор, — сказала Наталья дрожащим голосом, и Чуга кивнул, отступая.
Гонт поворочался и сел, пуская носом кровавые пузыри. Кое-кто из гостей бросился ему на помощь, и тут уж Дэгонет с Турениным помех не создавали.
Опираясь на руки полковника Листердейла и пожилого, но крепкого ван Олдина, миллионщик поднялся с пола, глядя на помора, словно в прорезь прицела.
— Ты покойник! — сипло проговорил он и двинулся прочь, шатаясь, отмахиваясь от слуг.
Вскорости гулко хлопнула дверь, а немного погодя с улицы донёсся цокот копыт отъезжающего фиакра.
— Думается мне, — мрачно предрёк Костромитинов, посматривая на племянницу, — миссис Гонт тебе не бывать…
— И слава Богу! — всплеснула руками Коломина. — Господи, сколько я всего наслушалась про Гонта, а не верила, оправдывала даже. Дядечка, ты даже не представляешь, какое это облегчение — знать, что тебе не грозит брак с таким человеком! Спасибо Фёдору — избавил!
Чуга криво усмехнулся.
— Каяться не стану, — сказал он, — но, ежели што не так, простите великодушно.
Гости, оживлённо обсуждая «скандал в благородном семействе», потянулись к столу. Вперёд шагнула Марион, под ручку с Роуэллом.
— Вам надо срочно покинуть город! — молвила она с тревогой, переводя взгляд с Фёдора на Павла. — Гонт — страшный человек, он ни перед чем не остановится!
Туренин кивнул.
— Это точно, — сказал он серьёзно. — Если его люди найдут нас, вдвоём не отмахаемся.
— Ты прав, — неохотно признал Чуга. Обратив взгляд на Коломину, он развёл руками: — До свиданья, сударыня Наталья Саввишна! Даст Бог, свидимся.
— Обязательно, — ласково сказала девушка.
Пожав руки Костромитинову и Дэгонету, Фёдор с Павлом откланялись.
Особняк на Пятой авеню помор покидал с тяжёлым чувством. Впервые за долгое время на душе у него теплом повеяло, чувство живое затеплилось — и на тебе! Расставайся, беги… А что делать? Задержаться? Авось минуют его напасти? А толку-то? Что ты Наталье предложить можешь, окромя любви да ласки? Поговорку — что, дескать, с милым и в шалаше рай, дурачки придумали. Чай, не ночевали они в том шалаше, когда дождь стеной! А зимой как? У костра греться? Да что ж это за милёнок такой, если избраннице даже крова предложить не может? Куда такой годится? Вот пущай сам в своём шалаше и живёт! А ему сам Бог велел в богатеи выйти…
— Стало быть, на Запад? — перебил его мысли скучный голос Туренина.
— Угу, — буркнул Чуга.
— Ранчу заводить?
— Угу.
— А меня… этим… бакером возьмёшь?
— Знаешь хоть, где у коровы рога, а где хвост?
— Знаю, — с вымученной жизнерадостностью ответил Павел, — читал! Едем?
— Да куда от тебя денешься, всё равно ж не отвяжешься…
В сгущавшихся сумерках показался силуэт лошади с коляской.
— Извозчик!
Очень скоро «купе Брауна» унесло друзей прочь, и они не успели разглядеть, как из-под тёмной арки подъезда вывернула пролётка, занятая двумя мужчинами в неприметной одежде и одинаковых шляпах-котелках. Не догоняя, но и не отставая, пролётка покатилась за экипажем, увозившим Фёдора и Павла.
Глава 5 ОКОЛЬНЫЙ ПУТЬ
Поздно вечером Чуга с Турениным переправились через Гудзон на пароме и вышли к вокзалу. Поезд до Канзас-Сити[58] как раз разводил пары, потихоньку готовясь к отправлению. Состав был длиннее, чем обычно, — целых восемь вагонов, не считая тормозного, — почтовый, багажный, два грузовых и три пассажирских разной классности.
Друзья купили билеты во втором классе. Больше всего вагон напоминал немного увеличенный дилижанс — тут стояли деревянные сиденья, обтянутые иссиня-чёрным тиком, а стены были отделаны синим плюшем, с узкими зеркалами между окон.
Войдя, Фёдор сразу услышал смех Ларедо — проигравшийся ковбой был уже без седла.
— По пути, значит? — осклабился Шейн.
— Вроде того, — проворчал Чуга, аккуратно укладывая шляпу-стетсон на багажную сетку.
— Всё спустил? — ухмыльнулся Туренин.
— Даже шпоры! — захохотал ковбой.
Мало-помалу пассажиры занимали места. Показалась хрупкая, миловидная женщина в сером дорожном платье. Глаза её подозрительно шарили вокруг, то и дело ширясь от испуга, а руки крепко сжимали сумочку.
Вошёл дородный, сопящий фермер с окладистой бородой, щеголявший в синих домотканых штанах с нашитыми сзади и на внутренних сторонах икр кусками жёлтой оленьей кожи. Из голенища высокого сапога у него торчала роговая рукоять охотничьего ножа, на поясе висела кобура, едва вмещавшая настоящую пушку — здоровенный «милс» 75-го калибра, — а толстые и короткие пальцы постоянно оттягивали новенькие подтяжки и щёлкали ими.
Появился офицер-кавалерист в синей форме и скрипучих сапогах. Он учтиво поклонился испуганной женщине с сумочкой. Последним сел крупный мужчина лет тридцати. Чернявый, с аккуратной бородкой и усами, с лицом загорелым и обветренным, он смахивал на мексиканца, а одежда его — серый костюм из тонкого твида и чёрная плантаторская шляпа — указывала на состоятельность. Голубино-сизый жилет чернявого пересекала массивная золотая цепочка часов, на которой висели брелки — самородок и лосиный зуб, оправленный в золото. Багаж пассажиру соответствовал — это были два мешка, рюкзак и деревянный ящик, обитый железными полосками.
«Деньги везёт, наверное», — подумал Чуга, поудобнее приваливаясь к собственному мешку, и задремал. Свисток паровоза перебил ему сон, но из дрёмы так и не вывел. Поезд тронулся, вагон покатился, перестукивая, и помор заснул ещё крепче.
Проснулся он утром, лёжа на диванчике, вытянув ноги в проход. Солнце ярко светило, дым паровоза за окном летел себе мимо, рассеиваясь в чистом воздухе. Уползали назад перелески да речушки, пшеничные поля да одинокие фермы. Крякнув, Фёдор сел и протёр глаза. Ларедо задумчиво глядел на проплывавшие пейзажи. Павел сидел напротив и улыбался.
— Как спалось? — спросил князь.
— Вашими молитвами, — буркнул Чуга, чувствуя, как ломит во всём теле. Приучила его Олёна к перинам пуховым да к соломенным тюфякам, вот и изнежился…
Шейн, оглядываясь на чернявого, склонился, заговорщицки подмигнув.
— А ящичек-то тяжёленький, — проговорил он. — Деньгу, надо полагать, везёт, и немалую. Может, мы его… того? А?
— Рискни, — зевнул Фёдор, не принимая Ларедо всерьёз. — А меня уволь…
— Ну как хотите, — разочарованно протянул Шейн, откидываясь на спинку.
Между тем паровоз издал гудок, приближаясь к станции, маленькому домику красного цвета. Сразу за путями тянулась пара улочек городишки, приткнувшегося к железной дороге.
Вагоны подтянулись к перрону — платформе футов шестьдесят длиною,[59] грубо сколоченной из досок, — и замерли. Протяжно закричал кондуктор:
— Стоянка двадцать минут!
Чуга нашарил взглядом Шейна и сказал:
— Лопать пойдёшь?
— Не-а… Вы уж сами как-нибудь.
— Что, всё до цента спустил?
— Ну-у… Где-то так.
— Ладно. Мы сбегаем перекусить и тебе чего-нибудь притащим.
— Уговорили! — ответил Ларедо с ухмылкой.
Постоялому двору с парусиновыми перегородками, где по двое спали на одной кровати, название «Гранд-отель» не шло, но кормили тут прилично. Над дверями пристройки, выходившей к перрону, красовалась вывеска «Кухня Беккет», сулившая обед за пятьдесят центов.
Столовая занимала узкую и длинную комнату с белёными глинобитными стенами. Внутри располагались пять или шесть столиков, застеленных несвежими скатёрками в красно-белую клетку, и один длинный стол со скамейками по сторонам.
Дородная повариха живо обслужила проголодавшихся пассажиров.
— На первое — телятина с картофелем, — проговорил Павел, подозрительно принюхиваясь, — на второе — картофель с телятиной. Не «Дельмонико», конечно, но есть можно…
— Лопай пошустрее, — присоветовал ему Чуга.
Толстуха с красным, распаренным лицом, поставила перед ними полный кофейник и тарелку с горячим хлебом, нарезанным ломтями.
— Благодарствуем, — сказал помор, выкладывая доллар.
— Кушайте-кушайте! — басисто проворковала миссис Беккет, смахивая монету в карман на застиранном переднике.
— В следующий раз, — проворчал Фёдор, — платишь ты.
— До следующего раза, — тонко улыбнулся князь, — ещё дожить надо…
Схарчив полную тарелку картофельного пюре с ломтем ветчины и кукурузным початком, Чуга налил себе кофе, до которого не был большой охотник. Но напиток оказался чёрным, как смертный грех, и крепким — такой быстро выгонит сонную муть из головы.
В комнату, брезгливо задирая платье над грязными опилками, покрывавшими пол, вошла молодая женщина — пассажирка из вагона первого класса. Каштановые волосы оттеняли её очень светлую кожу, пронзительные зелёные глаза и яркие губы дополняли портрет.
Усевшись за отдельный столик, женщина заказала кофе. Скользя скучающим взором по лицам пассажиров, она остановила его на Фёдоре. Помор прищурился.
Неожиданное внимание красотки заставило его насторожиться. С чего бы вдруг леди интересоваться простым переселенцем? Либо это выдавало её порочный нрав, либо существовали некие тайные причины для подобного интереса. Переведя взгляд на Туренина, Чуга удивился — князь был напряжён.
— Ты чего?
— Я мог ошибиться, — медленно проговорил Павел, — но, по-моему, я видел Хэта Монагана.
— Ага…
Пассажиры, наскоро перекусив, покидали заведение. Фёдор встал из-за стола, и тут же поднялась красотка. Быстренько промокнув губки платочком, она приблизилась к помору, шурша юбками, и томно сказала, беря его под правую руку:
— Вы не проводите даму?
— Отчего ж? — буркнул Чуга. — Доведу как-нибудь…
— Фёдор! — предостерегающе крикнул Туренин. — Это Пенни Монаган!
В этот самый момент четверо или пятеро парней, с лицами, прикрытыми шейными платками, ввалились в забегаловку с двух сторон сразу — из кухни и через главный вход.
— Ни с места! — гаркнул тот, что шагал впереди — высокий, костлявый, с козлиной бородкой.
— Стреляй, Ньют! — возбуждённо завизжала Пеннивелл, вцепившись в Чугу и не позволяя ему выхватить револьвер из кобуры.
Названный Ньютом промешкал, боясь угодить в женщину, и тогда Фёдор «помог» ему, отшвырнув красотку. Павел выстрелил первым, вытянув руку и целясь как на дуэли. Один из нападавших взмахнул руками, с размаху ударяясь о буфет вишнёвого дерева и сползая на пол. Другой ухватился за локоть — сквозь пальцы проступила сочившаяся кровь.
Чуга саданул Ньюту кулаком под дыхало, а когда тот согнулся, приложил его коленом, расквашивая нос. Сквозь облако порохового дыма Фёдор углядел выпученные глаза и перекошенный рот Хэта — красный шейный платок сполз с лица Монагана.
Неизвестно, чем бы кончилась стычка, но тут уж отобедавшие пассажиры сами открыли огонь. Это были люди Запада.
Женщина в сером платье достала из сумочки двухствольный «дерринджер», офицер-кавалерист выхватил двенадцатизарядный револьвер Уэлча, а фермер, одной рукой суетливо щёлкая подтяжкой, вооружился «милсом» — и тут же стрельнул с оглушительным грохотом. Парочка неподстреленных бандитов, почти невидимых в дыму, бросилась наутёк, отстреливаясь на бегу, отбиваясь от озверелой кухарки, которая охаживала их медной сковородой на длинной ручке. Гаснущий перезвон озвучивал попадания по головам налётчиков.
Выбежав на платформу, Чуга заметил улепётывавших «ганменов»,[60] хотел было пальнуть вдогонку, но передумал — зачем лишний раз брать грех на душу? Но проворно ковылявшего Хэта он догнал-таки, обезоружил и прижал к дощатой стене.
— Говорил я тебе, чтоб не рыпался? — гаркнул Фёдор.
— Говорил… — проскулил Монаган.
— Кто вас нанял?
Глазки у Хэта забегали.
— Ну?!
— Б-большой человек, — сипло выговорил Монаган, — очень большой… Мэтьюрин Гонт.
Чуга рывком отпустил Хэта, и тот чуть не упал, благо стена удержала.
— Дуй отсюда!
Незадачливый стрелок захромал прочь.
— Ушли! — воскликнул подскочивший Туренин. — А Пенни? Вот ведь…
Воспитание не позволило князю закончить характеристику, но Фёдор был попроще.
— Сучка! — договорил он.
— Грубо, — оценил Павел, — но точно.
— Это Гонт их подослал.
Паровозный гудок положил конец прениям сторон. Пассажиры, возбуждённо переговариваясь и обсуждая перестрелку, разбежались по вагонам. Залязгав сцепками, паровоз потянул состав дальше.
Уже плюхнувшись на скамью, Чуга поглядел за окно — на платформе, склонившись над раненым, осталась Пеннивелл Монаган. В это мгновение она казалась подобием скорбящей мадонны, средоточием милосердия, но стоило ей поднять голову, как иллюзии опадали быстрее жёлтых листьев — лицо женщины, обезображенное ненавистью, было уродливо.
— Что там? — нервно спросил Ларедо.
— На десерт подавали горячий свинец, — проговорил Туренин.
Фёдор медленно выдохнул. Сердце уже не частило, билось ровно, хотя Чуга всё ещё напрягался. Правда, уже не бандитской пули ожидаючи, а свистка полицейского. А дождался паровозного гудка…
Минул день, снова настала ночь. Поезд замедлил ход, будто готовясь к паромной переправе в Сент-Луис, что лежал на западном берегу Миссисипи. И тут господин в плантаторской шляпе, теребивший в пальцах лосиный зуб на цепочке часов, неуклюже повернулся к Фёдору с Павлом — те кемарили под стук колёс.
— Джентльмены следуют на Запад? — спросил он, упирая руки в колени.
— Лично я… — зевнул Шейн. — Следую в Техас!
— Вот и мне туда же! — оживился господин. — Чарльз Гуднайт[61] меня зовут. Я тут послушал, посмотрел… К-хм… Вы, так я понимаю, парни честные, работящие…
— Правильно понимаете, — открыл один глаз Чуга.
— Вроде как нездешние…
— Я из России, — сказал Фёдор.
— Я из Англии, — сообщил Павел.
— А я из Теннесси! — осклабился Ларедо.
— И спуску никому не дадите… — гнул своё Гуднайт.
— Не дадим, — мотнул головой Туренин.
— Видал я, как вы тех молодчиков попёрли! К-хм… А если я предложу вам работу, опасную, но денежную, то вы как?..
Фёдор внимательно посмотрел на вдруг разговорившегося пассажира.
— Нам это только давай, — усмехнулся он. — А чего делать-то?
Чарльз хлопнул ладонями по коленям.
— Сопровождать! — внушительно начал он. — И охранять — меня и мой груз. Одному мне несподручно. Короче. Грузимся на пароход до Натчеза, оттуда на дилижансе до Сан-Антонио. Плачу пятьдесят долларов.[62] Каждому! Билеты за мой счёт, патроны — тоже. Ну как вам такой расклад?
Чуга поскрёб щетину на подбородке и пожал плечами. Конечно, сворачивать на пути в Калифорнию не хотелось, да только что прикажете делать по прибытии в Канзас-Сити? Как одолеть тысячи вёрст пути, не имеючи ни коней, ни фургона, ни припасов — ничего? Сент-Луис, Натчез, Сан-Антонио… Хоть и окольным путём, а всё на Запад.
— Я не против, — сказал помор, покосившись на князя. — Ты как?
— Я — за! — выразил своё мнение тот.
— Ребята, — тревожно завертел головой Ларедо, — а я тоже в доле?
Фёдор улыбнулся насмешливо.
— Револьвер видал когда?
— С тридцати ярдов[63] индюшке голову сшибаю! — воскликнул ковбой негодующе.
— Ладно, согласные мы, мистер Гуднайт.
— Отлично! — крякнул ранчеро. — Тогда в Сент-Луисе у нас конечная остановка — и пересадка!
Сент-Луис казался именно тем, чем и был — перекрёстком. Сто пятьдесят тыщ народу скопилось тут — одни готовились податься дальше на Запад, другие раскачивались, не зная, на что решиться, а третьи просто жили, получая свой гешефт с переселенцев.
Не так уж давно Сент-Луис стоял на границе освоенных территорий. Всего в десятке миль за чертой города пролегали Великие равнины — бесконечная прерия, где паслись стада бизонов и рыскали отряды воинственных сиу. Плавными волнистыми изгибами уходила прерия на Запад, с весны её пологие холмы были зелены, к осени они бурели. Редко где дикий простор очерчивался квадратами полей кукурузы, а в Канзасе даже лёгкая холмистость сходила на нет — равнина разглаживалась в обманчивую плоскость, где-нигде изрезанную неприметными низинками и оврагами, увидеть которые можно было, лишь подъехав вплотную.
Из Сент-Луиса на Запад пролегли караванные тропы, уводящие в Санта-Фе, в Калифорнию обетованную, в Солт-Лейк-Сити. А на юг катила свои воды Миссисипи, донося пароходы до самого Нового Орлеана.
— Раз уж мы записались в верные паладины, — сказал Павел со скользящей улыбкой, — надо бы и вооружиться соответственно. Револьверы — хорошо, а винтовки лучше!
— Дело говоришь, — кивнул Фёдор.
Оставив за себя Ларедо Шейна, у которого всё равно было пусто в карманах, помор и князь направили стопы в город.
Первые дома Сент-Луиса выстроили французские торговцы мехами ещё в ту пору, когда огромная Луизиана[64] принадлежала королю Людовику. Тогда тут стояли индейские деревни, вроде Кахокиа, а множество курганов сохранилось до сих пор — они дыбили землю на окраинах, то поднимая развалюхи переселенцев на верхушки, то опуская в междурядья.
Каменных зданий в Сент-Луисе числилось немного, их занимали отели вроде «Сазерна» или «Плантатора». В основном кривые улочки застраивались каркасными домами, обшитыми досками, как правило некрашеными, и на каждом углу стояли бочки с водой на случай пожара.
Кабаки, которые здесь назывались салунами, и платные конюшни попадались на каждом шагу. Создавалось такое впечатление, будто весь город был населён всадниками, которые спешились, чтобы пропустить стаканчик виски. Фальшфасады магазинов, изображавшие несуществующие вторые этажи, были раскрашены и расписаны зазывалами попросту и бесхитростно: «Пейте бурбон[65] из Кентукки „Джим Бим“ по три доллара за галлон!» Или так: «Готовит мамаша О’Флахерти. Обед — два четвертака».[66]
На перекрёстке Туренин неожиданно встрепенулся, вроде как знакомого приметил.
— Ты чего? — нахмурился Фёдор.
— Да так, померещилось… Сюда, может? — кивнул Павел на магазин «Эмпориум», перед которым была разбита клумба и вкопаны колёса от фургона.
— Можно и сюда, — согласился помор.
Посерёдке магазина располагался старомодный прилавок с выемкой впереди для дам в пышных платьях. На прилавок кучей были навалены джинсы, сбоку стояли бочки с мукой, на полках лежали консервы, на полу — бочонок с печеньем, по стенам были развешаны шляпы, сапоги, уздечки, шпоры, жилетки, а позади прилавка поблескивали винтовки. Пахло — густо и остро — свежевыделанной кожей, поджаренным кофе и сушеными яблоками.
— Чего изволите? — мигом прогнулся лысенький продавец с умильной физиономией проныры.
Не отвечая, Фёдор со знанием дела перебирал винтовки.
— «Винчестеры» имеются? — осведомился он.
— Кончились! — развёл руками торгаш. — Но я бы предложил вам винтовку «генри» того же оружейника. Просто Оливер Винчестер выкупил у Бена Генри его предприятие, понимаете? А винтовка — та же самая! Вот, гляньте, перезаряжается этим вот рычагом, он так и называется — «скоба Генри». В магазине пятнадцать патронов и один в стволе, 44-й калибр. Отдам за сорок три доллара.
Чуга забрал у него «генри», взвесил. А руки-то не оттягивает, в меру тяжёленькая… Хорошее ружьецо…
— А патроны? — спросил он.
— По доллару за сотню.
— Беру, — сказал Фёдор, косясь на князя.
Тот любовно оглаживал приклад семизарядного «спенсера» 56-го калибра.
— Рекомендую! — набросился на него владелец магазина. — От-тличная «железка»! Всю войну с ним прошёл, а после с индейцами воевал, на бизонов охотился… Убойная вещь! Свинцовая пуля у «генри» весит двести шестнадцать гранов, а у «спенсера» — все триста шестьдесят![67] Оставляет по себе такую дыру, что никакому хирургу не заштопать. Всадника сносит с лошади! Пуля 44-го калибра пробивает сосновый брус семи-девяти дюймов толщины, а «спенсер» прошьёт салун… вон тот хотя бы, что напротив, от стены до стены!
Туренин издал душераздирающий вздох.
— Могу предложить запасные обоймы для «спенсера», — вкрадчиво сказал продавец, доставая из-под прилавка какую-то трубку. — Перезарядите одним махом![68]
Князь подумал-подумал, запустил руку в потайной кармашек и вынул-таки заветные соверены, сложил стопочкой на прилавке.
— Этого должно хватить, — мрачно сказал он.
Продавец с поклоном передал ему и «спенсер», и трубку, и патронную сумку «Блэксли» — деревянный ящичек, обтянутый кожей, куда можно было сунуть хоть десяток запасных обойм.
Выйдя на улицу, Туренин не сдержался.
— До чего же ужасно быть нищим! — процедил он.
Чуга усмехнулся, закидывая «генри» на плечо дулом вниз, и подбросил на ладони последнюю золотую монету в пять долларов.
— Ужас не в том, что люди впадают в нищету, — сказал помор, — а в том, что они не желают из неё выбираться.
— А если я не могу, допустим? — с вызовом спросил князь.
— А ты через «не могу»! Айда в салун…
Выбирая заведение поприличней, они завернули в ресторацию «Бон-тон». За распахнутыми дверями висели ещё одни — качавшиеся створки, названные из-за подобия «крыльями летучей мыши». Толкнув их, Фёдор переступил порог салуна и огляделся. Трактир как трактир… Справа стойка барная тянулась, за нею — полки, бутылками заставленные. Слева — столики. Пол опилками присыпан — ежели вымести их вместе с плевками да накапавшей кровью, вроде как чистота образуется…
Народу в салуне хватало — заезжих ковбоев, речников, переселенцев, фермеров, неясных личностей уголовной наружности.
— Моя очередь! — объявил Туренин и заказал мяса с бобами.
Устроились друзья к окошку поближе, чтобы и жизнь городскую наблюдать, и за тем, что в салуне деется, присматривать.
Оставив ружьё у стены, Фёдор с довольным стенанием развалился на скрипучем стуле. Лепота!
Вертлявая официанточка выставила на их столик блюдо с пахучим жарким и графинчик с виски.
— Ирландское, — сказал князь со знанием дела. — Понюхай! Пахнет торфяными болотами.
— Ряской тянет, — поморщился Чуга. — Ну, поехали!
Чокнувшись, они опрокинули по стопочке «огненной воды». Хорошо пошло!
Благодушествуя, Фёдор откинулся на спинку стула. Пил он редко, по большим праздникам, но сегодня больно уж сильное желание возымел «обмыть» покупки.
Подняв глаза, Чуга заметил мужичка в сером плащике и в котелке того же цвета, суетливо спускавшегося по лестнице, ведущей в номера. За ним ступал худощавый парень в непременной ковбойской шляпе, в затасканных джинсах и чёрной жилетке поверх рубашки в клеточку. Лицо у молодчика было узким, острым, как топор, а губы до того тонкими, что они больше подразумевались, чем наличествовали. На тощих чреслах непонятным образом болтался оружейный пояс — из кобуры, подвешенной слева, выглядывал револьвер, рукояткой вперёд. Ещё один торчал у худого за поясом.
Серый сразу вышмышгнул за дверь, а остролицый направился к столику Туренина и Чуги. Шагал он спокойно и уверенно, безо всякой опаски. Безгубый рот кривила нагловатая ухмылочка.
Напоровшись на холодный взгляд Фёдора, молодчик глумливо усмехнулся. Не сводя глаз с Чуги, он проговорил, растягивая слова на южный манер:
— Чегой-то я тебя тут раньше не видал.
Помор молча подобрал с тарелки последний аппетитный кусочек и сунул его в рот. Крылья хрящеватого носа у худого дрогнули.
— Я тебя спрашиваю! — повысил он голос.
Фёдор равнодушно глянул на него, прекрасно понимая, как того бесит его деланое безразличие. Князь с интересом следил за развитием событий.
— Тебе чего, мужик? — осведомился Чуга.
— Я хочу, чтобы ты валил отсюда!
— А мне наплевать, — медленно проговорил Фёдор, — чего ты хочешь.
— Вам, молодой человек, морду давно били? — весело поинтересовался Туренин. — Хотите освежить впечатления? Так это мы мигом!
Тонкие губы молодчика растянулись в подобии улыбки, открывая щербатые зубы.
— Вы? — фыркнул он. — Мне?! — и гордо представился: — Я — Добан Мейси!
— Нет, ну ты посмотри! — делано восхитился князь. — Сам признался!
— Ни стыда ни совести у человека, — вздохнул Фёдор, неодобрительно качая головой.
— Ага! Так и сказал — я, говорит, тот самый Добан. И не покраснел даже!
Заметно было, что Мейси чуток растерялся. И ещё Чуга углядел, как занервничали посетители, — одни поспешно уходили вон, другие жались к стенам. Видать, знали, чем обычно заканчиваются подобные перепалки. Решив подстраховаться, Фёдор отстегнул ремешок, привязывавший револьвер через скобу, чтобы тот не вывалился ненароком, положил пальцы на рукоятку…
И когда правая рука Добана метнулась к кобуре, пуля, выпущенная из «смит-вессона», расщепила столешницу и впилась Мейси в грудь.
Добана, уже выхватившего облупленный «кольт», отбросило спиною на крашеный столб, поддерживавший потолок. Скалясь от натуги, Мейси вскинул оружие. Грянули выстрелы, но пули уходили в опилки. Всхлипывая от ужаса, Добан сполз по столбу на пол и выстелился, разбросав руки.
В ту же секунду Туренин выскочил из-за стола, направляя свой «адамс» в сторону лестницы. Грохнуло, заволокло дымом, но мужичок с «винчестером», пробегавший мимо дверей номеров на втором этаже, лишь голову в плечи втянул и выстрелил в ответ, три раза подряд, да всё мимо. Зато Чуга промаху не дал — мужичок дёрнулся, роняя винтовку, и кувыркнулся вниз, проламывая хлипкую балюстраду.
Отбросив стул, Фёдор отступил к стене, левой рукою подхватывая «генри». Сунув револьвер в кобуру, он вооружился винтовкой.
Очень скоро она ему понадобилась — в салун ворвались двое с «кольтами» в мускулистых руках. Один, лохматый, чью пышную шевелюру едва покрывал мятый «стетсон», а рубашка, расстёгнутая до пупа, обнажала курчавую растительность на груди, присел и выстрелил прямо с порога, выцеливая Туренина. Другой, длинный как жердь, с круглой, обритой наголо головой, решил извести Чугу, обеими руками вскидывая потёртый «кольт». Пуля прозудела так близко от щеки, что помор ощутил лёгкий ожог.
Вся эта карусель длилась первую секунду, а во вторую заговорил «генри». Круглоголового развернуло и отбросило к дверям, прямо на руки новым посетителям — те сразу шарахнулись в стороны.
Тут лохматый сообразил, что эдак можно и под раздачу попасть, — взяв короткий разбег, закрыв голову руками, он выпрыгнул в окно, высаживая раму спиной. Правда, это его не спасло — громыхнул «спенсер», и тяжёлая пуля, просадив стену салуна, достала-таки нестриженого.
— Уходим! — коротко сказал Чуга.
— Уходим, — согласился Павел.
Судов у пристани в Сент-Луисе было так много, что они причаливали носами, теснясь борт к борту, а в порту царила полнейшая неразбериха, точь-в-точь разворошенный муравейник. Пассажиры с детьми и со скарбом мешались с телегами и лошадьми. Негры-грузчики, ревевшие свою песню «Последний куль! Последний куль!», закатывали по сходням бочки, затаскивали, сгибаясь, тюки и ящики, а матросы орали, надсаживаясь, изнемогая, ибо разместить прорву грузов и орду пассажиров казалось делом нереальным.
— Думается мне, друг мой, — громко сказал Туренин, — что этот Мейси не зря по наши души явился.
Фёдор мрачно кивнул.
— Мыслю я, — проговорил он, — что и тут Гонт замешан. Его это проделки. Хотя… Когда бы он поспел?
— А телеграф на что?
— Ну да… Потопали, князь. Вон, нам уже руками машут…
Чарльз Гуднайт поднялся на борт парохода «Великий Могол». Фёдор, Павел и Ларедо Шейн топали следом, облапив багаж да поглядывая по сторонам.
— Объявляется посадка на «Великий Могол»! — трубно взревел капитан в рупор. — Всем грузиться на «Великий Могол»!
У нарядной конторки кассира Гуднайт купил билеты,[69] и все гурьбой прошли к каютам.
— Стильно тут у них, — прокряхтел князь.
— А то! — гордо отозвался Шейн, словно был хозяином парохода.
«Великий Могол» и вправду выглядел под стать названию. Над судном воздымались две высокие трубы, чёрные и вычурные, а между ними висела золочёная эмблема. Прямо за трубами блестела стёклами лоцманская рубка. Кожухи над колёсами были расписаны довольно аляповато, зато ярко, а над буквами, выведенными полукругом и складывающимися в наименование «ВЕЛИКИЙ МОГОЛ», расходились чётко прорисованные солнечные лучи. Все три палубы были окаймлены белыми поручнями, а из труб нарочно валил чернущий дым — в топку подкинули смолистых сосновых поленьев, чтобы каждому стало ясно — пароход отправляется!
Повсюду были расстелены ковровые дорожки, наверху позванивали люстры с гранёными стеклянными подвесками, мимо дверей с картинками сновал негр-буфетчик в чистом переднике.
— Оливер, мой друг и напарник, — говорил Гуднайт, широко шагая по коридору и раскланиваясь со встречными дамами, — нынче в Биг-Бенде обретается. Самая глушь во всём Техасе! Оливер должен пригнать из Мексики большой табун — каждый ковбой на перегоне меняет за день по три-четыре лошади, вот и представьте… Я так прикинул, что в Сан-Антонио мы с ним пересечёмся. Сразу долги все раздадим, и ещё останется, на что скот покупать… Ну располагайтесь!
Чарльз устроился в крошечной каютке с намалёванным у входа индейцем — ярко-красным, в перьях, смахивавшим на петуха, — а наша троица поселилась через стенку. На двери их тесного обиталища был изображён абсолютно счастливый негр с огромной корзиной, полной хлопка.
— Вы как хоти-ите, — раззевался Шейн, — а я баиньки!
Повесив шляпу на крючок и разувшись, ковбой с кряхтеньем забрался на верхнюю койку. Фёдор с подозрением принюхался, но нет, грязными носками не воняло.
— Я тоже прилягу, пожалуй, — пробормотал Павел. — В поезде было чертовски неудобно…
— Хе-хе! — тут же откликнулся Ларедо. — Это тебе не ложе с балдахином!
— Пристрелить его, что ли? — задумчиво сказал Туренин.
— Нельзя! Я безоружный!
— Отбой! — скомандовал Чуга. — А ежели кто из вас храпеть начнёт, будет на палубе почивать!
— Вопрос не ко мне, — надменно сказал Павел Андреевич.
Уставшая троица затихла. Из иллюминатора доносился смутный говор да частое шлёпанье плиц гребного колеса. Первым захрапел его сиятельство князь Туренин.
Полдня друзья продрыхли, а к вечеру поднялись, чувствуя, что малость переспали.
«Великий Могол» плавно сплавлялся по реке, следуя ближе к правому берегу, густо, до самой воды заросшему тополями, вязами, ивняком и бузиной. Иногда на косогоре мелькал всадник, изредка показывались неказистые строения, сколоченные из досок, — то ли ферма чья, то ли лесопилка — не понять.
Река была чем-то отличным от той безразмерной хляби, коя именовалась Атлантическим океаном. Мелкая, пресная Миссисипи в сравнении с той прорвой вод казалась ничтожной, как соломинка рядом со стогом, зато и успокаивала не в пример лучше. Разлившись широко и привольно, река являла некий третий простор. Вроде и не подходит к нему понятие бесконечности, видимые берега положили край, а всё ж душа отдыхала. Человек, он же не великан какой, большого размаха не требует. Глянет, что до ближнего берега добрая верста, и ему довольно…
Когда стало темнеть, пароход пристал к берегу — плыть ночью было опасно. На Миссисипи хватало островков, намытых течением. Им редко давали имена, чаще всего присваивали номера. Ещё опаснее были стволы-топляки. Эти и днём различались с трудом, а уж ночью-то и подавно.
Рано-рано утром, когда над левым берегом занималась заря, капитан ударил в большой колокол, и пароход величаво двинулся дальше.
Стычка с Добаном кое-чему научила Фёдора, вернее, подала ему мысль овладевать револьвером вплоть до сущего совершенства. Ведь Мейси он грохнул потому лишь, что оказался быстрее. Да что там! Повезло просто. Выхватывать «пушку» он научился, это верно, а вот палить, как здешние ганфайтеры, стрелки Божьей милостью…
Над этим стоило серьёзно поработать. Ни дня без выстрела! Никогда не разовьёшь талант пианиста, если не будешь упорно разучивать гаммы. С револьвером такая же закавыка, что и с роялем, — набивать надо руку, а лучше — обе.
И Чуга положил себе за правило ежевечерне, как только пароход отшвартовывался на ночь, уходить подальше, дабы не пугать нервных пассажирок, и упражняться в стрельбе. Час, другой…
Темнело — Фёдор раскладывал костерок, ма-аленький, лишь бы мишень видно было, и стрелял, стрелял, стрелял…
Туренин, порою сопровождая товарища «на занятия», ворчал, что уж больно много патронов переводится, но быстро смолкал, ибо как научиться стрельбе, не расходуя боеприпас?
Ночью рука у Фёдора побаливала, зато делалась всё ловчее, движения приобретали отточенность. Чуга потихоньку одолевал непростую дорожку к славе ганфайтера…
Через неделю судно отшвартовалось в Мемфисе, штат Теннесси. Некогда деревня племени чикасо, город стал главным невольничьим рынком под властью бледнолицых. Тут «Великого Могола» поджидала огромная баржа, гружённая дровами. Казалось невероятным перебросать все чурки, да ещё и место найти, где их все уложить, но ничего, команда справилась.
Чуга, Туренин и Шейн нашли себе укромное местечко на корме, как раз за аккуратным штабелем дров, и резались в карты.
Князь отчаянно мухлевал, но Фортуна оказалась немилостива к нему.
— Ну правильно! — возмущался Павел. — Если ни одного козыря!
— Привет, — удивился Фёдор, — а дама?
— Ну одна дама…
— А валет козырный?
— Ну один валет…
Тут князь перестал бурчать — его глаза сощурились, что-то высматривая за спиной у Чуги.
— Глянь-ка, — сказал он негромко. — Во-он тот типчик в сером котелке…
Помор обернулся, примечая суетливого господинчика в потёртом сюртучке и полосатых брючках.
— Где-то я его уже видел… — протянул Чуга и хмыкнул: — Где, главное! В Сент-Луисе и видел, в салуне! Он тогда спускался, а за ним топал Мейси.
— Да? А я его на улице приметил. Этот «серый» всюду за нами ходил…
Ларедо посмотрел на Туренина, перевёл взгляд на Чугу.
— Я что-то пропустил? — сказал он неуверенно.
— Пустяки, дело житейское! — ухмыльнулся князь. — Тео набил морду Мэтьюрину Гонту, и тот сильно обиделся.
— Самому Гонту?! Ну ничего себе…
— А эта «серая мышка», — кивнул Павел на типчика в котелке, — не иначе как «пинк».
— Кто? — не понял Чуга.
— «Пинк»! Агент Пинкертона.[70] Надо полагать, Гонт нанял «пинков» и пустил их по нашему следу!
— А мы сейчас проверим. Павел, подмогнёшь?
— Легко!
Фёдор поднялся и прогулялся по палубе, держа курс на господинчика в сером. Господинчик любовался видами на реку.
Чуга подошёл к нему с одного боку, Туренин с другого и взяли «пинка» под локотки.
— Что? — дёрнулся он. — Что такое?
— Разговор есть, — сказал Фёдор и воскликнул: — Ну конечно! А то ты, я смотрю, набрался изрядно, ноги не держат!
— Другу, да не помочь? — подхватил князь.
Пассажиры не обратили внимания на подвыпившую троицу — на пароходе многие лечились виски от скуки долгого пути.
Заведя агента на корму, Чуга нежно прислонил его к штабелю дров.
— Отпустите немедленно! — просипел тип в котелке. — В чём дело?
— Ты кто такой, засранец? — спросил его Чуга с проникновенностью.
— Я — Финиан Роуз, коммивояжёр! Что вам от меня надо? Денег у меня нет, предупреждаю сразу!
— Если ты действительно Роуз, — подступил князь, — то за каким дьяволом следишь за нами?
— Да вы что? — вытаращился Финиан так натурально, что Фёдор даже засомневался, а того ли они в оборот взяли.
— Вопросы тут задаём мы, — жёстко сказал Туренин. — Давно ты в агентстве Пинкертона? Кто тебя послал за нами — начальство или сам Гонт? Отвечай!
— Джентльмены что-то путают… — заскулил Роуз, но тут Чуга убедился в правоте своих подозрений: выглядел Финиан перетрусившим малым, но глаза смотрели спокойно, с иронией даже.
Фёдор основательно встряхнул «пинка», да так, что у того зубы клацнули, и проговорил — медленно, ровно, очень прохладным голосом:
— Ты заплатил Добану Мейси, чтобы тот порешил нас…
— …А джентльмены такого не спускают, — сказал Туренин, тыча дулом револьвера Финиану в бок.
Тут-то Роуз и «сдулся».
— Нет! — хрипло выдавил он. — Не надо! Я всё скажу! Да, я работаю на Пинкертона. Мы с Диком «вели» вас от самой Пятой авеню, но мы… Мой бог! Что нам приказали, то мы и делали!
— Кто приказал?
— Гонт! Мэтьюрин Гонт! Он заплатил большие деньги, чтобы мы вас нашли. Сперва мы получили от него указание за девкой его приглядывать, а потом — за вами.
Чуга отпустил «пинка», и тот чуть не упал.
— Живи, — сказал Туренин, пряча «адамс».
— Плыви, — добавил Фёдор. Роуз дёрнулся было уходить, но помор покачал головой: — Не туда. За борт — и плыви. Берег рядом, водичка тёплая. Мемфис недалеко… Или помочь?
— Нет-нет! Я сам!
«Пинк» торопливо перелез через леера, перекрестился и ушёл «солдатиком» в воду, придерживая свой котелок. Прошло немного времени, и Чуга разглядел маленькую чёрную фигурку, вылезавшую на берег.
— Вот тебе и весь сказ… — пробормотал он.
Глава 6 ЮГ
Миссисипи — величавая, плавная — катила свои воды, переливаясь на солнце. Мути в «Большой реке»[71] было столько, что наносные острова, кое-где покрытые деревьями, постоянно меняли свою «географию» — смещались, становились полуостровами, сращиваясь с берегом, размывались — и превращались в отмели. На одну такую едва не занесло «Великого Могола».
Река сверкала, распахиваясь во все стороны, веяло простором. Вялые, разморенные пассажиры лениво прогуливались по верхней палубе, когда вдруг вахтенный заорал в жестяной рупор:
— Лот на правый борт! Лот на левый борт!
Матросы, зовомые лотовыми, шустро кинулись на бак и перевесились через борта.
— Две сажени! — завопил левый. — Две-е! Две с половиной!
— Три-и! — вторил ему правый. — Три без четверти! Две с половиной!
— Две-е! Без четверти!
— Стоп правая! — загремело из рубки. — Стоп левая! Обе назад!
Монотонное, бодрое шлёпанье колёс сменило звучание.
— Стопори левую! Дай левой вперёд! Теперь стопори правую!
Пароход легонько сотрясся, вызвав ойканье пассажирок и взрыв лоцманского негодования. Однако пронесло — чиркнув по мели, «Великий Могол» почапал дальше.
Схватившись во время толчка за поручень, Фёдор отпустил его и поправил шляпу, подумав мельком, что прав был Павел — удобная штука «стетсон». Солнце печёт, а ему хоть бы хны.
Сощурившись, он оглядел берега. Восточный был далёк, а правый, низменный, стелился вдаль зелёными разливами травы. Суша поражала пустынностью, лишь однажды справа по борту показался одинокий заблудший бизон — громадный буйвол, косматый и горбатый, двигался грузной трусцой, мотая рогатой башкой, словно подметая густую травку.
Зато на воде было оживлённо. Издавая приветственные гудки, мимо проплыли пароходы «Эклипс» и «Фаворит». Постоянно попадались угольные баржи и бревенчатые плоты. Как раз один такой сплавлялся поодаль — обширнейший, заставленный штабелями жёлтых пахучих досок и вязками гонта.[72] На мокрой «палубе» плота стояли вразбивку четыре шалаша, у костра, разведённого на глине, дежурил повар, мешая варево в котле. Человек двадцать плотогонов ворочали вёслами на «корме» и в «носу» своего плоского корабля, заворачивая его по течению.
— Любуешься? — спросил Чугу подошедший Гуднайт, сменивший парадный костюм на привычные «ливайсы» и синюю фланелевую рубаху.
— Отдыхаю, — усмехнулся Фёдор и пояснил одним словом: — Покой.
Ранчеро кивнул понимающе. Достав расшитый кисет, он осведомился:
— Куришь?
— Смолю иногда.
Чарльз сыпанул ему табачку на ладонь и аккуратно оторвал четвертушку жёлтой сигаретной бумаги. Сварганив самокрутку, он чиркнул спичкой по джинсам и закурил. Поднёс огоньку Чуге.
Помор втянул сладковатый дымок и крякнул:
— Крепко! И вкусно.
Гуднайт облокотился на перила и стал смотреть на реку, на волны, на пену, взбитую гребными колёсами, — бездумно и рассеянно. Он тоже отдыхал.
— Это, конечно, не моё дело, — проговорил Фёдор, — а только зачем было ехать за деньгами аж в Нью-Йорк?
Чарльз вздохнул.
— Пришлось, — сказал он неохотно. — Хотел было взять ссуду в Денвере, да уж больно у них процент высок… А в Нью-Йорке у меня знакомец имеется. Фирма «Брэдок и сыновья». Дал взаймы пятнадцать тысяч…
— Большие деньги, — спокойно заметил Чуга. — Ну и как, выгодно это — скот разводить?
Гуднайт хмыкнул.
— Выгодно, — сказал он. — Если вставать затемно и ложиться в темноте. Порою по двадцать часов с седла не слазишь! Бывает, так наломаешься, что кружку в руках не удержишь, больше расплескаешь, чем выпьешь…
— Без труда не выловишь и рыбку из пруда, — Фёдор кое-как перевёл на «инглиш» русскую поговорку.
— О’кей, парень! — расхохотался ранчеро. — Весь фокус в том, что Техас переполнен коровами. Упитанного бычка-двухлетку легко купить всего за четыре доллара. А на Востоке за него дадут все сорок! А сколько одичавшего, брошенного скота гуляет по всему Югу, ты б только видел… И ежели ты упёртый да сноровистый, то соберёшь этих коровок, выдерешь их из зарослей, сгуртуешь и перегонишь на север, в Нью-Мексико или в Канзас. Друган мой, Оливер, аж до самого Иллинойса стадо доводил! В этом году мои ребятки отловили пять сотен ничейного скота. Вот куплю ещё столько же или чуток побольше и погоню в Форт-Самнер… — Вобрав полные лёгкие свежего речного воздуху, он сказал: — Эта земля, Теодор, создана для сильных мужчин и стойких женщин. Она щедро отблагодарит тебя, если ты вдоволь наглотаешься пыли, нажаришься на солнце, удобришь её своим потом.
— Рогом упираться — это нам не в диковинку, — сказал Чуга. — Лишь бы толк был.
— Будет! — уверенно заявил Гуднайт.
Ровно в полдень из труб парохода повалил копотный, чернущий дым — «Великий Могол» давал о себе знать жителям Натчеза. Городишко сей был не бог весть что, но глазу приятен. Стоял Натчез на левом берегу Миссисипи, холмистом, заросшем густым лесом. Когда-то здесь торговали невольниками, а плантаторы закатывали балы. Нынче вольготная прежняя жизнь ушла совершенно, оставшись в легендах о «джентльменах с Юга» да в брошенных особняках с колоннами. Зато картёжников-шулеров расплодилось — страсть! Эти ловкачи, лощёные и обходительные, оседали здесь на время, чтобы снова и снова подниматься на борт пароходов, курсировавших по Миссисипи, да обчищать скучающих пассажиров. Набьют карманы долларами — и в Новый Орлеан, просаживать неправедно добытое.
Впрочем, в Натчезе Гуднайт задерживаться не собирался. Наняв лодочника — старого седого негра-ранчеро, в сопровождении «свиты», переправился на западный берег Миссисипи, плоский и пустынный, где у самого берега скопились лачуги рыбаков-креолов, образуя местечко Видалиа.
Разумеется, здесь имелся свой салун под громким названием «Эмпайр-хаус», а за высоким амбаром пряталась станция дилижансов. Это было каменное строение футов тридцати в длину и пятнадцати шириною. Один конец помещения был отделён тряпичной занавеской, стыдливо прикрывавшей две койки со стёгаными одеялами. С деревянных крючков на стенах свисали патронташи, старая, чиненая сбруя, пустая фляга, тяжёлая куртка из бизоньей шкуры. Стол был сбит из необструганных досок на козлах, а взамен табуретов использовались ящики из-под свечей.
Зато дилижанс был ярок, как картинка с лубка, — красный с золотом «конкорд».[73] Кучер уже занял облучок, лениво наблюдая за конюхами, споро и умело запрягавшими шестёрку каурых, нетерпеливо фыркавших в ожидании бега. Смотритель станции тоже без дела не сидел — вместе с кондуктором таскал тюки с почтой. Груда посылок была увязана на империале,[74] жёсткими кожаными сумками с письмами доверху забили оба багажника, так что тюки укладывали прямо в салоне, благо желающих отправиться в Сан-Антонио нашлось всего трое — строгого вида дама в унылом дорожном платье, молоденький лейтенантик в новенькой форме выпускника Уэст-Пойнта,[75] направлявшийся к месту службы, и пожилой священник во всём чёрном, высохший, как мумия.
— Мистер Гуднайт! — радостно воскликнул кучер, живо привставая с козел. — И вы с нами?
— Да куда ж без меня? — весело ответил ранчеро.
Румяный, полнолицый кондуктор с бакенбардами-котлетками пожал Чарльзу руку.
— До конечной? — поинтересовался он.
Гуднайт кивнул.
— До конечной, Бад, — сказал он. — Оливер ждёт меня в Сан-Антонио.
Кондуктор проговорил приглушённым голосом:
— Сказать по чести, я рад, что поедем вместе, — банда Бершилла объявилась.
— Опять? — нахмурился ранчеро.
— Опять, — Бад виновато развёл руками, словно это по его недосмотру бандиты расшалились. — Напали на дилижанс у Бразоса, прямо на переправе. Убили кондуктора и кого-то из пассажиров, ящик с деньгами прихватили с собой… Последний раз их видели у Колорадо.[76]
— А рейнджеры? — резко спросил Чарльз.
Кондуктор замялся.
— Рейфен Хоуви погнался за ребятами Бершилла, даже подстрелил одного, но… Повернул назад. И вроде как доложил начальству, что Прайд Бершилл, как и он сам, — южанин и бился на стороне конфедератов. И вся его шайка такая — дескать, своих они не трогают, потрошат только «мешочников» с Севера…
— Нет, ну ты посмотри на него! — сказал Гуднайт, озлясь. — Гнать таких надо! Закон, он для всех! Или Рейф забыл, что война кончилась?
— Ну он-то сдал свою «звезду»…
Чарльз хмуро кивнул.
— Наверх я посажу стрелка, — сказал он отрывисто. — О’кей?
— Сдам своё место с радостью! — осклабился Бад.
— Можно я первый? — вежливо попросил Туренин.
— Валяй, — улыбнулся ранчеро.
Князь подмигнул Чуге и полез на место кондуктора — оно располагалось на козлах. Пожав руку вознице, Павел положил на колени свой «спенсер» и любовно огладил приклад и цевьё.
— Едем! — решительно сказал кондуктор, и кучер тут же задудел в почтовый рожок.
Фёдор, досадуя, что не ему сидеть на воздухе, полез в салон. Уложив мешок с ружьём, он аккуратно сунул шляпу в кожаные петли на стенке и уселся на заднем сиденье, с краю. Рядом устроились Ларедо Шейн и строгая дама, а священник, офицер и Гуднайт сели напротив.
Кучер лихо гикнул, свистнул, щёлкнул бичом, кони заржали — и покатил дилижанс, мягко покачиваясь на рессорах.
Раздвинув сборчатые шторки, Чуга стал смотреть за окно. Видалиа уползла назад, скрываясь за облаком пыли, пропала из виду серебрившаяся Миссисипи. Одна голая равнина стелилась по обе стороны от набитого тракта. Но вскоре стало веселее — отдельные кипарисы, дубы и вязы начали сплачиваться в рощи, и вот уже светлый лес обступил дорогу. Громадные деревья почти смыкали ветви над проездом, образуя высокий, полупрозрачный свод, наполненный приятным зеленистым светом. Пятнашки тени замельтешили, чередуясь с солнечными зайчиками, прыгая по необъятным морщинистым стволам, по дороге, по кузову дилижанса. Конский топот и скрип подвески нагоняли сон своею монотонностью, а мягкое покачивание убаюкивало. Фёдор поневоле задремал, сжимая винтовку между колен, и вздрогнул, услыхав соседку.
— Простите мне моё любопытство, мистер Гуднайт, — сказала она деревянным голосом, — но я много слышала о вас. Меня зовут мисс Шорт, Кларабел Шорт, и мы со святым отцом направляемся в Сан-Антонио, дабы проповедовать индейцам Слово Божье…
Высохший священник важно кивнул.
— Наша задача, — уверенней продолжала мисс Шорт, — вырвать сих заблудших сынов из объятий дикости, вселить в них кротость и смирение перед Господом…
Ларедо Шейн не выдержал, расхохотался. Кларабел глянула на него с негодованием и смолкла, поджав губы.
— Извиняюсь… — выдавил ковбой, задавливая смех. — Я просто представил себе кротких апачей и смиренных кайова… — Он весело закудахтал.
Гуднайт улыбнулся и мягко сказал:
— Вы уж простите его, мисс Шорт, за несдержанность, но, по сути, парень прав. Кроткий апач — это… это что-то вроде тигра, который питается травкой.
— Да, индейцы жестоки, — заспорила женщина, — но их врождённое благородство…
— Да какое, к дьяволу, благородство? — рявкнул Ларедо на испуганно отпрянувшую Кларабел. — Одни дураки накалякали книжек «про индейцев», а другие им поверили! Вы хоть раз видели живого апача? Нет, не ту пьянь, что ошивается на окраинах наших городов, а краснокожего воина?
— А что, есть разница? — с неудовольствием сказал священник.
— Большая! Вы бы сильно удивились перед смертью!
Жестом успокоив Шейна, Чарльз серьёзно проговорил обычным для него назидательным тоном:
— Люди, живущие на Востоке, представляют индейцев как подобных себе. Это ошибка. Индейцы другие, совершенно другие. Милосердие для них — пустой звук. Охотой, войной и конокрадством добывают индейцы богатство и положение в племени. Да, в их селениях нет замков — индейцы не воруют друг у друга. Да, половину добычи они отдают старикам и вдовам — своим! Но лишь себя они называют «людьми», все же остальные для них — не люди. Мы полагаем убийство грехом, а они — подвигом, достойным героя. Молодой воин жаждет грабить наши караваны и снимать с бледнолицых скальпы, поскольку лишь так он заслужит уважение собратьев и любовь девушек. Если у него не будет добычи, он не сможет завести себе даже одну жену, не говоря уже о двух или трёх. Воюя с чужаками, индеец поднимает свой статус, а чужие для него все, кто не принадлежит к родному племени. И это большая удача для нас. Если бы индейцы перестали враждовать между собой и сплотились, как гунны вокруг Аттилы, они истребили бы всех белых!
— Тут я с вами не соглашусь, — подал голос лейтенант. — Вы хотите сказать, что эти дикари способны одолеть армию Соединённых Штатов?
— Легко! — усмехнулся Гуднайт. — Вот вы закончили академию, а во многих ли боях участвовали?
Выпускник вспыхнул, но ранчеро успокоил его жестом.
— Я не в обиду говорю, — сказал он, — просто молодой апач в ваши годы уже становится опытным воином, за плечами которого полусотня сражений. Пока вы изучаете стратегию и тактику по трактатам Вегеция и Жомини,[77] индейцы постигают военную науку в походах, и это лучшая лёгкая кавалерия в мире. Гордости у индейцев до чёртиков, как у всех настоящих воинов, а вот благородства, по крайней мере в нашем понимании этого слова, у них нет. — Чарльз усмехнулся и покачал головой. — Встречал я одного такого, наивного, начитавшегося дешёвых романов про благородных индейцев. По дурости он сдался апачам, и я всю ночь слышал его дикие крики — индейцы любят пытать своих пленников. Нет, не потому, что они жестоки. Для них это забава — так индейцы испытывают мужество противника. И если тот будет долго терпеть муки, краснокожие зауважают его и будут гордиться, что сразились со славным и храбрым воином. Такой это народ, понимаете? Они уважают силу, мужество, стойкость, но презирают слабость. Был такой случай… Один из моих ковбоев объезжал ранчо и столкнулся с отрядом команчей. Их было человек десять. Нат — так его звали, Нативити Поттер, — останавливаться не стал, как ехал, так и продолжал ехать, напевая, прямо на индейцев. Миновал их строй и отправился себе дальше, ни разу даже не обернувшись. Команчи оценили его храбрость и присутствие духа — не тронули. А вот если бы Нат стал умолять их о пощаде, индейцы обязательно бы убили его, просто из презрения.
— А тот, наивный, о котором вы говорили, — пробурчал лейтенант, — что с ним сталось?
— Апачи были разочарованы, — усмехнулся Гуднайт, — он не выдержал пыток и кричал от боли, когда ему срезали бицепсы, когда сдирали кожу ремешками, вспарывали живот и набивали его камнями, раскалёнными в костре…
Кларабел стало нехорошо.
— И не надейтесь, мисс Шорт, на галантность индейцев, — серьёзно сказал ранчеро. — Когда краснокожие нападают на караван, то мужчин-переселенцев они могут четвертовать, истыкать горящими стрелами или повесить за ноги над огнём, пока у несчастных не лопнут черепа, — смотря какая фантазия на ум придёт. С дамами они ведут себя… мм… помягче. Когда я в последний раз хоронил белую женщину, на которую напали индейцы, у неё были сожжены руки…
Мисс Шорт и вовсе увяла.
— Но ведь нынче с индейцами мир, — заметил священник.
— Перемирие, — поправил его Чарльз. — Я сам встречался с вождями кайова — с Белым Медведем и Большим Деревом. Это мудрые люди, за плечами каждого из них сотня яростных сражений, и они готовы выкурить с нами трубку мира. Но как быть молодым воинам? Они-то жаждут подвигов! Как им прославиться, не воюя с белыми? Как привести скво в свой вигвам, не делая щедрых подарков? А чтобы раздобыть зеркальца, ткань, оружие, коней, надо грабить, надо воевать… Вот так вот! — развёл он руками.
«Повезло нам с Сибирью, — подумал Чуга, закрывая глаза. — Остяки да тунгусы[78] — людишки смирные…» И задремал.
Двумя часами позже дилижанс подкатил к маленькому, неказистому домику с огромной надписью «Каджун-Спрингс. Станция дилижансов. Здесь вы можете выпить и поесть».
Кряхтя, возница слез с облучка, чтоб ноги размять, снял толстые кожаные рукавицы. Смотритель с конюхом выбежали тут же, мигом выпрягли каурых и запрягли гнедых. Через три минуты «конкорд» покатил дальше. Ночью на какой-то станции сменился кучер, а к полудню дилижанс уже отмахал сто двадцать пять миль.[79]
На третьи сутки экипаж подъезжал к речке Колорадо, берега которой густо поросли орешником, виргинскими дубами и кипарисами. Местность была красива — зелень отливала глянцем, кустарники, усыпанные яркими цветами, благоухали… а на солнцепёке грелись здоровенные «гремучки». Змеи недовольно шипели, отползая с дороги в тень.
«Как всегда, — философически размышлял Фёдор, сидя на облучке. — С виду всё гладко, а с изнанки гадко…»
Винтовку он держал наготове и зорко поглядывал по сторонам. Дорога то восходила на плавно вздымавшийся холм, пыля под горячим солнцем, то шла сырою низиной, попадая в тень дубов и вязов.
У самой переправы, там, где неглубокую Колорадо пересекал брод, из зарослей ивняка неожиданно выехал всадник на вызывающе белом коне. Гарцуя, он в совершенно театральном жесте вскинул «винчестер», держа винтовку одной рукой, как револьвер, и выстрелил. Пуля пролетела мимо, прошуршав в листве раскидистого дуба.
— Это Прайд Бершилл! — охнул кучер.
— Точно он? — хладнокровно осведомился Чуга.
— Что у меня, глаз нету, что ли? — огрызнулся возница.
Помор оглянулся на Ларедо, который дрых на крыше дилижанса, устроив себе постель из пары мягких тюков. Ковбой приподнялся на локте, упираясь стоптанным сапогом в низенькие перильца, и сказал с весёлой бесшабашностью:
— Явился, не запылился!
Фёдор крикнул через плечо:
— Павел!
— Вижу! — откликнулся князь.
— Первый выстрел мой! Цельтесь по кустам справа!
— Понял!
Чуга деловито качнул рычагом затвора и сказал кучеру:
— Как пальну — гони!
Вскинув винтовку к плечу, Фёдор выстрелил и попал — пуля выбила пыль на куртке Бершилла. В ответ полетел свинец, с отвратительным зудом пронизывая воздух, а затем донёсся ружейный залп. Облачка порохового дыма над ивняком ещё не рассеялись, когда грохнул князев «спенсер». Над головою Чуги зарявкал «кольт» Шейна, дуэтом ударили револьверы лейтенанта и ранчеро.
Два конных бандита и четверо пеших вырвались к дороге, куда их Фёдор и выманил своим выстрелом.
— Гони! — гаркнул помор, опорожняя ёмкий магазин «генри».
Один из бандитов будто споткнулся, налетев на пулю, и упал. Взвился на дыбки раненый конь, сбрасывая седока. Увесистый кусочек раскалённого металла чиркнул помора по плечу, ещё один щёлкнул по дилижансу, откалывая щепку.
Ржущие кони вынесли карету к реке, железные ободья загрохотали по плоским, обкатанным камням, брызги воды окропили разгорячённое лицо Чуги.
Разбойный люд не ожидал такого мощного отпора, нападение выдыхалось в суетливую перепалку — приседая, бандиты отходили к леску, ведя не прицельную стрельбу, а просто огрызаясь из пары стволов.
Дважды прогремел «спенсер», один из нападавших оборвал свою короткую перебежку. Конник, низко приседая в седле, уходил по мелкой воде. Фёдор попал в него, но ещё вопрос — убил ли.
С шумом рассекая воду, дилижанс выкатился на противоположный берег. Чуга оглянулся, высматривая ворога поверх крыши, но не увидел ничего, кроме пары мёртвых тел.
— Отбились! — выдохнул кучер.
— Ну мы им дали! — глухо донёсся ликующий голос Туренина.
— Были бы это апачи, — разобрал помор слова Гуднайта, — чёрта с два мы ушли бы! Извините, мисс Шорт…
Кони скакали галопом, унося экипаж в редеющий лес.
— Ну ты ему и засадил, — покачал кучер головою.
Фёдор усмехнулся, вытаскивая патроны из гнёзд в оружейном поясе и скармливая их «генри».
— Я с малых лет в лесу промышляю, — сказал он, — а чтоб той же белке шкурку не спортить, надобно ей в глазок засветить.
— Здоровая же тебе белка попалась! — гулко захохотал возничий.
А Чуга, хоть виду и не показывая, трудно сживался с мыслью о дозволенности убивать. Ранчеро говорил ему, что на Западе некому стеречь благонамеренных граждан, тут каждый сам себе полиция и суд присяжных, а закон носят с собою в кобуре. Здесь не жалуются на скотокрадов, а вешают их. Убил ты безоружного, стало быть, совершил преступление, а застрелишь ежели «плохого парня» с «кольтом», значит, защищался… И не дай тебе бог обидеть женщину — мигом линчуют!
Сказать по правде, «закон револьвера» — простой, первобытный, действенный — Фёдору нравился. Однако ж и привыкнуть к здешней свободе было нелегко. Чуга годами оглядывался — на царя-батюшку, на городового с исправником,[80] на крючкотворов судейских, — а тут всё по-иному. В Техасе этом хоть голову сверни, а никого за спиною не углядишь. Власть далеко, а воры и убийцы близко. Гляди в оба, пилигрим, и надейся только на себя. Зато — воля!
Глава 7 КРОВАВАЯ СИЕСТА
На следующий день дилижанс подъезжал к Сан-Антонио — местные звали его «Сан-Антона». Это был сонный, пыльный городишко, основательно прожаренный солнцем. Лишь у реки с одноимённым названием держалась прохлада — сюда, к набережной Пасео-дель-Рио, в тень тополей и альгаробо,[81] сбредались жители в часы знойной сиесты.[82]
В Сан-Антонио многое отдавало стариной — по американским меркам. Испанские миссионеры добрели до этих мест в самом конце XVII века и основали рядом с индейской деревней крепость Аламо, где нынче паслись козы.
Места тутошние были сухие и жаркие, и городок казался продолжением пустыни, сохраняя в себе её жёлтые и бурые тона. Каменные особняки терялись в массе строений, сложенных из адобе — саманного кирпича. Толстостенные, плоскокрышие, с торчащими концами балок-вигас, дома зажимали узкие улочки, пряча зелень во внутренних двориках-патио.
Местные мексиканцы, которых здесь прозывали «теханос»,[83] больше всего любили бренчать на гитарах, воспевая чернооких сеньорит, так что работа перепадала, в основном, переселенцам — немцам, французам, чехам. А вот бывшие чёрные невольники, похоже, растерялись — куда ж рабу без хозяина? Барин, он хоть и лупит порой чем попадя, так ведь и кормит… А тут нате вам — свобода! И что с нею делать, со свободой этой? Волю на хлеб не намажешь. Вот и слонялись негры, как потерянные…
…Дилижанс остановился на обширной плазе,[84] куда выходил двуглавый собор Сан-Фернандо, приземистые белёные дома в мавританском стиле и ресторация «Ла-Фонда».
Морщась, Фёдор спустился с облучка — всю задницу отбил! — и перекрестился на церковь. Вообще-то её католики воздвигли, да крест-то един. Попы, видать, запамятовали, когда паству разрознивали, что Христа делить не можно.
Сощурившись, Чуга огляделся. На площади уже стояло несколько фургонов с холщовым верхом. Один из них был выкрашен синей краской.
С его козел слез пожилой человек в потрёпанных джинсах, в клетчатой рубашке и в чёрной широкополой шляпе с плоской тульей.
— Ты уже здесь! — воскликнул Гуднайт, покидая «Конкорд», и перевёл взгляд на Чугу: — Знакомься — это Оливер Лавинг, мой друг и партнёр! Оливер, это Теодор Чу-уга. Намедни он подстрелил Прайда Бершилла!
— О-о! — воскликнул Лавинг, морща моложавое лицо, сильно осмуглённое солнцем. — Поздравляю!
Крепко пожав руку Фёдору, он оживлённо сказал:
— Прайд давно уже напрашивался, и вот — допросился! Ну что, Чак?[85] У меня всё готово! Едем?
— Застоялся? — сказал ранчеро, посмеиваясь. — Погоди маленько, дай ребятам перекусить… Да я и сам не прочь подкрепиться!
— А, ну тогда двинем через часок, — легко согласился Лавинг. — О’кей?
— О’кей!
Перезнакомившись с Ларедо и Турениным, Оливер сделал широкий жест:
— Пожитки кидайте в фургон, Боз[86] постережёт!
Огромный негр, сидевший на задке фургона, свесив ноги, приветливо осклабился, сверкая белозубой улыбкой. Приблизившись к нему, Чуга протянул руку и сказал:
— Теодор. Просто Тео.
— Просто Боз. Ха-ха!
Ладонь у Икарда была сухая и твёрдая.
Забросив свой мешок в фургон, Фёдор бережно уложил винтовку.
— Говорят, ты Бершилла грохнул? — спросил Боз, сбивая шляпу на затылок.
— Был такой слух.
— Тогда не зевай, тут у Прайда много друзей. Глядишь, кто-то захочет получить… как это Оливер говаривал… сатисфакцию.[87]
— Получит, — веско сказал помор.
Поправив оружейный пояс, Чуга вразвалочку направился к ресторации. Переступив порог заведения, он окунулся в сладостную прохладу — испанцы, переняв у арабов их стиль, следовали ему и в Новом Свете. А иначе как спастись от безжалостного солнца, от жары и духоты?
«Ла-Фонда» не поражала роскошью, всё было простенько, но со вкусом, и весьма добротно. Довольно закряхтев, Фёдор сел за тяжёлый столик в углу, спиною к стене, и подвинул кобуру на ремне так, чтобы во время еды рукоятка «смит-вессона» оставалась под рукой. Кожаный ремешок, удерживавший револьвер в кобуре, Чуга тоже расстегнул, откинулся на спинку стула и расслабился. Маленькое счастье — ничего не трясётся, не колышется, не пылит. И тишина…
Официант в полосатой рубашке с резинками на рукавах и прилизанными волосами тут же материализовался, согнувшись в лёгком поклоне.
— Чего прикажете?
— Мяска бы, — сказал Фёдор.
— Могу предложить свежа-айшую телятину с бобами. Тёплые ещё тартильи, бурритос с курицей…
— Всё тащи! И попить чего-нибудь.
— Виски? Текила?
— Кофе.
— Есть яблочный пирог…
— Давай, и поскорее!
Схомячив обильную порцию угощения, Чуга малость подобрел. Эх, в баньку бы сейчас!.. Самое то было б!
Допив кофе, помор покинул ресторацию и вышел на солнце. Пройдясь по плазе, он наткнулся на объявление, ещё больше поднявшее его настрой, — местный кузнец предлагал помыться в бочке за пятьдесят центов. Фёдор хмыкнул только — да он бы и доллар отдал, лишь бы смыть с зудящей кожи весь пот и пыль, что осели за дальнюю дорогу!
И тут начали происходить события.
Из ворот платной конюшни вышел длинный, как жердь, хомбре[88] в новеньком сомбреро, скрывавшем лицо в тени. Его чёрные бархатные брюки были стянуты на поясе шёлковым кушаком алого колеру и расклешены книзу, да не просто, а с разрезами по длине сапог, выказывая голенища из тисненой кожи и шпоры с зубчатыми колёсиками. Белая рубашка, едва прикрытая короткой замшевой курточкой, резала глаз. Оружейный пояс из красной кожи оттягивался двумя кобурами, подвязанными на бёдрах сыромятными ремешками.
Но стоило хомбре поднять голову, как Чуга понял — перед ним не техано. Уж эту-то козлиную бородку он узнал сразу!
— Вот и встретились, русский, — проговорил с усмешечкой козлобородый Ньютон. Его правая рука была опущена, а пальцы пошевеливались совсем рядом с рукояткой «кольта», на которой ножом были сделаны зарубки.
— Живучий, недобиток? — грубо сказал помор.
Ладонь Фёдора пала на рукоять револьвера. Выхватить оружие противникам удалось одновременно, Ньют выстрелил первым, и Чугу словно пнули в бок. «Смит-вессон» дёрнулся в руке, посылая две пули подряд — на крахмально-белой рубашке козлобородого расплылись ярко-красные пятна.
— Нет!.. — выдохнул Ньютон, отшатываясь. «Кольт» в его ослабевшей руке выстрелил в землю, поднимая фонтанчик пыли. Козлобородый суетливо подхватил правую руку левой, поднимая ствол. Пуля расщепила край поилки для коней. — Нет!
— Да! — настоял Фёдор, нажимая на спуск.
Попадание отбросило Ньюта к коновязи. Цепляясь за гладкое бревно, всхлипывая и клекоча, он всё пытался устоять, загребая ногами унавоженную грязь. Вздёрнув револьвер, козлобородый выпалил — и угодил помору в ногу. Чуга едва не упал, но холодная решимость не оставляла его. Оттянув курок большим пальцем, он нажал на спуск — пуля разорвала Ньютону горло, забрызгав кровью рубашку. Тягучие красные капли падали в пыль и скатывались в шарики.
— Тео! — донёсся отчаянный крик князя. — Сзади!
Пошатнувшись, помор развернулся кругом. От резкой боли в ноге и в боку его качнуло, Чуга еле успел выставить левую руку и упереться в беленую стену ресторации — мелькнула дурацкая мысль о ладони, измазанной в извёстке. Благодаря тому, что он едва не растянулся, пуля прошла мимо — мерзко взвизгнув, впилась в створку ворот конюшни.
Фёдору было больно и муторно, пот заливал глаза. Площадь, белая под слепящим солнцем, качалась и плыла. Через неё, наискосок, шагал высокий и тощий молодчик в шляпе с короткими полями. Он щурил глаза, морща лицо на свету, а в руках сжимал два револьвера зараз. Вот оба дула расцвели крестоцветным огнём, и плечо помора пробило навылет. Грохнул «спенсер». Мимо!
Чувствуя, как хлюпает в сапоге, как горячие струйки стекают по руке, Чуга выстрелил от бедра, сдвигая раненую левую ногу, рыча от боли и ярости. Пуля из «смит-вессона» сбила с молодчика шляпу, и Фёдор узнал обветренное лицо Хэта Монагана, искажённое от натуги.
Снова прогремел «спенсер». Чуга краем глаза заметил, как с крыши дома напротив падает винтовка, а после скатывается и сам стрелок.
Хромая, подволакивая раненую ногу, Фёдор двинулся навстречу Монагану, замечая никчёмные мелочи — как мельчайшая, словно пудра, пыль бьёт из-под сапог, как жалобно звенит колокол на башне собора, задетый шальной пулей, — видать, рука стрелка, засевшего на крыше, дрогнула перед смертью.
Удар свинцового катышка развернул Чугу. Не удержавшись, он упал на одно колено и выстрелил — Хэта отбросило мощью 44-го калибра. Роняя «кольт», Монаган зашатался, слепо шаря по груди, размазывая кровь, пока не рухнул ничком, лицом в пыль. И тишина…
Помор, стоя на коленях и упираясь в горячую пыль рукою с револьвером, безразлично наблюдал за бегущими к нему Павлом и Ларедо, Бозом и Оливером. Потом плаза перекосилась и пропала, а щеке стало тепло. Милосердная тьма объяла Чугу.
Фёдор пришёл в себя ранним утром. Раны ныли, было тошно и противно, а слабость такая, что и котёнок заборет. Почти не ворочая головой, Чуга огляделся. Он лежал на топчане в одном красном белье. Холщовые бинты стягивали ногу, руку и бочину. «Хоть в башку не угодило…» — мелькнуло у помора.
Под сводами комнаты, в которой он лежал, было сумрачно, в маленькие окошки, прорезавшие толстые стены, засвечивали розовым первые зоревые лучи.
Издалека доносились негромкие, приглушённые голоса — высокий женский и басистый мужской. Чуга прислушался: разговаривали на испанском.
Шурша юбками, в комнату к Фёдору заглянула черноглазая сеньорита, улыбнулась радостно и убежала — только каблучки застучали дробно. Вскоре рывком открылась дверь, и вошёл Туренин. Князь выглядел и обрадованным, и смущённым.
— Ну вот, — преувеличенно весело сказал он, — на поправку пошёл, раз глазами хлопаешь, а не закатываешь!
— Где это я? — сипло проговорил Чуга, разлепляя спёкшиеся губы.
— У друзей! Это дом Хесуса Бердуго, старинного знакомца Гуднайта, а его дочь… Мария дель Консуэло, — проговорил Павел, жмурясь, — ухаживала за тобой. — Он вздохнул: — Я бы с удовольствием поменялся с тобой местами!
— Дурак.
— Есть немного! — весело признал Туренин. Потупился и сказал покаянно: — Не вышло у меня сразу снять того стрелка, а в Хэта я стрелять побоялся — мог и в тебя угодить… Ты как раз на линии огня стоял.
— Хэт… как? Готов?
— Похоронили уже! Всех троих! Узнал того, с бородкой?
— Узнал…
— Ну вот! Ты открыл счёт, и мы ведём. Троих или четверых нынче вовсю поджаривают на сковородках! Или варят в котлах…
— Толку с этого… Гонт-то жив.
— Ничего, это дело поправимое! — ухмыльнулся его сиятельство.
Фёдор покосился на окошко.
— Я что тут, весь день провалялся?
Туренин захохотал.
— Всю неделю, Федь! Всю неделю! Вторая пошла!
— Ничего себе… — пробормотал Чуга.
— Да уж! А кровищи сколько из тебя вытекло… Ведро! Гуднайт на радостях фургон нам с тобой оставил, старенький, но на ходу. Деньги, кои мы героически охраняли, уже в банке — долги выплачены, скотина закуплена. Чарльз с Оливером на пару собрался стадо перегонять — отсюда в Нью-Мексико, по реке Пекос. Кстати, держи… — Князь выложил на прикроватный столик две монеты по двадцать долларов и две по десять. — Твоя получка и мой должок. В расчёте!
Покосившись на золотые кругляши, Чуга нахмурился.
— Мало, мало… — проворчал он. — Ранчу за гроши не затеешь. Ты вот что, сиятельство. Пока я тут валяюсь, сыщи-ка трёх парней или четырёх, таких, что в коровах знают толк. Обратно лошадей надо купить…
— Задумал чего?
— Двинем отсюда на север, по тропе Чизхолма.[89] Будем скотину ничейную искать, клеймить, да и гнать до самого Абилина. Вот тогда заработаем! Будет с чем в Калифорнию двинуть. А так…
— Трудное это дело… — затянул Туренин.
— Ещё бы, — буркнул Фёдор.
— Но заманчивое! Знаешь, что я думаю? Я думаю, Монаганы и сами тропой Чизхолма проскакали, не побоялись команчей. Иначе как бы они нас обогнали, верно?
Тут в комнату зашла давешняя сеньорита и упёрла ручки в рюмочную талию, грозно нахмурила бровки.
— Сеньо-ор… — затянула она.
— Ухожу-ухожу, Кончита! — засуетился Павел, подхватываясь. — Меня уже нет!
Кланяясь и расшаркиваясь, князь удалился и аккуратно прикрыл за собою дверь, подмигнув Фёдору напоследок.
— Благодарю вас, сеньорита Консуэло,[90] — церемонно сказал помор.
— Зовите меня просто Чело! — заулыбалась девушка.
Вспыхнув, она развела бурную деятельность — бережно, нежно сняла повязки со своего пациента, раздавила опалённые листья опунции, приложила их к ранам, перебинтовала. Сбегала за горшочком с дымящимся варевом и нацедила в чашку.
— Выпейте, — сказала Кончита, заботливо придерживая голову Чуги, — это отвар амоллило, он здорово помогает.
Фёдор добросовестно заглотал снадобье.
— Спасибо вам, Чело, — выдохнул он без сил.
— На здоровье, — ласково сказала девушка.
Помор улыбнулся и закрыл глаза.
Прошелестела ещё неделя. Раны у Чуги начали зверски чесаться — заживали, но самому Фёдору мнилось, что это от грязи зуд. И как только Кончита его вонь терпит?.. Он продолжал мечтать и грезить… ну пусть не о баньке, так хотя бы о бочке с водой. И о мочалке. С мылом. И чтоб сразу в чистое исподнее…
Подняться с ложа впервой оказалось делом нелёгким — слабость прямо-таки тянула обратно, а комната плыла и шаталась. Но ничего, по стеночке, по стеночке Чуга проплёлся туда и обратно, заново привыкая стоять на своих двоих. Отдышавшись, Фёдор вернулся на топчан, и вовремя — цокот каблучков Консуэло стремительно приближался…
…Начав прогуливаться по патио, пестрящему живыми, благоуханными цветами, набравшись сил, помор исполнил-таки своё сокровенное желание — погрузился до плеч в половинку огромной бочки, наполненной чистой колодезной водой, живо нагревшейся на солнце.
Кряхтя от удовольствия, Фёдор намылился с ног до головы и докрасна растёрся мочалкой, осторожничая около недавних ран, затянувшихся розовой кожицей, такой непрочной на вид. И лишь тогда почувствовал довольство жизнью, данной ему во второй раз.
А когда явился Ларедо Шейн и радостно сообщил, что фургон подан, Чуга засобирался покидать гостеприимных хозяев. Он с чувством пожал руку смуглолицему, с горделивой осанкой Хесусу Бердуго Сепульведе.[91] Кончита же не показывалась. Встретив Фёдора незадолго до его отъезда под сводами сумрачного коридора, она грустно поинтересовалась: «Ты уезжаешь?» И когда Чуга развёл руками — увы, мол, — девушка порывисто обняла его и потянулась сухими горячими губами. Помор с удовольствием поцеловал их, удержав сеньориту на лишнюю секунду. Сеньорита нежно огладила его щёки своими гладкими, бархатистыми ручками, вздохнула — и убежала.
Фёдор тоже завздыхал. Ему припомнилась Наталья — и Олёна, единственная и родная, которую он любил и помнил по-прежнему.
Помахав напоследок семейству Бердуго, помор забрался в фургон, добротно сколоченный из белого дуба и запряжённый четвёркой гнедых мулов, злобных и крепкозадых, как зебры.
Тут появился князь, донельзя гордый собой, и подвёл двух крепких, загорелых парней.
— Вот, — сказал он, — первые бакеры на твою ранчу!
Фёдор привстал и подал руку.
— Теодор.
Молодой южанин, чернявый да смуглый, в синей армейской рубашке и в джинсах с бахромой, улыбнулся и пожал протянутую длань.
— Ефим Беньковский из Одессы, здрасте!
— Из Одессы? — обрадовался Чуга.
— Таки да!
— Фима, закрой рот с той стороны, — перебил его товарищ, сухощавый, конопатый, со светлым, выгоревшим на солнце чубом, — тебя спросили за серьёзное.
— Так я за серьёзное!
Светловолосый протянул Фёдору для пожатия предплечье, уберегая ладонь, — остаток безымянного пальца был обмотан окровавленной тряпицей.
— Сеня Исаев, — представился он, — кличут «Полужидом». Мы с Фимой оба с Пересыпи…
— А я за шо? — вклинился Беньковский и снова обратил всё своё внимание на Чугу: — Теперь слушайте сюда, я имею вам сказать пару слов. Как-то раз на Молдаванке гуляли мы втроём — я, Сэмэн и его волына. И тут три — нет, четыре некрасивых жандарма привстали на дороге, как столбы. Повытягали из карманов стволы и сами такие смелые стоят с понтом на мордах сделать нам нехорошо… А зачем нам лишние дырки?
— Короче, вовремя слиняли, — подвёл черту Исаев. — А вот я интересуюсь знать… вы Бершилла угробили?
— Кого я там угробил, толком не разобрал, — усмехнулся Чуга, — но кучер уверял, что это точно был Прайд Бершилл.
— От босота! — хохотнул Беньковский.
— А это чего? — кивнул Фёдор на руку Исаева. — Пулей отхватило?
— Верёвкой! — воскликнул Фима. — Сёма пострадал через бичка — заарканил его за шею и стал лассо на луку седла наматывать, и тут теляк ка-ак дёрнет!
— Полтораста фунтов[92] было в теляке, — вздохнул Семён Полужид, морщась. — Верёвкой отчикало, будто ножом… Ух, я и намаялся! Клеймо на костерке раскалил, та и прижёг обрубок…
— …Получив при етом массу удовольствия! — подхватил Беньковский.
— Да уж, — буркнул Исаев.
— И так шо вы хочете? — осведомился Ефим, принимая солидный вид.
— Короче, парни, — деловито сказал Фёдор. — Надо бы скотину собрать бесхозную и перегнать на север.
— Ви хорошо хотите… — затянул Семён.
— Знаете места? — прищурился помор.
— Таки да! — бодро ответил Беньковский. — А шо мы будем с этого иметь?
— Денег в обрез, но, ежели стадо соберём и доведём до Абилина, заплачу с каждой головы по доллару. Идёт?
— Идёт! — кивнул Сёма.
— Ой, не надо меня уговаривать, — выразился Фима, — я и так соглашусь!
— Тогда двинем с самого утра. Переночуем на ранчо Бердуго, там же и коней прикупим, и сёдлами разживёмся. Вот и весь сказ.
…Под вечер Фёдор возобновил свои «штудии», шлифуя навыки стрелка. Слабость одолела его уже на втором часу занятий, и Чуга отправился баиньки.
Рано утром ковбои поднимались хмурые и недовольные жизнью, — храп и шуршание тюфяков, набитых кукурузной соломой, сменились харканьем, кашлем и раздражёнными вопросами на вечную тему: «Где мои носки?»
Один Фима улыбался — этот не унывал никогда (Исаев ворчал, что Беньковский будет лыбиться даже в гробу).
— Добрейшего утречка, хлопцы! — пропел он.
— И тебе доброго-о… — раззевался Фёдор.
Присев на койку, он сделал любопытное наблюдение: вставая, ковбои-бакеры первым делом надевали шляпу. Потом уже натягивали штаны и основательно вытрясали всё лишнее из сапог. Обувались, топали сапогами, чтобы справно сидели на ноге, и тогда уж застёгивали на бёдрах оружейный пояс.
Чуге не хотелось выглядеть салагой, поэтому он тоже тряханул сапогом — и мигом понял, для какой такой надобности это делается. Из голенища выпал здоровый тарантул — любит многоногая гадость забираться в тёплые сапоги. Или им нравится застарелая вонь?
— Тут всё продумано, Федь! — ухмыльнулся князь. — Думаешь, почему у ковбойских сапог острый нос и высокий каблук?
— Не для красоты, это точно, — проворчал Фёдор.
— Верно! Остроносым сапогом легче попасть в стремя, а каблук мешает ноге из него выскользнуть.
— Ишь ты…
Чуга с недоверием оглядел свои новые сапоги. Ковбойские, значит. Ну-ну…
Сопя, он примерил обновку — чёрные джинсы и серую фланелевую рубашку. Шейный платок-бандана тоже был чёрным. Цвета что надо — сольются с любой тенью, особливо на здешнем солнце. Пришлось, конечно, убавить монет в кармане, но не гонять же коров в рубахе с Олёнкиной вышивкой?[93] Обойдётся крупный рогатый скот…
— Федь! — окликнул его Туренин. — Я тебе ещё двух работничков сыскал!
— Кто такие?
— Близняшки Гирины! Народ надёжный, из староверов. Работяжки!
Братья Гирины, Иван да Захар, были похожи, как горошины в стручке, — грудь колесом, нос сапожком, бородка с кудрецом. Высокие, статные, конопатые, оба на вороных мустангах. Глянешь на них — и будто в глазах двоится.
— Здорово, — сказал Чуга.
— Привет! — дуэтом ответили двойняшки и залучились, подбоченились.
— Откуда такие?
— Из Москвы мы, — сказал Иван весомо.
— Не Белокаменной, — уточнил Захар, — а тутошней, техасской.
— Натурально.
— Ясненько… — протянул помор. — Условия знаете?
— Знаем!
— Тогда вперёд и с песней. Князь, пошли лошадей глянем!
— Денег совсем мало, — озаботился Туренин.
— Бердуго за десятку коня торгует, должно хватить…
— А сёдла ещё?
— Так куда ж без них-то?
Ларедо, перебрасывавший сено на конюшне, сразу отсоветовал им брать новые сёдла.
— Скрипят они, — посетовал он, — ночью тебя любой индеец услышит. Вот эти лучше возьмите — хоть и потёртые, но целые совсем. Приработались!
Фёдор не мог похвалиться званием умелого конника, но верхом наездился изрядно. Ковбойское седло его удивило — с двумя подпругами (такими пользуются в Техасе), тяжёлое, но и удобное, как кресло. Да и то сказать — «коровьему парню»[94] приходится всю неделю, кроме воскресенья, по четырнадцать часов в день гоняться с лассо за норовистой бурёнкой, клеймить брыкающегося бычка-двухлетку, копать ямы под столбы для изгороди, постоянно выгребать грязь с водопоев, подковывать лошадей и скакать, скакать, скакать… Тут уж, как ни крути, как ни верти, а удобства седалищу обеспечь.
— Выбирайте! — сделал Шейн широкий жест, поводя рукою по денникам, откуда выглядывали любопытные конские морды.
Чуга оседлал чалого бронка,[95] Туренину достался добрый конь гнедой масти.
Укрепив седельную скатку,[96] вложив «генри» в седельную кобуру, помор вскочил на коня, позволил ему побрыкаться и дал шенкеля.[97] Чалый легко и, как почудилось Фёдору, с удовольствием сделал круг по двору. Жеребец был красив — с чёрной гривой и хвостом, с едва заметными яблоками на левой ноге. Видать, подмешалась кровь пятнистой аппалузы — индейского боевого коня.
— Порядок, он тебя слушается! — крикнул Ларедо.
— Ещё бы он не слушался…
Вскоре фургон покинул хозяйство Бердуго Сепульведы. Ковбои поскакали следом, как почётный эскорт. Шейн, правивший мулами, запел, не слишком мелодично, зато громко:
Зачем я покинул кварталы Ларедо, Когда доведётся попасть туда вновь…— Ларедо, я щас сойду! — воскликнул Беньковский.
— Что, укачало?
— Небось с такого голоса недолго и понос! — развил Ефим мысль, переходя на русский.
— Это распевка, Фима! — прокричал Исаев. — Шоб спеть краснокожим в самые их поганые уши! Оц, тоц, перевертоц!
Чуга ехал, слушая то английскую, то родную речь, и жмурился довольно. Всё будет хорошо и даже лучше!
Глава 8 ПЕРЕГОН
Старая «конестога»[98] — это вам не «конкордовский» дилижанс! Мулов менять негде было, а те, что везли тяжёлый фургон, нуждались в отдыхе, да и попастись им не мешало бы, хотя бы время от времени.
К северу от Сан-Антонио треклятые мескитовые заросли стали пореже, освобождая целые поляны, а то и луга.
На второй день пути лагерь разбили близ растрескавшейся скалы, медленно остывавшей после захода солнца на берегу маленькой, но бурливой речушки, заросшем орехами пекан. А вокруг скалы росли одни юкки. Их обросшие стволы напоминали мохнатые лапы невиданных зверей, тонкие ветви заламывались к небу, словно в немой мольбе. Ковбои переговаривались:
— Так, шо у нас опять за здрасте? Где среди здесь костёр, до которого я притулюсь?
— Фима, оглянись вокруг и трезво содрогнись. Ты вже у стране индейцев! Какой тибе костёр?
— Запалим огонёк, што ты так разволновался? Малёхонький, штоб под шляпой уместился…
— Натурально! Не принимает душа холодный кофий.
— Так вот где она в тебе прячется! Прямо посерёдке!
— Спички подай, смешняк…
Вечерело быстро, воздух наполнялся запахами нагретой солнцем земли, горячих трав и листьев. Все они были неведомы Чуге, и он с жадностью впитывал благорастворение воздуха, от которого слегка кружилась голова, словно не в силах заместить старые «букеты» новыми. И птицы здешние кричали иначе, чем в России, и койот не «по-нашенски» выл…
Стрелять на землях индейцев было смерти подобно, поэтому Федор пока оставил свои штудии. Зато каждый день, с утра до вечера, помор читал и перечитывал книгу природы, зубрил уроки и повторял пройденное — учился различать следы, коих ранее не видывал, разбирался, какая пичуга в кустах трели выводит, что за траву топчут его сапоги. Он врастал в чужой мир, обвыкал в нём, и тот постепенно открывался ему, делался своим.
Чужбина — это не конь, на которого можно пересесть. Родина неизбывна, она в крови, ты с нею сживаешься с самого появления на свет, и второго Отечества обрести не дано. И не надо. Но можно полюбить иную землю, другие горы и реки, понять их нрав, поступать по их законам, соблюдать их обычаи — и пустить корни…
…Фёдор быстро выпряг мулов и снял с них сбрую, сводил животин на водопой и загнал в отгороженный верёвками корраль.[99]
Вернувшись к костру, он учуял запах бекона, скворчавшего на сковородке. Ларедо как раз пристраивал на огне закопченный кофейник. Прикрытый кустами меските, костёр был невидим для проезжавших мимо. Хотя кого встретишь в этой глухомани? Разве что индейцев…
— Апачи не забалуют? — поинтересовался Чуга, присаживаясь у огня.
— Апачи далеко отсюда, — ответил Иван, — они откочевали за Рио-Гранде, в Мексику. Их становища — у реки Бависпе, в горах Сьерра-Мадре. Хотя кто их знает… Могут и заявиться, ни с того ни с сего, да в боевой раскраске. Им это раз плюнуть! Натурально…
— Индейцы непредсказуемы, как коровы, — выразился Захар. — Никогда не знаешь, што у них на уме. А вообще-то, на этих землях не апачи жили, а команчи. Тоже не подарок!
— Команчами их юты прозвали, — вставил своё слово Туренин. — «Команчи» на их языке значит «враги», а сами эти вражины называют себя «не-ме-на», что переводится как «настоящие люди».
— А остальные, стало быть, не настоящие! — ухмыльнулся Иван.
— Да ведь все так думают, — пожал плечами Павел, — и мы — не исключение. Англичане с пренебрежением относятся к французам, ирландцев и вовсе за людей не считают. Французы терпеть не могут немцев, те точат зубы на русских… Человек человеку — волк!
— Всё, волки, — проворчал Чуга, завёртываясь в одеяло, — отбой!
Встали «бакеры» в три ночи, когда было темно и небо на востоке даже не думало сереть, обещая рассвет.
Натянув шляпу и сапоги, Фёдор накинул оружейный пояс и застегнул пряжку, по привычке похлопав по револьверам, дабы лишний раз убедиться, что те ладно сидят в кобурах.
Скатав одеяла, Чуга приторочил их к седлу. Чалый сунулся к нему мордой, и помор скормил коняке сухарик, макнутый в патоку, — пущай полакомится. Жеребец захрумкал, потешно мотая головой, словно благодарил за угощение, и Фёдор похлопал его по крепкой гривастой шее.
На завтрак были вчерашние бобы. Чуга ел через силу, сознавая, что, когда у него появится аппетит, еде взяться будет неоткуда. Зато кружку крепчайшего горячего кофе он выпил в охотку.
— В твоём кофе ложка стоит, — проворчал помор, взглядывая на Беньковского, освещённого огнём костра.
Фима засмеялся.
— Не скажу за ложку, — проговорил он, — а подкова у нём точно не потонет!
— Что да, то да…
— Сеня, тибе шо-то захотелось?
— Немножечко щепотку сахару…
Горячий кофе и холодная вода из ручья малость взбодрили Чугу.
— Тео! — деловито окликнул его Шейн и протянул тугую связку верёвки, не крученной, а плетённой как шнур. — Держи!
— А чего это?
— Лассо! Тут тридцать пять футов, в зарослях только с таким и работать. В моём сорок пять, а Фима умудряется забрасывать семидесятипятифутовое лассо, но ты пока пример с него не бери, рано. Тем более что у него реата, плетённая из сыромятных ремешков, а с ней надо умеючи — ременная верёвка хуже держит рывок, чем пеньковая.
— Нешто мы без понятия… — проворчал Фёдор на русском.
— Чего? Не понял?
— Покажи, говорю, как его метать.
Ларедо показал. Привычным движением заделав хонду — «ушко», он пропустил в неё верёвку. Получилась петля.
— Тут всё просто, — болтал он, поднимая правую руку повыше и раскручивая широко распущенную петлю, а левой удерживая свободный конец. — Покрутил, наметил бычка, которого хочешь завалить, и бросаешь!
Лассо прошелестело в воздухе и пало на плечи Ивана.
— Затягиваешь, валишь и клеймишь!
— Я т-те щас на заднице тавро выжгу, — пообещал Гирин, скидывая верёвку с плеч. — Натурально…
— Норовистый попался! — прокомментировал Шейн. — Ну ты понял? Вот, продолжай в том же духе! Можешь тренироваться… — Поймав выразительный взгляд Вани, Ларедо мигом сориентировался: — На кустиках![100] Ага… Как наловчишься, переходи на бычков.
— Ладно уж…
Фёдор влез на коня, раскрутил лассо, да и набросил его на куст меските. Попался! Затянув петлю, помор мгновенно накрутил верёвку на луку седла, уберегая пальцы. Чалый немного удивился, но поднапрягся, выдирая куст с корнем.
— С почином тебя! — рассмеялся князь.
— А то! — гордо сказал Чуга, вытаскивая из петли «пойманный» куст.
— Хозяин! — послышался окрик Захара, заметно окавшего. — На-ка вот…
— Чего там?
Помор подъехал к «конестоге» и спешился.
— Щас… — пропыхтел Гирин, перевесившись через борт фургона.
Порывшись, он достал порядком изгвазданные чапсы-«двухстволку».[101]
— Примеряй обновку! — осклабился Захар, поворачиваясь к Фёдору. — Не то без штанов останешься!
Хмыкнув, Чуга примерил. Чапсы были жёстковатыми, из толстой кожи и с бахромой по краям. Неуклюже подвязав «обновку», Фёдор услыхал пыхтящий голос Беньковского:
— Тапидорес взяли?
— А то мы без тебя не догадались бы! — пробурчал Сеня.
— Ой, я вас умоляю…
Приделав к стременам кожаные чехлы тапидорес, чтобы понадёжней защитить ноги от колючих веток, ковбои отправились в заросли чапараля. Только лишь подъехав к ним, Чуга уразумел, зачем было надевать смешные чапсы.
Перед ним стеной стояла густая чаща не слишком высоких, от силы в полтора-два человеческих роста, но зело колючих растений — карликового дуба, чамиза, манзаниты, «кошачьего когтя». Их стволики переплетались друг с другом, путаясь ветвями, ощетиниваясь шипами.
Коровы, испокон веку сбегавшие в чапараль, разведали все тутошние тропки, порою проламывая в чащобе замысловатые ходы. И выковырять бурёнок из зарослей было задачей непростой.
— Вона! — крикнул Исаев, указывая на колючий кустарник.
— Чего там?
— Бички!
Чуга почувствовал азарт — это была странная охота, в которой никого не умерщвляли. Вот над сплетением ветвей показалась рогатая голова. Бычок-двухлетка тупо глянул на помора — что это, мол, за диво?
— Сгоняем к фургону, ребята! Хоу, хоу!
Подглядев за Семёном, Фёдор взял лассо на изготовку. Глянул по сторонам — никто не видит? — и набросил любопытному бычку на рога, мигом накрутив на луку седла свободный конец. Бычок сразу воспротивился, замычал, задёргался, затрещал кустами, но чалый и не с такими справлялся — пятясь, конь сдал назад, поднатужился и вытянул брыкавшуюся скотину.
— Дурак рогатый! — буркнул Чуга и потянул телка на верёвочке.
Воздух в зарослях был недвижим. Горячий и влажный, он обволакивал тело, пот тёк щекотными струйками. Колючки царапались и впивались, словно чапараль был живым существом, яростно сопротивлявшимся пришельцам. А внизу, под густыми ветвями, копошились змеи, многоножки и прочая ползучая мерзость…
…Весь день, до самого вечера, «бакеры» сгоняли бродячих полудиких коров. Ночь пролетела незаметно — и снова в чапараль… За три недели упорнейшего труда удалось сгуртовать более тысячи голов. Вплотную приблизилась середина лета.
— Хоу! Хоу! — звучало со всех сторон.
Стадо поднималось довольно-таки резво, и вот — тронулось.
— Клеймим всё, шо рогатое и бодается! — раздался весёлый голос Ефима.
— Сенька! — завопил Иван. — Это и тебя касается! Али ты веришь, што Росита тебе верна?
Исаев за словом в карман не полез.
— Шо ты кричишь, я понимаю слов! — отозвался он. — Снял бы ты свою красную сорочку, бо забодаю, на хрен!
Бакеры с готовностью загоготали. В предрассветных сумерках разгорелись костры, и началось клеймение.
Захар отделил от стада бычка и раскрутил лассо. Петля не упала даже, а метнулась, как змея, мгновенно охватывая шею тельца, и тот рухнул в пыль, барахтаясь всеми четырьмя конечностями. Лошадь Гирина тут же замерла, упираясь в землю. Захар примотал лассо вокруг луки седла и поволок мыкавшего бычка к костру поближе.
С таврами работали Ларедо и Сёма. Шейн схватил бычка за уши, развернул ему голову и сел на неё, чтоб тот не рыпался.
— Ляжь, зараза!
Исаев снял петлю лассо и уложил неклейменого поудобнее — одна задняя нога бычка была вытянута, а другая подогнута. Ларедо тут же подскочил и прижёг животину тавром — запахло палёной шкурой.
Ветра не было, скоро этим бесподобным амбре да гарью костров несло отовсюду.
Ларедо доверил Чуге калить клейма на костре, и тот едва поспевал передавать ковбоям разогретые железки, светившиеся оранжевым, и совать в огонь остывшие.
Когда солнце встало над горизонтом, алое, как большое круглое тавро, несколько десятков неклейменых бычков заполучили метку на левую или правую ляжку.
А уж быки в стаде были таковы, что невольно внушали трепет. Некоторые из них весили по тысяче шестьсот фунтов и, когда поднимали головы, становились выше лошадей. Настоящие буйволы, они легко впадали в бешенство, готовые размазать в фарш пешего или конного вместе с лошадью. Вовсе не даром ковбои не расставались с револьверами — только меткая пуля могла остановить разъярённую бестию.
— Трогаемся, трогаемся!
— Погоняй, шоб вы сдохли!
— Хоу, хоу!
Коровы послушно двинулись следом за громадным вожаком, и вот всё стадо отправилось в путь, кивая рогатыми и безрогими головами.
С одного края стада ехали братья Гирины. Ларедо и Семён — с другого. Стадо тронулось, и первые несколько вёрст его гнали трусцой. Чуга с Турениным глотали пыль позади стада, подгоняя отставших коров и воюя с теми, кто рвался обратно. Фургон ехал в стороне, куда не долетал прах из-под копыт. Правил им самый хитрый — Фима Беньковский.
Шейн, переживавший за всё разом, вернулся в конец стада и пошёл стегать отстававших бычков свёрнутым лассо.
— А ну шевелись, травяные мешки! Больше жизни, дохлятина!
В это время задул сильный ветер с востока, относя в сторону непроглядную тучу пыли, и Чуге открылось стадо.
Коровы продвигались на север, к Канзасу, — шевелящаяся бугристая масса за завесой пыли. На длинных и коротких рогах поблескивало солнце.
Рыжие, коричневые, пёстрые спины раскачивались как море. Быки, коровы — огромные, полудикие — легко впадали то в панику, то в ярость и были готовы атаковать хоть волка, хоть человека, хоть лошадь.
— А индейцы тут не сильно достают? — поинтересовался Туренин.
— Давеча их видали аж в устье Бразоса,[102] — ухмыльнулся Ларедо, — полсотни свирепых мальчуганов в боевой раскраске! А ну веселей, веселей, пожива для канюков!
Чуга хмыкнул только, добавляя бычкам прыти. Ходьба разогрела животных, и теперь не только пылюка мучила следующих за стадом, но и опалявший лицо смрадный жар, источаемый тысячами пудов «самоходного мяса». Перегон начался.
Глава 9 ТРОПА ЧИЗХОЛМА
Обычно в полдень у стада случался «обеденный перерыв» — коровы останавливались попастись. Нагуляв аппетит по дороге, животные умиротворённо хрумкали.
Чуга тяжело слез с седла и постоял немного, распрямляя затёкшую спину.
— И как вам пылюка со штата Тухес?[103] — жизнерадостно спросил Фима.
— Не распробовал ещё, — проворчал Фёдор.
Беньковский весело засмеялся и ударил в треугольник.[104]
— Эй, проглоты! — крикнул он. — Обедать!
Чуге досталась ха-арошая порция густой мясной похлёбки с бобами — полная оловянная миска. Осторожно поставив её, помор наскоро сполоснул лицо и выхлебал кружку воды. Довольно выдохнув, словно остограммившись, Фёдор взял в зубы пару лепёшек с пылу с жару и направился в тенёк, под дерево. Кряхтя, устроился, с облегчением опираясь на ствол спиною — не вернулась пока ещё сила молодецкая, ослабли члены… Ничего, это дело наживное.
— У вас не занято? — спросил, ухмыляясь, Туренин, обеими руками держась за края горячей миски.
— Присаживайтесь, сэр, — церемонно ответил Чуга, — только траву не измажьте своей грязной задницей.
— А сам-то! — фыркнул князь. — Всё лицо в разводах!
Фёдор не ответил — он вгрызался в кусок лепёшки, зачерпывая ложкой пахучую похлёбку.
— Вкуснотища!
Заметив, что князь едва притронулся к яству, Чуга фыркнул:
— В большой семье клювом не щёлкают! А то останешься без сладкого.
Ларедо, добредя до них, расслышал последние слова и покивал.
— Эт-точно! — сказал он. — Я знал парней, которые ради «медвежьих ушек» — так тут пончики называют — готовы были по сорок миль скакать! А уж если их яблочным пирогом поманить… Сотню миль одолеют, лишь бы причаститься!
— Кушать надо неторопливо, — проговорил Павел назидательным тоном, — тщательно пережёвывая пищу…
— Да иди ты! — отмахнулся Шейн.
Фёдор помалкивал, благодушествуя. Но пришла пора, и он с кряхтеньем поднялся. Всем хороша передышка, одно в ней плохо — коротка больно…
…Тропа, по которой шло стадо, была неширока и разбредаться коровам не давала — её когда-то пробили сквозь чащу низкорослого чёрного дуба, растущего вперемежку с сумахом и ежевикой. Местами попадались заросли колючей груши, а вдоль ручьёв росли кизил и дикая хурма. К счастью, ручьи попадались нечасто, поскольку именно рядом с ними ковбоев атаковали полчища москитов, настоящие москитные тучи, облеплявшие лицо, руки, лоб. Не лучше гнуса в тундре! Руки размазывали комарьё по щекам, пачкая их своей и чужой кровью, а коням доставалось так, что бедные готовы были в костре гриву спалить, лишь бы избавиться от кусачих мучителей.
— Хоу! Хоу! — кричали бакеры, подгоняя непослушных, и, кроме их голосов, тишину нарушал топот копыт, громкий шорох трущихся коровьих тел да клацанье сталкивавшихся рогов.
Фёдор с Шейном поскакали вперёд, забирая чуток к западу, где зеленели холмы, поросшие дубняком и увенчанные изрядно выветрившимися скалами. Вскоре Ларедо отстал, разведывая источники и водоёмы, — чтобы утолить жажду сразу сотням бычков, нужна поилка соответствующих размеров.
Солнце припекало, но и ветерок обвевал. Высокие травы шелестели метёлками у самого стремени. Углядев отдельно стоявшую дубраву, Чуга направил гнедка к деревьям. Может, там озерко или ручей?
Посматривая по сторонам, Фёдор заметил неожиданный блеск на склоне ближнего холма. Мгновенно пригнув голову к самой гриве, он бросил коня к лесу.
Мелькнувшая догадка о том, что сверкнуть мог ствол ружья, тут же оказалась верной — пуля сквозанула над самой спиною, дуновением задевая голую шею, и тут же грянул выстрел.
Чуга дважды пальнул в ту сторону, где вспух и рассеялся клуб порохового дыма, а в следующий момент гнедой вынес его на травянистый склон, под сень корявых дубков.
Скрываясь за деревьями, помор направился на розыски стрелка, шепча неласковые пожелания в его адрес, однако никого не обнаружил. Не слезая с седла, Фёдор осмотрел кем-то пригретое местечко, истоптанное сапогами. В густых ветвях были прорублены своего рода амбразуры, вон валяются четыре окурка тонких чёрных сигарок-пахитосок, а рядом — гильза 44-го калибра. Видать, стрелок провёл в засаде добрый час, дожидаясь своей жертвы. Опять штучки Гонта?
Чуга усмехнулся: понял, гадёныш, что в честном бою с ним не совладать, и решил достать втихаря. Упорный, однако… Или тут побывал не Гонтов засланец?
Фёдор внимательно осмотрелся. Ага, вот деревце, к которому был привязан конь, трава вокруг объедена. На растрескавшейся коре осталось несколько серых волосков. Надо полагать, стрелок уехал на лошади мышастой масти — такую тут называют грулла.[105]
А отпечаток грулла оставила — подарок следопыту! Левое переднее копыто было подрезано чересчур узко, правое тоже почикали больше чем надо — лошадь как бы ступала слегка по-медвежьи, косолапо, и это выделялось очень чётко, как роспись под важным документом.
Пройдя по следу, помор выехал в сырой распадок, но преследовать супротивника не стал. Ему работать надо, а не гоняться за душегубцами.
— Попадись мне только, — процедил он и развернул коня.
Под вечер Чуга разорвал новую пачку с патронами, набил огнеприпасами карманы и отправился подальше от стада пострелять. Нельзя пропускать занятия…
Перед ночлегом коров напоили из глубокого ручья и прогнали ещё версты две, чтобы скотина получше устроилась на ночёвку. Да и утром поднять животину будет полегче.
— Федька! — крикнул Туренин. — Поехали с нами!
— А куда это вы намылились? — поинтересовался Чуга.
— Тут городишко под боком, Сэнд-Сити!
— В кои веки ещё нам салун повстречается? — поддержал князя Шейн. — Считай, всё лето без выпивки!
— А стадо на кого оставим?
— Мы посторожим! — ответили близняшки Гирины. — Непьющие мы…
— Да я и сам… А, чёрт с вами, — махнул рукой Фёдор, — погнали!
Добрались до городишки в потёмках. Сэнд-Сити располагался в неглубокой долине, все холмы вокруг кудрявились лесами, но в низинах деревья: тополя или низкорослые ивы — росли только вдоль редких ручьёв.
Помор остановил чалого возле конюшни, избегая света фонаря, подвешенного у ворот. Пахло свежим сеном, навозом, кожаной сбруей и лошадиным потом.
Заводить коня внутрь Фёдор не собирался, лишней пары четвертаков у него не было, да и зачем? Он заехал в это местечко на пару минут, но осмотреться не мешает.
Жители Сэнд-Сити ложились рано, в их домах редко мелькал огонёк свечи, зато салуны были ярко освещены фонарями. В темноте слышались гулкие шаги по деревянным тротуарам, сопровождаемые звяканьем шпор, пианино из салуна «Высокая проба» наяривало «О, Сюзанна!», щёлкало колесо рулетки, клацали покерные фишки, нёсся гомон под звяканье стаканов — население гуляло по поводу ещё одного прожитого дня.
Бакеры поехали дальше по улице, шумно оценивая салуны и выбирая заведение по душе, а Чуга спешился у «Аламо», ослабил подпругу и захлестнул поводья на коновязи, не сильно затягивая скользящий узел. Поилка располагалась тут же, и чалый потянулся к воде.
— Пей, пей… — похлопал его по шее Фёдор. — Я тож глотну чего-нибудь.
Поднявшись по ступеням, он толкнул «крылья летучей мыши» и попал в длинную, довольно узкую комнату с чугунной печкой в одном конце и стойкой бара, протянутой футов на пятнадцать. В помещении стояли квадратные столики, их окружали стулья из тех, которые называли капитанскими. В углу, за столами, покрытыми зелёным сукном, резались в карты, у стойки накачивались виски те, кому не сиделось.
Пройдя к бару, Чуга повернулся к нему спиною, опёршись локтями о стойку, и осмотрелся. Кое-кто из посетителей щеголял в домотканой одежде — такая не шуршит в зарослях, иные явились в джинсах или кожаных штанах. Фермеров можно было узнать по сапогам без каблуков — эти держались кучкой за отдельным столом, накрытым клеёнкой.
— Выпьешь чего, ковбой? — послышался голос у Чуги за спиной.
Фёдор обернулся через плечо и узрел дородного бармена. Подумав, что неплохо было бы сполоснуть горло перед ужином, он сказал:
— Бурбону на два пальца.
Кабатчик кивнул и ловко нацедил желаемое в стакан. Расплатившись серебряным пятицентовиком, Чуга пригубил виски — и проглотил одним махом. Ничего так… А всё ж водочка получше будет. Да под селёдочку, с картошечкой, с лучком, с хлебушком ржаным… Ммм…
Мужик, стоявший у стойки, боком к Чуге, обтёр руки о грязную рубаху и повернул к Фёдору обрюзгшее лицо. Чёрные бусинки глаз посверлили Чугу, посверлили и заблестели маслено.
— Я тебя не знаю! — сказал мужик неприятным голосом.
Помор смерил его холодным взглядом — от мятой шляпы с короткими полями до кобуры, из которой торчала захватанная рукоятка револьвера, — и ответил:
— Я тебя тоже. И ничего, жив пока.
— Чего? — не дошло до мужика.
— Отвали, — посоветовал ему Чуга, соображая, что мужичок-то трезв. Видать, утвердиться желает. Знавали мы таковских…
Мужик, похоже, обрадовался. Отступив на шаг, он ткнул пальцем себя в грудь:
— Это ты мне?! Да ты знаешь, кто я?
— Знаю, — кивнул Фёдор с серьёзным видом. — Говно на палочке.
Он чувствовал, как раздражение, поселившееся в нём с момента неудавшегося покушения, перерастает в бешенство. А вот посетители шарахнулись от обоих в стороны.
— Я — Керли Стоун! — пропел мужик.
И выхватил свой потёртый «данс-и-парк» 44-го калибра. Выхватил с быстротою молнии, но всё равно опоздал — «смит-вессон» рявкнул на долю секунды раньше. С противным чавкающим звуком пуля разорвала плоть на груди у Керли, поражая того в самое сердце. Стоун сделал шажок назад, заплетая ноги, и рухнул навзничь, разбросав руки и ноги по грязным опилкам.
А Чуга словно очнулся. Стоя с дымящимся револьвером, в полнейшей тишине, он обвёл глазами посетителей, замечая Павла Туренина, замершего в дверях.
— Всё было по-честному, ковбой, — еле выговорил бледный бармен. — Я — свидетель.
— Надо же! — послышался голос из толпы. — Стоуна завалили!
— Он вонял, как скунс, — сказал Фёдор, опуская револьвер в кобуру. Повернулся и вышел вон. Резко отвязав коня, он вскочил в седло.
— Подожди! — крикнул князь.
Ждать долго не пришлось — вороной Туренина подскакал тут же.
— Ну ты и быстр! — воскликнул Павел. — Я даже не заметил движения! Раз! И готово!
— Какого чёрта, Пашка?! — рявкнул Чуга. — На кой мне было его убивать? По морде съездить, чтоб успокоился, и всё!
Князь помолчал, пуская коня шагом, и сказал весомо:
— Возможно, ты бы и успел его ударить, но он всё равно бы выхватил… что там у него было? «Кольт»?
— «Данс-и-парк», — буркнул Фёдор.
— Хорошая железяка, — кивнул Туренин. — Во время Гражданской войны их клепали прямо тут, в Техасе. И чего ж ты хотел? Реверансов и шарканий по опилкам?
— Всё равно, не сдержался я. Это мне тот выстрел аукнулся.
Повинуясь порыву, Чуга рассказал о неизвестном стрелке, чуть было не отправившем его на тот свет.
— Не знаю, не знаю… — протянул князь. — Может, на грулле и чужак упылил, но я уверен — его ствол куплен Гонтом.
— Похоже на то… Господи, как же мне всё это надоело!
Туренин хмыкнул.
— А ты у нас настоящий ганфайтер, мой друг! У тебя очень быстрая реакция, твёрдая рука и великолепная координация. Не зря ты упражнялся — трудно в учении, легко в бою! Хотя это врождённое, Федь, лично мне такого никакими экзерсисами не достичь.
— А оно мне надо?
— Ну пригодилось же!
За ужином к ним присоединился Ларедо, уже изрядно промочивший горло.
— Слыхали? — возбуждённо сказал он, принимая у Фимы тарелку с тушёными бобами. — В Сэнд-Сити Керли Стоуна кокнули! Как раз когда мы туда заезжали!
— Позвольте вам представить, — церемонно сказал Туренин, указывая на хмурого Чугу, — он и кокнул.
— Он?! — вытаращился Шейн. — Стоуна?!
— Сам видел!
— Ничего себе!.. — выдохнул Ларедо.
— Это таки правда? — оживился Ефим, оборачиваясь к Фёдору.
— А что мне было делать? — пробурчал Чуга. — Он попёр на меня, а потом выхватил пушку.
Беньковский торжественно насыпал Фёдору полную тарелку и сказал:
— Состарюсь, стану внукам рассказывать, как кормил лично Фёдора Чугу, шо мы держим за легенду Запада!
— Да иди ты… — скривился помор, но тарелку принял.
Потихоньку-помаленьку он смирялся с произошедшим, но горечь всё равно оставалась. Это умертвие, неожиданное для него самого, было совершенно излишним, ненужным. От Керли несло как из помойки, но это же не повод для убийства. Одно дело враг — там всё просто и понятно: или он тебя, или ты его. Так уж лучше ты его. Но здесь?! Этот вонючка гонор тешил. Хотел, видно, насладиться чужим унижением, уповая на свою славу ганфайтера. И нарвался на пулю…
Ну и чёрт с ним, ожесточился Чуга. Что хотел, то и получил. Переживай тут из-за всякого скунса… Но на душе всё равно было погано.
Доев жаркое, он присоседился к костру из корней мескитового дерева, вокруг которого полусидели, полулежали бакеры. Обычно Фёдор не смотрел ночью в огонь, а то потом долго приходится привыкать к темноте. Глянешь кругом — и не заметишь даже дула, направленного на тебя. Но в компании опаски не было, помор бездумно следил за пляской трепещущих языков пламени.
Семён, отломив от плитки кусок жевательного табака, сунул его в рот и задвигал челюстями. Иван, важничая, достал из кармана сигару, откусил кончик и закурил, вытянув ветку из костра. Остальные дымили самокрутками.
— Не-е… — лениво тянул Захар, продолжая разговор, начатый до прихода Чуги. — Белому индейца не обхитрить. Нам терпения ихнего не хватает! Што ты… Знаешь, как Пёстрый Ворон зарезал коменданта Форт-Белкнапа? Залёг в грязи возле самой тропинки, весь измазался и часа два не двигался. Солдаты в дюйме от него мотались туда и обратно, ничего не замечая, а потом комендант вышел облегчиться, и кайова зарезал его, вспорол живот от паха до грудины, и ушёл со скальпом!
— А как они скальпы снимают, видели? — вмешался Полужид. — Мне однажды довелось… Лежу, значит, под кустиком, притворяюсь дохлым енотом, с пулей в бочине. Фургон горит, шо твой костёр, и тут краснопузый нарисовался… Берёт одного нашего за голову и ножом на макушке кружок вырезает. А потом хватает волосы немытыми руками, ногами у плечи мертвяку упирается, и — чпок! — отрывает скальп… Ей-богу, мине однажды, когда услыхал, как бутылку шампанского раскупоривают, аж продрало всего!
— Да уж, хитры наши краснокожие братья… — зевнул Ларедо, более-менее понимая английскую речь с русским акцентом. — Помню, в Седьмом кавалерийском служил один полковник. Чванливый был — спасу нет! И держал он при себе породистого жеребца, всем коням коня. Настоящего арабского скакуна! Полковник его из самой Африки привёз, когда служил там, гонял бедуинов по Сахаре, или кого он там гонял… Ух и трясся же он над своим конягой! Одного никогда не оставлял, даже пастись отпускал под присмотром — жеребчик травку хрупает, а солдат его за повод держит. И что вы думаете? Подкрался какой-то краснокожий — и увёл животину! Главное, повод остался, обрезанный правда, и солдат стоит, ничего понять не может, а индеец на полковничьем коне дёру даёт!
— Догнали? — с интересом спросил Фёдор.
— Куда там… Полковник всех на уши поставил, огромные деньги сулил, да всё без толку.
— Ларедо! — послышался голос из темноты. — Твоя очередь!
— Иду! — откликнулся Шейн страдающим голосом.
Чуга глянул в сторону залёгшего стада, но ничего не увидел. Ковбои по двое объезжали коров всю ночь по кругу — один с левого края, другой с правого. Пускали коня шагом и напевали кто как мог — это успокаивало нервных лонгхорнов,[106] обозначая: едет свой.
Помор встал и потянулся. Хватит с него посиделок. Завернувшись в одеяло, он улёгся. Не самая удобная постель, однако ежели притомишься по-настоящему, то и стоя заснёшь. Уже сквозь дрёму до Чуги донёсся протяжный, завывающий голос Шейна:
Когда я проеду по улицам Ларедо, Когда я однажды вернусь в Ларедо…Глава 10 «СТРЕЛЯЮЩИЕ КОВБОИ»
Сразу после обеда, когда стадо мирно паслось, а ковбои отдыхали от трудов праведных, из прерии явились пятеро здоровяков виду довольно разбойного. Дорогие сёдла, револьверы с серебряной чеканкой и перламутровыми щёчками рукояток выдавали «стреляющих ковбоев», приученных не пасти коров, а красть их.
Ехавший впереди носил чёрную шляпу-котелок, синюю рубашку с двумя рядами пуговиц и полосатые брюки. Широкое загорелое лицо обрамляла рыжеватая шкиперская бородка, мясистые губы перебирали окурок сигары.
С усмешкой оглядев Чугу и его бакеров, бородач вынул сигару изо рта и надменно заявил:
— Мы забираем половину этого стада!
— Здрасте вам через окно! — изобразил Ефим крайнюю степень удивления.
— А жирно не будет? — ухмыльнулся Федор.
Бородатый склонился с седла и снисходительно объяснил:
— Нас пятнадцать человек. Будете вести себя смирно — не тронем!
Невозмутимый Туренин, объезжавший стадо, приблизился, красноречиво кладя «спенсер» поперёк седла.
— Дурачьё! — процедил главарь.
В следующее мгновение Чугин «смит-вессон» уставился на него чёрным зиянием дула.
— Убирайтесь! — холодно сказал Федор. — Попадётесь ещё раз — угощу вами канюков.
Бородач медленно сунул окурок в рот и повернул коня. Все пятеро неспешно удалились, бросая угрожающие взгляды через плечо.
Чуга сунул револьвер в кобуру и сухо распорядился:
— Дежурить будем все.
— Натурально, — кивнул Иван.
— Узнал того, с бородой? — глянул на брата Захар.
— Где-то я его уже встречал… Вот где только?
— Это Карибу Харт, ганфайтер из Доджа.
— Точно! Харт оч-чень любит чужую говядину!
— Нашей он подавится, — отрезал помор.
…Вечером, когда стадо растянулось у безымянной речки на водопое, из прерии налетели семеро или восьмеро всадников. Крича и стреляя в воздух, маша разожжёнными факелами, они распугали коров, обращая их в безумную стампиду, — дико мыча от ужаса, лонгхорны и шортхорны с одинаковой прытью помчались прочь, живой лавиной сметая всё на своём пути.
— В сторону! — заорал Федор, заворачивая чалого. — В сторону, Паха! Затопчут!
— Что мы, зря их собирали?! — провопил князь, пытаясь удержать пятнистого быка, но тот пронёсся носорогом, едва не поддев на рога груллу, которую оседлал его сиятельство.
Чуга бросился наперерез скотокрадам — а кто ж это ещё мог быть?! — и едва не столкнулся с крепким мужиком на вороном коне. Трепещущий свет факела вырвал из темноты «шкиперскую» бородку, перекошенный рот, шляпу-котелок… В следующую секунду свистнула плеть, огрев помора по выставленной руке и полосуя спину.
— Т-твою мать!
Всё закончилось так же неожиданно, как и началось. Мычание и топот стихли, потревоженная тишина установилась снова.
Иван с Захаром поскакали за стадом, зигзагом прочёсывая прерию. Чуга направился в другую сторону, куда, как он заметил, ринулись сотни коров.
Его сердце раздирала бешеная злоба, палящая, лютая ярость. Ведь он гнал не просто скотину, а плоды своих тяжких усилий, бессонных ночей, тревог, страхов и угроз. И вот какая-то сволочь захотела, чтобы месяцы изматывающего труда пошли насмарку?!
— Ну, погодите, — цедил Чуга, — доберусь я до вас!
Всю ночь до самого рассвета ковбои носились по прерии, сгоняя перепуганных коров обратно. Набегавшись, бурёнки притомились, разбрелись и хрупали сочной травою, успокаивая нервы.
К утру удалось собрать больше восьми сотен голов. Передохнув малость, запихав в себя наскоро завтрак, погонщики продолжили поиски, всё дальше уходя от речки, благо что в эту сторону скотина не кидалась.
— Восемьсот пятьдесят! — крикнул Исаев, опуская платок, натянутый на нос. — Больше нема!
— А куда тогда делись ещё двести? — задал резонный вопрос Туренин. — Не до дому же они отправились!
— На юг свежих следов нет, — сказал Иван, подъезжая от реки, — только наши старые. Зато я нашёл набитую тропку вдоль речки на запад. Там брод, и муть ещё не осела. Стадо провели всего пару часов назад!
— Ясненько… — зловеще проговорил Чуга.
Фима подхватил «винчестер» и воскликнул:
— Ищем до здрасте тех уродов, шо подумали, они умнее нас!
— Оставайтесь здесь, — осадил его Фёдор, — стерегите коров! А я прогуляюсь за речку…
— Я насчитал пять лошадей, — сказал Гирин осторожно. — Вполне может быть и такое, что скотокрадов целая свора. Вспомните, сколько этих гадов «выступило» ночью!
— Хор так хор, — медленно проговорил Фёдор. — А я буду солировать!
Дав чалому шенкеля, он поскакал к реке.
Долгое время помор не замечал на берегу ни единого отпечатка. Понадобилось проехать пару миль, прежде чем он углядел широкую полосу истоптанной травы, тянувшейся к реке из прерии. Именно тут, в окружении хилого ивняка и камышей, проходил брод. Река в этом месте была настолько мелка, что камни выглядывали со дна.
Фёдор направил коня в воду и расстегнул ремешки на обоих кобурах, решив не доставать «генри» из седельного чехла, — недаром же он всю дорогу тренировался стрелять с обеих рук, а у винтовки всего один ствол…
Стадо на своём пути вытоптало траву так, что искать следы не требовалось — конь ехал, словно по дороге, точно ведая пункт назначения.
Ровная плоскость прерии внезапно пошла под уклон. Спустившись в обширную низину, Чуга направил мустанга на пологий подъём. Перевалив взгорок, он оказался на краю ещё большей низменности, где протекал ручей, русло которого обступили тополя.
Коровы были здесь — сотни две бычков-двухлеток мирно паслись, отмахиваясь обгаженными хвостами от букашек-таракашек.
А прямо перед Фёдором, в каких-то десяти саженях, весело горел костёр, вокруг которого сидели и лежали скотокрады, числом восемь. У каждого на поясе висело по две кобуры, а кое у кого ещё и третий револьвер торчал за поясом. В стороне, у раскидистого дерева, были привязаны лошади, с ними находился девятый член банды.
Всю эту картинку Чуга усмотрел сразу, но она его не впечатлила — спрыгнув с лошади, помор выхватил «смит-вессоны» и открыл огонь.
Первым, хватаясь за грудь, пал тот, кто ухаживал за конями. Задев двоих справа, Федор выпустил три пули влево — две из них нашли свою цель, одна — в голову.
Когда скотокрады опомнились и вскочили, чтобы дать отпор, то уже вшестером. Первым отреагировал бородач в котелке, видимо главарь. Низко приседая и скалясь от натуги, он опорожнил барабан «кольта», метясь в Чугу, но помор постоянно был в движении — то приседал, то падал и перекатывался, вскакивал — и жал на спусковой крючок. Одна пуля обожгла Фёдору плечо, другая рванула за рукав под мышкой, третья расщепила луку седла, четвёртая ужалила в ногу выше колена, оставляя кровавую царапину. Пятая прозудела мимо, обдав щеку горячим воздухом, после чего боёк «кольта» щёлкнул в пустую камору.
Фёдор, низко пригибаясь и стреляя в ответ, бросился вперёд. В этот момент он не испытывал страха, зато в избытке хватало нетерпеливого желания прибить скотокрада.
Торопясь, Карибу Харт совершил «пограничную замену» — пустой револьвер перекинул в левую руку, а заряжённый — в правую. Вот только выстрелить уже не поспевал — на него наехал гнедой Туренина и отбросил в костёр.
— Спалился, ворюга!
Роняя оба револьвера, бородач завопил, завизжал от боли, стал кататься по траве, пытаясь сбить пламя. А Чуга в это время хладнокровно опорожнял барабаны «смит-вессонов». Залётная пуля продырявила шляпу помора. Фёдор со злости пристрелил стрелка в вылинявшей красной рубашке, убегавшего окарачь. Послал пулю в спину по-заячьи петлявшему мексиканцу в обвислом сомбреро. Тут и у Чуги патроны кончились, а шустрый скотокрад уже вставал из травы, вскидывая «винчестер»…
Недолго думая, Фёдор кинулся к чалому за винтовкой, но выстрел сзади опередил его намерения, снося затылок шустряку.
Чуга обернулся — на склоне холма из травы поднялся Исаев с обрезом.
— Спасибо, — выдохнул Чуга.
— Не за что, — ухмыльнулся Сёма. — Шо ж вы, хлопцы, мине ничего не оставили?
— Отчего ж? — хладнокровно заметил князь. — Вон их главный валяется.
Карибу лежал на траве, шипя от боли и ругаясь. Туренин вытащил из джинсов сыромятные ремешки, какие найдёшь в кармане любого ковбоя, и крепко связал бородатому руки. Выпрямившись, он пнул бандита и сказал:
— Вставай.
— В-вы кончили всех! — промычал Харт.
— Ещё не всех, — поправил его Чуга и сделал знак Полужиду.
А тот и рад стараться — подхватил из разбросанного хозяйства скотокрадов свёрнутое лассо и перебросил его через крепкий сук на дереве.
— Вы чего хотите делать? — беспокойно прохрипел вожак.
— Странный вопрос, — пожал плечами Федор. — А что ещё делают с теми, кто ворует скот? Вешают на ближайшем дереве… Вот ты, скотокрад, а вон дерево.
— Не-ет! — заверещал главарь. — Я — Карибу Харт! Меня все знают в Абилине и Додже! Я…
Не слушая излияния Харта, Чуга на пару с Турениным подхватили его, лягавшегося, раскорячившегося, извивавшегося. Помор звезданул Карибу в тяжёлую челюсть, и тот сомлел. Фёдор взвалил грузное тело главаря на неосёдланную лошадь бурой масти, а Семён кое-как усадил его.
— Маму вашу самым грубым образом! — прокряхтел он. — От же ж бугай!
Туренин, почти не колеблясь, накинул Харту на шею петлю, затянул её и полюбовался делом своих рук.
— Собери оружие, — велел ему Федор, — а я займусь лошадьми.
— А я — мертвяками! — сообщил Семён. — Не оставлять же добро койотам!
Вскоре, нагруженные трофеями, друзья погнали коров обратно. Скотина на то и скотина — идти не хотела, но Чуга был не в настроении спорить. Мыча и брыкаясь, бычки тронулись в путь.
Карибу Харт медленно приходил в себя. Почувствовав верёвку на шее, он закашлялся — и тут же испуганно засипел: «Стой, стой, стой!» — удерживая пугливую лошадь на месте.
Фёдор неторопливо подъехал к нему, помахивая той самой плетью, коей его огрели ночью, во время стампиды.
— Печален удел скотокрада, — сказал он с усмешкой. — А ты не воруй!
— У меня есть тысяча долларов, — быстро, задыхаясь, проговорил Харт. — Они твои! Только отпусти!
— Отпускаю, — бросил Федор и стегнул бурку плетью. Лошадь отбежала на пару шагов. Пуча глаза, Карибу соскользнул — и повис, дёргаясь в петле, туго натягивая верёвку.
— Этого я пропустил, — деловито сказал Полужид, залезая в карманы повешенного. — Молодцы, таки компенсировали урон! Итого — тысяча триста двадцать долларов. Ставки сделаны, господа! Ставок больше нет!
— Ты подгоняй с той стороны, — обернулся помор к Исаеву, — а я с этой буду.
— Хоу, хоу!
И стадо, привыкшее подчиняться, покорно двинулось, куда ему было велено идти.
Перед самым последним переходом прерия начала меняться — показались огороженные и засеянные участки, по сторонам паслись стада, крупные и мелкие, дожидаясь своей очереди грузиться в вагоны и отправляться на Восток.
Завиднелись далеко разбросанные фермы — домишки из сырцового кирпича, амбары с односкатной крышей, обширные загоны. Кое-где мелькавшие всадники не приближались к стаду Чуги — коровы тут были не в новинку.
А на следующий день, ближе к обеду, нарисовался и сам Абилин — городишко небольшой, но с претензиями. На его пыльных улицах высились большие дома, выглядевшие несуразно — посреди-то прерии, ровной как стол. Главную улицу Абилина пыталось украсить собою двухэтажное кирпичное здание «Метрополитен-отеля» и такой же величины станция дилижансов компании «Барлоу и Сандерсон», а ближе к железнодорожным путям поднимался уж и вовсе трёхэтажный «Дроверс-коттедж» — «Дом погонщика» — с номерами и кафе на веранде.
Но основную массу домов составляли обычные для Запада каркасные постройки с фасадами из некрашеных досок. Впрочем, на отдельных участках были заметны следы и краски, и ухода, кое-кто из жителей даже клумбы разбивал перед крыльцом. Ну и, конечно, хватало салунов — «Микадо», «Бычья голова», «Аламо», «Серебряный доллар», «Довни», «У Бреттона»… Пей — не хочу!
Оглядевшись, Чуга направился к огромному скотопригонному двору, сооружённому в прошлом году Джозефом «Ковбоем» Маккоем, смекалистым ранчеро. Туда можно было загнать три тысячи коров. По сути, «Ковбой» Маккой основал Абилин, превратил маленькую, занюханную станцию на железной дороге в самый первый ковбойский городок Америки.
Выспрашивать дорогу не приходилось — весь Абилин можно было пройти от окраины до окраины минут за десять. Гуляючи.
Фёдор нашёл искомое у самой железной дороги. Скотопригонный двор окружала добротная ограда из жердей на прочно вкопанных столбах, а широкие ворота открывались к пологой насыпи, где проходили рельсы. На путях стояли пустые вагоны для скота с уже опущенными сходнями. Паровоз пыхтел далече, у водокачки.
Скотопригонный двор был покрыт чёрной вонючей грязью, истоптанной тысячами копыт. Кое-где лежали кучи прелого сена, а вот коров не было, хотя тяжкий дух их недавнего присутствия так и витал вокруг.
Облокотившись на ограду, во двор задумчиво глядел плотный, коренастый мужчина лет под сорок. Судя по «стетсону» да по изгвазданным в навозе сапогам — скотовод, но полосатые брюки и коричневый сюртук выдавали в коренастом птицу более высокого полёта.
Подойдя ближе, Чуга обратился к нему:
— Не подскажете ли, где я могу увидеть мистера Маккоя?
Мужчина повернулся к нему всем телом, оглядел помора и коротко сказал:
— Это я.
— Меня зовут Теодор Чуга, — представился помор. — Со мной стадо в тысячу голов.
— Откуда гнали? — поинтересовался Маккой.
— Из Техаса.
— Скот упитан?
— Жирненький, — усмехнулся Фёдор, — отъелся по дороге.
— А молод ли?
— Больше всего двухлеток, пятилеток сотни две.
Джозеф «Ковбой» достал из нагрудного кармана сигару. Откусив кончик, он чиркнул спичкой и раскурил произведение гаванских табачников.
— Теодор Чуга… — проговорил Маккой, щурясь. — Не ты ли прикончил Ньютона Монагана?
— Было дело, — сдержанно ответил помор.
Ранчеро кивнул, затянулся как следует и сказал:
— Партию скота я отправил на днях, так что двор пуст. Можешь загонять стадо. Много за него не дам — мяса нынче хватает. Двадцать пять долларов за голову. Идёт?
— Тридцать пять.
Маккой пальцем поднял шляпу надо лбом, почесал его, будто в раздумье, и назвал свою цену:
— Тридцать.
— Согласен, — кивнул Чуга, не надеявшийся и на двадцатку.
— По рукам?
— По рукам!
Остаток дня был заполнен прогоном стада, устройством его на новом месте, передачей шустрым ковбоям Маккоя.
Фёдор вернулся в город усталым, но в то же время испытывая невероятное облегчение. Тяжкие недели перегона, полные каждодневных угроз и тревог, — всё это осталось позади. Им сопутствовала удача, они поставили на кон что имели — и выиграли у судьбы.
Федор улыбнулся: теперь можно и выспаться по-человечески! А для начала — поесть. Или так — выпить и закусить! Занятый приятными раздумьями, помор направил чалого к платной конюшне.
За её широкими воротами пахло навозом, кожаной сбруей и свежескошенным сеном. В денниках возились лошади, фыркая и переступая копытами. Наверху располагался сеновал, занимая весь чердак. Туда вели две лестницы. По одной из них как раз спускался конюх — пожилой мексиканец с редкой проседью в чёрных как смоль волосах.
— Оставите на ночь, сеньор? — спросил он, отряхивая с себя солому.
— Да, — кивнул Чуга, — ему надо отдохнуть.
— Ночёвка стоит пятьдесят центов, сеньор. Порция корма — ещё двадцать пять.
Федор сунул конюху доллар и велел:
— Задай ему овса или кукурузы. Да, и протри хорошенько!
— Си, сеньор! — откликнулся повеселевший мексиканец.
Благодушествуя, предвкушая завтрашние покупки и обновки, Чуга неторопливо прошествовал к железнодорожным путям. Даже просто пройтись пешком, прогуляться по гулким доскам, не чувствуя под собою седла, было маленьким удовольствием.
Абилин жил своею обычной жизнью. Где-то скрипел насос, и тугая струя била в оцинкованное ведро. У магазина напротив загружалась пара фургонов. Двое ковбоев сидели на краю дощатого тротуара, смоля цигарки. Лохматая собака лежала в горячей пыли, искоса поглядывая на ощипанного петуха, клевавшего лошадиные «яблоки».
Из салуна «Хоум-стейк» доносились взрывы грубого хохота, а в окне номера на втором этаже «Дроверс-коттедж» мелькал женский силуэт. Нежный голос выпевал «Красотку Бетси». Классика!
Фёдор направился было к веранде «Дома погонщика», словно завлечённый неведомой сиреной, но передумал. В измаранных джинсах и выгоревшей рубашке, в грязных сапогах, пропахший пылью и потом… «Не та ты публика», — усмехнулся Чуга. Пообещав себе заглянуть в «Дроверс-коттедж» завтра, он направил стопы к «Сейвори-салуну», вывеска которого извещала о том, что «Сью Джордан предлагает стейки, яйца и пироги».
Толстые стены салуна из глины хранили приятную прохладу — хоть лето ещё и не началось, а солнышко уже припекало. Внутри было малолюдно.
Растрёпанный фермер с хлюпаньем и чавканьем поглощал порцию похлёбки, пачкая скатерть-шотландку. Старик в вислой шляпе, из-под которой выглядывали моржовые усы, опущенные на грудь, мирно дремал у стенки, нежно обняв старенькую винтовку.
Федор умял бобы с мясом бизона и слопал половину яблочного пирога, когда в салун ввалилась шумная компания ковбоев. Радуясь жизни и законченной работе, они столпились у стойки, требуя виски. Шустрый бармен мигом их обслужил. До Чуги доносились обрывки разговора:
— В Огаллалу он махнул, вот куда.
— Ха! Если Берт надеется, что там не знают, какой он брехун, то зря!
— Что да, то да…
Фёдор без охоты вышел из-за стола и сунул доллар румяной пышечке, вероятно той самой Сью Джордан.
Покинув заведение, он остановился близ входа, прислонясь к столбу, поддерживавшему навес. Сощурившись, огляделся.
В Абилине всё текло по-прежнему. Дальше по улице, возле аккуратного домика с верандой, остановилась пролётка, из неё вышел щеголевато одетый мужчина с чёрным саквояжем. Надо полагать, местный врач. Воз с трясущейся горой сена проследовал к конюшне. Фермер-немец сложил в фургон инструменты — лопату, лом, кирку — и занял место на козлах. Из проулка, на усталых конях, выехали трое парней в насквозь пропыленной одежде и спешились у «Сейвори-салуна». С другой стороны подошли ещё двое здоровых мужиков — один с наголо обритой головой, так что шляпа сидела на ней как на болванке, а другой был затянут в кожу — всё на нём: и штаны, и рубаха — было сшито из оленьей замши, изрядно потёртой и засмальцованной до черноты. Но пара предметов, находящихся при «кожаном», отличалась чистотой и ухоженностью — это были револьверы «шоук-и-мокланахан», низко висевшие в кобурах ручной работы, подвязанные над коленями сыромятными ремешками.
Мордатый, губастый, своим широким, словно расплющенным, носом здоровяк смахивал на негра, тем более что и кожа его, белая при рождении, никогда после, похоже, не соприкасалась с водой и мылом, имея неприятный серый оттенок.
Быстро осмотревшись, «кожаный» остановил свой взгляд на Чуге, и тут же пухлые губы его разошлись в подобии улыбки. Уткнув руки в боки, совсем близко от револьверных рукояток, он громогласно объявил, не сводя глаз с Фёдора:
— Ты убил Карибу Харта! Так. Он мой брат! Я — Пегготи Харт! Так!
Помор выпрямился и холодно сказал:
— Твой брат — паршивый скотокрад. Он увёл наших коров, за что мы его и повесили.
Трое «запылённых», до этого лениво отряхивавших штаны, шагнули к Фёдору почти одновременно, в ногу. Он мельком глянул на них, вычисляя самого опасного. Ближе всего стоял высокий юнец с двумя «кольтами» в кобурах, но он-то как раз Чугу не беспокоил — это был один из тех неразумных вьюношей, которые спешили доказать свою крутизну, походя на покуривающих мальцов, — те тоже играют во взрослых, не разумея, что папироса только подчёркивает их нежный возраст. Прямая и явная угроза исходила от невзрачного мужчинки в мятых штанах с пузырями на коленях. У него имелся всего один револьвер, но мужчинка явно умел им пользоваться — тусклый, пустой взгляд убийцы подтверждал это.
— Что, не ожидал нас встретить? — глумливо усмехнулся Пегготи. — Твоё счастье, что Карибу отослал половину своих людей на ранчо. А щас будет несчастье!
Чуга совершил всего один промах — бросил взгляд на мужчинку с потёртым револьвером, — но этого было достаточно. Сокрушительный удар в челюсть словно взорвал его голову. Фёдора отнесло и приложило к столбу. Харт тут же врезал ему в солнечное сплетение, вышибая дух, и хуком двинул в ухо.
Повалившись на коновязь, Чуга ударил Пегготи ногой, но лишь пуще разъярил братца Карибу да раззадорил его. Все пятеро набросились на помора, с размаху отвешивая пинки ногами. Боль толчками шла по всему телу, туманя сознание и отнимая силы. Единственный раз Фёдор сумел хлопнуть ладонью по кобуре, висевшей справа, и тут же заработал такой тычок сапогом, что внутри будто что хрустнуло.
Чуга лежал на деревянном тротуаре, доски грохотали, пыль витала, скотокрады, хэкая от души, били и били, но натура брала своё — изнемогая, помор подтягивался, собирался, терпел…
— Хватит, ребята! — сквозь звон в ушах донёсся до него голос Харта. — Я не собираюсь забивать его до смерти. Бад, тащи верёвку! Вздёрнем этого бычка во-он на том тополе!
— Маршал будет против, Пег, — отозвался кто-то.
— А мне наплевать! И на маршала, и на шерифа, и на президента! Кэш и ты, Регал, сажайте этот мешок с дерьмом на коня.
Грубые руки перевернули Чугу на бок и попытались рывком поднять. Тому, что справа, Фёдор заехал локтем, ломая нос. Обратным движением врезал кулаком в подбородок стоявшему слева. Ладонь упала на рукоятку «смит-вессона» в левой кобуре — покуда его избивали, он придавливал её своим телом, будто сохраняя возможность дать достойный ответ.
Кровь из разбитой брови заливала левый глаз, правый опух так, что видно было как в щёлочку, но холодная ярость, переполнявшая Чугу, помогала прозреть. И Фёдор открыл огонь.
Первым пал опасный мужчинка — Регал. Задёргавшись, как кукла на ниточках, он рухнул в поилку, испугав привязанных коней. Вторым упал в грязь высокий, длинноволосый юнец — Кэш. Третий из «пыльных» заметался и бросился невзвидя света куда-то в сторону конюшни.
Ковбои, пившие в салуне, выскочили было за дверь — и тут же порскнули в стороны, боясь словить шальную пулю.
Упав на колено возле скулившего юнца, Чуга выстрелил вдогонку бегущему. Ушибленная правая рука у Фёдора плохо слушалась, но пальцы отобрали-таки у Кэша его «кольт» и выпустили две пули по бритоголовому.
— Осторожно, Харт! — крикнул кто-то из залёгших ковбоев. — Это Теодор Чуга!
Рот Харта болезненно дёрнулся, но его грязная ладонь, казалось, жила сама по себе — на неё предупреждение не подействовало. Заскорузлые пальцы сомкнулись на рукоятке, потащили «шоук-и-мокланахан» из кобуры, взвели курок…
Два выстрела из «кольта» прозвучали так быстро, что их грохот слился воедино. Обе пули вошли Харту в сердце. Отверстия, оставленные ими, располагались так близко, что их можно было прикрыть одной монетой.
Пегготи выронил револьвер, рухнул на колени, качнулся и повалился в пыль.
Опасливо привставая, залёгшие ковбои молча смотрели на Чугу. Потом тот, который советовал Харту не связываться, сказал:
— Всё по-честному.
Фёдор боднул воздух головой, изображая кивок, и увидел давешнего щёголя с саквояжем, опасливо крадущегося вдоль стенки. Оглядев «поле боя», щёголь мрачно сказал:
— Пегготи давно напрашивался. Я — Док Рингголд. Пройдёмте-ка на кухню, Сью даст нам тёплой водички, а я наложу швы. Вы не ранены?
— Цел вроде… — прохрипел Чуга. — Почти.
Взяв два доллара за услуги, Док Рингголд обработал Фёдору ссадины и «залатал» его в двух местах. Двумя минутами позже к «Сейвори-салуну» примчались Туренин с Беньковским. Они увидели хмурого помора с забинтованной головой и распухшим носом, с рассечённой скулой и разбитым подбородком, с заплывшим глазом и здоровенным кровоподтёком во всю щеку.
— Опять мы не поспели! — в сердцах воскликнул князь. — А ведь я как чувствовал, что грядут неприятности! Помнишь, Карибу ещё говорил, что их пятнадцать? Ох и уделали тебя…
— Покоцали как пасхальное яичко, — поддакнул Фима.
Фёдор смолчал, мрачно сопя.
— Это что, джентльмены, — бодро откликнулся Док Рингголд. — Видели бы вы, какие синячищи у него на теле!
Помор засопел ещё громче.
— Я замечу хоть раз скотокрада, — ровным голосом проговорил Беньковский, — я сделаю несчастье.
— Так уже не спеши!
Возникший из ниоткуда шериф оглядел побоище.
— Нельзя даже на часок отлучиться, — брюзгливо пожаловался он, — чтоб кто-нибудь не затеял стрельбу! Кто тут чего не поделил, Док?
Врач обстоятельно поведал представителю закона об инциденте.
Шериф поморщился и сказал Чуге официальным голосом:
— Нам тут не нужны неприятности, ковбой.
— Мне тоже, — процедил Фёдор.
— Завтра мы покидаем ваш гостеприимный город, — с приятной улыбкой сказал князь.
— Надеюсь, — буркнул человек закона и удалился.
Покачиваясь, Федор добрался до конюшни и взобрался на чалого, чувствуя себя так, словно разваливается на части. Мирное население потихоньку выглядывало из окон и дверей — всё, дескать? Натешились? Можно возвращаться к обычной жизни, не боясь её потерять?
Помор осторожно набрал воздуху в грудь, боясь потревожить сломанное ребро. Док его так перетянул кушаком, что ни вздохнуть ни охнуть. Сгорбившись в седле, Фёдор протянул конюху серебряный доллар.
— Будь другом, — глухо сказал он, — оттащи хоть мертвяков с улицы.
— Си, сеньор! — с готовностью ответил мексиканец. — Я перенесу их в амбар старого Джада, он будет не против.
— Вот и отлично…
Фёдор тяжко вздохнул. Сколько народу он уже перевёл…
Чуга тут же озлился: да ну их всех к чёрту! Нравится им отправляться на Бут-Хилл?[107] Туда им и дорога! Пусть хоть все там лягут, воздух чище станет!
Мануэль Бака… Коттон Тэй… Эфроим Таггарт… Или этого не считать? Всё ж таки он его на пару с князем уложил. Сайлас Монаган… Добан Мейси… Прайд Бершилл… Ньютон и Хэт… Керли Стоун… А скотокрады? Это ж сколько душ человеческих он успел погубить, мать честная…
Помор возвёл очи горе. «Олёна, ангелица моя, ты оттуда всё видишь, знаешь, что невиноватый я… Пусть простятся мне грехи мои…»
Глава 11 КАРАВАН
Солнце уже клонилось к западу, когда кассир из банка «Экспресс-компани» выложил на стойку пухлые пачки денег. Тридцать с лишним тысяч долларов!
Недрогнувшей рукой Чуга сразу же вручил каждому бакеру по две тысячи в руки.
— А шо так много? — оробел Исаев, сжимая тугую пачку.
— Заработал, — коротко ответил Фёдор.
— Сеня, ты не знаешь шикарной жизни! — сказал Фима, засовывая деньги за пазуху. — Ну так шо имеете сказать? Мы едем до какого места или мне забыть вас навсегда?
— Лично я собрался в Калифорнию, — ответил Чуга.
— Лично я — туда же, — поддакнул Туренин.
— Обратно согласен! — воскликнул Беньковский. — С детства скучал по Калифорнии! Так шо ты мине скажешь за нашу совместную жизнь, Сёма?
— Таки едем всей мишпухой,[108] — решил Исаев.
— А меня возьмёте? — спросил Ларедо.
— Уговорил!
Братья Гирины переглянулись и сказали:
— Мы как все!
— Собираемся тогда, грузимся… Вперёд и с песней!
Увесистый остаток Фёдор честно поделил напополам с князем. Вышло по десять тысяч на брата. С копейками. Туренин понюхал пачки и закатил глаза.
— Пахнет-то как! — сказал он.
Мысли у Чуги метались, как вспугнутое вороньё. Множество желаний подступило сразу, а деньги были той волшебной палочкой, что исполнит их с лёгкостью.
Усилием воли Фёдор приглушил возбуждение. Доллары здорово помогут ему с ранчо, но первым делом надо будет купить фургон. Одной «конестогой» не отделаешься. Ведь всё надо будет везти с собой — инструменты, припасы, оружие, лекарства, одежду. Печку голландскую надо прихватить, чугунную, и ещё одну, из листового железа, стёкла оконные, гвозди, маслобойку, кастрюлю с длинной ручкой, посуду — дешёвую оловянную и дорогую эмалированную, котёл, сковородки… Ох, да легче сказать, чего не надо с собой прихватывать!
— Первым делом, — мечтательно проговорил князь, — я накуплю книг! Блэкстоуна, Плутарха, сэра Вальтера Скотта, Пушкина — если достану… Буду читать и перечитывать по вечерам, сидя у камина… Ну если ты, конечно, пустишь бакера в хозяйский дом!
На сердце у Чуги потеплело.
— Пущу, — проворчал он, — ежели не натопчешь в гостиной.
— Как можно, сэр!.. — делано возмутился Павел.
— Ладно, пора денежки тратить. С толком. Сперва я «конестогой» обзаведусь, одной-то маловато будет. Пошли.
И они пошли. За сто долларов купили новенький фургон с дугами, с тентом, с запасным дышлом и колёсами. Сработанная из белого дуба, «конестога» пахла свежим деревом и смазкой.
Приобрести лошадей в упряжку не составило проблем, а потом надо было только объезжать магазины и грузить, грузить, грузить…
Взяли по двести фунтов муки на каждого, по семьдесят пять фунтов копчёной свинины, по тридцать — сухарей, по десять — риса, по двадцать пять — сахара, по бушелю[109] сушёных бобов и сухофруктов. Десять фунтов соли, полбушеля кукурузной муки, по пять фунтов яванского кофе и по столько же — китайского чаю, полбушеля кукурузных зёрен, поджаренных и размолотых, бочонок уксуса…[110]
Пользуясь случаем, Чуга немного принарядился — переобулся в новые сапоги из тиснёной кожи, купил чёрные джинсы и аж три серых фланелевых рубашки. Разорился и на новый «стетсон».
«Первый парень на деревне, а в деревне — один дом!»
Дня три Федор ничего не делал, только плоть тешил — спал, ел, шатался по Абилину. На чётвертый день, плотно пообедав в «Дроверс-коттедже», он почувствовал, что наотдыхался вдоволь. Можно было двигать по жизни дальше. На Запад. В Калифорнию.
Оседлав чалого (конь тоже отъелся), Чуга неторопливо двинулся вдоль по Мэйн-стрит, зорко поглядывая по сторонам. Князя на гнедом он заметил сразу.
— Федька, — воскликнул Павел, подъезжая, — слушай, тут, за городом, переселенцы сколачивают караван! Они двинут на запад по Калифорнийской тропе завтра или послезавтра. Может, присоединимся? Вместе как-то веселее…
Чуга кивнул:
— Это дело. А то, поговаривают, сиу выходят на тропу войны.[111]
— Я тоже что-то такое слыхал.
— Давай тогда собираться…
Сборы вышли недолгими, уже к вечеру обе «конестоги» двинулись по улице и вскоре покинули Абилин. За городом, в чистом поле, стояло два десятка фургонов, паслись лошади. Стоянка походила на цыганский табор — женщины готовили на кострах, помешивая в котелках сытное варево, мужчины степенно разговаривали о видах на урожай, о конях, индейцах, источниках воды. Дети, как водится, шалили и путались под ногами.
— Кто тут крайний до Калифорнии? — осклабился Беньковский. — Я за вами!
Подъехав, Федор спросил, не покидая облучка:
— Куда направляетесь?
Осанистый мужчина в шляпе с короткими полями, в чёрном жилете, напяленном на ярко-красную рубаху, и в мешковатых штанах, заправленных в сапоги, прокашлялся сначала для пущей важности, а после стал держать ответ:
— На Сакраменто!
— Нам по пути, — спокойно сказал Чуга. — Не против, если мы присоединимся?
— А сами-то откуда? — состорожничал осанистый.
— Проездом из Техаса.
— Тогда милости просим! — обрадовался мужик в красной рубашке. — А то я тут один, кто на Старом Западе[112] бывал! Остальные все с Востока, жизни тутошней не знают…
— Узнают, — усмехнулся помор. Спрыгнув на землю, он протянул руку: — Теодор Чуга. Просто Тео.
— Кэп Гриффин. Я капитан этого каравана.[113] Думаю, выступим завтра с утра.
— Отлично, — кивнул Фёдор и дал знак бакерам: распрягайте!
Два десятка семей, больших и малых, собрались на окраине Абилина — дальше просто не дошли железнодорожные пути. Многие из них оставили позади, на Востоке, родственников, жилища, работу, позволявшую сводить концы с концами. Все они захотели резко изменить свою судьбу — разбогатеть, вырваться из того жизненного тупика, в который людей загоняет скромный достаток. Никто из них не представлял себе, каких трудов будет стоить жизнь на Западе, и насколько она опасна. Сами устремления переселенцев были весьма туманны, а понятия расплывчатыми. Да и как мог, к примеру, сапожник из Филадельфии или плотник из Питтсбурга знать и понимать старательское ремесло? Но им было достаточно того, что где-то далеко-далеко, в благословенной Калифорнии, золото валяется просто под ногами — зачерпнёшь воды в кофейник из ручья — и обязательно самородок выловишь…
А спорить с этими людьми, убеждать их в наивности помышлений было бы простой тратой времени — переселенцев вела вера, Великая американская мечта. У каждого своя, она питала надежды переселенцев и заряжала бодростью робкие сердца. И зачем таких отговаривать? Уж если они решились бросить всё, чтобы идти за счастьем, стало быть, нашли-таки в себе силы изменить течение бытия. Быть может, и обретут то, что искать взялись? А уж Запад каждому отмерит по вере его…
Побродив по лагерю, кивая незнакомым людям, волею случая ставшим ему попутчиками, помор обошёл нещадно дымивший костёр, куда малоопытный переселенец набросал сырых ветвей, и оказался рядом с новеньким фургоном, на козлах которого сидел грустный негр и строгал палочку ножом. Восемь крепких миссурийских мулов, составлявших упряжку, паслись неподалёку.
Обличье чернокожего показалось Чуге смутно знакомым, но тут из-под тента выглянула молодая женщина. Фёдор по привычке поклонился слегка, касаясь шляпы, и замер. Это была Марион.
Первой узнала его девушка. Она медленно спустилась на землю, не зная, куда ей руки девать. Марион то поправляла причёску, то складывала ладони, словно умоляя о чём-то, а после застонала и бросилась Федору навстречу.
— Тео! — вскрикнула она, хватая Чугу за руки. — Тео… Господи, как же я рада вас видеть, если бы вы только знали! Как мне вас не хватало… — Девушка охнула, протягивая руку к подживавшим ссадинам на щеке у помора и замирая в нерешительности. — О, боже, кто вас так?
— Пустое, — проворчал Фёдор. — Они своё получили. Сполна. А где ж…
Миссис Дэгонет длинно и тоскливо вздохнула, возвращаясь к собственным неурядицам.
— Гонт нам подло отомстил, — сказала она с горечью. — Сперва-то всё было хорошо, как в лучших домах, пока Роуэлл не затеял какую-то аферу на бирже, да ещё и деда в неё втянул. Дед говорил потом: «Мы возомнили себя то ли „медведями“, то ли „быками“,[114] а оказались ослами!» Гонт разорил Роуэлла. У мужа не осталось ни цента, зато долгов — куча! Тем же вечером он застрелился…
— Соболезную, — обронил Чуга.
— А, не стоит, — устало отмахнулась Марион. — Я тогда, конечно, поплакала немножко, но не потому вовсе, что стала вдовой. Просто мне было ужасно жаль себя. Опера, театры, званые обеды… Какое там! Деду пришлось продать свой особняк, чтобы расплатиться с кредиторами, и переехать в маленький домик на Лонг-Айленде, где он теперь и живёт с тётей Элспет. Шутит даже… Я, говорит, вырос в нищете, а теперь будто в молодость вернулся! Вот так… — вздохнула она и усмехнулась. — И отправилась миссис Дэгонет в дальние края… Я написала дяде Джубалу в Калифорнию, он очень обрадовался, стал зазывать меня к себе, всё расписывал тамошние красоты, обещал устроить мою жизнь и даже выдать замуж за достойного человека. Всё объяснил подробно — куда ехать, что брать с собой…
— Так вы одна, что ли, добирались сюда? — нахмурился Федор.
— Нет-нет, что вы! Зебони со мной.
В это время за спиной Чуги раздался радостный голос:
— Миста-ар! Вот это да!
Фёдор обернулся и протянул руку Зебу, тот схватил её обеими и потряс с большим чувством.
— Мир тесен, Зеб!
Повернувшись к Марион, помор улыбнулся.
— Стало быть, в Калифорнию?
— Да!
Девушка тянулась к Чуге, но не смела нарушить приличия. Мужчина находился совсем близко, порываясь приголубить да пожалеть Марион, но тоже не решался. Скомпрометировать даму несложно, а как ей потом жить в атмосфере всеобщего осуждения?
Фёдор и Марьяна стояли рядышком и смотрели на запад, где садилось солнце, прерию наполняя чернотной темью, а небеса расписывая золотом и царственным пурпуром.
От самого большого костра, где кружком сидели переселенцы, долетел дружный смех, а потом зазвучала песня «Дом на лугах»:
Идём! Идём! По чудесной земле, С надеждой в сердцах И с силой в руках… Туда, туда, едем вдаль со мной, Где буйные травы, Где ветер шальной… Туда, туда, едем вдаль со мной, Мы построим там дом на лугу…Глава 12 КАЛИФОРНИЙСКАЯ ТРОПА
Вереница фургонов катилась по прерии, следуя набитой колее. Караван за караваном проходил здесь, следуя на Запад, чтобы хоть там исполнились мечты простого человека. Иметь свою землю — столько, сколько займёшь! Это ли не заветное желание? Растить детей, твёрдо зная, что ты способен не только прокормить их, одеть да обуть, но и обучить, оставляя в наследство не одни лишь долги… Люди бежали из перенаселённой Европы, рассечённой границами, межами, кастовыми предрассудками, чтобы здесь, за океаном, найти своё счастье.
Не всем везло в дороге — целый ряд безвестных могил, порой отмеченных крестами, тянулся вдоль Калифорнийской тропы. Попадались остатки сожжённых фургонов и кости тягловых лошадей, выбеленные солнцем и дождями.
День за днём одолевались долгие мили пути. Скрипели фургоны, топали копыта. Скорость передвижения была столь мала, что даже дети шагали рядом с возками, не слишком-то поспешая. Ребятня не просто так разминала ноги, а была занята делом — подбирала по пути горючее — случайные ветки или сухой бизоний кизяк — и складывала его на чуть провисшие холщовые полотнища длиной почти с фургон, подвешенные под днищами за уголки. А больше и не было ничего, годного на растопку, — бесконечная прерия расстилалась во все стороны. Ветер перевивал травяные космы, здорово похожие на волны зелёного моря, небо покрывало всё видимое пространство блекло-голубым куполом, и верилось, что Земля — плоская.
Когда начинало вечереть, Кэп Гриффин крутил рукою над головой, подавая возницам сигнал — остановка, мол, ставим фургоны в круг. Пока дозорные бдили, разгорались костры, начинало тянуть вкусными запахами готовки, да так, что даже трусоватые койоты вили круги, жадно принюхиваясь и скуля.
Караван двигался на Запад медленно, но неумолимо. Чудилось, ничто не могло помешать переселенцам, никто не был способен перейти им дорогу. Они смеялись всё беззаботней, распевали песни всё громче, радуясь новой жизни, ожидавшей их где-то там, за Скалистыми горами. Неделя за неделей проходили спокойно, скучно, нудно даже, и эта иллюзия всеобщего умиротворения сыграла-таки роковую роль.
Вечером, когда переселенцы разбивали лагерь на бережку Литл-Кау-Крик, из разведки вернулся Ларедо. Присев на корточки у костра, он спокойно доложил:
— Видел следы неподкованных пони.[115] Двадцать всадников. Следов травуа[116] нет.
— Стало быть, — медленно проговорил Захар Гирин, — скво тоже нет. Это военный отряд.
— Натурально, — поддакнул Иван.
Шейн молча кивнул, пряча волнение, а князь поднялся со своего места, сказав:
— Схожу, передам Гриффину.
Капитан каравана встревожился от переданного известия и попытался донести своё беспокойство до остальных, но у него это плохо получилось — людям не хотелось верить в близкую опасность, у них просто в голове не укладывалось, что все страшилки, рассказанные про индейцев, не досужие выдумки, а недобрая правда.
С утра, набрав полные бочонки и фляги воды, фургоны тронулись в путь, выстроившись по новой, — порядок следования менялся каждый день, чтобы никому обидно не было.
Оставив позади ручей Биг-Кау-Крик, караван ближе к вечеру одолел двадцать миль, возки уже подкатывали к излучине реки Норт-Платт.
Фёдор проскочил вперёд, на чалом разведывая местность. Пологие берега реки заросли кустарником, кое-где торчали скалы. Вода в реке годилась для питья, правда, была слегка солоновата.
Поодаль крутилась парочка эмигрантов из Германии — Мюллеры, Ганс и Карл. Гортанно переговариваясь, они пускали лошадей по мелкой воде реки, радуясь скорому привалу.
Ружейный залп из зарослей грянул неожиданно, как гром среди ясного неба. Оба немца замертво свалились в реку. Чуть ли не в самый последний момент заметив блеск металла, Чуга пригнулся до самой гривы, и гнусно взвизгнувшая маленькая смерть миновала его. В ту же секунду из зарослей выскочили четверо или пятеро сиу — в одних набедренных повязках, похожих на фартуки, блестя коричневыми торсами, они бросились к реке большими прыжками, так, что перья на их головах вскидывались и опадали.
Сделав пару выстрелов, Фёдор погнал коня навстречу каравану.
— В круг! В круг! — заорал он, вертя рукою.
— Что случилось? — привстал с козел осанистый отец семейства, Бертран Виньяль.
— Индейцы!
— Что нам делать? — крикнула Марион, правя фургоном.
— Вооружайтесь!
Порывшись в своих мешках, Чуга вытащил «ремингтон-нэви», доставшийся ему в наследство от Флэгана, и протянул девушке.
— Возьмите! И всегда держите при себе.
— Ладно!
Скрипя галькой, потряхивая белыми верхами, возки, которыми правили Фима и Павел, пристроились рядом, словно прикрывая собой фургон миссис Дэгонет.
Круга не получилось. Как Гриффин ни надрывался, переселенцы не внимали капитану — одни фургоны катились к реке, другие прочь от неё. Страх сделал своё чёрное дело — отряд живо обратился толпой перепуганных людей, которыми правили инстинкты, подавившие всякое разумение. Лишь четверо или пятеро повозок с горем пополам выстроились дугой — к ним и примкнул Чуга со своими, тремя фургонами прикрывая тыл.
Шорти Коунс залёг под днищем — азартно перебирая короткими ногами, он палил по нападающим, едва поспевая «качать» затвором. Педлар Холт и Ван Боккелен стреляли стоя, под прикрытием двойных стенок фургонов, проложенных буйволиной кожей. Их жёны держались поблизости, перезаряжая винтовки, — руки у женщин дрожали, лица были бледны, как их кружевные чепчики, но от мужей они не отходили.
Крики, топот коней, выстрелы подавляли волю малодушных, но сильные натуры лишь крепчали, вырабатывая стойкость.
— Педди! Педди!
— Здесь я, Мэг! Чего тебе? Передай лучше «винчестер» Хогана!
— О, Педди! Хогана убили! Убили!
— Так а я тебе о чём?! Подай быстрее, в моём патроны кончаются!
— Сейчас, сейчас, Педди… Я заряжу!
— Давай…
— Фима, от реки трое сиу…
— Не тяни кота за все подробности, Сёма! Организуй патроны, бекицер![117]
— Батч, слева! Слева!
— Ах ты… Вот же зараза какая!
— Стреляй!
— Попал?
— Вроде попал…
— Коннора ранили!
— Кэт и ты, Лотти! Перевяжите Коннора!
— Шорти, отползай!
— Да куда ж я…
— Зеб, лови! Патроны есть?
— Есть, миста-ар!
— Набивай барабан и сыграй музычку краснокожим!
— Пашка! Прикрой меня!
Фёдор бегом, согнувшись так, что почти падал, проскочил разрыв между выставленными фургонами, куда как раз устремились несколько конных сиу. Упав на колено, он вскинул «генри», и винтовка загрохотала в его руках, отнимая жизнь сначала у одного индейца, потом у другого. Третьего Чуга только ранил, но сиу так дёрнулся, что не усидел на своём пинто, неподкованном и неосёдланном, рухнул в пыль.
И тут новая напасть — описывая дымные дуги, на караван посыпались горящие стрелы. Втыкаясь в тенты, они поджигали ткань. Рогир ван Боккелен всполошился, кинулся тушить огонь, и зря — меткий выстрел поразил его в грудь.
— Кошмы! — заорал Кэп Гриффин. — Кошмами сбивайте пламя! А, дьявол…
— Как вы можете так выражаться при даме! — воскликнула шокированная миссис Коннор.
— Заткнись, дура! — посоветовал ей капитан.
И вдруг всё стихло. Индейцы, встретив отпор, не стали связываться — забрав убитых соплеменников, они исчезли. Однако перед уходом успели прихватить с собою табунок коней, разграбить на скорую руку три фургона и отправить к праотцам с десяток переселенцев, так и не исполнивших свои мечты.
Люди, перепуганные, растерянные, смущённые, сбредались потихоньку, отходя от убийственного напряга. Женщины оплакивали своих оскальпированных мужей, отцов и братьев. Мужчины хмуро выпрягали убитых лошадей, со злостью выдёргивали стрелы из стенок фургонов. Дети пугливо жались в сторонке.
— Что ж вы драпанули, как трусливые койоты? — горько вопросил Шорти Коунс. — Стань мы все в круг, отбились бы. А теперь гляньте, сколько народу придётся хоронить!
Мужчины ещё пуще поугрюмели, но не все. Страт Бимэн, крепко сбитый, рослый, нагловатый парень, дерзко парировал:
— А чего ты всё на нас сваливаешь? Мы что, зря капитана выбирали?
Гриффин побагровел и рявкнул, тыча мосластым пальцем в Страта:
— Ты! Ты первым кинулся наутёк, бросив жену с дитём! И ты ещё будешь на меня спирать, гадёныш мелкий?!
Бимэн стал суетливо рвать винтовку с плеча.
— Убери руки, Страт, — холодно сказал Чуга, — а то будешь иметь дело со мной.
Бледный Страт огрызнулся:
— А на твоём месте я бы вообще молчал! Тоже, кстати, вопросик: какого чёрта Кэп взял этого убийцу?
— Заткнись! — резко сказал Фима, направляя ствол «винчестера» Бимэну в пузо. — Тут должно быть тихо, как ночью в бане. Кто-то не понял? Тогда два шага в сторону, чтобы не забрызгать остальных!
— Замолчите оба! — резко сказал Гриффин. — Не хватало нам ещё друг друга перестрелять! — Помолчав, посопев, он добавил: — Да, в произошедшем с нами несчастье есть и моя вина. Я был слишком добр! Я позволял вам всё, а не держал в крепкой узде, вот некоторые и распустились. Отныне никому не будет дозволено делать то, что ему хочется! Будете поступать так, как я скажу. Не нравится? Уматывайте! А если нам снова придётся отражать атаку краснокожих, и кто-то побежит… Пристрелю труса лично, как собаку! Всем ясно?
Переселенцы покивали через одного. Схоронив павших, бросив сгоревший фургон семейства Шипстедов и ещё один, застрявший в камнях с переломанными осями, караван двинулся дальше, следуя по течению Северного Платта.
…Скалистые горы караван миновал через Саут-Пасс, Южный перевал, что в Вайоминге. Поздно вечером Кэп Гриффин привёл фургоны к знакомому месту в скалах, где становился лагерем раньше. Здесь была и вода, и травы хватало. За сомкнутыми «конестогами» разгорелись костры, потянуло сытной похлёбкой, лепёшками да кофе.
— Теперь будет полегче, — сказал Ларедо, — под горку двинем, и до самого океана!
— Пустыня впереди, — покачал головой Туренин, — мы вступаем на земли ютов. Да и мормонов я бы опасался. Лет десять назад они напали на караван и перебили больше сотни переселенцев. Мы едем той же дорогой…
— Я извиняюсь очень сильно, — подал голос Исаев, — но у них взаправду по две жинки?
— Натурально, — насупился Иван. — Басурмане они, мормоны эти.
— А шо? — сказал Фима лениво. — Цикавая[118] религия… Каждому по две лялечки — и будешь ты это счастье хлебать, пока в живых. Ситечком!
— Зачем мине етот гембель?[119] — проворчал Семён.
Фёдор покивал, сонно щурясь в огонь, и раззевался.
— А давайте-ка спать! — предложил он, первым подавая пример.
Захар взял свои одеяла и закутался в них, устроившись подальше от костра, поближе к скалам, и винтовку под бочок уложил. Иван пристроился рядом и очень скоро начал похрапывать. Народ разбредался.
Его сиятельство сидел у костра, но в огонь не смотрел. Не потому, что боялся не разглядеть врага в темноте, а по другой причине — по ту сторону костра расположилась Марион. Пламя освещало лицо девушки, придавая чеканность облику, и только глаза её делались в свете костра непроницаемо чёрными, бездонными.
Неожиданно взглянув на Туренина, женщина улыбнулась. Губы у Павла тут же потянулись в улыбку.
— А вы почему не ложитесь? — шёпотом спросила Марион.
— Я очень занят, — ответил князь.
— Чем? — делано удивилась миссис Дэгонет.
— Любуюсь вами, — храбро сказал Туренин.
Девушка улыбалась по-прежнему, но теперь князю казалось, что в изгибе её губ затаилась нежность. Или он просто видит то, что хочет?
— Вы умеете говорить приятное дамам, Павел Андреич, — промурлыкала Марион.
«Не только говорить…» — чуть не сорвалось с его губ, но он прикусил язык, боясь оскорбить девушку оттенком скабрезности.
Миссис Дэгонет вздохнула.
— Павел, а вам здесь нравится? — спросила она.
— Очень! — вырвалось у Туренина. — Признаться, мне стыдно за то, как я вёл себя на пути в Новый Свет. Этакий капризный дворянчик… Всё мечется, ноет, жалуется на судьбу! Запад меня оздоровил. Это суровая страна для мужественных людей. Признаюсь, мне даже лестно, что я прожил здесь столько времени! Стало быть, не совсем пропащий.
— Я понимаю вас, — серьёзно сказала Марион, — сама так чувствую. Только зря вы сомневаетесь в себе — вы сильный и смелый человек, Павел, а это главное. Опыт — дело наживное. Изо всех нас одного Теодора можно назвать человеком Запада — вот кто сразу вписался в тутошнюю жизнь. О Тео уже разговоры ходят у походных костров и в салунах!
— Да-а… — согласился Туренин. Всё в нём сжалось, заледенело, но больше тянуть он уже не мог. Да и сколько ещё ему ждать подходящего случая? Чувство переполняет душу, жжёт невыносимо, и чем гасить этот палящий огонь? Бурбоном заливать? — Я люблю вас, — сказал он чужим голосом.
— Па-аша… — негромко протянула миссис Дэгонет.
— Это правда, Марион! — с жаром заговорил князь. — Может, я зря затеял эти речи, зря пошёл на откровенность, но и молчать уже нет мочи! Я полюбил вас с той самой минуты, когда впервые увидел в Лондоне, на палубе «Одинокой звезды». О, я был настолько поглощён своим чувством, что остальной мир как-то отдалился. Даже бунт прошёл мимо меня. Да, я что-то такое совершал, говорил о чём-то, но все эти головорезы представлялись мне всего лишь досадной помехой. Так всё и длилось до самого Нью-Йорка. Признаюсь, я питал слабые надежды на взаимность, поскольку… Ну кто я такой? Родовитый бедняк! Что мне было предложить вам? Мой герб? А зачем он американке? Нищета — это страшно, это унизительно! Но разве станет нормальная молодая девушка дожидаться, пока один из её поклонников разбогатеет? Вот какие мысли одолевали меня в те дни. Когда же я узнал, что вы выходите замуж, то приказал себе забыть обо всём. Вот только ничего у меня не получилось, я вас никогда не забуду, что бы там ни сулило грядущее… И вдруг вы снова являетесь! О Марион, это было и мучительно, и сладко. Я словно вернулся в утраченный мир отрочества, когда впервые влюбляешься, когда мечты безудержны. Почему я всё это говорю вам? Наверное, я просто устал бороться с собой… Таить своё чувство от мира легко, но, когда вы рядом, душа изнемогает, и нет сил молчать! Думайте обо мне что угодно, Марион, я снесу любое ваше недовольство. Я ведь всё понимаю! Но только не лишайте меня капельки счастья теперь, дозвольте ещё хоть раз признаться в том, что люблю вас…
Туренин выдохся и уставился в огонь. Он и впрямь испытывал громадное облегчение — и опустошение. Девушка сидела недвижимо, рассеянно улыбаясь, и ласково сказала:
— Вы ничего не понимаете, Паша… Ложитесь спать, а то я ведь знаю Тео — он поднимет нас очень рано. Спокойной ночи!
— Спокойной ночи… — пробормотал князь и послушно лёг. В душе его, где царила любовь и жила печаль, зародилась надежда.
…Потихоньку-полегоньку караван добрался до Форт-Холла, где Кэп Гриффин объявил трёхдневный отдых. Прошло три дня — и снова в путь. Фургоны катились мимо Большого Солёного озера, одолевали безводные пустыни и горы Сьерра-Невады, пока, наконец, не добрались в октябре месяце до Сакраменто.
Жизнь в этом городишке кипела и бурлила. Люди, больные «золотой лихорадкой», тысячами копошились на склонах, махая кирками, толпами промывали песок на речках. Американцы, китайцы, канаки с Сандвичевых островов,[120] мексиканцы — все подряд ожесточённо рыли землю в поисках самородков. Иные сказочно богатели, подстёгивая в соседях-неудачниках желание озолотиться.
Наживались, как всегда, торгаши и кабатчики, да ещё бандиты — грабежи и убийства были обычным делом. Сан-Франциско опустел — все ринулись за драгметаллом. Матросы сбегали с кораблей целыми экипажами. Переселенцы со всего света устремились в Калифорнию, околдованные золотым миражом.
Но Фёдор Чуга не подхватил всеобщее поветрие — его мулы повлекли «конестогу» мимо и дальше, к Форт-Россу.
Следом двигался фургон семьи Турениных — князь обвенчался с Марион в Сакраменто. И насколько же приятней было править лошадьми, когда под боком любимая женщина!
Помор покосился на Ларедо, сидевшего рядом с ним на облучке, и вздохнул.
— Вот тебе и весь сказ… — проворчал он.
— Чего? — не понял Шейн.
— Ничего, — буркнул Чуга. — Езжай давай…
Глава 13 РУССКАЯ АМЕРИКА
Дорога пролегала по сказочно красивому лесу, виляла по горному серпантину, тянулась вдоль реки Славянки с поросшими вереском обрывистыми берегами.
Фёдор пересел на чалого и ехал впереди тряских фургонов. По правую руку шагал Князев гнедок.
— Места-то какие… — шумно вздохнул Чуга. — Как же это можно было, от таких-то краёв отступиться? Эх, не везёт нам с царями! Иоанн Васильевич земли собирал, Годунов до Енисея границу продвинул. И Пётр Алексеевич постарался, и даже Екатерина, уж на что баба, а турка потеснила. Эти же… Тьфу!
Туренин хмуро покивал головой.
— Мой отец помер на Аляске, — проговорил он. — Селение там есть такое, Уналашка называется. Уналашка, Новоархангельск, Кынговей, Павловская гавань, Николаевский редут, Нулато, Новороссийск,[121] Якутат… Это всё мы на Аляске понастроили! Да что Аляска, когда три наших крепости на Сандвичевых островах воздвигнуты были! И где это всё? Не нужно императорам, чтобы Россия прирастала Америкой, им и без того живётся не худо… — Помолчав, князь продолжил глуховатым голосом: — Отец мой со всеми на Сенатской площади стоял. Это были молодые офицеры, прогнавшие Наполеона — и вкусившие европейских свобод. Их возмущало тупое самодержавие и унижение крепостных, они хотели провозгласить Российскую Федерацию из тринадцати держав и двух областей, да чтобы правили государством Народное вече и Державная дума.[122] Даже столицу перенести хотели в Нижний Новгород, славный тягою к вольности, а императора сослать сюда, в Форт-Росс…[123] — Павел вздохнул и добавил с горечью: — Ничего, однако, из задуманного не свершилось, не взошла «звезда пленительного счастья»! Отец угодил на каторгу, потом его, больного, отправили на поселение в Уналашку. Помню, забрели мы с ним однажды в лес, вышли к реке, а там здоровущие медведи лососей ловят. Отец, хоть и не стар был, а уже седой весь и выправку гвардейскую растерял по рудникам, горбился всё… Постоял он, посмотрел на зверюг и говорит: «У меня была мечта — простереть свет Отечества нашего до Калифорнии и Сандвичевых островов.[124] Быть бы здесь четырнадцатой державе нашей, Американской, да не выйдет уже ничего…» День прошёл, и отец скончался. А я поклялся тогда, что ноги моей не будет на земле предков.
— Понимаю… — проворчал Чуга.
Они проехали ещё с полверсты и оказались на перепутье. Навстречу катила коляска-бакборд,[125] запряжённая сивой кобылой в яблоках. На козлах сидел представительный мужчина в годах, одетый в чёрный суконный костюм. Того же цвета ковбойская шляпа бросала тень на его брыластые щёки.
— Мистер, — обратился к нему Туренин, — не подскажете ли, куда ведёт эта дорога?
Мужчина осадил кобылу и кончиком кнута приподнял шляпу, открывая благообразное лицо с широковатым носом и бледно-голубыми глазами.
— Налево поедете, — указал он кнутом, — попадёте в Севастополь…
— В Севастополь?! — воскликнул князь.
— Представьте себе! Однажды там случилась грандиозная драка, дня три по всем салунам шёл мордобой и перестрелки. Вот и назвали то место Севастополем — есть такой город у русских, они там дали жизни англичанам с лягушатниками! А если прямо поедете, то к Форт-Россу выедете.
— Вот нам туда и надо!
— Дядя Джубал! — прозвенел радостный голос миссис Турениной.
— Марион?! — охнул мужчина на бакборде, роняя кнут от волнения. — Это ты?
— Я, я!
Подхватив свои юбки, племянница живенько добежала до дяди.
— Девочка моя! — растрогался Джубал, закалачивая руки вокруг Марион. — Радость-то какая!
— А это мой муж, — продолжала звенеть женщина, — Павел Туренин, русский князь! А это друзья!
Его сиятельство и «свита» поклонились.
— Миста-ар Купер! — засверкал улыбкой Зебони.
— Привет, Зеб. И ты здесь?
— Мы все вместе сюда добирались, — болтала Марион, — от самого Абилина!
— Рад, рад, очень рад! — повторял дядя, пожимая протянутые руки. — Джубал Купер, очень приятно! Ну тогда я поворачиваю оглобли. Едем ко мне, Марион, пусть и тётя твоя порадуется! Тебя я не отпущу, садись рядом… Павел, вы не против?
— Я — за! — рассмеялся князь.
— Тогда езжайте следом!
Фёдор помахал отъезжающим рукой и влез на козлы.
— И шо вы себе думаете? — философически проговорил Фима. — Люди таки имеют счастье…
Форт-Росс открылся с пологого холма. Сосны на опушке расступились, будто пропуская дорогу, и вот она, «Русская крепость»![126]
Форт занимал небольшое безлесое плато у самого синего моря. Бревенчатые стены и частоколы, квадратные и восьмигранные башни-блокгаузы, укрытые остроконечными шатрами, большие дома под высокими тесовыми крышами, приземистые казармы, ветряная мельница, церковь о двух куполах — глазом ухватывалось всё разом, и лишь потом разбирались подробности, угадывалось движение. По глади залива скользили байдары,[127] направляясь к Фараллонам — Фараллонским островам. На пастбище за стенами форта паслись лошади. Пара грузовых фургонов с сеном медленно катилась по дороге — лошади еле плелись. А над конторой начальника крепости полоскался звёздно-полосатый флаг…
— Это красиво, — сказал Семён, — это имеет вид.
Чуга насупился и подбодрил чалого: шевелись, коняка ретивая!
В это самое время послышался топот копыт. Фёдор резко обернулся. Обгоняя его «конестоги», скакали мексиканцы-вакеро. Усачи и бородачи, они щеголяли в цветастых серапе[128] и сомбреро, в замшевых с бисером курточках, в бархатных штанах, расклешённых книзу и разрезанных так, что открывали сапоги ручной работы с тиснением. У всех через плечо навешаны патронташи, сёдла блестят серебряными заклёпками, на шпорах сверкают зубчатые колёсики величиной с песо и даже позвякивают колокольчики… Классика!
Предводитель вакеро, густо обволошенный верзила в давно не стиранном пончо, придержал коня и рявкнул зычным голосом:
— Кто такие?
Его грозный вид должен был, по идее, вогнать в дрожь Фёдора со товарищи, да вот только не вогнал.
— Чего надо? — резко спросил помор.
— Это ты мне?! — вылупил глаза обволошенный.
— А что, тут ещё кто-то есть? — хладнокровно заметил Чуга.
— Vete tomar por culo, cabron de los cojones![129] — выразился вакеро.
Он сорвал с плеча винтовку и замер — на него холодно глядело дуло «смит-вессона».
— Начинай, — мягко сказал Чуга, — а я закончу.
Молодой стрелок, гневно сверкавший глазами рядом с лохматым грубияном, прокричал, срываясь на фальцет:
— Ты говоришь с доном Антонио Сунолем,[130] грязный гринго! Он служит у самого сеньора Гонта!
— А мне насрать, кому ваш дон жопу лижет, — вежливо ответил Фёдор, похолодев в душе: неужто тот самый миллионщик? Опять? Здесь?..
Мексиканцы залопотали на своём, гневно, испуганно, нервно, хватаясь за винтовки и переглядываясь — проявлять героизм не спешил никто.
Тут из-за «конестоги» выехал Фима с «винчестером» и резко скомандовал:
— Всем назад и дышать носом!
Красноречиво защёлкали курки — братья Гирины, Ларедо и Полужид сжимали в руках по два ствола каждый, Дон Суноль резко побледнел, по лбу его стекла струйка пота. Медленно убрав винтовку в седельную кобуру, он пришпорил лошадь.
— Мы ещё встретимся! — пригрозил он.
— В любое время, — ответил Фёдор.
Вакерос, часто оглядываясь, поспешили за своим предводителем. Не приближаясь к Форт-Россу, вся кавалькада поспешила прочь, ускользая по дороге к Порту Румянцева, что располагался на берегу залива.
— От когда я вас знаю, — проговорил Исаев, с усмешечкой поглядывая на Чугу, — ви бекицер наживаете врагов.
— Обратно и друзей! — парировал Беньковский.
— Таки да…
— Едем! — буркнул помор.
— Кудою?
— Тудою!
Фёдор почти не понукал коня, чалый и сам стремился к жилью, где ему наверняка перепадёт добрая порция овса или кукурузы. Вскоре «конестога» в окружении всадников миновала ворота Форт-Росса, выезжая на улицу Большую, как россинцы именовали своеобычную для Штатов Мэйн-стрит.
На Большую выходил фасадом двухэтажный магазин, конторы, дома и церковь Святой Троицы. Всё было сделано в русском духе, крепко, основательно, без дощато-каркасной хилости — тутошние стены даже «спенсер» не прострелит.
Чуга спешился и перекрестился на храм. В эту самую минуту, словно дождавшись его прибытия, ударил колокол и отворились двери, пропуская из полутьмы мерцание свечей перед образами. Вышли престарелые богомолицы, обернулись да отбили пару поклонов, часто крестясь, а затем в дверях показались двое. Сердце помора дало сбой — это были Костромитинов и Наталья. За спиною девушки маячил индеец огромного росту, плечистый, в мешковатых штанах и кожаной рубашке с бахромой, с налобной повязкой, обжимавшей длинные иссиня-чёрные волосы. Какой-то гражданин США поторопился обогнать барышню, и краснокожий пихнул его. Гражданин упал и быстренько заспешил прочь, видимо припомнив срочные дела.
— Тану-ух! — сказала Наталья с укоризной.
— А чего он?.. — пробурчал индеец.
Коломина первою углядела Фёдора, вскрикнула радостно, руками всплеснула, да и поспешила навстречу.
— Доброго вам здоровьечка, сударыня, — расплылся в улыбке Чуга.
— Добрались-таки до нашего захолустья! — засмеялась девушка.
— Таки да! — хохотнул помор.
Пожав руку вице-консулу, он представил друзей-бакеров.
— Почтение, мадам, и добрый день! — залучился Беньковский, очарованный Натальей. — Как вы себя имеете?
— Вашими молитвами!
Поручкавшись со всеми, Пётр Степанович кашлянул.
— Стало быть, соседями будем?
— А чего ж, — степенно сказал Чуга. — Денег у меня не шибко много, но стадо коров прикупить смогу, а уж домину как-нибудь и сам налажу, было бы из чего.
— Дерево тут отменное, — уверил его Костромитинов, — да и зимой тепло — как в Расее по осени. Сам видишь — октябрь, а всё зелено! Калифорния, одно слово… — Задумавшись, он вцепился пальцами в бороду. — Есть тут одно место, у самых гор, — Ла-Рока. Сеньор Мартинес[131] хотел там овец разводить, да забросил это дело, в Сакраменто подался и коров своих Суттеру[132] сбыл по дешёвке. Можешь там обосноваться, тем паче что старая хижина Мартинеса цела ещё. Всяко-разно под крышей будешь. А за зиму брёвен заготовишь, глядишь, и срубишь теремок. Вот только…
Пётр Степанович поморщился в досаде. Фёдор, перехватив тревожный взгляд Натальи, прямо спросил, хоть и наудачу:
— Что, Гонт шалит?
Костромитинов угрюмо кивнул.
— Это из-за меня всё, — вздохнула Коломина. — Гонт долго на Востоке задерживался, я уж думала, насовсем там остался, ан нет — недели две назад объявился. Сказал, что готов меня простить… Он — меня! Тут уж я не выдержала и погнала его вон.
— И правильно, — удоволенно сказал Чуга.
— Так-то оно так… — покачал головою Пётр Степанович. — Да только сеньор Мартинес не зря отъехал.
— Гонт согнал?
— Он самый. А теперь к дону Гомесу пристаёт — на тебе, дескать, тысячу долларов и убирайся подобру-поздорову! А у Хоакина ранча на пятьдесят тыщ тянет! Только вот у дона человек восемь работников всего наберётся, включая кухарку Эстерситу, а у Гонта сорок «стреляющих ковбоев».
— Уже больше, дядя, — тихо сказала Наталья. — Гонт платит людям Антонио Суноля…
Костромитинов лишь крякнул, а Фёдор порадовался про себя: барышня ни разу не назвала бывшего своего жениха как раньше — Мэтом. Всё «он» да «он» или по фамилии.
— Так что, с приездом тебя, — фыркнул вице-консул. — На самую войну угодил!
— Ничего, — усмехнулся Чуга, — нам это не впервой. И не таким бычкам рога обламывали!
Горы за Славянкой были не шибко высоки и больше походили на сопки края Уссурийского. И народу было, как в том дальнем тигрином краю, — мало. А если и встречался кто на пути, так вооружённый, готовый дать отпор. В самом воздухе витало напряжение, оно пульсировало, отзываясь страхами в робких душах, угнетало, давило, сгущало атмосферу.
Фёдор проехал мимо «села Костромитиновского», где в гостях у дяди проживала Наталья Коломина с матерью, Лизаветой Михайловной, мимо «ранчи Черных» и «Хлебниковских равнин», мимо хозяйства Джубала Купера, мимо ранчо дона Хоакина Гомеса, Мимо полей, распаханных многодетными семействами Круковых да Шелиховых, прямо к каньону Ла-Рока, где думал обосноваться сеньор Мартинес. Долина до самого устья каньона была покрыта густой высокой травой, высохшей на корню.
— Отличное пастбище! — сказал Захар Гирин со знанием дела.
— Натурально! — поддержал его братец Иванушка.
— А можно отгонять стадо в каньон — на луга, что повыше. Есть же там луга?
— Должны быть…
Устье Ла-Роки открылось за цепочкой низеньких холмов. Опадая по высоте, стены ущелья превращались в гряды скал, погружённых в осыпи каменного крошева. Прозрачный ручей весело журчал, орошая пологие берега, густо поросшие дикими злаками и курчавой мескитовой травой. Отдельными свечками торчали кедры, на склонах зеленел можжевельник.
Грохоча по камням, фургоны втянулись в каньон. Дорога пошла на подъём, правда пологий, и вскоре колёса уже не тарахтели, а мягко поскрипывали, приминая рыхлую землю и шелестя травой. Долина становилась всё шире, расстилаясь лугами и перелесками. Заблестело крошечное озерцо, поднялись сосны и ели, пышно разрослась манзанита, а уж разнотравья было — хоть сам жуй эту сочную зелень. Особенно Фёдору приглянулся пригорок, что поднимался уступом и примыкал к огромной скале, красной и плосковерхой, вероятно и давшей название всему каньону. Уступ не только занимал командную высоту, откуда можно было контролировать устье Ла-Роки, но и вид оттуда открывался чудеснейший — на каньон, на долину, на вереницу гор вдалеке. Если не здесь ставить дом, то где? Лучшего места не найти!
Надо полагать, сеньор Мартинес рассуждал схожим образом, ибо останки его хижины дымились как раз на выбранном Чугой уступе. Дом сгорел дотла, обугленные стропила, изгрызенные огнём, провалились меж бревенчатых стен в общую топку, а трава на несколько шагов вокруг иссохла и пожелтела.
Фима ощупал головешки и выдал:
— Мине сдаётся, шо запалили халабуду вчера.
— Натурально, — кивнул Иван.
— Стало быть, — сделал вывод помор, — это не Суноль тут со спичками баловался, а стрелки с ранчо Гонта.
— Шоб я так знал, как я не знаю, — выразился Беньковский.
— Поговори мне ещё, — проворчал Чуга, осмотрелся с видом завоевателя и сказал: — Значит, так. Фургоны поставим здесь. А вы давайте пересаживайтесь на коней. Ты, Фима, съездишь во-он туда. Видишь? Там вроде малый каньончик ответвляется. Глянь, что там и как.
— Понял, босс! — бодро ответил Ефим.
— Сёма, а ты смотайся к реке…
Разослав людей, Чуга перекинул седло на рыже-чалого и двинулся вверх по каньону. Долина постепенно сужалась, отвесные скалистые стены сходились, грозя перекрыть дорогу, но нет, просвет оставался.
— Бутылочное Горлышко, — пробурчал Фёдор. Подумал и решил, что название вполне подходящее.
За Бутылочным Горлышком склоны стали положе, а потом разошлись амфитеатром, открывая полукруглую долину. И воды, и травы здесь было вдоволь. Простора особого не ощущалось, зато местечко укромное, скотокраду здесь делать нечего.
Долина поднялась ещё выше, пропуская Чугу на луга, обрамлённые соснами и клёнами, покрытыми мхом. Листву клёны сбросили, за их голыми ветками темнела хвоя елей и высоченных мамонтовых деревьев.
«Лепота!»
Рычание и треск ветвей отвлекли внимание Фёдора, рука его будто сама по себе скользнула к кобуре, но нет, это не по его душу — из зарослей выпрыгнул олень, следом выскочила пума. Подраненное травоядное споткнулось, припадая на одну ногу, и хищник набросился на него, опрокидывая, подминая, перегрызая горло. Резко обернувшись, пума заметила Чугу и прижала уши, зашипела, зарычала грозно, щеря окровавленную пасть: «Не отдам! Это моя добыча!»
— Приятного аппетита, — усмехнулся Фёдор, заворачивая Рыжика. Конь немного нервничал.
Заехав по узкой звериной тропе в самую чащу, Чуга обнаружил «медвежье дерево» — это была сосна, чью кору исполосовали когти здоровущего медведя. Тут звери словно состязались, кто из них крупнее. Этот, что драл кору, дотянулся до восьмифутовой высоты. Наверняка гризли — у этих медведей когти длиннее, чем у бурого мишки. Вон, на дереве видны следы всех пяти пальцев.
Фёдор с благоговением продвигался по тропе, петлявшей средь громадных мамонтовых деревьев. Их красно-коричневые стволы уходили в небо, а верхушки терялись в низкой облачности. Гигантские папоротники легко могли скрыть коня.
Там, где долина кончалась, едва не достигая вершин гор Мендосино, на травянистой возвышенности стояли две башни. Квадратные в плане, они поднимали чуть наклонные стены этажа на три. Вряд ли их возвели испанцы, подумал Чуга, подъезжая поближе. Не та архитектура.
Спешившись, он заглянул в низкий лаз, ведущий внутрь левой башни, пониже и потолще правой. Потолки тут, если и были, то давно обвалились — квадрат неба синел вверху. Сохранилось одно лишь бревно с глубокими зарубками — трухлявое, оно держалось буквально на честном слове. Такими «лестницами» пользовались индейцы. Стало быть, сделал вывод Фёдор, и башни сложены «краснокожими братьями».
Повернувшись уходить, он заметил остатки костра. Огонь разводили совсем недавно — углям было дня три-четыре, не больше. Чуга усмехнулся: не такой уж этот каньон затерянный, каким хочет казаться. Интересно, кто сюда наведывался? Люди сеньора Мартинеса? Это вряд ли…
Фёдор пригляделся повнимательней. Отпечатков было в достатке, их оставили двое или трое человек.
Обойдя вокруг строения, Чуга обнаружил место, где привязывали лошадей. Да, тут точно побывали трое — на одном были новенькие ковбойские сапожки, у другого старые — каблук сильно стёрся, а третий был обут в тяжёлые башмаки — такие любят носить лесорубы.
Хмыкнув, Чуга залез в седло и пустил Рыжика шагом. Теперь, когда Фёдор настроился на поиски чужаков, его глаза примечали больше деталей — мягкая земля отлично хранила отпечатки.
Уже подъезжая к Бутылочному Горлышку, он резко натянул поводья — на глинистой проплешине у самого ручья «наследила» косолапая грулла. Та самая, что унесла неизвестного стрелка в Техасе, на тропе Чизхолма.
— Твою-то ма-ать… — протянул Чуга.
Вот, значит, какие гости заглядывали в «его» каньон! Да нет, при чём тут кавычки? Это именно его каньон, его долина, его ранча. Пётр Степанович выправил ему бумаги на всю Ла-Року, за земельные участки деньги плачены, и всяким гонтам тут делать нечего.
— Мало тебе железных дорог и рудников, — пробормотал Фёдор, — так тебя и разэдак! На травку потянуло? Ну ты у меня дождёшься!
Пришпорив Рыжика, он поскакал к устью.
Друзья уже успели вернуться с разведки — Ларедо и Захар крутились на уступе, облюбованном Фёдором под дом и хозяйство, Беньковский с Исаевым чистили лошадей.
— Докладаю, об чём мы видим! — осклабился Фима. — Малый каньончик узкий совсем, шо твой коридор, коло него — озеро. Усё!
— Понятно… — Почесав в затылке, помор обернулся к Ларедо: — А у тебя как?
— Трава хорошая, — сообщил Шейн, вытирая потные ладони о штаны, — воды много.
— Это хорошо… Следов приметных не замечал?
Ларедо замялся.
— Да так, кое-где костров остатки…
— Давние?
— Мм… Жгли недели две назад.
— Ага… А я посвежее видал, трёхдневной давности. И след мне попался — той самой груллы.
Фима сделал большие глаза.
— Я дико звиняюсь, но то було в Техасе! — сказал он.
— Шоб ты понимал в колбасных обрезках! — парировал Исаев. — Мы тоже из Техасу и на тех же парнокопытных верхом.
— Оцым-поцым, двадцать восемь! Какой шибко грамотный…
— Цыц!
— Полагаешь, — осторожно спросил Иван, — тот стрелок здесь?
— А ты веришь в совпадения?
— Не очень.
— Вот и я тоже. Так что бдим.
Пройдясь по уступу, Фёдор крепко хлопнул в ладоши.
— Ну что, работнички? — сказал он бодро. — Приступим!
Взяв в фургоне заступ, Чуга вычертил на земле план будущей бани. Неподалёку наметил дом, выставляя его буквой «Г».
— Фасадом к югу? — пригляделся Захар и кивнул: — Умно.
— Ну, — подтвердил Фёдор его правоту. — А вдоль всей южной стены сделаю веранду…
— …Кресло поставите, — подхватил Фима, — и будете видами любоваться!
— Тебе б только в кресле сиживать. Баню строим! Лопату в зубы — и вперёд.
К вечеру они выкопали настоящий ров по периметру желанной бани и уложили на его дно плоские глыбы камня, благо плитняка было вдоволь, и всё под боком.
Запалили в яме жаркий огонь и обожгли дроблённый кувалдой известняк. Замесили раствор и выложили прочный фундамент. Камня хватило, чтобы к концу недели поднять кладку выше колена. Дальше пришёл черёд топора и пилы — срубив секвойи, друзья распилили стволы на толстые брёвна, обкорнали, и Чуга уже в одиночку взялся их обтёсывать. Рубили деревья подальше в лесу, как Фима иронизировал: «Шобы не портить вида».
В начале следующей недели стены поднялись на четыре полновесных венца.
— Рядом, прямо на фундаменте спаленной хижины, — показал Чуга, — поставим барак для ковбоев, а тут вот — амбар и конюшню. Там — коррали… Нет, бараком потом займёмся. Сначала — баню!
— Отличный загородный дом! — невинно улыбаясь, сказал Фима. — И к чему тут всякие ранчи, правда? А то скотина ещё и цветочки вытопчет… Где тут подумать о здоровье?
— Если ты такой умный, поезжай к дону Гомесу, купишь у него коров!
Беньковский с укором посмотрел на Федора.
— Вот уважаю вас, — сказал он прочувствованно, — но тьфу вам под ноги за ваше каменное сердце. Я ж устал!
— Отдохнёшь по дороге!
— Ви вгоняете меня в гроб, и даже глубже!
— Ты ещё здесь?
— Я забыл немного денег!
— На! Гирины, езжайте с Фимой. Попробуйте купить стадо беломордой породы и гоните сюда. Голов пятьсот. Не будет с белыми мордами, берите лонгхорнов. Поняли?
— Поняли, — смиренно сказал Беньковский.
— Мотайте отсюда…
Вскоре бакеры ускакали, и в Ла-Роке установилась тишина — первобытная и умиротворяющая. Насладившись ею как следует, Чуга вздохнул и снова взялся за топор — пора пятый венец ладить…
Глава 14 УРОЧИЩЕ ПОВЕШЕННОЙ ЖЕНЩИНЫ
К обеду Фёдор обтесал здоровенное бревно и уложил его — плотно, без единой щёлочки. Не баня у него выйдет, а форт.
— Обедать! — донёсся зов Ларедо.
Фёдор вздохнул, покачал в руке топор, да и воткнул его в ствол срубленной намедни сосны, дожидавшийся своей очереди. Хватит пока. Потрудился он изрядно, пора и подкрепиться. Исаев завалил здоровущего оленя, и Шейн наварил полный котёл мяса с бобами — хватит на добрую плотницкую артель.
— Надо бы объехать ранчу кругом, — сказал Чуга, подбирая хлебом подливку, — глянуть, что тут да как, где какая трава. Давай-ка, Сёма, седлай своего, и движем — ты на север, я на юг…
— На юге — земля Гонта, — осторожно заметил Ларедо, — сразу за урочищем Повешенной Женщины.
— Не морочь хозяину голову, — сказал Исаев в назидание, — мы усё сделаем микер-бекицер, быстренько та аккуратненько.
— Таки да! — ухмыльнулся Фёдор.
В путь Чуга двинулся на чалом, ведя Рыжика в поводу. Он официально оформил заявки на тридцать один участок, но смутно представлял себе ту землю, хозяином которой стал. На карте всё вроде понятно — вот Катедрал-Батт, вот Уайлд-Кау-Пойнт, Фоссил-Крик, Меверик-Спрингс, Каньон-дель-Корво… А как это всё выглядит в жизни? Столько десятин земли, уйма! Это вам не хухры-мухры! За сутки не обскачешь.
Фёдор ехал неторопливо, примечая по дороге заиленные ручьи, которые следовало расчистить (пусть его коровки пьют вдоволь!), участки с ядовитыми растениями (выполоть к едрене фене!), удобные места для стоянок (на ум пошло!).
Ближе к вечеру он выбрался к урочищу Повешенной Женщины. Это мрачное название носил неглубокий овраг, с южной стороны подступавший к цепочке холмов. Ни дать ни взять — крепостной вал со рвом. За «рвом» начинались владения Мэтьюрина Гонта. По эту сторону, на земле Чуги, паслось несколько коров с клеймом «М» в круге — тавро миллионщика. Фёдор прогнал чужую скотину и, с чувством исполненного долга, повернул до дому. Засветло он не доберётся, ну и что? Заночует у Койот-Крик — так вроде тот ручей называется…
Винтовочный выстрел донёсся приглушённо, гулко отозвалось эхо. Зачастил револьвер — и тишина…
Чуга нахмурился. На войне, как на войне, говаривал Туренин. Похоже, вся Америка воюет. Одни занимают позиции и держат оборону, другие окружают их с флангов и переходят в наступление… Весело живут, едрить их в дышло!
Фёдор расседлал коней на берегу Койот-Крик. Животины повалялись на траве, попили и занялись любимым делом — стали травку щипать.
Место было удачным. С двух сторон лагерь защищали скалы, с третьей — огромный поваленный ствол мамонтового дерева, поросший мхом и папоротниками. Густой кустарник прикрывал стоянку по берегу ручья, и столько среди поросли было навалено сухих веток, что даже зверь не подкрадётся неслышно, обязательно треск подымет.
Чуга развёл костерок, поджарил бекон, сварил кофе, поел как следует, да и залёг спать. Пахло сырой листвой, парящей землёй и хвоей. Успокаивающе хрумкали кони, журчал ручей, глухо гудели мамонтовые деревья, словно переговариваясь друг с другом. Фёдор поморгал сонно, улыбнулся, чуя под собой свою землю, и уснул.
Разбудил его чужеродный звук. Кто-то скрёбся в зарослях, издавая тихие стоны.
Чуга бесшумно обулся, оделся, застегнул на бёдрах оружейный пояс. Прислушался. Вот опять…
Шорох, перебиваемый стоном, донёсся со стороны ручья. Ловушка? Приманка? Или в самом деле человек в беде?
Незаметно проскользнув к Койот-Крик, Федор затаился, зорко оглядывая бережок. Вот он!
К воде упорно, из последних сил, полз человек в изорванной одежде, без шляпы и босой. Белая когда-то рубаха липла к спине несчастного, пропитанная кровью.
Почуяв присутствие Чуги, раненый сделал попытку приподняться, но рухнул лицом в песок, совершенно без сил. Фёдор думал недолго — подхватив незнакомца под мышки, он отволок его к своему костру, быстро раздул угли и поставил греться воду.
Чужаку можно было дать лет сорок от силы. Его узкое, словно вытянутое лицо портил давний шрам, деливший левую бровь на две половинки. «Здоровый кабан, — оценил Чуга стати незнакомца, — такого не сразу завалишь». А ведь кто-то постарался… Три или четыре пули схлопотал чужак. Живучий, однако…
Промыв раны, Фёдор перевязал их, как мог.
— Пить! Пить, бога ради… — прохрипел шрамолицый.
— Да на, на…
Незнакомец жадно присосался к горлышку фляги, поданной Чугой, и выглотал изрядно, пока не задохся. Трудно дыша и облизывая губы, чужак обвёл глазами становище помора.
— Кто таков? — спросил его Фёдор.
— Текс… — выдохнул раненый. — Текс Медден… Я из Техаса.
— Я так и понял,[133] — проворчал Чуга.
— У меня тут участок, к берегу океана ближе… Я там сад развожу, виноград сажать пробую…
— И кто тебя так? Ну-ну! Чего вызверился? Был бы я из тех, кто тебя не добил, стал бы бинты переводить?
— Правда ваша… — простонал Медден. — Люди Гонта меня подстрелили, они всех сгоняют с земли. Трулава зарезали вакерос Суноля, а Айвена Ротчева убил сам Гонт. Лично.
— Айвена? А, Ивана…
— Ты тоже русский?
— Вроде того. Ладно, хватит валяться. В седле удержишься?
— П-попробую…
— Попробуй…
Оседлав коней. Фёдор подсобил Меддену взобраться на Рыжика и вскочил на чалого. Так они и поехали — Чуга впереди, Текс позади. В седле техасца мотало, как пьяного, но держался он цепко, на последнем нерве.
— Лучше дайте мне уехать… — неразборчиво сказал Медден. — Потом я верну коня… Обязательно… Ночью я ушёл от Гонта, но он будет искать…
— Ищущий да обрящет! — усмехнулся помор, хлопая по кобуре.
Текс с трудом обернулся, держась за луку седла, и застонал.
— Болит? — спросил Фёдор.
— Едут!
Чуга глянул за спину — их догоняли четверо всадников. Судя по роскошным сёдлам, по ухоженным коням моргановской породы, это были далеко не простые ковбои — за тридцатку такое не купишь.[134]
Помор развернул коня, дожидаясь, пока незваные гости подъедут. Того, кто ехал впереди, он узнал сразу — Мэтьюрин Гонт, собственной персоной. Весь в белом — сюртук, плантаторская шляпа, накрахмаленная рубашка и штаны миллионщика, даже ковбойские сапоги были цвета молока. Под Гонтом гарцевал замечательный конь арабской породы — его вороная шкура переливалась, словно чёрный атлас.
Подъехав поближе, Мэтьюрин поднял руку, останавливая своих парней — нагловатых молодчиков, весьма решительно настроенных.
— Кого я вижу! — воскликнул Гонт. — Сам Теодор Чуга! Весьма польщён!
— Что ты делаешь на моей земле? — осведомился помор. — Забыл чего?
Мэтьюрин глядел на него, по-прежнему оскалясь, вот только глаза миллионщика уже не выражали былой издёвки — они наливались ненавистью. Гонт неторопливо вытащил сигару, откусил кончик. Ближайший всадник, здоровенный детина с наметившимся брюшком, подсуетился — чиркнул спичкой, поднося огоньку. Мэт прикурил, затянулся как следует и выпустил дым через нос. Усмехнулся криво.
— Да-а… — протянул он. — Не рассчитал я, признаю. Ты оказался куда шустрее, чем я думал. Даже Добана Мейси одолел, хотя Доби был дьявольски быстр.
— Да уж, — хмыкнул Чуга, — поторопился ты меня хоронить.
Гонт хохотнул, пуская дым.
— Если ты решил, русский, — неожиданно жёстко сказал он, — будто самому себе жизнью обязан, то в твои премудрые вычисления закралась ошибка. Просто я отозвал своих людей, посланных тебя прикончить. Зачем, спрашивается, коту гоняться за мышкой, когда та сама к нему в гости напрашивается? Вот ты и напросился…
Один из парней Гонта, конопатый громила с курчавыми волосами, подался чуток в сторону, рука его легла на револьвер.
— Успокой рыжего, Гонт, — процедил Фёдор, — а то я с него начну.
Вместо ответа Мэтьюрин затянулся. «Смит-вессон», выхваченный словно по мановению волшебной палочки, малость отрезвил всю гоп-компанию. Ствол был направлен на курчавого и не дрожал — рука у Чуги была твёрдая.
— Ред, — приказал Гонт, — не суетись.
— Это он в меня стрелял на тропе? — поинтересовался помор. — Гляжу я, та самая грулла…
— Да, это Ред Парнелл поджидал тебя, но промазал. Уж больно суетлив…
— Босс… — обиженно протянул рыжий.
— Помолчи, Ред, — сухо сказал Мэтьюрин, щелчком отбрасывая сигару. — Этот русский избавил наш подлунно-земноводный мир от Прайда Бершилла, от Керли Стоуна, от Карибу и Пегготи Хартов. Тебе с ним не справиться…
— Чего ты тянешь, Гонт? — молвил Чуга. — Мне говорили, что с револьверами ты обращаешься лучше, чем с женщинами. Так зачем размазывать кашу по столу? Хватай «кольт»!
Мэтьюрин покачал головой.
— Я не буду с тобой стреляться, — сказал он. — Убить тебя нетрудно, Тео, но — нет, так мне неинтересно. Сгоряча приказав тебя прикончить, я передумал, когда остыл. Зачем доверять другому выплату должка? Мужчина должен сам седлать свою лошадь. И если уж я сказал, что ты покойник, то могилу тебе выроют обязательно. Однако ты умрёшь там и тогда, где и когда того пожелаю я. Смерть твоя будет долгой и мучительной, я неделями, месяцами буду любоваться твоим умиранием! Драку я бы тебе простил, унижение — никогда. Ты заплатишь за него с процентами, Тео.
— А ты не боишься опередить меня по дороге к Бут-Хилл?
Гонт покачал головой.
— Ты покойник, Тео, — сказал он с лёгкой улыбкой. — Долго я ждал этих дней, подожду ещё чуть-чуть. Сейчас вот вразумлю малых сих, — он небрежно кивнул на Меддена, — и займусь тобой вплотную. А пока — живи! Я так понимаю, что этого фермера ты нам не отдашь?
— Правильно понимаешь.
— Ну и бог с ним. Прикончим не сегодня, так завтра. Живи, Тео, и — memento mori! Memento mori![135]
Сделав знак своим, Гонт порысил к урочищу. Последним убыл Ред Парнелл, он часто оглядывался, словно жалея о столь быстром расставании.
— Поехали, Текс, — буркнул Чуга. — Заболтались мы.
Семён Исаев добрался до Ла-Роки пораньше Фёдора и уже вовсю крутился вокруг Ларедо, с важным видом мешавшего жаркое в котелке над костром.
— Привет, — сказал помор. — Как съездил?
— Хорошо, и даже лучше! — жизнерадостно ответил Сёма. — А шо это коло вас за потерпевший, извиняюсь спросить?
— Гонт не добил.
Пособляя Меддену покинуть седло, Фёдор кратко посвятил друзей в курс дела.
— Шо вы скажете на это несчастье? — задумчиво проговорил Семён. — Это же кошмар…
— Переживём, — буркнул Чуга.
— И шо с этого будет?
— Война будет, а то ты не знаешь…
Быстро поев, Фёдор снова взялся за повод.
— Сёма, — сказал он, — давай прокатимся до соседей, глянем, как у них там.
— Та зайдём другим разом! — заныл Исаев, предвкушавший минуты покоя.
— Не делай мне нервы, — рявкнул Чуга, нахватавшийся словечек у обоих одесситов, — их есть ещё где испортить!
— Вже еду! — подхватился Полужид, добавляя в пространство: — Аж Молдаванкой повеяло…
Фёдор влез в седло, хотя желания ехать и у него не было вовсе. А что делать, коли жизнь такая весёлая пошла?
Спускаясь по набитой тропе, помор заметил облачко пыли, поднимавшееся над верхушками скал, что дыбились у входа в каньон. Свои возвращаются или чужие пожаловали?
Вытащив «генри» из седельной кобуры, Чуга положил винтовку поперёк седла. На всякий случай.
Вдвоём с Исаевым они почти доехали до устья, когда в Ла-Року буквально ворвались всадники, загикали, закружили, гарцуя.
Реда Парнелла помор узнал сразу.
— Вот и свиделись! — заорал рыжий. — Рад, русский?
— Не послушался-таки хозяина, — сказал Чуга насмешливо, — назло суету разводишь. Да, герой?
— Заткни пасть! — рявкнул Парнелл.
Внимательно оглядев «лихих людей», Фёдор проникновенно сказал:
— Ребятки-зверятки, вы находитесь на моей земле. Так что марш отсюда и чтоб я вас здесь больше не видел!
Ред хрипло захохотал.
— Ну ты и наглец, русский! — воскликнул он. — В школу-то хоть ходил? Считать научен? Нас тут десять человек!
— Сейчас будет меньше!
Бандиты следили за винтовкой Фёдора, поэтому не сразу заметили молниеносное движение ганфайтера. Чуга выхватил «смит-вессон» и выстрелил в упор. Пуля поразила Реда в грудь, Парнелл дёрнулся, откидываясь на спину, и повалился наземь. Одна нога его запуталась в стремени, испуганная лошадь отбежала прочь, волоча всадника по камням, но тому уже было всё равно.
Чуга опорожнил барабан револьвера, стреляя навскидку, и лишь затем схватился за винтовку. И тут же выронил её — бандитская пуля прошила руку навылет. Вторая задела бок, третья угодила в ногу.
Гонтовцы — живые, раненые, убитые — смешались в ревущую кучу-малу, плохо видимую за облаком дыма и пыли. Лошади ржали, вставая на дыбки, страшные ругательства оскверняли воздух. Реденькие облачка порохового дыма вспухали и над недостроенной баней — это был вклад Ларедо и Меддена.
— Хозяин! За мной!
Сёма направил коня к Каньону-дель-Корво, Кривому каньону, тому самому отвершку, где Фима обнаружил озеро. Едва держась в седле, отстреливаясь одной левой, Чуга поскакал следом. Копыта Рыжика захрустели галькой, винтовочные выстрелы загрохотали в теснине каньона, множа гулкое эхо, а Фёдору казалось, что гудит в его собственной голове. Мир плыл и качался, боль грызла, опаляя при каждом толчке.
С трудом сфокусировав взгляд, Чуга приметил впереди обрывчик, с которого сбегал ручеёк, изображая маленький водопадик. Вдоль стены каньона по косой вверх поднимался карниз шириной вполступни, он почти достигал обрыва, за которым плескалось озеро. Но никуда не вёл. Тупик.
Взобраться на уступ и вплавь? Ага… Помор скривился. Он в седле-то еле держится, а уж сажёнками махать… А вот за теми глыбами можно укрыться. Каньон узок, с флангов их не обойти. «Продержимся, — мелькнуло у Фёдора. — Пока патроны не кончатся…»
Взвизгнула пуля, чиркая Рыжику по шее, и конь от испуга споткнулся, полетел кувырком, сбрасывая седока. Фёдор тюком шлёпнулся на гальку. В памяти всплыла Ваенга, Олёна, макавшая бельё в воду и колотившая им об покатый бок скользкого валуна…
— Держись!
Сильная рука Исаева подхватила помора. Пуля ударила в гальку, брызгая каменной сечкой и жаля Фёдору руку. Чуга пришёл в себя.
Шатаясь, сжимая револьвер левой рукой, он упал на землю за обломком скалы и прислонился к нагретому камню спиной. «Троих я точно заберу с собой, — спокойно, отрешенно как-то подумалось ему, — а может, и четверых…»
— Щас мы их, — торопливо говорил Сёма, раскладывая на гальке винтовку и пару револьверов. — Щас…
Бандиты соскочили с коней и бросились короткими перебежками.
Фёдор выстрелил, не целясь. Исаев высунулся со своей стороны и дважды нажал на спуск «винчестера». Один из бандитов схватился за плечо, злобно бранясь. Другой вскинул «спенсер», и грохот выстрела сотряс ущелье. Тяжёлая свинцовая пуля прошла над головой Чуги, влепившись в обрыв рядом с крошечным водопадиком. От её удара вниз съехал пласт земли и полетели щепки — видно, потоком принесло когда-то упавшее в бурю дерево.
И тут изнемогший Чуга похолодел — уступ, казавшийся нерушимой скалой, стронулся с места, начал продавливаться, крошиться, рушиться. С глухим треском изломились трухлявые стволы деревьев, погребённых под слоем осадка…
Не обрыв это был, а плотина! Невесть когда, деревья, подхваченные ручьём, заклинило между скал, потом образовавшийся затор укрепился илом, глиной, песком, застыл до поры. И вот древесина сгнила. Оказалось, что достаточно одной пули, дабы оборвать последний волосок, — и плотины не стало.
— Тикаем!
Из последних сил Фёдор рванулся к тропке, приволакивая раненую ногу, хватаясь за мозолистую пятерню Исаева, бочком-бочком взбираясь по карнизу, а перед глазами оплывала глина, расщепленные стволы опрокидывались в грязевой лаве, и вот хлынула вода.
Мгновенно заполнив собою весь каньон, поднимая грязную пену сажени на три, озеро ринулось на свободу, с тяжёлым грохотаньем истекая со своего ложа, смывая людей, лошадей, камни…
Чуга распластался по скале, нахлынувшая мутная вода накрыла его по грудь.
— Держись!
— Да держусь я…
Прижимаясь к камню изо всех сил, Фёдор глядел, как беснуется уходящее озеро, как кружит и хлещет обезумевшая влага, не умещаясь в узости, как мутные волны вспухают громадными буграми, вертя брёвна, как спички.
Скала, к которой прилепился помор, дрожала, но не так уж велико было озеро — вода стала спадать. Вот коричневые пенные разводы кружат у пояса, вот — у колена, вот — едва покрывают дно Каньона-дель-Корво.
Всё, вода ушла. От обрыва не осталось ничего, даже дно бывшего озера сверкало мытой галькой — поток смыл все наносы.
Напрягавшийся до ломоты, Чуга едва не упал и поспешил спуститься, переставляя дрожащие ноги.
— Кровь утекла не вся, чуток осталось! — болтал Исаев.
Разорвав рубаху на полосы, он наспех перебинтовал Фёдору руку, ногу, бочину. Раны не выглядели опасными, но больно, чёрт…
— Потерпишь… — прохрипел Чуга, сам себя уговаривая.
Семён подхватил помора, уложив его руку себе на шею, да и пошагал, оглядываясь, к бывшему озеру. Если гонтовцы поджидают их за устьем, то встретят явно не цветами, думал Фёдор. А боец из него пока никакой. Одним махом семерых побивахом — это только в сказке бывает, по жизни семеро одного забивают до смерти…
— Передохнём!
Прислонившись к скале, чтобы не шататься и не напрягать раненую ногу, помор тщательно прочистил револьвер и зарядил его.
— Я сам, Сёма.
— Я шо-то плохо не понял!
— Я сам, сказал!
— Ша, хозяин, я без второго слова всё понимаю…
Держа оружие в левой руке, Чуга поковылял по грязным, мокрым камням — ещё недавно они были ложем озера.
Пара утёсов впереди, по правую руку, зажимала проход, через который «конестога» протиснуться могла, хоть кое-где и чиркнув бортами о камень. Потом дорога сделалась пошире. Постепенно поднимаясь, она вывела Чугу с Исаевым в небольшую укромную долинку. Справа высилась Ла-Рока, громадная красная меза, как мексиканцы прозывали Столовые горы, а у её подножия покоились руины старинной испанской асиенды. Стены, увенчанные гордыми альменас,[136] замыкали прямоугольный двор-патио, вымощенный каменными плитами. Фёдору он хорошо был виден, поскольку от тяжёлых ворот главного входа остались одни ржавые петли, а часть стены обрушилась, пропуская взгляд внутрь — к галереям, сводчатым потолкам комнат, к плоской крыше-асотее, куда вела каменная лестница.
— Шоб я так жил, как я хочу… — впечатлился Исаев.
Чуга проковылял к останкам ворот. Среди трухи валялась зазеленевшая бронзовая пластина с начертанным гербом, едва различимым под слоем патины, и грубо отчеканенными буквами.
— Ла асиенда «Каса де Ла-Рока», — разобрал Чуга.
— От то жили люди! — сказал Семён.
— Да уж…
— И никто таки не сунется, — Исаев ткнул пальцем на узкий проход между скал, — поставь туточки пацана с волыной и считай тамочки покойников!
— Глянем?
— А то!
Сбоку от асиенды располагалось низкое приземистое здание с проваленной крышей, сложенное из тёсаного камня, а с другой стороны стояла часовенка с массивным крестом.
Фёдор прошкандыбал в патио и осмотрелся. На него повеяло давно минувшей жизнью. Кто здесь обосновался? Кто тесал глыбы и складывал их в стены? Давно это было. Лет триста назад. Может так быть, что уже и не осталось ничего от прошлых-то хозяев. Хотя кто его знает? Разве проведаешь о чем-либо путном, бросив мимолётный взгляд?
Чуга вздохнул. Эти шершавые колонны, удерживавшие галерею второго этажа… Эта сикомора, взломавшая плиты двора и раскинувшая ветви над половиной патио… Эта торжественная тишина… Поневоле ощутишь тоску забвения.
Фёдор осторожно присел на тёплый камень и привалился спиной к стене. Господи, как он устал… Дорожка близкая, а измотала…
Как там Ларедо с Медденом, интересно? Хотя чего им — от бани напрямки к лесу, и всего делов. Вот как бы Гириным с Фимкой не напороться на глупых приятелей Реда Парнелла…
— Ох ты господи… — прокряхтел Чуга, вставая.
Тут он заметил в тени галереи ржавый мушкет и сошку с двурогой вилкой, на которую при стрельбе опиралось это увесистое — с полпуда — ружьецо. А неподалёку, в углу, щерился человеческий череп в забавном испанском шлеме. Грудину скелета покрывала стальная кираса — чёрная, блестящая, без единого пятнышка ржавчины. Видать, не уберегли латы мушкетёра…
Пыхтя, Фёдор поднял сошку и опёрся на неё, как на костыль. Крепкая вроде.
— Хозяин, зайдите в помещение, — окликнул его Исаев из часовни, — посмотрите глазами!
Подволакивая ногу, Чуга прошествовал в крипту. Часовенка была совершенно пуста, только на одной из стен висело бронзовое распятие.
— Гляньте!
Задрав голову вверх, помор увидал над собою провисший потолок и аккуратное отверстие в нём.
— Лестницу бы сюда…
Покинув «помещение», Фёдор обошёл часовню кругом и довольно кивнул — старинная постройка примыкала к подножию мезы, и тут время стало сообщником для искателей чудес и диковин. Полуобвалившаяся стена словно манила взойти по вывалу грубо обтёсанных глыб.
— Давай?
— Будьте ласковы! — склонился Сёма в шутливом поклоне, пропуская Чугу вперёд.
Поминая Реда нехорошими словами, помор залез на самый верх, увидав за проломом крыши и ход на чердак, и тёмное зияние в скале.
— Тут вроде как пещера!
— Та вы шо?!
Осторожно, на четвереньках, они подобрались к пещере и пролезли в недра Ла-Роки. Сырости здесь не чувствовалось, было сухо и свежо — сквозило, не переставая. Приглядевшись, Чуга рассмотрел выщербленные ступени, ведущие вверх.
— Темно, как у негра в заднице…
Осторожно ощупывая свод и ступеньки, помор двинулся вперёд. Вряд ли древние строители вырубали этот ход вручную, скорей всего, пришли на готовенькое, проточенное водами за бездну лет. Слишком уж неожиданны повороты, а уж так чередовать подъёмы со спусками не придёт в голову ни одному человеку, на это лишь природа горазда.
— Шо вы там сопите, как тот агицин паровоз?[137]
— Ша!
Пару раз передохнув, слыша лишь собственное дыхание в кромешной темноте, Фёдор поднялся настолько, что приметил впереди слабый свет, — и выбрался на вершину Ла-Роки.
Скала была так высока, что из-за её обрыва лишь вершины гор Мендосино выглядывали да небо распахивалось. А на самой мезе стоял маленький замок — индейская крепость. Туренин называл такие — пуэбло.
Это было нагромождение домов из камня. С плоскими крышами, давно уж сгнившими, дома напоминали кубики, сложенные горкой, — внизу их было больше всего, второй этаж был поменьше, а третий и вовсе мал.
— Ви знаете, шо мине сдаётся? — послышался восторженный голос Исаева. — Мине сдаётся, шо вам немножечко повезло с ранчей!
— Ага, — прокряхтел Чуга, — фарт так и прёт, сорок пятого калибра и побольше…
Он приблизился, с уважением оглядывая древнее строение. Пуэбло словно продолжало мезу — возведённое из скреплённых известковым раствором плоских глыб красного песчаника, оно венчало Ла-Року неровным конусом. Века не пощадили индейский город-крепость так же, как и асиенду испанцев, — ни брусьев стропил, ни тростниковых кровель не осталось и в помине, одни только стены выдержали испытание временем.[138]
Поглядывая по сторонам, Фёдор проник в самую серёдку пуэбло, в общий зал, посреди которого круглилось нечто, похожее на колодец. Это была сипапа — вход в киву, священное место, своего рода храм.
Чуга заглянул вниз и разглядел вереницу отверстий, проделанных в стене кивы. Не самые удобные ступеньки, так ведь и спускаться недолго — вон он, пол, рядом совсем. Сажени полторы до него, не больше.
Кряхтя, помор полез в сипапу, оберегая раненую ногу. Внизу было прохладно, как в погребе. Из сумрака выступали гладкие стены с нишами, заполненными лепными кувшинами и горшками. Все они были или пусты, или на дне их пересыпалась неясной природы труха.
Тусклый блеск привлёк внимание Фёдора. В самой глубокой нише покоился божок из кованого золота — зубастый, свирепый уродец с глазами из крупных изумрудов. Этакий Щелкунчик.
— И шо там такого цикавого? — заглядывал сверху Исаев.
— Куча золота…
— Та вы шо?!
Вылезти наружу было гораздо труднее — нога разболелась, а в руках почти не осталось сил.
— Держи. — Фёдор передал Семёну «Щелкунчика» и присел отдышаться.
Наслушавшись исаевских восторгов, Чуга с усилием поднялся и приблизился к краю обрыва, куда стародавние индейцы предусмотрительно подкатили каменные глыбы, возведя подобие парапета.
Фёдор выглянул наружу, и у него закружилась голова. Неужто он так высоко поднялся? Всё видать! Вон его баня, вон лошади, рядом фургоны проглядывают. Чужих вроде не видать, своих тоже. Озеро всё растеклось, только лужи остались, веером расходясь между холмов. Далеко-далеко сверкала вода. Славянка? Да вроде…
— Ну всё, — сказал Чуга, — отбой.
Хромая, он тронулся в обратный путь. Дорога под гору давалась легче. Выбравшись в Каньон-дель-Корво, Фёдор прислушался.
Было тихо. Где-то за устьем продолжала журчать вода.
— Есть с чего посмеяться… — пробормотал Семён, правой рукой сжимавший винтовку, а под мышкой левой тащивший золотого божка.
— Ша…
Мёртвое тело лежало посередине ущелья, прибитое водой к валуну.
Сняв с трупа оружейный пояс, Чуга повесил его на плечо. Пригодится в хозяйстве…
У выхода из каньона мертвецов было больше — он насчитал шесть человек с избитыми, изломанными телами. Да-а, повертело их, покрутило изрядно…
— Каждый ищет свой гембель, — философски заметил Исаев. — Эти скаженные таки нашли.
Приметив оброненный «генри», Фёдор с кряхтеньем поднял его, берясь за винтовку, как за посох. Хлюпая по жиже, он выбрался в долину. У холмов бродило несколько лошадей, осёдланных, но без наездников. У одной седло перекрутилось, очутившись под животом. Надо полагать, коняке тоже досталось от потопа…
— Рыжик! — позвал Чуга. — Рыжик!
Фыркая, рыже-чалый поднял голову над кустами. Заржав приветственно, направился навстречу и стал тыкаться тёплыми губами, будто проверяя, а жив ли хозяин.
— Живой я, живой… — проворчал помор. — До дому, Сёма.
…Битый час Фёдор просто лежал на траве, бездумно пялясь в небо. Разведя костёр, Семён нагрел воды и промыл раны помору в боку и руке, наложив чистые, сухие повязки. А вот нога… По боку свинец лишь чиркнул, пропахав неглубокую борозду во плоти, мякоть руки пробил навылет, в ноге же завяз.
— Ну что там? — нетерпеливо спросил Фёдор.
— Дайте доктору сделать своё мнение…
— А ну тебя!
Насупившись, Чуга потрогал твёрдое вздутие. Пуля засела неглубоко, но… Вздохнув, он достал нож и накалил кончик в огне. Осторожно полоснул по коже. Сцепил зубы и погрузил остриё, нащупывая свинцовый кругляш.
— С-суки! — прошипел помор, поддевая пулю.
Вот она, показалась… Потянув двумя пальцами, Фёдор вытащил её и отшвырнул. Часто дыша, откупорил бутылочку виски, задержал дыхание… Огненная струйка окатила рану, размывая кровь, и боль полоснула по нервам, бросая в жар.
— Суки какие, а? — выдохнул Фёдор, жмурясь. — Попадись вы мне…
— Попадутся, — слабым голосом пообещал Исаев.
Умыв руки чистым бурбоном, Чуга взял в руки иглу с ниткой.
— Жопы бы им зашить, на хрен, — злобно сказал он, — и гороху скормить, штобы пучило!
Вздохнув, помор принялся накладывать шов. Наложил, унял дрожь в руках и потом ещё добрый час лежал в полном изнеможении.
Осилив слабость, переоделся и переобулся. Стало получше.
— Кажись, Ларедо! — привстал Семён, оборачиваясь к лесу.
— А Текс?
— Идёт прежде.
Достав оба револьвера, Чуга тщательно вытёр каждый, не забыв пропустить платочек через пустые каморы и капнуть масла на механизмы. И выдохся.
— Постельный режим… — пробормотал он, бредя к фургону. — Вот тебе и весь сказ…
Глава 15 СТАМПИДА
День прошёл спокойно, горизонты были чисты. Фёдор с Медденом отлёживались, Ларедо пропадал до вечера, а когда вернулся, то приволок с собою тушку молодого оленя, совсем ещё телёнка.
— Лучше лекарства не придумать, чем бульон из свеженины, — сообщил он, — особливо после ранений. Кровь сама прибавляется в жилах!
А с утра пришлось-таки устраивать похороны — негоже было держать мертвых бандитов рядом с домом, уж больно смердели. Да и не по-христиански как-то…
Трупы сволокли в промоину и предали земле — обрушили на них рыхлый песчаный склон. Аминь.
Часа в три пополудни за холмами поднялась туча пыли — подходило стадо. Как ни худо было Чуге, но он таки возрадовался да возгордился — его ковбои гнали его коров.
Понять чувства Фёдора мог только бедняк, сам приложивший силы к тому, чтобы вырваться из нищеты, и вот, на каком-то этапе своих трудов, заметивший, что уже не беден, что первый шаг к состоятельности сделан, и теперь вся задача лишь в приумножении скромного капитала. Стало быть, верным оказался избранный путь, и все усилия, все утраты — не зря!
Фёдор с Семёном отправились навстречу бакерам и помогли загнать коров на верхнее пастбище — то самое, что схоронилось за Бутылочным Горлышком.
— Почтение, мосье Чуга! — провопил Фима, серый от пыли. — Пятьсот с лишним голов, герефордская порода!
— Почём брал? По червонцу?
— Это больно! Гомес уступил по пятёрке за голову! Упитанные однолетки, всё как положено.
— Сойдёт для начала.
Лишь теперь он заметил, что у Захара рука висела на перевязи. А тут и чей-то фургон подкатил.
— Только не говори, — сказал Фёдор Гирину, — что это тебя бурёнка забодала.
— Не буду, — хмыкнул Захар. — Сцепились с вакеро Суноля. Подстрелили парочку особо упёртых и разъехались.
— Натурально, — кивнул Иван.
— А это кто? — кивнул Чуга на подъезжавший фургон.
Гирин закряхтел смущённо.
— Да вот, понимаешь, сложности у людей… — забубнил он. — У дона Гомеса дом спалили и сына старшого ранили, вот мы их и зазвали к нам — пущай отсидятся хоть…
— Ну и правильно, — сказал Фёдор.
Пожилой мексиканец, одетый не без лоска, с редкой проседью в чёрных волосах, с лицом смуглым и чеканным, словно рубленным из дерева, тяжело спрыгнул с козел. Шляпою сбив с себя пыль, приблизился к Чуге.
— Буэнас диас, сеньор! Не приютите ли погорельцев? — спросил он, криво усмехаясь. — По-соседски?
— Об чём разговор! — Федор крепко пожал сухую и сильную руку дона. — Располагайтесь, конечно. Гонт вас прижал?
— Суноль, паскуда!
— Один чёрт…
Поклонившись сеньоре Гомес, опиравшейся на руку бледного юноши с перевязанной головой, Чуга отошёл к своим.
— Короче, так, — сказал он. — Гонт затеял всю эту музыку, вот пусть и попляшет теперь…
— Имею задать парочку вопросов, — поднял руку Беньковский, поглядывая на Сёму, принявшего очень важный вид. — Гонт таки сделал скандал?
Исаев самодовольно улыбнулся.
— Или вы думаете, шо вы не опоздали? — сказал он. — Так я вам скажу, шо таки да. Мы немножечко разлили твоё озеро…
Фима показал Сеньке кулак и раздельно проговорил:
— Я шо, тихо спрашиваю? Или ты говоришь мине, шо тут случилось, или я гэпну[139] тебе у морду со всей моей любовью!
— Предлагаю — ша! — резко сказал Фёдор. Поведав «скотоводам» о здешних приключениях, он продолжил: — Я слыхал, как большие ранчи прирастают мелкими без зазрения совести, а теперь и сам вижу. Дон Гомес! А не собраться ли нам всем здесь? По-соседски? За Ла-Рокой мы нашли старую асиенду, там легко укрыться и держать оборону. Иначе, боюсь, Гонт с Сунолем передавят нас по одному.
Хоакин серьёзно кивнул.
— Поддерживаю, сеньор, — сказал он. — Если женщины и дети будут в безопасности, это развяжет нам руки…
— …И мы дадим бой.
— Си, сеньор!
— Тогда по коням!
Вместе с Чугой и Гомесом выехали Иван Гирин и Сёма Исаев.
Вторые сутки подряд Фёдора мучила тревога — как бы Гонт не записал в «малые сии» и ранчу Костромитиновых…
Не верилось Чуге в джентльменство миллионщика — однажды поднявший руку на женщину посмеет снова. Особенно ежели некому будет дать сдачи. Но сразу примчаться Наталье на помощь у Фёдора не получилось…
…Отряд мигом одолел несколько вёрст до ближайшего хутора, где проживала семья креолов[140] Кусковых, — от их крепкой избы-пятистенка, основательного коровника, добротной конюшни, «журавля» у колодца так и веяло Русью. Да и сами Кусковы, Терентий Семёныч с Глафирой Васильевной, выглядели скорее татарами из Казани, чем индейцами уалла-уалла. А уж сыновья их и вовсе богатырями вымахали — огромные, мордастые да скуластые, кровь с молоком. Причём встречать незваных гостей вышли все разом — и у каждого в руках была или винтовка, или «кольт». Узнав Гомеса, Кусковы заулыбались и опустили оружие.
— Какими судьбами, Хоакин? — заговорил Терентий, подходя вразвалочку к воротам усадьбы. — И кто это с тобой?
— Гонт балует! — резко сказал дон Гомес. — Его люди сожгли мой дом, а Теодор приютил меня и мою семью.
Кусков-старший ничем не выдал своих чувств. Посмотрев на Чугу, он подал руку — рост позволял ему запросто здороваться и с конным.
— Терентий.
— Фёдор.
— Наш! — осклабился креол. — Суноль уже подваливал к нам, мы его отогнали.
— Ежели пожалует большой отряд, не отобьётесь.
— Да-а… — затянул Терентий. — За Гонтом — сила…
— Ни хрена! — резко сказал Гирин. — Всем миром мы этого богатея на дерево загоним, как шугливую белку!
— Имею сказать за хозяина, — кивнул Исаев на Чугу. — Как-то раз он вже намылил-таки морду Гонту. Так это можно повторить!
— И Тео нашёл Потерянную асиенду, — негромко, но веско добавил Хоакин, — а её и в одиночку удержать нетрудно.
Кусков крякнул, почесал в затылке и скомандовал своим:
— Собираемся! Глаша, тащи съестное да одежонку. Лекарств возьми, какие есть. Никифор и ты, Данила, запрягайте коней. А вы за мной, соберём оружие, патроны, одеяла…
Семейство забегало, без лишней суеты готовясь к отъезду. Фёдор не стал дожидаться — дал отмашку, и отряд поскакал далее.
— Надо предупредить Дока Шелихова! — крикнул Гомес. — Он тут неподалёку живёт, лошадей разводит!
— Шо, взаправду доктор? — полюбопытничал Сёма.
— Военным врачом был, как-то даже генерала Шермана перевязал под Читтанугой!
— Такие люди нам нужны!
Когда «эскадрон» Фёдора добрался до ранчо Джубала Купера, в строй встало ещё столько же конников, сколько выехало вначале, — прибавили сил рубаха-парень Кузьма Максутов, худущий и длиннущий Гаврила Шумагин, скользкий и опасный Степан Котов по прозвищу Меските. Все они были простыми ковбоями, работавшими на лысенького и румяненького Дока Шелихова.
— Стреляют! — крикнул Меските, привставая на стременах.
— Слышу! — ответил Чуга.
Дорога поворачивала, огибая кленовую рощу, и за чересполосицей голых ветвей не разобрать было, кто по кому вёл огонь, но треск оружейной пальбы стоял изрядный.
На всём скаку пройдя поворот, Фёдор вынесся прямо к ранче Купера. Ворота были сломаны, а по обе стороны от них тянулась невысокая ограда, сложенная из плитняка. За ней-то и укрывались бойцы Суноля, обстреливавшие хозяйский дом и не жалевшие патронов — Гонт заплатит!
Во дворе лежали двое, то ли раненые, то ли убитые. Из окон с выбитыми стёклами постреливали хозяева, мнившие, будто завет «мой дом — моя крепость» имеет к ним отношение.
Чуга выхватил револьвер и открыл огонь по нападавшим, не шибко церемонясь, в спину ли, в лицо ли угодит выпущенная им пуля — на войне не до хороших манер, благородных воинов обычно хоронят с почестями. А оно ему надо?
Отряд дружно поддержал командира, залпом накрывая заметавшихся вакерос. Котов стрелял с обеих рук, весело скалясь и с удовольствием сея смерть. Максутов и Гирин прицеливались, методично истребляя врага и морщась, если патрон бывал истрачен зря. Док Шелихов и Гомес держались поодаль, а Шумагин так и рвался в бой.
— Сзади! — завопил Исаев.
— Это Суноль! — крикнул Хоакин.
Чуга резко обернулся. Из-за поворота, клонясь от быстрой скачки, вылетело человек десять всадников. Гикая и свистя, они понеслись на подмогу своим. Загремели первые выстрелы. Гаврила схватился за простреленное плечо, с Меските сбило шляпу.
В этот момент на открытую веранду дома Купера выскочил повар и замахал грязным передником, пригибаясь и прячась за столбом навеса.
— …прикроем! — донеслось из разбитого окна.
— К дому! — заорал Фёдор. — К дому!
Пропустив впереди себя Гирина и Меските Котова, Чуга направил Рыжика во двор. Доскакав до конюшни, он загнал коня внутрь и бегом бросился к углу дома, прихватив с собою «генри». Прибывшее подкрепление на штурм не решилось, уж больно плотным был огонь из дома. Всадник в пончо, крутившийся на гнедом коне, резкими жестами рассылал вакеро, приказывая тем заходить с флангов. Это был сам Антонио Суноль.
Чуга выстрелил по нему, но не попал, только задел кого-то из «стреляющих ковбоев» Гонта.
— Федька!
Сгибаясь, почти падая, к Чуге подобрался Туренин. Князь улыбался во весь рот.
— Чего выскочили, ваше сиятельство? Тут стреляют!
— Соскучился! А ничего в этой Калифорнии, жарко!
— Смотри не перегрейся!
Павел пристроил «спенсер» поверх поилки, вырубленной из цельного бревна, и тут же выстрелил, снося с ног раздухарившегося вакеро.
— Князь! Они сбоку зайти хотят!
— Там кухня — и трое стрелков! Один дед Макар, старый волчатник, стоит роты — вообще не промахивается!
Фёдор выстрелил трижды, не целясь, и тут же грянул залп из окон — вакеро отступили, прячась за оградой и деревьями.
— Пошли в дом, а то тут как-то неуютно.
— Пошли…
Павел провёл Чугу чёрным ходом прямо в просторный, высокий холл, откуда шла лестница на второй этаж, обрамлённый балюстрадой из точёных стоек, а у стены громоздился огромный камин. Окна были расколочены, пол усеивали осколки стекла и битой посуды, пустые гильзы и обрывки простыни, пущенной на бинты. Под оконными проёмами хоронились защитники дома, Фёдор узнал Котова и Максутова. Док Шелихов, Гомес и сам хозяин ранчо сидели в рядок у камина, раскуривая самокрутки.
— Привет! — сказал Чуга. — Что, скучно стало, решили пострелять?
— Да делать нам нечего! — ухмыльнулся незнакомый старик с длинными седыми усами, опускавшимися на впалую грудь, как клыки моржа.
В эту секунду прозудела пуля, выбивая щепки из оконной рамы и впиваясь в стену над камином.
— Палят почём зря, — презрительно фыркнул дед.
Меските не удержался, высунулся из окна и стрельнул в ответ.
— И ты туда же… — проворчал волчатник с неодобрением.
Сгибаясь в три погибели, Фёдор перебежал к камину и присел, опирая «генри» прикладом об пол.
— Джентльмены уже посвящены в мой план? — осведомился он, поглядывая на дона Гомеса.
— Посвящены, — сказал Джубал с несчастным видом. — Прекрасный план, и насчёт Потерянной асиенды всё распрекрасно, но, дьявол меня раздери, до чего ж не хочется всё бросать и бежать!
— Не ругайся, дядя, — строго сказала Марион, появляясь в дверях.
Девушка приближалась в живописной позе — на четвереньках — и толкала перед собой тяжёлую корзину со съестным.
— Марьяна! — проговорил с укором Туренин.
— Я же осторожно, — стала оправдываться жена. — А то кое-кто с утра ничего не ел! Кстати, вакеро потихоньку отступают.
— Да ну? — удивился Джубал.
Шумагин подполз к двери, запертой, но настолько расколоченной пулями, что больше смахивала на решётку.
— Не видать никого… — доложил он. — А нет, вру! Видать! Вона двое улепётывают! Слу-ушайте… Да их там всего человек десять осталось! Может, мы кэ-эк выйдем, да кэ-эк…
— Ша! — цыкнул на него Чуга. — К ним же Суноль присоседился и с собой целую банду привёл. Отчего ж они вдруг взяли и побежали?
— Так ведь побежали же! — с прочувствованностью сказал Гаврила.
— Заманивают, может, — пробурчал дед Макар.
— Нам нужен разведчик! — рубанул рукою князь. — Есть желающие?
Желающие нашлись. Туренин выбрал Максутова и вручил ему самый большой бутерброд.
— Только осторожно там! — напутствовала добровольца Марьяна.
— Я как мышка! — ухмыльнулся Кузя и выскользнул во двор.
Вскоре Чуга расслышал негромкое тюпанье копыт — Максутов не ринулся напрямую, а пустился в обход, через лесок, служивший межой между двором ранчо и пастбищем.
— Стёпа, постоишь на часах? — полувопросительно-полуутвердительно сказал Док Шелихов. — А мы перекусим по-быстрому.
Котов кивнул.
— Посижу, — сказал он с усмешечкой.
— Поглядывай только…
Словно подтверждая опасения врача, сквозь дверь залетела пуля. С гнусным визгом она вонзилась в заднюю стенку камина и ударила рикошетом в пол, раскидывая пепел.
— Ишь ты его! — уважительно сказал старик-волчатник. — С Жёлтого холма целился, не иначе. Стрелок, однако, мать его ети…
Последнюю фразу, произнесённую по-русски, поняли даже «бостонцы» — с кем поведёшься…
Дед сразу закряхтел от смущения, припомнив, что Марьяна рядом и «по-евойному» разумеет прекрасно. Женщина тут же бросилась старику на помощь, переводя разговор на другую тему.
— Дядя, — оживлённо начала она, — а что это за Потерянная асиенда?
— О! — сразу оживился Джубал. — Это старая легенда, бытовавшая в этих местах ещё при испанцах. Говорят, что где-то в окрестных горах скрывается асиенда знатного идальго из Новой Испании,[141] чуть ли не спутника самого Кортеса! Кто её только не искал, да всё без пользы. Вон Хоакин знает…
Дон Гомес торжественно кивнул.
— Рассказывают, — проговорил он, — что Алонсо Эрнандес Портокареро, тот самый, которому досталась индианка Малинче, позже крещённая как донья Марина,[142] и устроивший резню в столице ацтеков Теночтитлане, раскаялся и даже подружился с индейцами. Прошло несколько лет, и конкистадоры затеяли новый поход — отправились на поиски таинственной Сиболы. Испанцев повёл Коронадо, а командование над их союзниками — «мирными» индейцами — взял Портокареро…
— А кто такой Коронадо? — поинтересовалась Марьяна.
Дон Гомес с сожалением посмотрел на неё и продолжил уже с меньшим воодушевлением:
— Жил-был такой Франческо Васкес де Коронадо, конкистадор из Саламанки. Он был первым европейцем, ступившим на землю нынешней Территории Нью-Мексико.[143] В 1535 году сей хитроумный идальго прибыл в Новую Испанию в свите вице-короля Антонио де Мендосы. Его назначили комендантом Кульякана, но Коронадо не успокоился. Прослышав, что где-то на севере, в землях индейцев зуни, находится сказочно богатый город Сибола, Франческо собрал отряд и отправился на поиски золота. Триста испанских головорезов и семьсот «мирных» индейцев двигались по пути, разведанном монахом-францисканцем Марко де Нисой. Монах разливался соловьём, вещая с кафедры о несметных сокровищах Сиболы, огромного города величиной с Мехико. Не знаю уж, зачем Марко так вдохновенно врал, ведь он шёл со всеми вместе… Набродившись по горам и долам, подивившись Большому Каньону, испанцы нашли-таки Сиболу — это было скромное пуэбло, индейский город-крепость, в котором каменные дома и башни лепились друг к другу в несколько ярусов. Конкистадоры проклинали лживого монаха, насмехаясь над его вздорными выдумками — дескать, иной хутор в Новой Испании производит большее впечатление, чем «златокипящая» Сибола! Испанцы штурмовали её стены, но не обнаружили ничего дороже кукурузы, бобов и цыплят… Правда, сам Коронадо вспоминал, что нигде не встречал такой чистой и белой соли, как в Сиболе…
Через горы Сангре-де-Кристо конкистадоры вышли к реке Пекос и там зазимовали. А Франческо Васкес повстречал ещё одного брехуна. Тот расписал Коронадо, что к востоку течёт огромная река шириной две мили,[144] в которой водятся рыбы величиной с доброго коня. На реке той находится страна Кивира — «свежая, зелёная, роскошная, лучше которой не найти ни в Испании, ни во Франции, ни в Италии». Её верховный вождь проводит-де свой полуденный отдых под огромным деревом, увешанным золотыми колокольчиками. Жители Кивиры пользуются-де только золотой и серебряной утварью, а на носах их громадных челнов блестят-переливаются большие золотые орлы…
Коронадо поверил этим басням и выступил в поход. Он открыл реки Бразос, Рио-Гранде, Канейдиан и Симмарон, первым из путешественников Старого Света вышел в прерии, а вот золота так и не обрёл, за что ему досталось от короля Карла I. Впрочем, бурную жизнь свою Франческо закончил в чине губернатора Новой Галисии — это где-то на северо-западе Мексики…
— А что же… этот… Портокареро? — осведомился Чуга.
— Да как тут сказать… — затруднился Гомес. — Понимаете, испанцы Коронадо не шли всей толпой, а продвигались разными отрядами. Отряд Диаса прогулялся к Калифорнийскому заливу, люди Карденаса вышли к Большому Каньону, а те, коими командовал Харамильо, оказались на берегу Рио-Гранде. И почему бы не предположить, что какой-то маленький отрядец не забрёл в наши места? По крайней мере легенда утверждает, что так оно и было — Портокареро привёл своих людей сюда, построил асиенду в укромном месте, женился на красавице-скво и прожил здесь до глубокой старости, окружённый любящими детьми и внуками…
— Складно малюешь, — сказал Исаев. — Но я шо-то плохо не понял, а через почему ту асиенду искали?
— Ну-у в легенде о Потерянной асиенде говорится, что идальго-отшельник не с пустыми руками явился сюда — он будто бы приволок с собою сказочные сокровища, награбленные им в поверженном Теночтитлане. Но лично я не верю в это, ибо зачем Алонсо Эрнандесу злато и каменья в глуши? Что делать богачу в краю туземцев, не познавших всесилья денег?
— Возвращается! — подал голос Меските.
— Что? — вздрогнул дон Гомес, погружённый в иные времена.
— Я говорю, Кузька скачет! Напрямки!
Фёдор заслышал торопливый конский топот, а вскоре раздался крик Максутова:
— Хозяин! Уходить надо! Гонт стадо гонит сюда, три тыщи голов!
Джубал нахмурился и быстро переглянулся с Гомесом.
— Пастбища хочет занять! — сделал вывод дед Макар. — Умно…
— Умно?! — вскипела Марьяна. — Да он просто выживает нас отсюда! И… И… Я не понимаю, куда смотрит шериф округа?!
— Вдаль! — криво усмехнулся Купер. — Шериф не вмешивается в пастбищные войны. Всё, леди и джентльмены, мы проиграли. Уходим, и поживее!
Чуга, пристально следивший за тучей пыли, вздымавшейся за рощицей у дороги, внезапно спросил:
— Мистер Купер, а где ваши коровы?
— Пасутся за лесополосой… Собирайся, Марион, собирайся! Времени нет!
— Есть! — сказал помор.
— Что?! — удивился Джубал.
— Надо погнать вашу скотину навстречу коровам Гонта! Князь, помнишь, как нас Карибу Харт подловил?
— Точно! — загорелся Туренин. — Устроим стампиду!
И половины минуты не прошло, как все бакеры, осаждённые в доме Купера, выехали со двора верхом и поскакали за полоску леса, скрывавшего обширное пастбище. На травке, всё ещё зелёной, паслось сотни четыре лонгхорнов, может быть и больше.
Ковбои рысью разъехались, умело сгоняя бурёнок в пугливое стадо. Лонгхорны и без того склонны впадать в панику по малейшему пустяку, а уж если их напугать…
— Живее, живее! — орал Джубал, ожесточённо стегая животных распущенным лассо.
Фёдор, подгонявший десяток бычков, оглянулся — два фургона как раз покидали двор ранчо.
— Успеют! — крикнул Туренин, смотревший в том же направлении. — Дед Макар проведёт такими тропами, что не всякому индейцу ведомы!
Чуга кивнул и подбодрил строптивого телка:
— В строй, зараза!
Исаев с Меските распотрошили небольшой стожок, окружённый изгородью, и навертели соломенных жгутов. Нацепив их быкам на рога, они только ждали сигнала. И вот огромное стадо Мэтьюрина Гонта показалось из-за поворота.
Тысячи животных бежали грузно и неуклюже, их гулкий топот отдавался дрожью земли. Непроглядная туча пыли поднималась всё выше, скрывая, как в тумане, деревья и скачущих вакеро.
— Меските, поджигай!
Котов и рад был стараться. Вдвоём с Семёном они запалили солому на рогах у быков, а остальные бакеры заорали, засвистели, стегая животин и паля в воздух. Обезумевшее стадо бросилось вскачь, понеслось с диким рёвом навстречу коровам Гонта. Вакеро сделали было попытку остановить бешеный накат, но им это не удалось — одного из наездников коровы просто смели, затоптав и не заметив в слепом ужасе, а прочие бросились наутёк.
Маленькое стадо врезалось в большое, давя и калеча, топот, надрывное мычание, истошный рёв глушили любой звук — кричи, не услышат. Чуга и не пытался: вытянув руку в сторону Ла-Роки, он указал путь отступления, а после сделал приглашающий жест Исаеву с Гириным — за мной, мол.
— Я с вами! — разобрал Фёдор по губам Туренина и махнул рукой.
— Вперёд, и с песней!
Глава 16 ФЛЕШ-РОЯЛЬ[145]
Чуга повёл отряд вдоль Славянки, по отлогому берегу, заросшему дубами.
— Местные краснокожие, помо и уалла-уалла, — заговорил Павел, — частенько питаются желудями. Да! Перемалывают их в муку и что-то такое пекут… Кстати, вот и они.
Помор глянул на реку, не обильную водой, но с течением плавным, и увидел выплывавшие индейские баты красного цвета, пироги-долблёнки на десяток гребцов каждая. Индейцы сидели, нахохлившись, в накинутых на плечи одеялах, и походили на сердитых птиц, тем паче что их длинные волосы были украшены перьями, обвисавшими во все стороны.
Завидев бледнолицых, краснокожие воины встрепенулись и мощно погребли к берегу. Баты с шуршанием вылезали на песок, а помо, гортанно лопоча, повыскакивали в мелкую воду, мигом натягивая крепкие луки. Один из них воинственно потрясал стареньким ружьём Паттерсона.
— Не стрелять! — крикнул своим Чуга и придержал чалого. Подняв правую руку открытой ладонью вперёд, он громко и ясно сказал на русском: — Мы друзья!
Индейцы растерялись. Загомонили, переглядываясь и яростно споря. Потом вперёд выступил обладатель винтовки и тоже поднял руку, свидетельствуя о мирных намерениях.
— Вы друзья нанука? — спросил он нараспев.
— Нанук — это на их языке «повелитель», — тихонько сказал Туренин. — Так индейцы, по старой памяти, зовут Петра Степановича.
Фёдор кивнул.
— Мы друзья нанука, — подтвердил он. — Враги нанука — наши враги. Их зовут Гонт и Суноль. Мы дали им бой у Жёлтого холма и теперь спешим помочь нануку.
Краснокожий величественно кивнул.
— Мы тоже помогать. Хау!
Индейцы быстренько погрузились обратно в пироги и дружно заработали вёслами.
— Ежели они доберутся до вашей ранчи, — проговорил Чуга, — то нарушат-таки праздник Гонту.
Туренин кивнул, тут же вздыхая:
— Да какая она наша… Всё дядьки Марьяниного. А нам самим надо как-то крутиться.
— Выкрутишься. Едем.
Ранча Костромитинова лежала вёрст на тридцать ниже по Славянке. На полдороге Фёдор углядел впереди облако пыли — человек пять скакало в ту же сторону, что и они, окружая лёгкую чёрную коляску.
— Это люди Черных! — оживился князь. — Сам Егор Леонтьевич[146] староват уже, в коляске едет, а вон тот, здоровый, сынок его, Александр! Знаю их, заезжали как-то к Куперу.
Всадники заметили «погоню» и забеспокоились. Туренин крикнул:
— Свои, Егор Леонтьевич! Свои!
— Свои дома сидят, — ворчливо ответил седой, крепкий старик, выглядывая из-за откинутого верха пролётки.
— Не время рассиживаться! — сказал князь в запале.
— Твоя правда, Павел Андреич, твоя правда…
Рассказ о схватке с вакерос Суноля взбодрил Черных, а на лицах его бакеров вызвал откровенно кровожадные ухмылки.
— Давно этот бостонец напрашивался, — проворчал Егор Леонтьевич и хмыкнул: — Напросился-таки! Ну и поделом. Ужо ему… Знающие люди сказывали — крупно погорел Гонт. Сцепился с самим Джеем Гулдом,[147] да только не по пасти сласти. А уж тот его потрепал — будь здоров!
— А я-то думаю, чего это Мэту вожжа под хвост попала! — рассмеялся Павел. — А ему тот хвост прищемили, оказывается!
Бакеры загоготали, а Черных-отец нахмурился:
— Пошто смеётесь? Гонт теперича на нас зло сгоняет! Гулд — тот ещё волк, Мэту с ним не тягаться, да только нам от того какой прок? Силёнок у этого бостонца — дай бог!
— Да обыкновенный он зарвавшийся паскудник, — резко сказал Чуга. — Ежели наособицу держаться будем, он нас всех по очереди передавит, как клопов, а вот ежели заедино… Тогда ещё посмотрим, кто кого прижмёт!
Егор Леонтьевич посопел, соображая, и махнул рукой:
— Лады! Я тогда к Хлебниковым заверну, а вы к Петру Степановичу скачите!
И два отряда разъехались.
Фёдор непроизвольно добавлял коню прыти, когда вдруг Исаев, вырвавшийся вперёд, резко осадил своего гнедка, чуть не подняв того на дыбы.
— Туточки человек! — крикнул он.
Чуга подъехал и увидал верного стража Коломиной, индейца Тануха. Краснокожий был ранен в ногу, идти ему было и трудно, и больно, но он упорно шкандыбал вперёд. Узнав помора, он остановился, пошатываясь.
— Ты чего Наталью бросил? — нахмурился Фёдор.
— Моя не бросать, — мотнул головой Танух. — Моя носить…
Он протянул Чуге записку и обессиленно привалился к дубку. Дубок прогнулся.
Мигом развернув скомканную бумажку, помор прочёл короткое послание, написанное торопливым почерком:
Федя! Всё очень плохо — парни Гонта заняли ранчу, а нас с дядей заперли и держат в угловой комнате для гостей. Помоги!
НатальяЧуга резко крикнул:
— Коня Тануху!
Семён живо подскакал и передал индейцу повод запасного мерина, бурого с подпалинами. Краснокожий тяжеловато влез на бурку верхом.
— Держи, — сказал Фёдор, протягивая ему свой «генри».
Танух принял винтовку, заулыбавшись, как дитя новой игрушке.
— Показывай дорогу!
— Моя показать.
Чуга очень устал за день, да и недавние раны давали себя знать — вон та, что на ноге, открылась и кровоточила. Но это всё — так, пустяки. Главным, по сути единственным, моментом была участь Натальи. Девушка не должна была пострадать ни в коем случае! Ужасаясь своим мыслям, Фёдор представил её мёртвой и не смог даже найти сравнения нахлынувшим на него чёрным чувствам. Ему и уход Олёны до сей поры покоя не даёт, а если ещё и Натальи не станет…
Он готов был долго терзать Мэтьюрина и его подельников, предавая их самым изощрённым пыткам. Хотя никакая, даже запредельная, жестокость не смогла бы воскресить Наталью…
«Господи, о чём я думаю?! — кинуло помора в жар и холод. — Как, вообще, можно думать такое? Наташу необходимо спасти, уберечь во что бы то ни стало! Об этом и думай, дурак…»
— Понаблюдаем за ранчей издали, — предложил он осипшим голосом. — Сёма, бинокль с собой?
Исаев гордо продемонстрировал старенький, потёртый «Доллонд».
— Погнали!
Оставляя по правую руку берег реки, друзья поскакали, углубляясь в лес из вечнозелёного дуба и редких деревцев тсуги. По лесу вилось множество тропок, они двоились, троились, пересекались по-всякому.
— Я видеть дорогу, — откликнулся Танух.
— Давай-ка лучше обочиной двинем…
Поднявшись на холмистое возвышение, пройдя густой порослью можжевельника, спустившись с невысокого гребня, краснокожий и бледнолицые выехали на узкую оленью тропку, змеившуюся вдоль склона. Внизу мелькала довольно-таки широкая долина, на которой кое-где пасся скот, а на западе, за деревьями, угадывались постройки ранчи.
Людей видно не было, и вся картинка вызывала у Чуги мирные буколические ассоциации. Пастораль!
Сухой треск выстрела из револьвера прозвучал тревожной нотой, внося в деревенскую идиллию недобрую дисгармонию.
— Это там, — вытянул руку Танух, указывая в начало долины, куда подходила дорога.
— Тогда нам туда!
— Натурально, как Гирин говорит, — выразился Туренин.
Ручей, петлявший по долине, стал прижиматься ближе к склону. Жёлтые сосны, поднимавшиеся по обоим его берегам, сохраняли тень — и хорошо могли спрятать всадников.
Спустившись с холмов, друзья направили коней по мелкой воде.
— Стоять! — тихо сказал Чуга, заметив вдалеке двух верховых.
Те покрутились, громко переговариваясь, и неспешно удалились к белевшему вдали ранчо.
Когда Фёдор выехал к излучине, то сразу увидел мёртвое тело. Мужчина лет тридцати, одетый скромно, но аккуратно, лежал у самой воды, раскинув руки и ноги. Помочь бедняге уже нельзя было — на месте правой глазницы чернела дыра, а под головой натекала густая кровавая лужица.
— Мирон Кочесов, — опознал его индеец.
— Ещё один… — глухо проговорил Туренин. — Видать, был против «гонтовщины». Вот и схлопотал…
— Я понимать, — кивнул Танух и рукой, сжимавшей поводья, показал вперёд: — Ранча.
— Ага!
Хозяйство Петра Степановича стояло вразброс — тут господский дом, там кажимы — бараки для ковбоев, справа — конюшня и амбар, слева — коррали, в которых щипали травку лошади — десять или целая дюжина, а дальше молотилка, пекарня, кузница, бани у реки, табачный склад, винные погреба… Село Костромитиновское!
Людей почти не видать было, только под навесом у самого дома сидел на ступеньках парень с винтовкой. Ещё один слонялся по двору.
— Дай бинокль, — шёпотом попросил Чуга.
Исаев протянул своё сокровище.
В окулярах Фёдор разглядел скучающие физиономии «стреляющих ковбоев», а потом дверь в дом открылась, и на террасу вышел Суноль в своём замызганном пончо. Похоже, он и спал в нём, и ел, и до ветру хаживал…
Повернувшись, Антонио кого-то окликнул. Из дверей кажима показался вакеро — большой, кряжистый хомбре, неторопливый и основательный, как валун. Выслушав Суноля, он кивнул и неторопливо отправился седлать коня.
Антонио сказал ему что-то резкое вдогон, вероятно торопил хомбре, но на того слова Суноля не произвели особого впечатления. Рассерженный Антонио сплюнул, резко развернулся и скрылся в доме.
— Это Большой Пако,[148] — Танух разглядел медлительного вакеро и без бинокля.
К Большому Пако потянулись его люди. Все как один бандитского обличья. Их было пятеро. Обвешанные оружием и патронташами, они вскочили на коней и выехали следом за вожаком.
— Куда это они намылились?.. — пробормотал Фёдор. — Ладно, чёрт с ними со всеми. Танух, где в доме угловая комната? Для гостей которая?
— Это слева, ближе к нам. Если входить через главную дверь и налево, попадать в столовую, а оттуда — в гостиную и уже из неё проходить в гостевую. Это на углу, вон где бочка.
— Сеня, князь, — тихонько проговорил Чуга, — сторожите лошадей и бдите. Танух, за мной…
Индеец кивнул, соскальзывая с лошади. Фёдор тоже спешился и двинул краем рощи.
— Ты сам-то какого роду-племени? — спросил он через плечо.
— Моя — тлинкит, — гордо заявил Танух. — Ваши говорить — колош. Моя звать Бьющая Птица, мой отец — тойон[149] Ютрамаки!
— Давно Наталью оберегаешь?
Суровый и мрачный Танух улыбнулся — и мигом оборотился этаким добродушным увальнем.
— Пять зим! — гордо сказал он и показал на дом, завидневшийся в прогале средь зарослей. — Окна, запертые ставнями снаружи. Мы их отпирать…
— …Если никто не заметит из кажима. Он стоит прямо напротив.
— Моя наведаться в кажим.
— Может, вдвоём?
— Нет, — покачал головой Бьющая Птица, — моя один. Надо тихо…
Он оставил винтовку и беззвучно скользнул в заросли.
Волнуясь, Чуга отправился к ранче, стараясь ступать как можно тише, избегая хрустких сучков, но у него это плоховато получалось. «Охотник, называется!» — ругал он себя. Совсем ходить разучился! Прёт как корова в чапареле…
Выбравшись к корралю, огороженному жердями, Фёдор согнулся в три погибели и перебежал до угла. Выглянув, стал ждать. Было тихо, только однажды из кухни выглянул хмурый повар в грязном переднике. Выплеснув помои из тазика прямо во двор, он постоял, щурясь на солнышке, почесал пузо, сплюнул и вернулся к плите.
Тотчас же из барака вышел Танух, пряча нож в чехол на поясе. Спокойно, как у себя дома, он прошествовал к ранче и прижался к стене под окном комнаты для гостей. Оно было плотно прикрыто толстыми ставнями с крестовидными прорезями-бойницами.
Чуга тут же подбежал, притулился рядом с индейцем.
— Ну как?
— Там был один, — сказал колош.
— И его там больше нет, — хладнокровно кивнул помор.
— А чего он…
Фёдор быстро осмотрел окно, потрогал простенький запор и тихонечко приподнял ржавый крючок. Ставни открылись без шума.
Чьи-то руки тут же раздёрнули шторы за стеклом, и Чуга увидал бледное лицо Натальи. Чтобы не вскрикнуть, девушка закрыла ладонями рот, но тут же всплеснула руками, радуясь и оживляясь.
Помор приложил палец к губам и попытался поднять раму. Та не двигалась. Тут в окне замаячил Костромитинов и помог Чуге со своей стороны. Рама поддалась и пошла вверх.
— Федя!
— Наташа!
— Вылезать, — прервал их Бьющая Птица. — Быстро.
— Да-да…
Первой спустилась Коломина, дядя и Фёдор помогали ей. На девушке хорошо сидело платье скво из тонко выделанной кожи с разрезами по бокам, позволявшими ездить верхом. Пётр Степанович вылез сам, цедя нехорошие пожелания «этому бостонцу».
— А матушка ваша где? — прошептал Чуга.
— У Хлебниковых загостилась!
— Держите, — шепнул Фёдор, протягивая Наталье свой револьвер.
— Спасибо, Федь, — улыбнулась девушка, — у меня есть.
Отвернувшись, она достала ладный «кольт» 36-го калибра с серебряной насечкой, с рукояткой, отделанной слоновой костью, а в следующую секунду из покинутой комнаты донёсся шум и негодующий возглас. Забухали сапоги, и в распахнутом окне нарисовался Антонио Суноль.
— Все сюда! — взревел он, вскидывая обрез.
Грохнул выстрел из «смит-вессона», и тут же сработал «кольт». Суноль вскрикнул, хватаясь за грудь, роняя обрез. Отняв ладонь, он с ужасом воззрился на кровь, капавшую с грязных пальцев.
— Ты заказал музыку, — отрывисто выпалила Наталья, — вот и пляши теперь!
Антонио сомлел, валясь на пол, а беглецы со своими пособниками бросились к лесу. Крики, ругань, стрельба малость запоздали, наводя суету и переполох.
— Их там много! — воскликнула Коломина.
Князь с бакерами не стал дожидаться, пока спасённые добегут, и выскочил навстречу, ведя коней в поводу.
— Вы с дядей садитесь на коней, — решил Фёдор, — и дуйте к каньону Ла-Рока. А мы с Танухом прикроем ваш отход!
— Не нравится мне это, — проворчал Костромитинов, — да делать нечего. Едем, Наталья!
Дядя с племянницей ускакали, а команда помора осталась. Отступая вдоль склона, друзья скрылись в шести мамонтовых деревьях. Огромные краснокорые красавцы надёжно прикрыли их, а в следующий момент целая орава всадников вынеслась на берег ручья — и попала под кинжальный огонь.
Пятеро друзей едва поспевали передёргивать затворы винтовок. Вылетел из седла один бандит, другой взмахнул руками, роняя оружие, а остальные бросились кто куда, хоронясь за деревьями и паля в ответ.
Вражеские пули впивались в стволы, щепили их так, что кусочки коры летели во все стороны.
Кто-то из подручных Суноля, путаясь в чапсах, перебежал полянку, паля с обеих рук. Фёдор выстрелил, но мимо, вторая пуля ударила стрелку под ноги, тот шарахнулся и упал. Туренин добил его. Или только ранил?
Группка «стреляющих ковбоев», прячась за деревьями, двинулась в гору, обходя друзей с фланга.
— Отходим, — нервно сказал князь, — иначе попадём под перекрестный огонь!
— Таки да!
Чуга кивнул, соглашаясь. Забравшись на коней, одновременно стараясь не высовываться из-за деревьев, друзья начали отступать. Спокойно уйти им не дали — пятеро или шестеро всадников, предводительствуемые Большим Пако, помчались напролом. Кони с ржанием проскочили ручей, поднимая тучу брызг, а всадники палили изо всех стволов.
Пули так и свистели, зудели злобными осами, Фёдор чудом избегал их губительных укусов. И тут позади их сомнительного убежища раздались два выстрела дуплетом.
— Федь, уходите! — послышался звонкий голос Натальи. — Мы с дядей вас прикроем!
Сердясь и радуясь, помор подбодрил коня. А тот и рад был уйти с линии огня, не нравились ему звуки стрельбы и вся эта недобрая кутерьма.
Одолев довольно крутой склон, вся семёрка встретилась на солнечной прогалине. Костромитинов выглядел несколько смущённым.
— Не выдержал я такого оборота, — проворчал он, — противное это дело — бегать от всякой шантрапы… Сперва-то нам чёрные двойки выпали, а теперь выходит флеш-рояль!
Чуга, глаз не сводивший с раскрасневшейся Натальи, выглядевшей прехорошенькой девой-воительницей, замедленно кивнул. Он старательно отводил взгляд от её ног, обнажившихся выше колена, но глаза плохо слушались…
Выехавший на открытое место Танух вскинул винтовку и терпеливо ждал появления врага. Дождался, пока сунется самый нетерпеливый, он же глупый, и нажал на спуск.
— Попадать, — удовлетворённо сказал индеец.
А Фёдор будто опомнился.
— Уходим! — крикнул он.
— Я впереди! — бодро сказал Пётр Степанович. — Тутошние места я знаю как свой дом!
Пропустив всех вперёд, Чуга двинулся замыкающим, время от времени постреливая. Большого урона живой силе противника он не нанёс, но дал понять, что погоня может и похоронами обернуться.
Перевалив холмы и выехав на небольшую равнинку, беглецы стали поспешно пробираться к горам. Тут, если не поторопиться, станешь лёгкой добычей — вакерос Большого Пако получат хоть и маленькое, но преимущество: те, кто убегают, окажутся как бы внизу, а те, кто повыше, примутся истреблять их со всеми удобствами.
— Поднажмите! — надсаживаясь, крикнул Костромитинов.
Лошади пустились в галоп, пуская за собой плотный пыльный шлейф. Далёкий выстрел из винтовки был едва слышен и никак не аукнулся, не задев ни двуногих, ни четвероногих.
Кусты чапареля, словно расставленные пальцы руки загребущей, наступали на равнину, а чуть дальше смыкались колючей зелёной стеной. Путь разбегался тысячей узких извилистых троп, чаще всего заводивших в тупики, прерывавшихся, петлявших, и найти дорогу в этом лабиринте было невероятно сложно.
Проплутав вёрст пять или шесть и резко свернув за высокую скалу, испещрённую индейскими петроглифами, Пётр Степанович воскликнул, очень оживлённый и будто помолодевший:
— Оторвались вроде! За мной!
Кавалькада едва протискивалась тесной расщелиной, пока не выбралась к зелёному оазису — скалистые стены вздымались на добрых полсотни саженей вверх, расширяясь к небу, а внизу курчавилась травка, гудели величавые мамонтовые деревья. В одном месте по стене сбегала вода, отчего камень у подножия казался чёрным. Место для обороны было удобнейшее, даже один человек из укрытия мог отбиваться от целой орды. Попробуй только сунься! Да и кому соваться-то? Места надо знать!
— Здесь и переночуем, — сказал Костромитинов. — Тут нас никто не найдёт. А если найдёт, то своё получит. Кони устали, до Ла-Роки вашей полдня ехать, а солнце уже село…
— А сверху нас никто не заметит? — спросила Наталья, задирая голову вверх.
— Можешь быть спокойна!
Посматривая на девушку, Фёдор расседлал чалого и старательно протёр пучком травы. Повалявшись как следует, мустанги не спеша двинулись попить из маленького, но глубокого прудика.
Стемнело незаметно. Каньон затянуло непроглядными тенями, лишь наверху густо синело небо, меченное первыми звёздами. Огонь можно было не скрывать, всё равно никто не увидит, так что костёр беглецы разожгли большой, благо сушняка хватало. Холодов в Калифорнии ждать не приходилось, но по ночам и озябнуть можно. Скоро дожди пойдут, непроглядные туманы покроют равнины плотной белой мгой…
Пламя бросало отсветы на крутую стену, выхватывало из тьмы смутные силуэты пасущихся коней, фигуры людей сидящих или прилёгших.
Наталья повернулась, освещённая костром, и Чуга снова залюбовался ею — изящным профилем, стройной шейкой, весьма заметными очертаниями груди. Коломина чем-то напоминала ему Олёну. Не фигурой, не лицом, а чем-то невыразимым, чему и слова-то не подберёшь. Душою, может? Чистой, светлой, злыми умыслами не отягощённой. Как у дитяти малого…
Внезапно девушка глянула прямо ему в глаза.
— Что деется, Фёдор? — спросила она тихонько. — Что станется с нами?
— Всё ладно будет, Наталья, слово даю…
Пётр Степанович, отлучившийся на поиски хвороста, возвратился, таща целую охапку и чинно беседуя с князем Турениным.
— Купцам надо было волю дать! — с досадою говорил Костромитинов. — Вот на что императору тяму не хватило! Не загребать Америку под себя, а доверить купеческому сословию. Пущай бы торговлю вели, корабли строили, земли эти скрепляли смёткой своей да резоном. Уж мы бы закогтились, никаких англичан не пустили бы к океану, никаких «бостонцев»! Всё наше было бы, от Бобрового моря[150] и до самой Мексики. Вона как королева английская своих-то купчин пестует! А «бостонцы» каковы? Вот увидите — они Штаты свои вытянут-таки в заглавные державы!
— Дурные у нас цари, что и говорить, никудышние, — хмуро сказал князь. — Может, и худое скажу, да только жалею я, что Наполеон не смог Россию завоевать! Причастились бы той Европы, порядки бы тамошние завели… Глядишь, и вольные землепашцы по всей стране рассеялись, и купечество в рост пошло!
— Если бы да кабы! — усмехнулся Фёдор. — Эх, князь… Минуло то время да прошло, словно и не бывало!
— Ваша правда! — крякнул Пётр Степанович и будто встряхнулся, взял сразу деловитый тон: — Ну что порешим-то? Как Гонта окрутим? На власти надежды нет, им наши беды до фонаря. Пущай, дескать, скотоводы сами друг с другом разбираются, а нам недосуг. Да и где те власти?
— Мы и есть тутошняя власть! — весомо заявил Туренин. — Нам этого Гонта решать и вязать! А покамест… — Он подбородком указал на Чугу: — Вон! Фёдор асиенду Потерянную сыскал, там и окопаемся…
На том и порешили.
Глава 17 МИССИЯ «АЦТЛАН»
Людно стало в Ла-Роке! Неширокое устье каньона «конестогами» перегородили, всё как есть заставили — ни пройти ни проехать. Женщин в асиенде укрыли, мужчины то у фургонов кучковались, то в бане недостроенной, а пацанва с верхушки мезы неприятеля высматривала.
Док Шелихов квалифицированно обработал раны на Фёдоре, мимоходом отпустив диагноз: «Всё у вас, батенька, как на собаке заживает!» Костромитинов, Хлебников да Черных собрались на «совет старейшин» — судили да рядили, как им Гонта ущучить, а самим не пропасть. Девки у костров хлопотали, варево мешали в больших котлах. Народ устраивался помаленьку. И переговаривался:
— …Доброго вам здоровьечка, Степан Лексеич!
— И вам того же, Авдотья Никитична. Жизня налаживается али невмоготу?
— Да чего там, всяко бывало, и Гонта энтого проклятущего переживём!
— …Князь, всё ладно, только вот припасов маловато. Мучка есть, соль взяли, мясо свежее, хо-хо, да только на такую-то ораву не напасёшься. Человек сорок нас!
— Тридцать семь, Кузьма.
— Всего-то!
— …Лёша-а! Где тебя носит?
— …Ты мне мансы тут не пой. Купи себе петуха и крути ему бейцы,[151] а мне крутить не надо!
— Фима, ты говоришь обидно!
— …Не дай бог, пожгут дом…
— Ну и пожгут, и што? Я ещё мальчонкой был, помню, как колоши Михайловскую крепость спалили.[152] И што? Да ещё пуще всего понастроили!
Чуга побродил от костра к костру, послушал, что говорят, да и задумался: а не направить ли ему стопы к асиенде? Наталья там суету разводит — прибирается с бабами, постели готовит, ребятню шугает…
— Федя!
Помор оглянулся, поневоле улыбаясь. К нему, на игривой белой кобыле, подъезжала Наталья.
— Я смотрю, вы спокойны, — сказала девушка. — Что, и вправду не боитесь?
Чуга хмыкнул.
— Только дураки не боятся. Страх нужон, чтобы думать, а не убиваться зазря. Вот я и думаю.
Коломина посмотрела на него, склонив прелестную головку к плечу, и сказала ласково:
— Даже Танух вас уважает. Как сказала я ему, что к вам направляюсь, так он и отстал сразу. Знает, что с вами мне бояться нечего. Я и не боюсь… Понимаю же, что Гонт — человек опасный и злой, а всё равно… Давайте покатаемся?
— Давайте. Пуэбло тутошнее видали?
— Видала! Там так здорово, и видно всё.
— Тут ещё пара башенок индейцами поставлена. За Бутылочным Горлышком.
— Где-где?
— Поехали, покажу.
Фёдор вскочил на Рыжика, и они поехали.
За Бутылочным Горлышком было тихо, людской гомон, коровье мычание и ржание лошадей отдалились, затихли, перебиваемые шумами леса.
Поглядывая на девушку, Чуга испытал знакомое волнение и шумно вздохнул.
— Что так вздыхаете тяжко? — сладко улыбнулась Наталья.
— Да всё об вас думаю.
— Обо мне? — притворно удивилась девушка. — А что вы обо мне думаете?
В её голосе прозвучало кокетство.
— Вы — красавица, — сказал Фёдор, любуясь Натальей. — И умница. И милая до того, что слов нет!
Коломина весело рассмеялась.
— Да вы никак влюбились? — протянула она. В глазах её прыгали чёртики.
— Влюбился, — сказал Чуга.
Девушка вспыхнула, и жаркий румянец придал ей ещё больше прелести.
— Правда? — пролепетала она.
— Ей-бо, пра… Кто ж о таком шуткует? Люблю… Вот тебе и весь сказ.
Коломина замолчала, обрадованная, растерянная, и боязнь испытывая, и неясное томление. Лошади между тем сами донесли своих хозяев до края Ла-Роки, где высилась древняя индейская башня.
Наталья, правда, едва различала строение, поглощённая своими думами. Фёдор спрыгнул с коня и помог спешиться Коломиной. Барышня положила ему ладошки на плечи, он крепко обжал её тоненькую талию и легко поставил на землю.
Руки будто сами скользнули на гибкую девичью спину, обняли… Наталья робко обвила ручками шею помора, потянулась навстречу — ресницы затрепетали, пухлые губки раскрылись…
Чуга крепко поцеловал девушку, чувствуя, как та прижимается к нему, как её пальчики нежно перебирают волосы на затылке, — и подзабытая услада холодком скользнула по хребту.
— Ты милый! — шепнула Наталья, взволнованно дыша.
Фёдор прижал её к себе, обнял и застыл, боясь испугать девушку разнузданностью своих желаний.
— Вроде и время неподходящее… — пробормотал он.
— Подходящее… — глухо сказала Коломина, спрятав лицо у помора на груди.
Они долго стояли, одинаково вздыхая и томясь. И чётко понимая, что незримые часы отсчитывают ныне самые счастливые минуты их жизни.
— Возвращаемся, да? — грустно спросила девушка, подняв лицо.
— Придётся…
Сев верхом, они двинулись обратно, но мир уже изменился для двоих, стал другим, и в этом новом мире их «Я» связались в «МЫ». Никто из них: ни девушка, ни мужчина — не ведал, что им готовит судьба — разлучит ли, сведёт ли вместе и навсегда. Они ехали неторопливым шагом, и им было хорошо.
Будничные заботы и тревоги разрушили эфирное кружево сказки.
Наталья понимающе улыбнулась и отъехала. Обернулась через плечо, сжала губки, словно боясь расхохотаться, и послала свою кобылку к Потерянной асиенде. Фёдор проводил девичью фигурку глазами. Мысли теснились в голове, рождая ожидания, будя мечты…
— Тео!
Фёдор вздохнул и оглянулся. К нему поспешал Ларедо. Лицо у ковбоя было напряжённое и озабоченное.
— Здорово, — сказал Чуга. Ухмыльнулся и добавил: — «А где у нас случилось?», как Фимка говорит.
Шейн нервно-зябко потёр ладони.
— Тропку я одну сыскал, — проговорил он. — Старую, индейскую. По ней, если в обход, можно к самому ранчо Гонта выйти. Я, правда, до конца по ней так и не дошёл, поостерёгся. Хотя… Чего бояться-то? Тропа по склону идёт, высоко, и за деревьями не видно. Если и заметит кто, уйти будет легко.
— Эт-то здорово, — оценил Фёдор. — А то подустал я уже от плохих парней. Они уже достаточно повеселились за мой счёт. Теперь моя очередь!
— Что, сразу нападём на Гонта? — обеспокоился Ларедо.
— Да нет, тут надо с умом… — Помор поскрёб небритый подбородок.
— Может, съездим тогда, проверим, что и как?
— По тихой если?.. А давай!
Фёдор стронул Рыжика с места лёгким посылом.
— Паша, — сказал Чуга, минуя Туренина, — мы с Ларедо в одно место наведаемся.
Князь, занятый разговором с Костромитиновым, кивнул ему рассеянно.
Шейн вскочил на Гнедка, и они с Фёдором покинули Ла-Року, для чего пятерым мужикам пришлось откатить тяжёлую «конестогу».
И долина, и холмы дышали спокойствием. Пронзительно-синее небо помаленьку заволакивалось тучами — зима в Калифорнии дождливая.
— А я даже рад, что досюда добрался, до этих мест, — сказал Фёдор. — У меня на родине, считай, уже морозит вовсю, снега скоро выпадут, а тут будто кто дето остановил и не пущает!
— Да-а, тут тепло… — кивнул Ларедо. — Я тоже рад. В Техасе-то снегов с морозами не знают, а привыкать к ним мне неохота. Зимовал я однажды в Монтане, намерзся на всю жизнь. Хватит с меня! Вон туда нам…
Чуга направил коня в сторону от набитого шляху и оказался в густой тени мамонтовых деревьев. Шейн ехал чуть впереди, угадывая дорогу по оставленным им самим приметам — где-то ветка сломана, где-то содрана кора или высокая трава завязана пучком, как снопик. Ровное место постепенно и плавно переходило в склон, тот делался всё круче, пока, за очередным поворотом, не открылась довольно широкая тропа.
— Вышли! — сказал Ларедо.
В лесу треснул сучок, и Шейн дёрнулся в седле.
— Спокойствие, только спокойствие, — проговорил помор.
— Что-то совсем нервы ни к чёрту, — криво усмехнулся ковбой.
Тропа вильнула и вывела парочку на небольшую полянку, окружённую громадными деревьями, верхушки которых, чудилось, уходили в поднебесье.
Неожиданно между гигантских стволов наметилось движение. Всадники!
Фёдор был готов отразить атаку и напасть, но он недооценил противника — с лёгким шелестом ему на плечи упало лассо, крепко, рывком, затянулось, сбивая дыхание, а в следующее мгновение Чуга понял, что слетает с седла, роняя «генри».
Кое-как извернувшись, он приземлился удачно, но не удержался, опять упал — и тут же вторая петля захлестнула ноги. Лассо затягивал Шейн.
— Ты?! — выдохнул помор.
— Я!
— Иуда!
— Заткнись! — озлился Ларедо. — Каждый зарабатывает как может!
— Да чтоб ты подавился своими сребрениками…
«Стетсон» чудом удержался на голове у Фёдора, цепляясь за шею шнурком. Перевернувшись, загребая ногами, помор встал на колени — и заработал удар ногой в грудь, опрокинувший его на спину. Увидев перед собою Мэтьюрина Гонта, Чуга скривился, будто его стошнило.
— Пако! Трейс! — крикнул Гонт. — Стреножьте этого жеребца! А ты не дёргайся!
Выхватив из кобуры помора его же «смит-вессон». Ларедо ткнул дулом в шею Чуге.
Помор чуть было не застонал. Срамота! Так опростоволоситься…
Трое или четверо ковбоев живо повязали Фёдора. Гонт, приблизившись, ударил помора ногой в бок. Чуга зарычал от боли, от стыда и бессилия.
— Ну вот и спеленали великого Теодора Чугу, — со злобным торжеством сказал Мэтьюрин. — Можешь не опасаться за свою жизнь, русский. Я вижу, у тебя шов на боку разошёлся? Ай-ай-ай… Это я, наверное, сапогом. Ах, какой я неловкий! Да ты не волнуйся, залатаем. Теодор Чуга мне нужен живым и здоровым, я хочу вдоволь натешиться, наблюдая, как ты там копошишься внизу, новая зверушка в моём зоопарке. Непонятно говорю? Ничего, скоро ты всё поймёшь. Пако! В фургон его, и смотрите мне, доставьте в целости и сохранности!
— Сделаем, босс, — лениво ответил вакеро.
Фёдора подняли и уложили на коня поперёк, привязав для надёжности. Чуга кусал губы, но сделать ничегошеньки не мог. Ярость, всколыхнувшаяся на предателя Ларедо, улеглась — с Шейном он разберётся потом. О другом надо думать: как выбраться? Как спастись? Как волю вернуть? Ничего в голову не приходило.
— Vaya con Dios![153] — рявкнул Большой Пако, и вереница коней двинулась по тропе.
Подняв голову, помор увидел Ларедо — ковбой с блуждающей улыбкой стоял перед Гонтом, а миллионщик опускал в его протянутые ладони золотые монеты, плату за предательство.
«А ведь эта собака вернётся к нашим, как ни в чём не бывало!» — окатило Чугу. И каких бед ещё натворит? Кого следующего подставит?
Фёдор крепко зажмурил глаза и поклялся себе, что вернётся. Обязательно! И воздаст…
На ранчо Гонта помора осмотрел тамошний лекарь, по совместительству коновал, и перевязал заново. Крепкие ребятишки, щеголявшие потёртыми «кольтами» в кобурах, небрежно затащили Фёдора в крытый фургон, и тот сразу же укатил.
Дорога была тряская, и, куда она вела, Чуга не ведал, пока не почуял сырые запахи моря — потянуло солёной влагой, йодом и гниющими водорослями. Под колёсами загрохотали гулкие доски причала, послышались грубые голоса матросни.
В фургон заглянул шкипер с испитым, заросшим щетиной лицом. Улыбнулся щербатым ртом и прошепелявил:
— Вылазь! Приехали!
Гоготнув своей же немудрёной шутке, он подозвал пару матросиков, и те, покряхтывая да поругивая Фёдора за «раскормленность», сволокли помора на причаленную шхунку — неказистый, но крепенький кораблик.
Чугу заперли в тесной каютке, и вскоре до него донёсся топот ног по палубе — шхуна отплывала.
Немного погодя качка усилилась — точно, в открытое море-океан вышли.
Дверь с треском распахнулась, и внутрь протиснулся шкипер. В руке он сжимал револьвер.
— Привет узникам! — хмыкнул он и выглянул в дверь: — Заходь, заходь…
В каюту проскользнул темнокожий матрос с грязной холщовой сумкой, в которой брякали железки.
— Закуём тебя в кандалы! — ухмыльнулся шкипер. — Только не дёргайся, ладно? А то я обещал боссу, что доставлю тебя целым и невредимым. Но, если что, дупло в твоей башке такое проделаю, что белке хватит поселиться. А оно тебе надо?
— Нет, — разлепил губы Чуга.
— Вот и я о том же! Мунго, приступай…
Негр, боязливо поглядывая на Фёдора, достал нож и вспорол кожаные ремешки, стягивавшие помору запястья и щиколотки. Чуга с облегчением пошевелил ногами, и револьвер в руке капитана тут же вздёрнулся.
— Ты сиди, сиди!
— Да сижу я, сижу…
Мунго подкатал помору штанины и надел ножные кандалы. Быстро и ловко заклепал их, приковав отдельной цепью к ножке топчана, крепко принайтованного к полу. Потом пришла очередь ручных оков, и чернокожий с облегчением покидал инструменты в свою торбу.
— Отдыхай! — хмыкнул шкипер.
— Тебя как звать хоть? — спросил Фёдор.
— А зачем тебе? — ответил кэп вопросом, но всё же сказал: — Ну Шон я.
— Куда следуем, Шон?
— В Масатлан.[154] А дальше тебе «светит» дальняя дорога и казённый дом! Хе-хе…
— Куда дорога?
— До поместья сеньора Гонта.
— И где же сеньора Гонта угораздило поселиться?
— В Чихуахуа, — усмехнулся Шон. — Это пустыня такая. Уж чего в ней сеньор Гонт нашёл, я не знаю, но тебя живо в курс дела введут! Хе-хе…
— Спасибочки, обнадёжил! — фыркнул Фёдор. — И долго нам покорять морские просторы?
— Да недельки две. Хотя… Может, и пораньше управимся. Смотря какой ветер подует.
— Ясненько… Свободен, шкип.
— Вот наглец! — Шон затрясся от смеха. — Извини, не могу того же сказать и тебе! Тео вроде?
— Вроде.
— А вот есть такой ганфайтер, Теодор Чуга…
— Я это.
— Ух ты! — подивился шкипер. — Первый раз живого ганфайтера вижу.
— Ну и повезло ж тебе…
— Да уж. Ладно, отдыхай, колодник. На ужин — жареная камбала. И кофе!
Шон покинул каюту-темницу, грюкнул засов, скрежетнул ключ в замке. Фёдор без сил откинулся спиной на переборку и закрыл глаза, чтобы не видеть своё узилище. Попался как мышь…
…Когда по левому борту показался гористый остров Санта-Барбара с каменистыми, обрывавшимися к воде берегами, Чугу вывели на палубу — подышать.
Было удивительно тепло, вода отливала яркой зеленью. Вдалеке открывался берег, поднимавшийся к вершинам Санта-Моники, — пильчатая линия хребта ясно вырисовывалась на синем небе. Благословенная земля!
Звякнули кандалы, и Фёдор мигом вернулся к суровой действительности.
— За борт не вздумай сигать, — предупредил Шон, стороживший пленника, а заодно гревшийся на солнышке. — Цепи размаху не дадут, а на дно потянут.
— Уж больно водица студёна, чтобы купаться, — проворчал Чуга.
Шкипер захихикал, шутливо грозя Фёдору револьвером.
Помор отвернулся к морю. Подышать хоть…
Злобы, а тем более ненависти к своему тюремщику он не чувствовал. При чём тут Шон? Капитан всего лишь выполняет хозяйский наказ… Но всякая тюрьма не замками слаба, а сторожами. Только вот какой ключик к Шону подобрать, когда золотого нет?..
— Ну всё, — бодро сказал шкипер. — Марш в каюту, а то обдышишься, хе-хе…
И Чуга молча вернулся в каюту-камеру. Вечером, перед ужином, запалил огонёчек медной керосиновой лампы.
Господи, какое время тягучее… Когда ты при деле, часы и дни словно сами по себе пропадают, не успеваешь ничего, злишься даже: опять потёмки? Только же рассвет был и снова темень!
А вот когда ты в цепях, время словно на волю вырывается, тянется и тянется, разматывая бесконечный клубок минут. Ждёшь-ждёшь какого-то предела, и чудится тебе, что уж сутки прочь. А глянешь на небушко — солнце только-только на полудень вскатывается…
…На исходе второй недели плавания шхуна вышла к Масатлану — зачуханной рыбацкой деревушке, которую немцы-эмигранты с успехом превращали в портовый городок.
Шон переложил руль, проводя корабль между живописных островов, и причалил в районе набережной Малекон.
На пристани шхуну уже ждали несколько человек, мексиканцы разбойного виду, — роскошные усы топорщатся, глаза сверкают из-под громадных сомбреро, бархатные курточки патронташами перекрещены, а за кушаками алого шёлку револьверы засунуты. К нам не подходи!
— Ну бывай, — сказал Шон на прощание.
— Да уж побуду, — усмехнулся Фёдор.
Сойдя на берег, он сразу попал в окружение свирепых усачей. Их предводитель пронзительно свистнул, и Чуге подали карету — чёрный тюремный фургон с зарешёченными окошками.
— Залезай! — скомандовали помору, и тот залез.
Дверца за ним тут же захлопнулась, звякнул запор, и шестёрка лошадей резво повлекла возок. Мексиканцы вскочили на коней и пустились следом. Конвой.
Путешествие выдалось долгим. В памяти Чуги осталась изматывающая тряска, духота да редкие остановки в глухих деревушках — скромный белёный костёл, домишки вокруг, пыльные улочки с редкими корявыми смоковницами…
В Мексике было неспокойно. Летом республиканцы расстреляли императора Максимилиана I из династии Габсбургов, и президентом стал Бенито Хуарес, коротышка из племени сапотеков.[155] Сам по себе президент-индеец правителем был неплохим, но разом подчинить страну и подавить все мятежи он не мог, а посему понятия «закон» и «порядок» имели весьма слабое отношение к жизни мексиканцев.
Несколько раз карету останавливали банды, сколоченные из дезертиров, индейцев-изгнанников, крепостных пеонов и обычных уголовников, но конвоиры были начеку. Самые пылкие из мятежников требовали выпустить на волю узника — «жертву режима», однако они быстренько теряли запал, стоило им разглядеть за решёткой «проклятого гринго». И тюремная повозка без помех следовала дальше.
Пустыня Чихуахуа открылась как-то сразу. За окошками кареты потянулись серые холмы, испятнанные кустиками серебристой полыни и зелёного можжевельника. В стороне дыбились голые скалы, а земли не стало — всё затянуло белейшими песками. Песок сеялся под ветром, пересыпался по склонам барханов, кое-как удерживаемый корнями жёстких, колючих кактусов.
Наилучшее время в Чихуахуа весной, в апреле, когда пустыня цветёт и пахнет. Вся она покрывается тогда жёлтым цветочным ковром, окотилло выбрасывают большие красные свечки, грушевидные кактусы, выглядывающие из травы, словно уши чудищ, прилёгших вздремнуть, украшаются жёлтыми цветками, и даже мутная Рио-Гранде, протекающая далеко на севере, играет изумрудной зеленью. Одуряюще пахнет парящая земля, добавляют смолистой терпкости можжевеловые кусты, к аромату жёлтых, алых, малиновых цветов пустыни примешивается сладкий дух соцветий железного дерева и векового паловерде, а шмели и пчёлы до того измазываются в пыльце, что кажутся жёлтенькими летучими шариками.
Весь этот праздник жизни длится не дольше пары недель, после чего цветение угасает, пустыня принимает свой обычный безрадостный облик…
Заехав в просторы Чихуахуа, мексиканцы-охранники разом притихли, сбавляя и скорость, и гонор. Пустыня была совершенно безлюдна, коварные и не знающие жалости апачи зимовали гораздо западнее, на скудных берегах Бависпе, но здешние места имели и без того пугающий нрав. Пускай даже вашу грудь не пронзит индейская стрела, но, если источник на пути окажется пересохшим, вы обречены на ужасную смерть. Загустеет кровь, язык в сухом рту станет похож на ассигнацию в бумажнике, вас измучают миражи и видения, а потом вы пополните собой длинный список жертв Чихуахуа.
Не запаслись водой на дорогу или та вытекла из фляги через пулевое отверстие? Прощайтесь с жизнью. Коня украли или он сломал ногу? Всё, ваши дни сочтены. Да что там дни — часы!
И именно в этих забытых Богом местах Мэтьюрину Гонту приспичило поселиться.
Миллионщик занял большой дом, выстроенный монахами-францисканцами ещё в те времена, когда не все теночки[156] покорились испанским конкистадорам, и отчаянно сопротивлялись хитроумным идальго. Миссия, хоть и отстояла далеко от владений ацтеков, была сооружена как крепость — с двумя башенками по углам, с плоской крышей, она обрамляла довольно обширный внутренний дворик-патио. Окрестили миссию не слишком боговдохновенно — «Ацтлан». Так ацтеки называли свою прародину где-то на севере, откуда они пришли в тёплые края строить пирамиды и покорять окрестные племена.
Место «божьими людьми» было выбрано не зря — своё строение они поставили в маленьком оазисе, где была вода, росли тополя и крушины. В XVII веке, когда первые отцы-пилигримы высадились с корабля «Мэйфлауэр», а на Карибском море бесчинствовали пираты, гоняясь за испанскими галеонами, груженными награбленным золотом, апачи совершили набег и перебили всех миссионеров.
Выморочный дом-крепость полтора века подряд пустовал, и редкие путники обходили стороной мрачное место, крестясь и припоминая страшилки о сонме здешних призраков.
Однажды индеец-полукровка Лопес по прозвищу Лобо[157] решил заночевать здесь. Добрая порция мескаля[158] защитила его от привидений, а поутру Лобо обнаружил то, что тщательно скрывали монахи, — полузасыпанный рудник, где добрые пастыри заставляли индейцев, обращённых в истинную веру, добывать для Матери-Церкви серебро.
Добравшись до Эль-Пасо, Лопес завернул в таверну и, будучи в подпитии, похвастался своей находкой. Утром Лобо выловили из Рио-Гранде с перерезанным горлом, а образцы руды странным образом исчезли.
Зато у миссии «Ацтлан» на той же неделе появился новый хозяин, и звали его Мэтьюрин Брайвен Гонт…
…Карета проехала через гулкие ворота и остановилась, сделав круг по мощёному двору. Здесь было красиво — кустарники со всех сторон, плющ вьётся, и даже фонтан плещет.
Дверца отворилась, и Мигель (так звали хефе, то бишь начальника конвоя) сделал Чуге приглашающий жест: на выход!
Позвякивая цепями на откидной лесенке, Фёдор покинул самоходное узилище и осмотрелся.
Миссия напомнила ему Потерянную асиенду — те же колонны и каменные арки вдоль первого этажа, более лёгкие подпорки держат навес, выложенный черепицей, над верхней галереей.
Именно туда, на галерею, и вышел мужчина, в котором помор без труда узнал Гонта. Весь в белом, Гонт победно сиял.
— Приветствую непревзойдённого Теодора Чугу в моих владениях! — торжественно провозгласил он.
— Чтоб ты сдох, — пожелал ему помор в ответ.
Миллионщик весело рассмеялся.
— Ну нет! — воскликнул он. — С этим любезным пожеланием следует обратиться к самому себе! Добро пожаловать в мой маленький рай, где я замещаю Господа Бога. Ну, ты у нас грешен, а посему тебе уготовано место в моём маленьком аду! Я, по совместительству, ещё и мистер Люцифер. А теперь познакомься со своим Вергилием… О, простите! Теодор Чуга, вероятно, не знаком с бессмертным творением Данте? Короче, вот тебе проводник по кругам здешней преисподней. Обернись!
Фёдор обернулся и узрел краснокожего громадного росту, чей голый торс бугрился от мышц, нос был смят и свёрнут набок, а через всё лицо тянулся наискосок страшный бороздчатый шрам. Длинные, сальные волосы индейца свешивались ему на грудь двумя косицами, налобная повязка сверкала узорами и крупным опалом.
«Проводник» стоял нерушимой скалой, его ноги, мощные как брёвна, распирали широкие кожаные штаны с бахромой по швам. Левая рука гиганта висела свободно, в правой он сжимал кнут, плетённый из ремешков.
— Познакомься, — громко сказал Гонт, — это Каухкан Одинокий Волк, добрый и кроткий человек. Он станет тебе второй матерью!
Мэтьюрин захохотал, взвизгивая от еле удерживаемого удовольствия.
— Свободен! — выдавил он.
Чуга посмотрел в обсидиановые глаза Каухкана и заметил в них лёгкое удивление, когда назвал себя:
— Я — Теодор Чуга.
Помешкав секунду, Одинокий Волк пророкотал, указывая кнутом на крепкую дубовую дверь в стене:
— Туда. Ходить.
Фёдор молча открыл дверь и ступил на исшарканные плахи, качнувшиеся под ногами, — это была клеть подъёмника. Каухкан шагнул следом.
— Тянуть! — гаркнул он во тьму шахты, и клеть толчками пошла вниз.
Замерла она напротив толстой металлической двери. Краснокожий сдвинул тяжёлый засов и провёл Чугу в неширокий коридор, свод которого поддерживался бревенчатыми крепями, похожими на дверные рамы с толстенными стойками и перекладинами, установленными через каждый шаг. Коридор тянулся всего шагов десять, а на полу были уложены шпалы и рельсы узкоколейки, уходя под ещё одну дверь из клёпаного железа. Каухкан открыл её здоровенным ключом и вывел Чугу из тьмы на свет. Честно говоря, помор не ожидал увидеть то, что предстало его глазам.
Фёдор стоял на неровном дне колоссальной ямины — впадины, чьи отвесные стены уходили вверх саженей на десять. Обрыв по всему краю огораживали крепкие поручни из бруса. Там, топая по дощатому настилу, расхаживали бородатые личности в сомбреро и с винтовками.
Круча за спиной Чуги казалась ещё выше — её продолжала стена миссии, куда выходил балкон с лёгким парусиновым навесом. Разумеется, Гонт уже был там — облокотившись на перила, он с интересом следил за Фёдором, обживавшим первый круг ада.
По левую руку серел дощатый барак и какие-то сарайчики, сложенные из сырцового кирпича. Дальняя стена прииска упиралась в подножие скальной гряды. В скале зиял вход в штольню, туда и вела чугунная узкоколейка. На рельсах стояла пара вагонеток с рудой, двое полуголых людей со спинами, исполосованными бичами, перегружали добытое в хоппер парового подъёмника — здоровенную металлическую бадью. Когда её поднимали на поверхность, хоппер опрокидывали, и руда ссыпалась в большой бункер, откуда её потом загружали в рудовозные телеги — телегу подгоняли под затвор, открывали заслонку, и руда сыпалась куда надо.
Вот один из рудокопов подал знак, и наверху зашипело, засвистело, гигантская катушка стала наматывать трос, вытягивая наверх бадью и выбрасывая облачко пара.
Рудокопы проводили хоппер тоскующими глазами, словно представляя себя на месте тускло поблескивавшей породы, возносившейся вверх, ближе к небу, к солнцу, к воле. Долго тосковать им не дали — вышедший из-за опор подъёмника индеец-надсмотрщик протянул кнутом обоих. Багровая полоса украсила спины нерадивых, а в следующее мгновение оба изо всех сил толкали вагонетку, спеша уйти от наказания.
Бич свистнул в другой руке — и распорол рубашку на спине у Чуги. Боль была такая, что аж дыхание спёрло — будто кто раскалённый прут к лопатками приложил.
Фёдор мгновенно развернулся и набросился на Каухкана, однако индеец был опытным бойцом — Чуга словно в цилиндр того самого подъёмника попал, под удар шатуна. Покатившись по земле, с гудящей головой, ощущая вкус крови во рту, Фёдор пнул краснокожего в колено. У любого иного нога бы подломилась, а вот Одинокий Волк устоял. И принялся хлестать помора кнутом, рассекая тому и рубаху, и кожу.
Чувствуя себя так, будто разваливается на части, Чуга нашёл-таки в себе силы подняться. Пригнувшись и пропуская бич над собою, помор зашёл Каухкану за спину, набрасывая великану на шею цепь ручных кандалов, и скрестил руки, затягивая кованую «удавку». Жилы на его собственной шее вздулись, мышцы стонали от напряжения. Одинокий Волк шатнулся, клекоча, хватаясь за звенья цепи, и тут второй индеец саданул Фёдора по почкам, да так, что у помора в глазах потемнело.
Его снова швырнули на землю и пошли охаживать в четыре руки, полосуя, кромсая живую плоть. На грани помрачения помор разобрал голос Гонта:
— Довольно!
Истязание прекратилось в ту же секунду, а малость погодя Чугу окатили ведром холодной воды.
— Представление окончено, — холодно сказал Мэтьюрин. — Расковать — и в шахту его!
Глава 18 В ПРЕИСПОДНЕЙ
Штольня уходила далеко в недра скальной гряды, расходясь штреками,[159] веером пронизывая толщу горных пород. Из штреков, еле освещённых горняцкими фонарями, доносились вековечные подземные шумы — стук кирок, шорох и скрип лопат, грохотание тачек. Порою тусклый свет фонарей застили согбенные фигуры рабочих. Или рабов?..
Каухкан с напарником Скаатагечем доволок Фёдора до ствола шахты, упадавшего в тёмную глубину, и сказал:
— Ждать. Седой Бобёр приходить, лечить.
Скаатагеч Выжидающий Ворон, сильно пригибая голову, добрался до рельса, висевшего на цепи, и резко ударил по нему молотом, валявшимся неподалёку. Резкий звук гонга разнёсся по всем выработкам, вызывая ощущение, похожее на зуд.
— Ждать, — повторил Одинокий Волк и удалился. Выжидающий Ворон направил стопы следом за ним, на солнышко.
Обессиленный Чуга осторожно стащил с себя то, что осталось от рубашки, подчас отдирая её, и присел на пару трухлявых шпал. Он старался не двигаться, тогда спине было не так больно. Но дух помора был твёрд — Фёдор преисполнился холодной решимости разнести и ад, и рай Гонта, а самим мучителям устроить такое чистилище, что даже жестокие апачи вздрогнут. Пальцами перебирая ладанку с прядью Олёнкиных волос, он отпустил в адрес Гонта пару ласковых.
Заслышав шаркающие шаги, Чуга обернулся — из темноты штрека к нему приближался пожилой, вернее, рано состарившийся мужчина. Сутулясь по привычке, чтобы не задевать макушкой крепи, он поднял фонарь и прищурился.
— Новенький, што ль? Звать как?
Помор глянул на него. Простое, скуластое лицо, седой чуб, усталые глаза…
— Фёдором кличут. Фёдором Чугой.
— Земляк, что ли? — перешёл седой на русский.
— Выходит, так. Это вы, что ли, Седой Бобёр?
— Он самый! Вообще-то я Саввой окрещён. Можно и так звать али Саввой Кузьмичом.
— Коломиным?
Внезапная догадка и самого Чугу в дрожь бросила, и Савву заставила отшатнуться.
— Откуда тебе моя фамилия ведома? — спросил тот с подозрением.
— А дочка ваша обсказала, — заулыбался Фёдор, чувствуя и радость, и облегчение, и надежду, — смутные были чувства, словно не народившиеся во всей целости, но он их таки испытывал. — Переживает сильно Наталья Саввишна, горюет без отца-то…
Кузьмич упал на колени в сильнейшем волнении и затряс Чугу за плечи:
— Так што, Гонту она не досталася? Ну?!
— Да уж хрен там… Видать, расстроил я помолвку Мэту — набил ему морду! За то и сюда угодил. А Наталья ваша жива и здорова, и Лизавета Михайловна тож с нею. Гонт, правда, дурить стал, ранчи под себя подмять захотел, а мы все вместе — Костромитиновы, Хлебниковы, Черных, Кусковы, Купер, дон Гомес — собрались у меня, в Ла-Роке — там, где раньше сеньор Мартинес обживался. Пётр Степанович подсобил с бумагами, я на тех землях и осел. Только ненадолго — нашёлся-таки иуда, сдал меня. Попался как последний![160] Ох, стыдобушка…
— Да тут все так, — махнул рукой Савва и улыбнулся мечтательно: — Наташка… Красотуля моя… — Спохватившись, он поднял фонарь и глянул Чуге на спину: — Ох, тебя и отделали! Щас мы тебя починим…
Достав из сумки, висевшей у него на боку, скляночку, Коломин открыл её, напуская резкого травяного духу.
— Это мазь такая, — говорил он, умащивая зельем израненную Чугину спину. — Я, когда у команчей жил, научился творить её…
— У команчей? А мне говорили…
— Ну команчи — парни резкие. Я, видать, струсить забыл, когда они на нас налетели. Попал к ним в плен раненым, они меня подлечили… А потом команчерос явились и выменяли меня на пяток новеньких «винчестеров». Я обрадовался поначалу, а оказалось, что зря, — Гонт тех команчерос слал, и свезли они меня сюда. Скоро год исполнится, как я здесь околачиваюсь… Тише, тише, не дёргайся. Всё уже. Што, щиплет небось?
— Ничего, — проворчал Чуга, — жить буду.
— Ну пошли тогда. Покажу, что делать да как. Лучше будет, ежели ты поработаешь, а то спину рубцами стянет. Кормят тут хорошо, мясом да бобами, иначе-то от такой работы перемрут все. Люди жилы рвут, бывает, что и дохнут… Пошли.
Прихватив свой фонарь, Савва прошествовал к шахте и стал спускаться по лестнице, в одной руке держа фонарь, а другой цепляясь за перекладины. Фёдор последовал за ним.
— Берегись! — послышался глухой оклик, и вверх, привязанная к тросу, переброшенному через блок, стала подниматься бадья с рудой.
— Принял! — донёсся голос сверху, и несколько камешков полетело вниз, чиркая помора по спине.
Коломин слез и подождал Чугу.
— За мной, — сказал он. Согнувшись, он двинулся по штреку, повествуя на ходу: — Люди тут битые, друг дружке не доверяют, каждый сам за себя. Ирландцев двое, Флэган и Крис, так они завсегда вместе. Эти, я так понял, Гонту мешали — его людишки пути прокладывали для паровоза, а тут эти фермеры со своими участками, прямо по дороге. Делать крюк дорого и долго, так ребятишки Гонта решили убрать помеху — переоделись индейцами, да и напали. Флэган двоих завалил, Крис — одного, а их самих — хвать! — и сюда. Французы есть, немцы, швед один, даже китаец… И все они тоже чем-то насолили Мэту или мешали, как я… А вертухаи тутошние сплошь из мексиканцев, они всех белых терпеть не могут. И эти, которые с грузовыми обозами, тоже цветные все — Рамос, Винченцо, Хайме… Я уж про индейцев и не говорю — этим только волю дай, мигом всех нас перережут! К стеночке…
Фёдор стал боком, пропуская полуголого китайца со смешной косичкой, толкавшего перед собой полную тачку руды. Вихлявшееся колесо катилось по хлябавшей доске. Проседая под весом тачки, доска хлюпала, погружаясь в лужу.
— Пришли.
Савва Кузьмич завёл Чугу в штрек, заканчивавшийся тупиком. Повесив фонарь на вбитый в щёлку костыль, Коломин хмыкнул, качая головой:
— Натаха-то, а? Эхма… Ладноть, смотри, — подняв стальной бур, он приставил его к скальному целику и сказал: — Вона двойной бурильный молот…
— Чего?
— Вон у стенки, на кувалду смахивает.
— А-а…
— Это и есть двойной бурильный. Обычный, он поменьше, я с ним и один справляюсь. Левой бурав кручу, правой колочу по нему. Бей!
Фёдор подхватил молот и ударил по буру.
— Ещё! А я подворачивать стану…
Чуга принялся ритмично охаживать бурав — крошка каменная да пыль так и сыпались.
— Во! Пошло дело! Обычно я шпуры делаю в аршин длиною…[161] Видал, сколько уже набурил?
— А… потом? — спросил Фёдор с придыханием, чувствуя, как пот стекает по спине и разъедает ранки.
— А потом порохом набиваю. Ставлю запалы, поджигаю — и бегом отсюда! Грохнет когда, я или китайца нашенского подзываю, или Уве-Йоргена. Это их дело — породу выгребать да отвозить.
— Породу? Я думал, это руда такая.
— Не-е, руда, она синяя с виду. Ну что? Передохнул? Давай!
К вечеру Чуга намахался так, что плечам больно было, а спина гудела.
Холодная чистая вода, сочившаяся из глубины, приносила облегчение, а мазь хорошо врачевала изъязвлённую кожу. Фёдор еле поднялся по приставной лестнице наверх и побрёл с остальными к выходу. После кромешной тьмы в подземелье даже алый закат резал глаза.
Работяги, опустошённые духовно, изнемогшие телесно, молча смывали пыль с лица, утирались тряпкой, чёрной от грязи, и становились в очередь к котлу, получая в руки оловянную миску, полную бобов с телятиной. Никто ни на кого не глядел — то ли стыдно было, то ли противно. Люди молча ели, торопливо выхлёбывали чёрный кофе из кружек или — по желанию — порцию пульке,[162] тягучего, пенистого напитка молочного цвета, да и шли себе спать.
Наломавшись за день, Чуга тоже остался равнодушен к внешнему миру. Улёгшись на живот, он повозился на нарах, да и заснул.
Ночью ему приспичило. Федор покинул барак, направляясь в тот угол прииска, откуда наплывала вонь. Отлив, он внимательно осмотрелся.
В узких стрельчатых оконцах миссии кое-где горел свет, на галерее, окружавшей карьер, тоже горели фонари, а огонёк раскуренной сигары определял часового.
— И не думай, — послышался тихий голос Коломина, — тут ты не выберешься.
— А где выберусь?
— Утром поговорим…
…Утро началось затемно, а возвестило о нём било — тоскливый, дребезжащий звук загулял по ямному прииску, где беда свела разных людей, обречённых на муку, чахших и умиравших по злой воле Мэтьюрина Брайвена Гонта.
— Такое чувство, — пробурчал Чуга, получая тарелку с завтраком из рук третьего индейца, Илхаки Красный Томагавк, — что спина задеревенела и скукожилась.
— Это мазь действует, — кивнул Коломин, — кожу дубит. Зато и затягивает всё мигом. Пошли…
У входа в штольню случилась заминка — рельсы так гуляли на прогнивших шпалах, что вагонетка сошла с них передней парой колёс. Хоть и порожняя, весила она немало, и китаец с товарищем европейского обличья, надрывались, пытаясь вернуть платформочку на пути. Остальные рудокопы стояли в сторонке, безучастно наблюдая за тщетными усилиями товарищей. Фёдор не выдержал.
— Чего встали, рты раззявили? — сказал он, обводя всех тяжёлым взглядом. — А ну живо подсобили! Ты, ты и ты!
Не обращая внимания на индейцев, помор выхватывал из толпы тех, кто поздоровее, и пихал их к вагонетке. Ухватившись за ржавое железо сам, он выдохнул:
— Раз, два… Взяли!
Со второго раза платформа покачнулась и встала на рельсы.
— Спасиба, спасиба! — залопотал китаец.
— Не за что, — буркнул Чуга и пошагал к штольне.
Вагонетка с гулом покатилась по рельсам, вздрагивая на стыках.
— А ты молодец, — сказал Коломин, догоняя Фёдора.
— Да что ж они, как быдло какое?
— Они и есть быдло, — вздохнул Савва. — Сломали их, Федя, понимаешь? Задавили всё человечье, одни оболочки остались плотские, да и те протянут недолго. Знаешь, сколько тут выработанных штреков? Их пустой породой заваливают, чтобы зря не вывозить. Там и хоронят тех, кому воли к жизни не хватило али здоровья…
— Мне хватит!
— Верю…
Проведя Чугу в давешний забой, Коломин воровато оглянулся и поманил Фёдора за собою.
Протиснувшись в квершлаг — проход, соединявший два соседних штрека, как перекладина в букве «Н», он выпрямился, уходя по плечи в восходящую выработку, невидимую до тех пор, пока не окажешься под нею. Попыхтев, Савва Кузьмич стащил сверху лестницу и поднялся вверх.
— Лезь давай, — услыхал Чуга его шёпот.
Фёдор протиснулся в отверстие уходившего вверх колодца, а после на четвереньках пополз узким штреком, понемногу задиравшимся кверху.
— Сюда жила выходила, — раздался приглушённый голос Коломина, — так, с полвершка всего толщиной. Мы её всю отработали, а полость осталась… Заходи!
Чуга осторожно приподнялся, обнаруживая, что тесный лаз привёл его в тупичок, где можно выпрямиться.
— Гляди!
Савва посветил в узкий закуток, и Фёдор разглядел четыре бочонка.
— В них — порох! Полгода, считай, я в шпуры закладывал чуток поменьше, а что сберёг, сюда оттаскивал. Так вот и накопил. Ежели все их жахнуть, весь угол скалы над нами обвалится! Склон выйдет пологий — хоть пешком восходи, хоть бегом беги. Ночью если рвануть, далеко уйти можно…
— По пустыне? — хмыкнул помор. — Далеко ж так уйдёшь… Без лошадей лучше и не пытаться.
— Да будут тебе лошади! — горячо зашептал Коломин. — Надо только время правильно выбрать. Раз в неделю сюда Рамос заезжает, с грузовыми фургонами. Там вон, где казарма — это за подъёмником сразу, — конюшня большая и амбар. Два дня Рамос тут обретается, а руду он ночью вывозит, когда не жарко. Понял?
— Понял, — кивнул Чуга.
Воображение его разыгралось, он уже предвкушал, как грохнет взрывчатка, как ломанутся узники, и пойдёт веселуха…
— Только этого запаса пороху маловато будет, — озаботился Савва, — нам бы ещё парочку бочоночков… Ближе к весне, думаю, накопим. Ежели ты побольше шпуров наковыряешь, то, может, и пораньше управимся!
— А чего ж… Тихо!
Сам ещё толком не разумея, что его насторожило — то ли промельк какой, то ли шорох или ток воздуха, Фёдор резко развернулся и бросился в оставленный позади штрек. Кто-то пискнул и шустро заработал ногами и руками, да только помор оказался куда проворней и ухватил неизвестного за тощую лодыжку.
— Пусти! — заверещал тот, лягаясь.
Чуга сцапал свидетеля за обе его немытые конечности, дёрнул на себя и перевернул на спину. Прижав его коленом, дотянулся до шеи и обжал кадык твёрдыми пальцами.
— Подслушивал, гад?
— Пусти! — прохрипел тот. — А то я всё хозяину расскажу!
— Это ты, Грязнуля Майк? — глухо донёсся голос Коломина. — Неужто нам попалась та самая крыса, что шныряет по всем углам, а потом докладывает кому надо?
— Это не я… — просипел Майк.
— Да что ты? А кто каждую ночь пропадает где-то по полчаса, а после от него тянет хорошим виски?
— Я больше не буду!
— Не будешь! — подтвердил Фёдор, стискивая горло Грязнули.
Когда Майк перестал дёргаться, Чуга спросил:
— И где его тут завалить пустой породой?
Савва Кузьмич часто дышал за спиной его.
— Лучше дохлую крысу в шахте оставить, — глухо проговорил он. — Пущай думают, что их неловкий соглядатай свернул себе шею, когда оступился.
Так они и сделали.
Глава 19 ГОДОВЩИНА
И потянулись дни за днями, наполненные тяжёлой, выматывающей работой. Чуга бурав вертел да молотом поколачивал, Коломин черпал порох да в шпуры его набивал, деревянной палкой трамбуя.
Индейцы к «пороховым мартышкам» не заглядывали, взрывы пугали надсмотрщиков.
Раз за разом вздрагивала преисподняя, тяжкий грохот прокатывался по выработкам, наполняя их пылью да дымом. Шаг за шагом удлинялись проходки, пуд за пудом откатывалась руда, жменя за жменей копился сбережённый порох.
Пришла зима. Рождество русские невольники встретили под землёй, выпили по очереди из фляжки да закусили, пожелав друг другу одного и того же — выйти поскорее на волю.
Наступил новый, 1868 год. Жаркая зима минула, и в Чихуахуа пришла короткая, но яркая весна. После Пасхи цветы пустынные увяли, трава выгорела, навалились духота и зной. Близилось лето…
…Туго шло дело, никак не наполнялся порохом шестой бочонок — руда попадалась бедная, и Гонт скаредничал, взрывчатки выделял с гулькин нос, в шпуры забивать нечего было. Какая уж тут экономия…
Правда, надежда у Чуги не увядала. Наоборот, уверенность всё сильнее крепла в нём. Честно говоря, к идее подрыва он относился скептически. Мало ли как оно грохнет! А как вывал ляжет? Надо же будет быстренько из этой чёртовой ямы выбираться, пока охрана не очухалась! Интересно, как же это ему исхитриться всё так спроворить, чтоб и коня раздобыть махом, и о бурдюках с водою не забыть, и едой запастись? В суматохе-то выйдет как всегда — хватай, что под руку подвернётся, и ходу! А потом что? От пустыни поблажек не жди, у неё одно наказание — смерть.
Поэтому Фёдор зря времени не терял. Подглядев, как выглядит ключ, которым краснокожие железную дверь отпирали, Чуга раздобыл подходящий штырь, гнул его и так и эдак, больше месяца подтачивал, и вот, апрельской тёмной ночью, прокрался ко входу в миссию. Было тихо, даже шагов вертухая слышно не было. Осторожно вставив свою отмычку в замочную скважину, Фёдор повернул её. Самоделка на полпальца крутнулась — и ни с места.
Ещё неделю помор обтачивал воровской инструмент, выходил пару раз по ночам, вроде как до ветру, и вот однажды сработанный им ключ со скрежетом провернулся, отпирая замок.
Фёдор припрятал отмычку в потайной щели и вернулся в барак с улыбкой на лице — первый шаг к свободе был сделан…
…Обливаясь потом, Чуга молотил по бураву, чувствуя спиной каменное тело скалы.
— Достаточно, — сказал Коломин.
Фёдор отложил бурильный молот и локтём отёр потное лицо. Пока он отпыхивался, Савва Кузьмич черпал порох деревянной ложкой и набивал им шпуры.
— Отцвела пустынька-то, — приговаривал он, — опять всё посохло да повяло…
— А вы эту Чихуахуа хорошо знаете?
— А то… Всю осень, считай, с команчами хаживал по Пекосу — эта река такая на севере, от неё-то и начинается Чихуахуа. Места там дичайшие… В пустыне что главное? Вода! Источники знать надо и тинахасы всякие — это как бы лужи, где водичка после дождей скапливается и держится долго. Отсюда, ежели на север двигать, выйдешь на гряду Пылающих скал — красные они, оттого и названы так. В тех скалах ручеёк бежит малый, а после надо маленько к востоку склоняться, пока не выйдешь к Тотемным холмам. Там тоже вода есть. И коням хватит напиться, и людям…
Заложив бикфордовы шнуры, Коломин сказал, не оборачиваясь:
— Дуй наверх и звякни три раза. Как все подымутся, вдаришь дважды — я запалю…
— Понял, — кивнул Чуга. — Щас я…
Проворно поднявшись наверх, Фёдор подхватил молоток и отколотил по рельсу условленный сигнал. Народ стал подниматься, радуясь хотя бы недолгому избавлению от каторжного труда.
Чугу приветствовали по-разному, помора и уважали, и боялись, но вот пакости ему не делал никто. Да и попробуй обидь такого бугая! В преисподней Фёдор даже поправился — жирок согнал, а вот мяса на нём наросло будь здоров. Помаши-ка кувалдой да киркой, погреби тяжёлую руду, попили брёвна на крепи — быстренько в плечах раздашься, особливо когда три раза в день у тебя на столе говядина с бобами. Выглядеть Чуга стал как тот варвар, про которых Туренин рассказывал, — в одних сапогах сношенных да штанах рваных, с голым мускулистым торсом, загоревшим дочерна, бородатый, с отросшими волосами. На шнурке ладанка болтается, след когтей тигриных полгрудины пропахивает… Дикарь дикарём.
— Здластвуйте, Цуга! — поклонился Ван.
— Карашо! — заулыбался беззубым ртом Уве-Йорген фон Бадер, попросту У-Йот.[163] — Аллес гут!
Остальные-прочие кивали и отходили, торопясь занять место на брёвнах, хоть минуту посидеть, дать телу роздых. На землю-то не сядешь — всё равно, что голой задницей, да на печку растопленную…
— Все тут? — осведомился Чуга, пересчитав белых невольников, и ударил дважды, в который раз уже начиная волнение испытывать: а успеет ли Коломин выбраться?
Камень под ногами дрогнул в ту самую минуту, когда Кузьмич показался над стволом шахты. Глухой грохот взрыва прокатился по закоулкам рудника, и вот пахнуло редким дымом, вздувая рубаху на спине Коломина.
Выждав пять минут — пущай пылюка осядет, — Савва Кузьмич полез обратно, завязав нос и рот платком. Невольники, повторяя его движение, кашляя, ругаясь шёпотом, потащились к шахте. Тут на входе замаячила крупная фигура Каухкана, и все дружно прибавили ходу — откуда и прыть взялась.
Один Фёдор был нетороплив — гордость не позволяла.
Индеец приблизился, но обычного рыка помор не дождался. Напротив, краснокожий был настроен миролюбиво.
— Бледнолицый, — сказал он, — моя выпить с тобой.
— С чего бы такая честь? — усмехнулся Чуга.
Каухкан понял его по-своему и приосанился.
— Да, — гордо произнёс он, — честь! Мой отец быть великий воин и вождь, его звать Ютрамаки Тающее Облако.
«Ютрамаки? — подумал Фёдор. — Как интере-есно…»
— Туда, — указал индеец на выход.
Чуга послушно вышел, окунаясь в духоту и зной. Солнце заливало карьер, его стены были накалены, как в духовке. К камню или к железным балкам подъёмника не притронешься — обжигает до волдырей. Помор оттого и обедать любил наскоро — слопает свою порцию — и сразу под землю. Хоть какая-то прохлада…
Каухкан прошествовал в тень навеса у самого барака и торжественно достал кувшин с текилой. Разлив её по деревянным чашкам, индеец выложил на свежераспиленную шпалу закуску — маисовые лепёшки и нежное вяленое мясо. Вытащив нож, он порубал мясо на полоски и сказал:
— Моя пить, твоя пить.
Фёдор не стал отказываться — выпил. Текила оказалась на удивление холодной. После второй у Чуги здорово зашумело в голове.
Каухкан внимательно следил за Фёдором, признавая помора самым сильным и храбрым в этой жалкой компании бледнолицых каюров.[164] Всё в краснокожем ощетинивалось, его натура протестовала, ибо белые были чужими, гораздо более чужими, чем кайова или апачи. И дело было вовсе не в цвете их кожи, бледной, как у утопленников. Белые несли гибель, их волшебство было сильнее — они прокладывали огненные тропы для Железного Коня, они искушали молодых воинов горючей водой, и те превращались в слабых, никчёмных старух… Раз за разом тлинкиты потрясали стрелами войны и приводили с пастбищ боевых пони, множество скальпов украсили бораборы,[165] но белых не стало меньше… Бледнолицых не понять, ибо рассудок их подвержен безумию, а слова их — ложь и яд. Тлинкит честен и прям — врага он зовёт врагом и снимает с него скальп. Белый человек кровожаден, как ласка, и скользок, как глинистый откос в дождливый день, он клянётся своему врагу в дружбе, уверяет его в миролюбии, призывает возлюбить ближнего — и убивает, запутав противника неправдой…
— Твоя суметь одолеть Каухкан, — признал краснокожий, — твоя — храбрый воин.
— Я не простил тебе плетей, — сказал Чуга, — за это я тебя однажды вздую.
Индеец широко улыбнулся, что означало крайнюю степень веселья, и подхватил свою чашу.
— Выпить!
Фёдор хмыкнул, припоминая, что именно сегодня исполняется годовщина его житья-бытья на чужбине, и сказал:
— Выпить так выпить!
Чувствуя, что хмелеет, он спросил не без опаски:
— Ты — храбрый воин, Одинокий Волк. Отчего же ты служишь такому трусу и лгуну, как Гонт?
Каухкан помолчал, держа в ладонях чашу. Выпив текилу одним глотком, он поморщился и ответил:
— Моя ненавидеть русских, они пленить и убить моего брата. Это было пять зим назад. Гонт убивать русских, я помогать Гонту.
Чуга прожевал мясо и медленно, раздельно проговорил:
— Уж не знаю, как там насчёт плена, но русские не убивали Тануха, сына Ютрамаки. Танух Бьющая Птица жив и здоров, он служит русскому нануку и охраняет дочь Седого Бобра. Вместе с Танухом я сражался против Гонта, но один подлый койот предал меня.
Каухкан сидел совершенно недвижимо, словно окаменел ненароком.
— Белый человек не знать правды, — разлепил он губы, — он говорить ложь.
— Послушай, — мягко сказал Фёдор, — разве ты называл мне имя своего брата? Нет, ты мне не говорил о нём ничего. Я сам назвал его, потому что знал и не забыл. Зачем мне тебя обманывать? Ты мне не друг, но и не враг. Мы оба — мужчины, оба — воины, нам нечего делить, кроме славы.
Краснокожий ничего не ответил, он встал и ушёл. Не оглядываясь, забыв и недопитый кувшинчик, и закуску, и нож. Проводив Одинокого Волка глазами, пока тот не скрылся за железными дверями, Чуга подумал-подумал, да и припрятал ножик — в ту же щёлку, где лежал заветный ключик.
Он не знал, что и думать. К худу ли, к добру ли этот разговор двух собутыльников? Что станет делать Каухкан? Душа краснокожего — потёмки…
Посиживая в тенёчке, Фёдор внимательно наблюдал за происходящим. Ни одного индейца так и не появилось. Обычно они шлялись по карьеру втроём или вчетвером, заглядывали в штреки, следили за теми, кто выкатывал и опорожнял вагонетки. А тут — пусто.
Зато мексы забегали, засуетились — их громкие голоса, нервно тараторившие на испанском, доносились сверху. Сапоги так и грюкали по дощатому помосту. Пару раз на балкончик под выгоревшей парусиной выскакивал сам Гонт — повертится и убежит. Чуга усмехнулся — по всему видать, Каухкан принял-таки некое решение, и оно не слишком понравилось «товарищу Люцифера».[166]
Фёдор глянул на небо. Светило вышло в зенит и жарило так, что чудилось — солнце, как кусок масла на сковороде, растеклось по всему небу, землю обращая в пекло. Однако обедать пора…
Здешний порядок никогда не нарушался — один из индейцев, Илхаки или сам Каухкан, ударял в гонг четыре раз подряд, подавая долгожданную команду на перерыв.
Чуга подумал-подумал, да и направился в штольню. Взяв молоток в руки, он отстучал по рельсу: на обед!
Вернувшись на своё место в зыбкой тени, Фёдор с интересом стал ожидать развития событий. Невольники стали выходить наружу, под белое солнце, и смыкались в растерянную толпу. Ропот прошёл: а где обед?
Словно эхо, донеслись крики из миссии, и вот дрогнула железная дверь, отворилась, низкая «кухонная» платформочка выкатилась, нагруженная кастрюлями и мисками. Платформочку толкали двое мексиканцев, за ними семенил испуганный повар по имени Педро. Ещё трое вертухаев шагали сзади, с винтовками на изготовку. Прочие целились сверху.
Высмотрев в толпе Савву Кузьмича, Чуга подозвал его и налил в чашку текилы. Хоть и тёпленькая, а всё ж…
— Это што? — удивился Коломин.
— Да вы пейте, пейте… Мяском закусите.
Седого Бобра уговаривать не надо было — выпил и закусил в охотку.
— У-ух! — содрогнулся он. — Крепка, зараза! Давно я этого зелья не пробовал. А што случилось-то?
— Сейчас узнаю…
Выстояв очередь, он получил из рук Педро полную миску бобов и спросил негромко:
— Индейцы где?
Повар глянул испуганно на охранников и ответил:
— Ушли!
— Все?
— Все!
Прихватив коломинскую порцию, Чуга вернулся к Кузьмичу и присел рядышком. Внимательно оглядевшись, он сказал:
— Уходить надо сегодня.
Коломин поперхнулся и закашлялся.
— К-куда? — просипел он.
Фёдор усмехнулся.
— Не куда, Кузьмич, — сказал он ласково, — а откуда. Отсюда! Бочоночек-то цел?
— Ну да…
— Вот и рванём его вместе с теми, что припрятаны… Каухкан увёл всех краснокожих.
— Куда? — опять спросил Савва.
— А вот этого я не знаю. Мы с ним тут выпили маленько, поговорили за жизнь, а потом я ему кое-что растолковал… Скажи-ка, ты Тануха помнишь?
— Тануха? — совсем потерялся Коломин. — А-а! Отчего ж, помню. Лет пять назад, мы ещё на Аляске тогда жили, напали на нас колоши. Отбились кое-как, а Тануха раненого подобрали, так он у нас в плену оказался. Поправился, в веру нашу перешёл, а однажды Наташку спас, когда та в речке тонула — поскользнулась, дурёха, упала, а вода-то ледяная… Вот Танух и вытащил её. С тех пор и стерёг девку, ото всех напастей уберегал.
— А ведомо ли вам, что Каухкан — родной брат Тануха?
Савва вылупил глаза.
— Да не может того быть!
— Может. Гонт-то ему соврал, наговорил, что вы, дескать, Тануха пленили, да и кончили бедолагу. Каухкан, простая душа, и поверил. А когда я ему правду выложил, встал молча и ушёл. И всё, нету больше «индюков»! Уходить надо сегодня же ночью, пока Гонт новых надсмотрщиков не поставил.
— Д-да, пожалуй… — промямлил Коломин и жалко улыбнулся. — Всё мечтал покинуть это проклятое место, а как пришло время… Говорят, что пойманная птица со временем так привыкает к неволе, что боится покидать свою клетку.
— К воле привыкнуть будет проще!
— Так, значит, ночью? — сказал Савва окрепшим голосом.
— Как стемнеет, так и затеем переполох. Только вот что… Да вы ешьте, ешьте, а то остынет.
— Да я ем, ем…
— Скажите, Савва Кузьмич, а под миссией такой же камень, что мы в штреках рвём?
— Да нет, што ты, там помягче будет. Туфом прозывается.
Фёдор кивнул.
— Вот там бочоночки и заложим! — кровожадно улыбнулся он.
— Да где ж? В коридорчике том? Дверь-то на замке!
— Отопру, не сомневайтесь.
Коломин положил трясущиеся руки на колени.
— Господи, Господи… — прошептал он. — Неужто и вправду?..
— Вправду, — твёрдо сказал Чуга, — а то засиделись мы тута. Пора и честь знать!
Стемнело рано. Карьер затянуло мраком, и только самый верх миссии серебрился в свете восходящей луны. Дневной жар спал, но духота всё ещё держалась — ветерок в яму почти не задувал. И было тихо — миссия высилась в мрачном молчании, ни одного огонёчка не видать. Только со стороны казарм и конюшен слабо доносились ржание да звон гитары.
Фёдор по одному выкатывал бочонки с порохом из потайного штрека, потом их все разом подняли наверх.
— Потащили! — сдавленно сказал Коломин.
— А давайте их в вагонетку уложим да так и отвезём?
— Хорошая мысля приходит опосля! — ухмыльнулся Савва. — Давай! Да так и подорвём — весь удар вверх обратим, грянет как из пушки!
Уложив бочонки в вагонетку, рассовав запалы, двое заговорщиков осторожно покатили её к темневшему вдали силуэту миссии «Ацтлан».
Гул рельсов раздавался весьма звучно, но никого не потревожил — невольники спали мёртвым сном, их и канонада вряд ли разбудила бы, а у вертухаев, похоже, пьянка в самом разгаре.
Чуга осторожненько отворил железную дверь, и вагонетку загнали в коридор.
— Тут старая шахта была когда-то, — прошептал Савва, — давно, при монахах ещё, и не коридор это вовсе, а штольня. Просто потом руду сверху копать стали, пока всю не выбрали, а при Гонте начали скалу долбить — жилы вскрылись…
— Поджигай!
— Ага…
Чиркнула спичка, подсвечивая лицо Коломина. Пучок бикфордова шнура зашипел, заискрил, подбираясь к зелью…
— Быстро отсюда!
Прикрыв за собою дверь, Фёдор пошагал по шпалам, еле сдерживаясь, чтобы не кинуться бегом.
— Сейчас… — пробормотал Савва Кузьмич, втягивая голову в плечи.
Чуга обернулся. Миссия возвышалась всё так же нерушимо, словно продолжая собою каменное основание. Вдруг земля вздрогнула, тяжкий гром сотряс всё вокруг. Железную дверь выдуло, словно парус, но не вышибло, только в щель пробилось дымное пламя — чисто дракон огнедышащий на волю рвался. Зигзагом по стене пробежала трещина, ещё одна… Огромные пласты туфа стали оседать, обваливаться, будто в разрезе выказывая шахту с болтавшейся клетью. И не выдержали стены миссии — они ломались, рассыпались, рушились, с оглушительным грохотом валились в карьер, громоздя нещадно пылившую осыпь. Камни с треском и гулом ударили в стену барака, пробуждая к жизни его обитателей. Люди с заполошными криками выскакивали наружу — и замирали, как те соляные столбы.
— Кузьмич! — крикнул Фёдор, срываясь на бег. — Пора! Дуйте в конюшню — и гоните к Пылающим скалам!
— Фосьмите нас с сопой! — завопил фон Бадер, хватая Чугу за руки. — Мы путем полезны!
— Оцень, оцень полезны! — мелко кланялся Ван.
— За ним! — гаркнул Чуга, указывая на Коломина. — Бегом! Кузьмич, не ждите меня, я вас догоню!
Сжимая в руке нож Каухкана, помор бросился к осыпи, где ещё не рассеялась пыль, и стал быстро взбираться по склону, по шевелящимся камням, что ползли под ногами, как панцири стаи черепах.
— Попадись мне только… — хрипло и яростно выдыхал Фёдор, одолевая завал.
Наверху его глазам открылся внутренний дворик — всё левое крыло здания ухнуло вниз, и несколько комнат походили на распахнутые сундуки, из которых ветром раздувало тряпьё. Тяжело колыхались плотные шторы, трепетали легкомысленные занавесочки.
Плотный мексиканец выбежал навстречу, увидал Чугу и аж присел от страха, но тут же стал лапать револьверы. Помор бросился на него, взмахивая ножом, и с ходу распорол вертухаю горло — кровь брызнула рубиновыми струями. Мексиканец, хлюпая и клекоча, падал ещё, когда Фёдор выхватил у него оба «кольта». И очень вовремя — из-за колонн нижней галереи как раз выбегали ещё двое с винтовками. Тремя выстрелами Чуга уложил обоих — умения не забывались.
— Гонт, сука! — проревел он. — Выходи!
Фёдор был страшен — воплощённый Азраил, ангел смерти. Он пробежал вдоль галереи, заглядывая в двери открытые или выламывая те, что были заперты. Попав в особо пышные апартаменты, Чуга понял, что оказался в личных покоях Гонта — костюмы миллионщика, небрежно разбросанные по плюшевому дивану, послужили ему подсказкой. И, по всей видимости, хозяин был здесь совсем недавно — ещё не рассеялся сигарный дым, а огромный канделябр, утыканный свечами, как иконостас, источал мерцающее сияние.
— Смылся, гад? Али каменюкой тебя приложило? Жаль, коли так…
Чуга мигом разоблачился и натянул новенькие чёрные джинсы. Сапоги ручной работы с тиснением тоже пришлись ему по ноге — Гонт был отменным здоровяком, а вот рубашки были маловаты. Накинув на себя тесноватую сорочку из серой фланели, Фёдор нахлобучил на голову чёрный «стетсон». Надо было спешить, но и переодевание давало ему лишний козырь — какой гризер[167] спутает щёголя с полуголым рудокопом? Небось сразу огонь открывать не станет, побоится — вдруг да не в того?
Затянув на бёдрах оружейный пояс из хорошей чёрной кожи, Чуга выглянул в патио — тишина, и вернулся обратно. Что-то он упустил… А! Сейф! Дверца несгораемого шкафа была приоткрыта. Фёдор распахнул её и присвистнул — нижние полки гнулись от мешочков с золотыми монетами, а верхние были забиты бумажными долларами.
— Вот она где, моя получка за полгода! — ухмыльнулся помор и выгреб всю наличность. Распихав деньги по седельным сумкам, он перебросил их через плечо и крякнул — неплохой, однако, заработок. Золотые доллары весили больше пуда. — Ништо, — буркнул Чуга, — своя ноша не тянет.
Рыская по миссии, он обнаружил одного лишь Педро, перепуганного и дрожащего, засевшего в углу кухни с тесаком.
— Аста ла виста, амиго,[168] — проворчал Фёдор и грузной рысцой поспешил к правому крылу, откуда накатывал запашок определённого свойства. И впрямь — конюшня. А лошади-то какие! Красавцы. Моргановская порода. Поискав на крупах знакомое клеймо — «М» в круге — и не найдя никакого тавра вообще, Чуга живо оседлал гнедого и вороного, навьючил, присобачил седельные чехлы и пустые круглые фляжки.
Перезарядив револьверы, он распихал их по кобурам, но застегивать ремешки поостерёгся — чувствовал, что придётся идти на прорыв.
Вскочив на гнедка, помор выехал прямо во внутренний дворик, ведя вороного в поводу. Пусто.
— Да и чёрт с вами со всеми, — проворчал Фёдор разочарованно, заворачивая к выходу. Избить бы Гонта для полного счастья, избить до полусмерти — и отдать невольникам! Пущай бы потешились… Не суждено, видать. Ладно…
За стенами миссии Чугу охватило волнение, грудь стеснило — впервые за долгие месяцы он очутился вне рудника, на свободе!
На самом карьере и у казарм шёл бой — озверевшие рудокопы, словно вырвавшиеся на волю дикие звери, терзали своих недавних мучителей, побивая вертухаев камнями, дубинами, цепями. Мексиканцы сопротивлялись, стреляли, не жалея патронов, но уж слишком лютым был напор невольников, отринувших страх.
Направив коня в объезд, Чуга натолкнулся на группу охранников, отступавших к большому костру. Услыхав топот копыт, мексы разворачивались навстречу помору, клацали затворами винтовок, но не стреляли — понять не могли, кто это на них наехал.
Фёдор бросил поводья и открыл огонь с обеих рук. Гризеры не отличались храбростью и к подвигу себя не готовили — убитые и раненые остались лежать, живые разбежались.
Покинув седло, Чуга прибрал пару «винчестеров» и быстренько снял три патронташа с мертвяков. Тут голоса восставших поднялись до рёва, и толпа, с факелами и оружием в руках, нахлынула из-за каменной конюшни. Чья-то глупая рука потянулась с огнём к камышовой крыше, и Фёдор рявкнул:
— Не сметь, дурачьё! Там же лошади! Хотите пешком до дому прогуляться? Валяйте!
Кто-то сдуру вскинул трофейную винтовку, и помор выстрелил, не думая, — «кольт» будто сам по себе прыгнул в руку. Невольник, роняя оружие, упал и сам. Только теперь, содрогнувшись, толпа узнала стрелка.
— Тео! — зашумели рудокопы. — Это Теодор!
— Где Савва? Не видали?
— Уехали они! — вразнобой ответили недавние узники. — Савва, китаец и У-Йот!
— И вы не ждите. Собирайте оружие, запасайтесь водой и седлайте коней, — спокойно проговорил Чуга и гаркнул: — Свободны!
Люди просто взорвались ликованием, они орали и прыгали от восторга, словно лишь теперь осознали произошедшее.
Вскинув руку на прощание, помор вскочил на коня. Застоявшиеся морганы радостно фыркали, нетерпеливо пускаясь в галоп. Фёдор и сам не выдержал — издал дикий техасский клич на всю пустыню. Свобода! Свобода, мать твою!
Глава 20 ДУХ ПУСТЫНИ
Разгорячённый, Чуга скакал в ночи, упиваясь волей, как изысканной утехой, слаще которой нет и быть не может. Он дышал полной грудью, вбирая в себя запахи полыни и можжевельника и ещё чего-то трудноуловимого, но волнующего и тревожного. Духа пустыни, быть может?
Куда меньше великой Сахары, Чихуахуа оставалась такой же жестокой и нетерпимой к человеческим ошибкам, как безрадостная обитель туарегов, — путник, не знающий, где ему найти воду, обречён на погибель от жажды. Апачи, исходившие Чихуахуа вдоль и поперёк, знали на ней каждую впадинку, каждое углубление-тинахас в скалах, где дожди оставляют животворную влагу. Бледнолицые повторяли за индейцами пройденный материал…
Луна выбелила пески, и следы, оставленные Саввой, Ваном и Уве-Йоргеном, читались легко — широкая дорожка, рябая от ямок, оставленных копытами, уходила на север.
Малость успокоившись, Фёдор стал внимательней поглядывать по сторонам — былая настороженность возвращалась к нему. В пустыне вертухаев нет, тут ты сам себя охранять должон, более некому…
Оглянувшись, помор увидел далеко на горизонте оранжевое зарево. Не удержался, поди, народ, запалил-таки Гонтово хозяйство. Да и чёрт с ним…
Господи, тишина-то какая… Нигде, наверное, такой нету. В лесу деревья шумят, на море волны перекатываются, а над ночной пустыней зависает полнейшее молчание. Слыхать, как воронок дышит, как песчинки перекатываются по склону бархана.
Покусав губу, Чуга соображал. Ежели Гонта не завалило, и невольники до него не добрались, ежели эта сволочь опять извернётся, то можно ждать погони. Возьмёт да тех же руралов[169] науськает. Денежки, они здорово рвение подстёгивают…
— Вот тебе и весь сказ… — пробормотал Фёдор, понукая гнедка.
Пылающие скалы обозначились впереди, и помор, оставаясь в тени, издал негромкий позывной свист. Ни звука в ответ.
Тогда Чуга засвистел «Камаринскую». Прошуршал песок, и тихий голос Коломина произнёс:
— Федя? Ты?
— Я, я… — ответил помор, испытывая громадное облегчение. Не разминулись-таки!
Завидя тень человека, Чуга направил коня в неширокую расселину. Савва Кузьмич пошагал впереди, радостно балаболя:
— А мы пять лошадей увели у Рамоса! Да-а! Самых что ни на есть. И воды набрали, и лепёшек кучу, и мясца вяленого. Ага… Китаёза поёт всё, а немчура хихикает, не переставая. Радуется! А ты как? Нашёл Гонта?
— Увы! — вздохнул Фёдор. — То ли утёк, то ли прибило его…
Выехав на свет небольшого костерка, он спешился. Кони, привязанные неподалёку, приветствовали собратьев тихим ржанием.
— Ох ты и породистых увёл! — восхитился Коломин. — Стати-то какие! А сам-то… Ну барин!
— А то! Привет, Ван. Здоров, У-Йот.
Бывшие невольники закивали, радостно приветствуя своего освободителя.
— Рано радуетесь, — улыбнулся Чуга. — Передохнули? Тогда огонь забросайте, и едем. Днём тут особо не покатаешься, а ночью самое то.
Он ещё не договорил, а Ван с Уве-Йоргеном уже закидывали костёр песком.
— Думаешь, погоню пошлют? — обеспокоился Савва.
— Да кто ж его знает… Ты говорил, дальше Тотемные холмы будут?
— Они самые.
— Воды набрали?
— Ага!
— Покажь, где тут, а то у меня фляг полно, да все пустые.
— Это мы мигом…
Времени минуло совсем ничего, а вся компания уж села на коней и тронулась в путь.
Два часа до рассвета пролетели словно пара минут. Усталость навалилась, придавила, потянула прилечь — безумный день и бессонная ночь сказались-таки. Пустыня вынуждала сменить обычай — спать следовало днём, в самую жару, а ехать ночью. Чугу, правда, беспокоила возможность преследования, но ведь и те, кто соберётся их догонять, со всей прыти не поскачут — солнце не позволит.
Так успокаивал себя Фёдор, проезжая в короткой, но желанной тени, отбрасываемой грядою источенных ветром скал, выпиравших из осыпей, как стены полуразрушенной крепости на валу.
Чуга ехал немного позади Коломина, уступая тому место вождя — в пустыне помор был новичком. Китаец с немцем плелись сзади, клюя носом и сильно раскачиваясь — спали прямо в сёдлах.
Савва свернул в узкий каньон, чьё дно было устлано песком и завалено глыбами камня. Осторожно шагая, лошади пробирались по ущелью, от крутых стен которого наплывал жар. На узкой тропинке не было свежих следов, кроме отпечатков копыт барана-толсторога.
Солнце поднялось уже высоко, зной усиливался. В медном небе не было ни облачка, а от раскалённой земли восходило марево. Кони ступали тяжко, истомлённо, в мёртвой тишине. Далеко на юге смерч закручивал пыль и песок.
Стены каньона постепенно расходились, опадая по высоте, пока не превратились в цепочки голых холмов, лишь кое-где затронутых чахлой растительностью — редкими низкорослыми креозотовыми кустами и ослиной колючкой.
Каждые полчаса Фёдор смачивал губы водой из фляжки — приходилось «растягивать удовольствие».
— Тотемные холмы, — сказал Коломин. — Скоро уже. Видишь?
Чуга поозирался, но никаких признаков источника не увидел.
— Нет, — признался он.
— Пчела к воде летит — верный признак.
Собравшись, помор сперва расслышал, а потом уже разглядел трудолюбивое насекомое. Жужжащая пчёлка пронеслась вдоль холмов, стремясь к невидимому источнику.
Коней это не обрадовало. Уныло кивая головами, они ступали неторопливо, не спеша расходуя силы, а то когда ещё их напоят?
Пчёлы привели беглецов к растрескавшемуся лавовому полю. Пласты пемзы, серые, как слоновья шкура, были погружены в песок. Глубокие и узкие расщелины раскалывали их, давая дорогу лошадям. Попадались случайные агавы, кое-где торчали кактусы-сагуаро и окотило, купами росла чолла, вся покрытая выростами с короткий банан величиной, усеянными лимонно-жёлтыми шипами.
Чудилось, всё в Чихуахуа ощетинивалось колючками, даже лава — пройдёшь по навалам вулканического стекла, и подошв как не бывало. В пустыне живо заречёшься останавливаться в тени куста, потому как там вполне может устроиться гремучая змея. Учишься избегать глубокого песка, отнимающего силы у барахтающегося в нём коня, привыкаешь пить столько, сколько влезет — и ещё больше, «про запас».
— Здесь, — сказал Кузьмич.
Спрыгнув с седла, он легко взошёл по косо пролёгшей скале из шершавого базальта.
— Есть!
Нетерпеливо привязав поводья к кривому железному дереву, раскорячившемуся в уголке меж двух глыб, Фёдор поднялся к Коломину. Прямо за скалой, в её же тени, плескалась вода. Её было много — хоть купайся!
— Это тинахас, — объяснил Савва. — Вода тут скапливается после дождей и держится очень долго. Помнишь, я рассказывал? Ван! У-Йот! Пейте!
— Сначала коняшек напоим.
Чуга наполнил свой «стетсон» водою доверху — превосходной, прохладной на ощупь, самой замечательной жидкостью на земле — и отнёс гнедому. Тот с жадностью выглотал всё, отпихивая воронка.
Напоив коней, набрав полные фляги, Фёдор погрузил разгорячённое лицо в воду, повозил им и пил, пил, пил… Оторвавшись от тинахас, он отдышался и нахлобучил на голову мокрый «стетсон». Так даже приятнее…
Китаец с немцем словно поклонялись богу воды — стоя на коленях, они пили, пили и оторваться не могли.
— Может, здесь и отдохнём? — сказал Чуга. — Покемарим до вечера…
— Лучше в сторонке, — отсоветовал Коломин, — источник — для всех.
— Тоже верно…
Расположились лагерем в подобии небольшой пещерки, рядом с которой нашлась полянка, заросшая побуревшей травой. На маленьком «индейском» костерке из сухих веточек креозота и ослиной колючки они сварили кофе и поджарили бекон — роскошные яства после каждодневной фасоли!
Дав расседланным конякам вдоволь поваляться, покататься по песку, Фёдор напоил их как следует и привязал — длины повода должно было хватить, чтобы кони дотянулись до всей травы на пятачке перед пещеркой и, на худой конец, до хилых кустов меските, чьи бобы годились в пищу.
Заскворчал бекон, поплыл запах кофе…
— А вот скажи-ка, Ван, — затеял Чуга разговор «за столом», — ты-то чего с Гонтом не поделил?
Китаец, сыто жмурясь, покивал головой.
— Я монах, — сказал он. — Мой лама послал меня в васу страну помогать бедным хань… китайцам. В Пуэбло де лос Анзелес[170] у меня зивёт сестла, её зовут Келли Чанг. У неё працецная, она стилает и гладит весци. Плисли плохие люди и хотели отнять у неё всё, сто было назито непосильным тлудом. Их послал Гонт, а я их плогнал.
— Сильно побил? — хихикнул Коломин.
Фёдор, знакомый с манзами по Владивостоку, промолчал.
Ван легко подпрыгнул и попросил Уве-Йоргена кинуть в него палкой. Немец повертел в руках сук от паловерде, пожал плечами в недоумении и легонько швырнул его. Остальное произошло мгновенно — нога китайского монаха ударила палку в воздухе, быстро и резко, как щелчок пальцем. Твёрдое дерево развалилось надвое.
— Ну ничего себе! — поразился Савва.
Ван скромно потупился…
— А я опрукал… об-ругал Гонта в Эль-Пасо, — вздохнул немец. — Сказаль ему, что он трус и лжец…
— Сволочь он, — буркнул Чуга.
Прилёгши отдохнуть, Фёдор задремал. Разбудили его причитания манзы.
— Воды ди, воды тянь![171] — стонал Ван, баюкая руку.
— Что ещё не слава богу? — проворчал Чуга.
— Да Ван на чоллу напоролся! — ответил Коломин, суетясь вокруг китайца. — А это такая дрянь… Колючки у неё зазубренные, сами отламываются, а кончики в теле остаются, застревают, как рыболовные крючки. Та ещё зараза…
Савва просунул лезвие ножа между шишкой чоллы и рукою и резко дёрнул.
— Пара шипов ещё осталась…
Сжав кончик шипа ногтями, Коломин вырвал его, потом удалил другой.
— Гляди в оба! — сказал он китайцу в назидание. — А то сядешь посрать где не надо и наберёшь полную задницу колючек…
…Завечерело. В роскошных красках заката пустыня тихо засыпала. Даже самый слабый звук здесь будет слышен чуть ли не на версту, но некому было тревожить древние пески, и это успокаивало.
Фёдор усмехнулся. Хорошо ему рассуждать о красотах и безмерной тиши, когда тинахас под боком, и в любой момент можно припасть губами к восхитительной влаге! А если бы в это самое время он полз, совершенно обессилев от жажды и одурев от зноя, и даже не догадывался, где тут можно напиться? Благодушествовал бы он тогда, чётко зная, что если и доживёт до утра, то оно станет последним в его жизни?
Чуга обвёл глазами чёрный волнистый силуэт дюн, выделявшихся на алом полотнище заката, и спустился к пещере.
— Тихо? — спросил Савва.
— Тихо, — кивнул Фёдор. — Едем!
Рано утром, когда кони брели, устав от ночной скачки, на юге показалось облако пыли. Чуга долго смотрел на него, мрачнея всё больше.
— Думаешь, это за нами? — встревожился Коломин.
Фёдор пожал плечами.
— Какому дураку придёт в голову просто так кататься по пустыне? Стало быть, за нами… И куда нам теперь?
— Строго на север, — ответил Савва. — Там горушки такие стоят, а в долинке — прудик.
— Тогда вперёд, и с песней!
Задерживаться не стали, поехали, солнцем палимы, опустив головы под накатом нескончаемого тепла. Несколько раз пили понемногу, время от времени останавливались, чтобы смочить губы лошадям. Рты у людей пересохли, губы обветрились и потрескались, каждое движение глаз вызывало боль в обожжённых веках. Вода испарялась, покидая тела, кровь густела, движения замедлялись… А вдали, хоть и не очень-то далеко, клубилось невысокое облачко пыли — оно двигалось за беглецами, как привязанное.
Белый песок Чихуахуа пошёл плотный, слежавшийся, копыта коней в нём почти не проваливались, но заставить бедных животных скакать было бы жестоко. Всадники покидали сёдла и плелись рядом, ведя коней в поводу — пусть хоть так отдохнут.
Коломин обнял коня за шею, почти повисая на нём, и хрипло дышал, перебарывая слабость.
— Вы как? — остановился рядом Чуга.
— Да всё нормально, — слабым голосом ответил Савва. — Устал просто…
— Нельзя нам отдыхать, — сказал Фёдор виновато. — Ежели первыми до воды дойдём, спасёмся, а вот ежели они… Нас тогда даже убивать не придётся, сами сдохнем.
Коломин поднял взгляд и кивнул на небо, где чертил круги терпеливый канюк:
— Вона, ждёт уже. Проголодалась птичка…
— Не дождётся…
Полумёртвые от усталости, они доплелись-таки до холмов, из которых выпирали обгрызенные ветром скалы. Зелень почти не бросалась в глаза, лишь кое-где росли агавы и окотилло.
Зато сразу за возвышенностью пролегала низина, где блестел прудик, охраняемый рощицей колючих груш, юкки, случайных слоновых деревьев и одиноких колонн трубчатых кактусов. Оазис!
Потерянный и возвращённый рай.
Лошади заржали, почуяв воду. Чуга спешился и, спотыкаясь, добрёл до озерца. Первый глоток вызвал спазм в желудке, потом стало легче.
— Пейте побольше, — хрипло сказал Коломин, — впрок! Накачивайтесь водой!
Фёдор поднялся к скалам и глянул в сторону юга. Пыльная тучка сделалась ближе…
Обернувшись к друзьям, он сказал:
— Винтовки в руки — и сюда! Пока их жажда томит, а мы напоены, у нас маленький перевес. Только уговор — близко не подпускать, а то сомнут. Ван, тебе вера не позволяет врагов кончать?
— Дазе лосадей… — вздохнул китаец.
— А стреляешь метко?
— Оцень метко!
— Тогда твоя задача простая — продырявь им все фляжки!
— Холосо!
— У-Йот! Собери сушняка на пару хороших костров и сложи на флангах. Зажгём, когда стемнеет, а то как бы они не обошли нас в темноте.
— Йа, йа! Йаволь…
Чуга поостерёгся ложиться на раскалённый песок и устроился на коленях за каменными глыбами. Щель между ними напоминала бойницу. Савва забрался на вершинку низенькой скалы, похожей на постамент без памятника, и скорчился там. Манза с немцем застыли по сторонам, справа и слева.
Облако пыли стало близким настолько, что Фёдор различил отдельных всадников. Кони перебирали ногами из последних сил, высунув сухие языки. «Чего вот над животинами-то изгаляться?» — подумал Чуга и выстрелил. Пуля сбила сомбреро, и помор узнал Хорхе, вертухая не из самых вредных.
— Эй! Стойте где стоите! — прокричал он на корявом испанском. — А то ляжете!
— Сдавайся, гринго! — завопил здоровый мексиканец в чёрной широкополой шляпе с плоской тульей.
По голосу Фёдор узнал Мигеля Баку и нажал курок. Лицо Баки, припорошенное белой пылью до такой степени, что походило на грим Пьеро, украсилось красной кровью. Мигель взмахнул руками и свалился с коня.
В тот же момент привстал Коломин и выпустил три пули. Мексиканцы, утомлённые дорогой и обезвоживанием, ответили с запозданием — Савва уже упал на камни, а ответный свинец щёлкнул по скале на третий удар сердца.
Уве-Йорген стрелял прицельно. Первый раз он не попал, зато второй патрон был истрачен не зря — мексиканец на красивой белой лошади схватился за грудь почти театральным жестом и рухнул коню на шею, безвольно свесив мёртвые руки.
— Попал!
Ван словно дожидался, когда мексиканцы развернут коней, чтобы, не дай бог, животных не подранить, и сделал четыре быстрых выстрела. Никому не причинив смерти, манза добился желаемого — из полупустых фляжек мексиканцев струйками забрызгала вода, утекая безвозвратно.
Ругаясь последними словами, нападающие отступили — державшие оборону подгоняли их меткими выстрелами, убив ещё одного и ранив троих.
— Их осталось восемь человек! — доложил Коломин, не поднимая головы. — По двое на каждого!
— Если они дождутся темноты… — медленно проговорил Чуга.
— А смогут ли? — перебил его Савва. — Они догнали нас, потому как скакали без отдыха, почти загнав коней. И воды у них нет!
— Ван! — окликнул китайца помор. — Сколько ты фляг пробил?
— Пять или сесть! Две или тли осталось.
— Отличненько… Стало быть, подерутся за воду-то.
Мексиканцы засели за камнями, валявшимися на «берегу» арройо, сухого русла ручья, в низинке. Если хорошенько поработать, можно докопаться до сырого песка. Наберёшься терпения — и на дне ямы наберётся со стакан мутной воды…
Терпения, однако, не хватило. До Фёдора донёсся взрыв проклятий и сухой звук выстрела, после чего двое всадников — с целыми флягами! — потрусили назад, на юг, часто оборачиваясь и грозя стволами «товарищам».
— Если повезёт, — проговорил Коломин, — доберутся до Тотемных холмов, а если нет…
Чуга посмотрел в желтовато-медное небо, где кружил гриф-стервятник. Если нет, пернатому достанется конина и человечина на обед.
Добрый час не было заметно никакого движения, лишь однажды тоскливо заржал конь. А потом над вывалом камней замелькала тряпка, имевшая отношение к белому.
— Не стрелять! — скомандовал помор, испытывая облегчение. Любой мир лучше войны.
Тощий мексиканец, спотыкаясь и брякая шпорами, подошёл поближе и сказал:
— Мы предлагаем вам сдаться. Хефе гарантирует всем вам жизнь!
— А вот мы вам не гарантируем, — усмехнулся Фёдор. — Передай своему хефе следующее: вы сможете напиться и убраться отсюда живыми, если сдадите всё свое оружие и патроны. Тогда мы уйдём — и пейте, хоть залейтесь!
Иллюстрируя сказанное, Чуга приложился к фляге, сделал три больших глотка и сказал по-испански, отпыхиваясь:
— Никогда бы не поверил, что в пустыне можно испить холодненькой…
Переговорщик судорожно сглотнул, повернулся и побрёл обратно.
Начало темнеть, небо расцветилось в багрец и золото. Дальние горы потемнели, окрашиваясь в тёмно-розовый оттенок, исполосованный глубоким малиновым огнём. Уве-Йорген разжёг костры на холмах. Их оранжевый свет протягивался в пески, выхватывая одинокие кактусы и гоняя тени.
— Идут!
Фёдор, притомившийся ждать, выглянул в «бойницу». Давешний худой брёл по пустыне, ведя за собою коня. Бедная животина еле ступала. Казалось, толкни её — и упадёт.
— Я привёз винтовки и револьверы, — подал голос переговорщик, — и патроны…
— Проходи.
Лошадь взобралась на пригорок, дрожа от слабости, и тут почуяла воду. Тихонько заржав, она вырвала поводья и поспешила к пруду. Коломин пошагал следом.
— Шесть винтовок, — деловито сообщил он, освобождая коня от вьюка, — уже вижу… Так, револьверы… Семь, восемь, девять штук. Патроны…
— Патроны забираем и уходим, — решил Чуга. — И парочку «кольтов». У-Йот, фляги полны?
— Тоферху… Доверху.
— Седлайте коней!
…Когда на небе вспыхнули первые звёзды, четверо беглецов покинули маленький оазис, держа к границе Соединённых Штатов.
Глава 21 ЗАПАДНЕЕ ПЕКОСА ЗАКОНА НЕТ[172]
Фёдор направил коня в мелкую Рио-Гранде. Гнедой, уже вдоволь напившись, весело шлёпал копытами. Казалось, ему нравилось брызгаться.
Склонившись с седла, помор зачерпнул ладонью воды и отёр лицо, смывая белую пыль Чихуахуа, корочкой налипшую на потную кожу и неприятно её стягивавшую. Господи, какое же это счастье — вода!
Выбравшись на американский берег, он огляделся.
Пустыня подступала к самой реке, легко «форсируя» её и наступая на земли Техаса. И только горы Чисос вставали на её пути, обороняя Биг-Бенд — Большую Излучину. Но Чихуахуа не сдавалась, насылая ветра и пылевые бури, — век за веком песок точил скалы, сдирая с них крупинку за крупинкой.
— Ну вот и добрались, — с блаженной улыбкой сказал Коломин.
Его конь стоял по брюхо в воде, но на берег не спешил — пил да фыркал от своего лошадиного счастья.
— Ещё не добрались, — хмыкнул помор.
— Ну почти что дома!
— То-то и оно, что почти… Дорогу-то показывайте!
— А вона по берегу и двинем. Возьмём маленько к востоку — и на север. Выйдем к Пекосу[173] где-то в районе «конской переправы», Хорсхед-кроссинг называется. И вдоль по реченьке!
Фёдор выехал к скалистому хребту, изрезанному расщелинами и водостоками, отмеченными мелким белым песком и редкими засохшими агавами. По всей долине забытыми ребристыми колоннами торчали гигантские кактусы сагуаро, кое-где достигая высоты четырёхэтажного дома. Если такой колючий ствол рухнет, то запросто раздавит пару лошадей, весу в нём хватит…[174]
Долина сужалась, уходя к перевалу. Белёсые холмы, увенчанные оранжевыми скалами, были испещрены пятнами зелёного можжевельника и тускло-серебристой полыни. Выше будет прохладней, там за скудную почву Биг-Бенда упорно цепляются дубы, кедры, тополя…
— Вперёд, Ван! — крикнул Чуга, оборачиваясь. — Вперёд, ребята! Мы в Техасе!
«Ребята» радостно завопили, и лошади им вторили ржанием, словно предвкушая сладость техасских трав.
…С давних пор по рекам проводили границы. Пекос вроде бы не такой поток, чтоб по нему рубежи охранять, тем не менее межою река служила-таки, по крайней мере, в позапрошлом 1866 году, отделяя владения команчей и кайова от земель, освоенных белыми.
Свой «фронтир» провела по Пекосу и сама природа. К правому берегу реки подходила Чихуахуа, а по левому тянулся край плато Льяно-Эстакадо, возвышаясь на тысячу футов. На севере это степное плоскогорье с редкими чахлыми акациями весьма засушливо, хотя встречаются и озерки с солоноватой водой — тогда деревья сбиваются в чащи, а вокруг зеленеют травы. Плато, как порезанный на куски пирог, рассекали глубокие каньоны. Порой их стены отвесны, а там, где склоны опадали не так круто, к ним лепились полудохлые кедры, измаявшиеся от безводья.
Удивительно, но на юге плато словно рассыпалось, превращаясь в гряды песчаных холмов, среди которых вода не иссякала — тростника полно, камыши шуршат, кувшинки плавают…
Река Пекос, разделяя губительные места, словно набиралась их смертоносной силы. Недаром её берега изобиловали зыбучими песками и кишели гнёздами гремучих змей. Техасцы говаривали: «Когда плохой человек умирает, он попадает либо в ад, либо на Пекос…»
— Вышли… — пробормотал Коломин, стоя на берегу реки.
— Дошли, — усмехнулся Чуга.
Воды Пекоса, имевшие заметный красноватый оттенок, разливались вширь футов на сто. У самой реки тянулась полоска камыша, а на другом берегу курчавились редкие чахлые кустики.
Примостившись было на щербатом камне, Фёдор тотчас вскочил — с тем же успехом мог и на печку сесть. Чёртова пустыня…
Зато закат вышел потрясающий — на фоне ярко-лилового неба зависли облака лимонно-жёлтого, сочно-апельсинового цвета, понизу подрумяненные алым, с багряной опушью.
— Только этого нам ещё и не хватало… — неожиданно проговорил Савва.
— Чего? — не понял Фёдор.
— А ты што, не слышишь, што ли?
Помор прислушался.
— Парабан фроде… — неуверенно сказал фон Бадер. — Та?
Коломин нервно кивнул.
— Да! Команчи вышли на тропу войны.
Утро не принесло спокойствия. Бой барабанов стих, зато над скалами, далеко на западе, завились зловещие дымы, и было неясно, минуют ли краснокожие берег Пекоса. Воды было достаточно, команчи вполне могли двинуться и в сторону от тропы Гуднайта — Лавинга, куда-нибудь в долину Анимас.
А если нет?..
Настал вечер. Солнце село, краски великолепного захода попригасли, густые тени исполосовали местность.
Друзья ехали до глубокой ночи. Взошла луна, высвечивая дорогу, как огромный небесный фонарь.
Савва проговорил, кивая на ночное светило:
— Команчи называют её Муа.
— Ничуть не хуже нашего, — сказал Фёдор. — Будем двигаться, пока она светит, а днём заляжем спать. Вперёд!
Чуга был напряжён, но позволил себе улыбнуться, подумав, что уши его, наверное, шевелятся — так он старался услышать любой подозрительный звук. Глаза всматривались в черноту ночи, пытаясь угадать движение теней, а нос втягивал воздух: не пахнет ли пылью? А дымком не тянет ли?
Сделав глоток из фляжки, Фёдор намочил ноздри, чтобы лучше различать запахи, и лёгким посылом стронул гнедого с места. Конь был явно недоволен — спать пора, а его заставляют чёрт знает куда ехать…
Под утро четвёрка остановилась на вершине плоского холма. Деревья, когда-то росшие здесь, были повалены бурей, образуя своего рода редут, за которым и укрыться можно, и спрятать огонь костра, такого крошечного, что его запросто накроешь шляпой.
Закусив вяленым мясом, испив кофейку, Чуга завернулся в одеяло. Его примеру последовали остальные, доверяя сторожить мустангам, «одолженным» Коломиным, — уж эти-то, полудикие, в отличие от домашних моргановской породы, врага почуют запросто, лучше всякого пса.
Ясным утром Фёдор почувствовал себя отдохнувшим, хотя и спал всего ничего. Позавтракав, он собрался было покемарить ещё, но тут Савва Кузьмич встал на дыбы — чего, дескать, разлёживаться? Поспешать надо! А индейцев бояться — ни в лес не ходить, никуда вообще. Ван с У-Йотом поддержали Седого Бобра — сами едва нетерпение сдерживали.
— Форт-Самнер совсем близко, — уверял Коломин, — не сегодня завтра доедем!
— Да и чёрт с вами, — проворчал Чуга. — Поехали!
С вечера до полудня они успели отмахать вёрст пятьдесят, и тут им перестало везти.
Ничто, казалось, не предвещало беды. Друзья ехали шагом по склону холма, по узкой оленьей тропке, мимо огромных каменных глыб, вросших в землю наполовину. Запасные и вьючные лошади шли у них в поводу.
Впереди обозначилась возвышенность… И вдруг над ней зареяли перья. Человек десять команчей, верхом на ржущих пинто, перерезали бледнолицым дорогу. Ещё один отряд примчался галопом с берега Пекоса. «Шестнадцать на четверых, — машинально прикинул Чуга, — четверо на одного. Многовато, однако…»
— За камни! — крикнул он. — Живо!
Индейцы выстрелили залпом и понеслись на белых, улюлюкая и визжа. Гнедой под Фёдором упал, поражённый меткой стрелой, помор еле успел вытащить ноги из стремян и спрыгнуть с падавшего коня. Вторая стрела едва не досталась ему, но лишь бессильно воткнулась в луку седла.
Вороной, задетый пулей, ускакал, храпя и взбрыкивая. Ван стал стрелять поверх голов краснокожих, сберегая их священные жизни, но вот сами команчи следовали иным заповедям — меткая пуля сразила монаха наповал. Не уберёг просветлённый своего верного слугу…
Рывком выхватив «винчестер», Чуга стал отползать за щербатую глыбу, трижды выстрелив и однажды попав — пуля 44-го калибра разворотила грудь молодому команчу. Плоское жёлтое лицо воина в боевой раскраске исказилось, индеец свалился, роняя «шарпс». Коломин с немцем выстрелили дуплетом, завалив ещё одного краснокожего. И команчи исчезли вместе с лошадьми.
Фёдор оглянулся. Двое его товарищей были вроде живы-здоровы, оба засели за глыбами камня. Тыл их прикрывала скала. Не бог весть какое укрепление, но атаковать его можно было лишь в лоб, наступая по склону, усеянному скальными обломками, прорезанному бороздами водостоков. Ни единого дерева поблизости, но кусты меските восполняли недостаток растительности.
— Они ушли? — негромко спросил Чуга.
— Как же! — фыркнул Савва. — Жди! Здесь они…
— Незаметно что-то…
— Когда заметишь, будет уже поздно, — пробурчал Коломин, морщась от боли в левой руке.
— Что? — приподнял голову помор. — Задело?
— Сквозная…
Фёдор подполз к Савве поближе и ножом вспорол рукав рубашки.
— Ничего, — бормотал он, — бывает и хуже…
Кое-как перевязав Кузьмича, он повернулся — и не уберёгся. Прозудевшая пуля вонзилась ему в плечо.
Чуга тут же выстрелил в ответ, целясь левее кустика меските, где только что мелькнуло коричневым. Мимо!
Облизав губы, Фёдор вспомнил о важной мелочи. Распластавшись по горячему каменному крошеву, он подполз к трупу гнедого и стволом винтовки подцепил свою флягу. Бедный коняка…
Его действия не остались без внимания — пуля ударилась совсем рядом и ушла рикошетом, противно звеня. Каменная крошка больно посекла помору щёку, но он продолжил своё отступление, пока не оказался под защитой глыбы.
— Полная фляга! — ухмыльнулся Коломин.
— Как будет «вода» по-команчски? — усмехнулся помор.
— Паа…
Выглядывая в щель между камней, как в амбразуру, Чуга застыл, сам притворяясь каменным.
Залитый солнцем склон выглядел совершенно мирно. Неожиданно над песчаным барханом возникла смуглая фигура команча в одной набедренной повязке. Одним гибким движением он перескочил намёт песка и опять пропал. Пуля, выпущенная Фёдором, лишь взбила пыльный фонтанчик. А индеец оказался на три шага ближе…
Перестав двигаться, слившись с камнем, Чуга стал примечать некое растянутое, донельзя замедленное движение. Во-он тот кустик у промоины… Сначала Фёдор решил, что ему мерещится, но нет, куст почти незаметно для глаз смещался. Затаив дыхание, помор прицелился туда, откуда росли ветки, и нажал на спуск. Кустик мгновенно повалился, а раненый индеец выгнулся, открывая грудь, куда тут же влепил пулю Коломин.
— Готов!
И тут сразу пятеро команчей выскочили из своих укрытий, бешено перебирая ногами, понеслись вперёд. Чуга выстрелил, ранил одного, но развить успех не смог — индейцы пропали, словно ухнули разом в колодец.
Потом грохнул «спенсер» — это индейцы опробовали новую тактику — начали стрелять по скале. Пули отскакивали, высекая жалящие осколки камня, плющась в раскалённые кусочки металла, похожие на паучков. Один такой «паучок» чиркнул по рубахе помору, разрывая и ткань, и кожу.
— А, ч-чёрт!
— Помочь?
— Да я сам…
Тут показался конный команч. Вскинув винтовку на скаку, не сбавляя бешеной скорости, он сделал пять выстрелов подряд. Чуга выстрелил с небольшим упреждением, и всадник свалился с лошади.
— Готов, — довольно сказал Фёдор и обернулся к Уве-Йоргену.
Тот был бледен. Вздрагивавшей рукой он нащупывал кровавую рану на груди.
— Фсё, репята, — прохрипел немец, — капут…
— Надо перевязать потуже! — Фёдор сделал движение к У-Йоту, загребая ногами гравий, но тот поднял руку в слабом останавливающем жесте.
— Перестань, — сказал он и закашлялся. С губ потекла кровь. — На таких, как я, таже в госпиталях рукою махнут. Насмотрелся на войне, снаешь… Уходите к реке! Когта мы потъезжали, я видел — к берегу прибило несколько стволов теревьев. Фот отсюда можно уползти, прямо по промоине, и к самой воде, а я фас прикрою…
Неожиданно команчи подняли палку с белой тряпкой и помахали ею. Один из индейцев медленно поднялся во весь рост.
— Не стрелять! — приказал Коломин. — Индейцы предлагают переговоры.
— Опманут, — сказал фон Бадер, с трудом дыша.
— Я попробую поговорить с ними на их родном наречии. Вдруг да проймёт?
Савва выпрямился, и в то же мгновение грохнул залп. Две пули поразили Кузьмича — в руку и в ногу. Фёдор выпалил в ответ. Мимо…
— Я же фам коворил… — флегматично заметил У-Йот.
Чертыхаясь, Коломин кое-как перевязал рану на бедре, сочившуюся кровью.
— Это я во всём виноват, — простонал он. — Правильно ты казал, штоб только ночью! Нет же, попёрся днём…
— Уходите, — сказал с беспокойством немец, — сейчас же! Команчи битый час будут выжидать, вы успеете смыться! Иначе пудет поздно — сдохнем фее!
— Пошли? — спросил Чуга Савву.
— Поползли, — прокряхтел тот.
Вжимаясь в промоину, Фёдор двинулся первым, подтаскивая Коломина, пачкавшего пыль кровью.
Фон Бадер выстрелил. В ответ прозвучал нестройный залп — обе стороны берегли патроны.
Сползая по каменной осыпи, Чуга спустился к самому берегу, где в маленькой заводи крутился всякий мусор, приносимый течением. Выброшенный на камни одним концом, покачивался обкорнанный ствол тополя.
— Цепляйтесь! — шепнул Фёдор. — Залезайте в воду и цепляйтесь. Я столкну!
Савва положил руки на ствол, подгребая здоровой ногой. Чуга обхватил более толстый конец и оттолкнулся ногами от берега. Дерево зашуршало, заскрипело галькой, съехало в реку.
Высовываясь из воды так, лишь бы в нос не попало, Фёдор поплыл, скрытый белым стволом и обрывками уцелевшей коры.
Внезапно стрельба на берегу резко усилилась, участилась до неистовства. Раздался победный крик…
— Успели… — булькнул Коломин и закашлялся.
— А У-Йот?
— Скоро услышим…
Бревно успело далеко отплыть, но дикий, с подвываниями, крик боли и неимоверного страдания успел долететь до них — Уве-Йорген фон Бадер принимал свою мучительную смерть. Через минуту вопль оборвался — жизнь покинула невольника, так и не вкусившего плодов свободы…
На перекате бревно завязло в камнях. Так ему тут и лежать, дожидаясь весеннего паводка, а Чуга на карачках, опираясь на винтовку, как на посох, выбрался на берег, придерживая Савву.
— Помчимся… — проскрипел тот, кривя рот в улыбке.
— Помчимся! — отрезал Фёдор. — Сами же говорили: Форт-Самнер уже близко!
— Это если верхом… Со мной ты будешь ковылять до второго пришествия…
— Держитесь давайте!
Так они и поплелись к Форту, и была эта дорога самой длинной в жизни Фёдора Чуги, и самой тяжкой.
Коломин то и дело терял сознание, слабея от потери крови, и обвисал всею своей немалой массой. Помор кряхтел, но тащил. После Савва приходил в себя, опирался кое-как здоровой ногой, и помору делалось легче, но скорость оставалась черепашьей. С тоскою думал Чуга, что никогда ему не добраться ни до какого форта и Наталью не обрадовать, отца живого приведя…
Миновав злополучную скалу, ставшую для Уве-Йоргена Голгофой, друзья продвинулись вперёд ещё на пару вёрст.
Фёдор не загадывал, докуда сможет дойти, просто давал себе зарок — прошкандыбать ещё сто шагов. И ещё сто… И ещё. Ну и самые последние сто. Пятьдесят. Десять…
Повалившись на песок совершенно без сил, Чуга долго отпыхивался.
— Что ты её таскаешь? — послышался слабый голос Коломина.
— Кого?
— Винтовку… Брось, тяжёлая же…
— Ага, щас…
— Всё равно же патронов нет…
— Один ещё должен быть. И оба револьвера заряжены… Ладно, кончайте валяться. Подъём!
Чуга встал и поднял упиравшегося Савву.
— Давайте-давайте…
— Оставь ты меня в покое…
— На кладбище отдохнёте, а пока живы — ноги переставляйте…
Под вечер объявилась новая напасть — волки. Не шугливые койоты, а матёрые серые зверюги. Они так и кружили неподалёку, щёлкая зубами и принюхиваясь.
Проверять, остались ли патроны в обойме «винчестера», Фёдор не стал — звук выстрела отпугнёт четвероногих, но может привлечь двуногих, куда более страшных хищников. Повесив винтовку на плечо, Чуга вооружился «боуи» — клинком чуть ли не в фут длиной[175] — и хорошо наточенным.
Полоснув по ребрам особенно наглому волчаре, он малость припугнул стаю. Волки ушли, очень разочарованные, а люди остались. Костёр разжечь было нечем, да и не из чего, а когда всю ночь колотишься в мокрой одежде, спится плоховато. Поэтому помор обрадовался восходу солнца. По крайней мере светило обещало тепло.
Сколько они прошли до полудня, Чуга не считал, просто не до того было. Солнце высушило одежду, тело согрелось, но даже чистая вода Пекоса не могла заменить самого скромного завтрака.
…На третий день, когда Фёдор стоял на коленях у распростёртого на песке Коломина, он увидел мираж — к нему приближался чёрный конь. Да какой это мираж… Это взаправду!
Убежавший вороной вернулся к своему хозяину. Обняв коня за шею, Чуга гладил его, приговаривая: «Хорошая коняшка! Хоро-ошая!»
— Теперь помчимся! — осклабился помор. — Ну что расселись? Полезайте в седло!
С помощью Фёдора Савва залез на коня и спросил, кося глазом:
— А в сумках что? Харчей нет, случайно?
— Там деньги.
— Деньги? — устало удивился Коломин. — Какие деньги?
— Зарплата моя. Зря я, что ли, полгода на Гонта впахивал? Тысяч сто там али поболя…
Савва хрипло засмеялся.
— Поехали! Почти как в сказке — не битый битого везёт… Ха-ха-ха!
Вечером они подъезжали к Форт-Самнеру.
Глава 22 ДОМ НА ЛУГУ
Приняв ванну, облачившись в новенький костюм, Чуга покинул свои апартаменты и спустился на первый этаж отеля «Сити», в котором остановился, — лучшего отеля в Денвере.[176] Раньше Фёдор снял бы номер где-нибудь в дешёвом салуне на Блейк-стрит, а тут устроил себе красивую жизнь — «зарплата» позволяла.
Ещё в Форт-Самнере, когда помор явился в банк «Уэллс-Фарго» и опорожнил седельные сумки, на его депозит легли пятьдесят тысяч золотом и шестьдесят с чем-то тысяч в пухлых пачках ассигнаций, припорошенных пылью Чихуахуа и окропленных горьковатой водой Пекоса. А сколько пота и крови пролито? Лучше и не вспоминать…
Войдя в зал ресторана, Чуга сразу заметил Коломина, гордо восседавшего за столом. Посетивший парикмахера и портного, Савва Кузьмич выглядел как лорд на отдыхе. Раненую руку он положил на белую камчатную скатерть, а другой сжимал набалдашник трости, к которой уже привык.
Две недели Седой Бобёр провалялся в армейском госпитале Форт-Самнера, пока не пошёл на поправку. Старый знакомец Чуги, Гуднайт, околачивался тут же. Беда случилась у Чака — его друг и напарник Оливер Лавинг скончался прошлой осенью в том же госпитале. Раненный в стычке с команчами, Оливер подхватил «антонов огонь».[177]
Гуднайт пособил слёгшему Коломину — каждый божий день присылал свежайшего бульону да мясца разваристого. На такой-то диете любой подымется! Вот и Савва на поправку пошёл. И в дилижансе не растрясло, пока до Колорадо добирались, — люди сказывали, живёт в Денвере хирург один, прямо-таки чудодей. Два дня Фёдор с Саввой Кузьмичом дожидались, пока сей костоправ из Дюранго возвернётся, и дождались-таки.
— Доброго вам утречка, Савва Кузьмич, — улыбнулся Фёдор, приседая напротив. — Завтрак заказывали уже?
— Доброго-доброго, — встрепенулся Коломин. — Газету читывали? Посадили-таки Гонта! Арестовали в Эль-Пасо. Обвинили в семи только доказанных убийствах — и за решётку, родимого! Пущай теперь на небо в крупную клетку любуется. Ежели присяжные не смягчатся, повесят Мэтьюрина Брайвена!
Чуга с сомнением покачал головой.
— Вести приятные, что и говорить, — сказал он рассудительно, — так вы и сами понятие имеете, что богатей за деньги самых что ни на есть изворотливых крючкотворов наймёт и выкрутится-таки.
— А вот фигушки! Разорился Гонт!
— И правда доброе утро! — рассмеялся Фёдор. — Ну ладно… Так что с завтраком?
— Уж больно дорого у них тут, — проворчал Коломин.
— Зато вкусно! Кстати, здешний шеф-повар Шарль Гелехман раньше обслуживал короля Дании.
— Ну мы не короли, чай, мы по-простому.
— Здесь мы — короли, — с силой сказал Чуга. — Это пущай в европах самодержцы всякие коронами балуются, а в Америке люди делом заняты. Тут нефтяные короли есть,[178] железнодорожные — всякие. Чем мы хуже?
— Тоже верно…
Заказав мясо по-бургундски и бутылочку «Шато-Марго», они не спеша уговорили и то и другое.
— Ну что, Савва Кузьмич? — сказал Фёдор, промокая губы салфеткой. — Я от вас иных вестей жду, но тоже добрых. Были вчера у доктора? Что сказал?
— Здоров, сказал. Обещал, что и хромота пройдёт. Только, говорит, гуляйте побольше, дышите воздухом и питайтесь получше.
— Ну это мы вам обеспечим! Так что же, выходит, пора?
Коломин кивнул:
— Пора!
…Пока Фёдор «отдыхал» в Мексике, китайцы с ирландцами[179] довели железнодорожные пути до Форт-Ларами, что лежал севернее Денвера. Дотуда Чуга с Коломиным добирались почти неделю, зато путь в солнечную Калифорнию на поезде занял всего три дня.
Сойдя в Сакраменто, Чуга свёл по сходням из вагона для перевозки лошадей своего вороного и спокойного, выносливого мерина, помесь ирландского хантера хороших кровей с мустангом, купленного для Коломина.
— Господи, — перекрестился Савва, — неужто свижусь со своими-то?
— Свидимся, — уверил его Фёдор, хотя сомнения и терзали его душу.
Приближаясь к дому, оба сдерживали и себя, и коней. Неизвестность страшила. Что стало с родными и близкими в их отсутствие? За полгода, бывало, целые города пустели, становясь призраками, а тут какая-то ранча.
Не заезжая в Форт-Росс, Савва и Фёдор припустили по короткой дороге к владениям Костромитинова. С виду дом не пострадал — ни огонь его не тронул, ни стрельба.
На веранду выскочила кухарка, тётя Феня, и руками всплеснула.
— Батюшки-светы! — запричитала она. — Никак Савва Кузьмич возвернулись! Живые!
— Живые-живые, — нетерпеливо отмахивался Коломин. — Мои-то где? Лизка? Наташка?
— Так в гости отъехала Лизавета Михална, к Наталье Саввишне…
— Куда? — еле сдерживаясь, спросили Фёдор с Саввой.
— Ой, и Фёдор Труфанович тута, а я, старая, и не приметила… В Ла-Роке они, обеи. Ага!
Развернув коней, друзья поскакали к Ла-Роке. Настроение у Чуги прыгало под стать конскому топу — то вверх, счастьем балуя, то вниз, страша и пугая.
Путь до ранчи был долог — вёрст двадцать, но и кони были хороши — на всю дорогу часа два ушло.
Сердце Фёдорово забилось, стоило показаться устью Ла-Роки. Дома!
По холмам, щипля травку, бродили коровы. Бакер, согнувшись в седле, лениво объезжал стадо.
Повернувшись к подъезжавшему Фёдору, бакер вздрогнул, рывком приподнял «стетсон», как бы пытаясь увериться в том, что он видит, и закричал:
— Та шоб я сдох! Хозяин! Обойдите всю эту Калифорнию — не найдёте человека, шоб радовался за вас, как я это делаю! Даже ваша мама бы отдохнула!
— Помолчи, Фима, — натужно улыбнулся Чуга.
— Та вы шо?! У меня нету время, шобы сидеть здесь целый день за помолчать!
— Наталья где?
— Дома, а то где ж? Туточки!
— А Лизавета Михайловна?
— Обратно тут! Сёмку лечит.
— А что с ним?
— Я вас умоляю, хозяин, ви же знаете за Сёму: он, если не сломает, так уронит — и как раз таки не помимо пальца, а на самый ноготь!
Не обращая внимания на болтовню одессита, Фёдор направил коня к каньону.
Баня уже стояла, полностью выведенная под крышу из чажной черепицы, рядом размещались конюшня, амбар и барак-кажим.
Сердце у Чуги забухало — он увидел Наталью. Девушка подметала крыльцо перед баней.
Фёдор спешился. Нетвёрдыми шагами приблизился, позвал севшим голосом:
— Наталья…
Коломина сильно вздрогнула, развернулась… Застонав, она бросилась к Чуге, тиская его, теребя, плача, целуя.
— Феденька… Феденька, родимый… Вернулся…
Чуя, что и у самого глаза на мокром месте, Фёдор сказал девушке на ушко:
— Посмотри, маленькая, кто тут ещё к тебе.
Наталья оглянулась, кулачками вытерла заплаканные глаза и охнула:
— Папенька!
Савва Кузьмич не сдержал слёз, они у него текли по щекам, но Седой Бобёр улыбался, бормоча смешные ласковости утерянной и вновь обретённой дочери. А тут и жена подоспела, за сердце хватаясь, и вот уже все втроём обнялись да ревут, но не от горя — от радости.
— …Ларедо пропал в тот же день, — тихонько рассказывала Наталья, сидя на завалинке и прижимаясь к Фёдору. — Князь с близняшками собрал всех бакеров — и давай Гонтовых людишек гонять! Ранчу Мэта разорили и пожгли, сейчас там сеньор Мартинес обживается.
— Вернулся, значит?
— Ага! Дядя его в Сан-Франциско встретил, ну и рассказал обо всём… А твои бакеры самые смелые были. Страху на всю банду нагнали! И дружные они — видишь, не бросили тебя. Денег нет, а совесть есть…
— Я расплачусь с ними завтра же. Выдам по пятьсот долларов каждому.
— А не много?
— Они заработали. И заслужили. А кажим кто строил?
— А все! Хороший обычай есть у «бостонцев», «постройка амбара» называется. Это когда соседи собираются и вместе амбар ставят. Или, там, конюшню. Вот и нам поставили… А дядя плотников наслал, они кажим выстроили. Дед Макар печи сложил…
— Скоро я тут дом возведу, — негромко сказал Фёдор. — Асиенду по камешку разберём и тут выстроим. В два этажа, с балконом, и чтоб веранда вокруг. Мебели накупим и посуды, а печи изразцами выложим…
— А колечко мне купишь?
— Ну а как же. С бриллиантиком.
— Чай, дорого…
— Ты мне куда дороже.
— Правда?
— Правда…
Было уже темно, из открытых дверей кажима доносились храп и сонное бормотание. Чету Коломиных уложили вместе с бакерами, за занавесочкой, а Танух ушёл куда-то, сказавшись занятым.
— Спать пора, — сказал Чуга.
— Пора…
— Давай в бане ляжем?
— Давай… А ты приставать ко мне будешь?
— Обязательно. Али нельзя?
— Ну ты же всё равно женишься на мне?
— А как же!
— Ну вот… А свадьба только осенью. Так долго ждать…
Чуга встал, одновременно сгребая Наталью в охапку.
— Миленькая моя…
— Это ты миленький…
Минула ровно одна неделя, пошла другая. Федор затеял дом строить. Дон Гомес прислал знакомых мексиканцев-каменщиков — и загрохотали подводы, гружённые тёсаным камнем с «асиенды Касса-де-Ла-Рока», потащились телеги с красной черепицей.
Бакеры всей толпой съездили в Форт-Росс, принарядились, ну и обмыли покупки. Куда ж без этого? Пётр Степанович утащил Коломина к себе на ранчу, погутарить «по-стариковски», Наталья навещала беременную Марьяну, а Чуга решил объехать свои владения.
Тут-то его и повстречал сеньор Мартинес, осанистый кабальеро.
— Сеньор Чуга, — сказал он, не пряча тревоги, — пренеприятнейшие известия! Гонт и Шейн бежали из тюрьмы в Эль-Пасо!
— Вот как? — нахмурился Фёдор.
— Сам видел их портреты на плакатах в Форт-Россе. Оба разыскиваются, а за голову Гонта, живого или мёртвого, пять тысяч долларов обещаны!
— Дорого они дерьмо оценили.
— Вы уж поосторожнее…
— Не волнуйтесь, сеньор. Если что, разбогатею на пять тысяч золотом!
Оседлав вороного, Чуга не забыл проверить револьверы — он купил, по старой памяти, парочку «смит-вессонов» русского производства.
Фёдор ехал неторопливо, позволяя коню самому выбирать дорогу. Он любовался лугами и перелесками, стадами его коров, мирно пасущихся на его пастбищах, дышал, щурился под солнцем, жил.
Тревога кольнула его уже на обратном пути. Миновав хижину, выстроенную бакерами на дальней границе ранчи, Чуга выехал на лужок, и тут его словно дежавю посетило — упоминал как-то Туренин такое мудрёное слово.
Из-за деревьев выехали двое — Гонт и Шейн, оба на конях буланой масти. Мэт и Ларедо были изрядно потрёпаны, обветренные, закопченные у костров лица кололи глаз щетиной, но глаза у обоих горели по-прежнему — злобно и алчно.
— Ну и как тебе новый хозяин, иуда? — спросил Фёдор, потихоньку сближаясь с недругами. — Верно служишь? А сахарок он тебе даёт, когда на задних лапках ходишь?
Помор не испытывал ярости. Ему до смерти надоели преследователи и ловчилы, он жаждал покоя и отдохновения.
— Замолчи! — взвизгнул Ларедо.
— Русский выводит тебя, — усмехнулся Мэтьюрин. — Когда твои пальцы будут дрожать, ты промахнёшься. А ну стой!
Чуга подъехал достаточно близко, и окрик Гонта словно какую пружину спустил. Помор прыгнул с седла на миллионщика и свалил его с лошади.
Упав, он перекатился и вскочил. Мэтьюрин с искажённым от ярости и страха лицом ковырялся в кобуре, тщась расстегнуть ремешок.
Чуга не стал ждать, пока тот доколупается, он стремительно бросился на Гонта, молотя его кулаками по рёбрам, по морде, под дыхало. Ларедо потрясал револьвером, но выстрелить не мог — между ним и дерущимися храпели и переступали оба коня, Гонтов и Чугин, да и сами дуэлянты сходились слишком близко. Стрельнешь в бывшего хозяина, а попадёшь в нынешнего…
Мэтьюрин оказал слабое сопротивление, пиная Фёдора ногой, один раз даже достал его хуком слева, но Чуга жестоко подавлял всякое ответное трепыхание.
Очередной удар снёс Гонта с ног, и он упал бы, если бы не уцепился за стремя. И заработал сокрушительный удар по почкам. Мэтьюрин растянулся у самых копыт, и тут же объявился Ларедо. Его губы дёргались, а револьвер в руке так и плясал.
— Всё! — выдохнул Шейн. — Теперь по салунам другой слух пройдёт! О том, как Ларедо Шейн завалил самого Теодора Чугу! Ты всегда мог заарканить удачу, а я только навоз месил да пыль глотал! Теперь — всё!
Выстрелить он не успел — длинная индейская стрела вошла ему в спину и вышла из груди, накалывая сердце, как на вертел. Ларедо выронил «ремингтон», в горле у него булькнул и застрял крик, а глаза выразили безмерную детскую обиду — Госпожа Удача снова ему изменила…
А Гонт заскулил, с ужасом таращась за спину Чуги.
Помор развернулся, выхватывая «смит-вессон», — и опустил ствол.
В пяти шагах от него стояли конные индейцы. Каухкан Одинокий Волк, Илхаки Красный Томагавк, Скаатагеч Выжидающий Ворон, Танух Бьющая Птица. Все они были здесь. Их лица, бесстрастные, как у статуй, не выражали ничего — ни гнева, ни торжества.
Каухкан поднял руку и произнёс довольно выспренне:
— Здравствуй, мой бледнолицый брат.
Подумав, что у тлинкитов свои понятия о пафосе, Чуга тоже приветствовал своего недавнего мучителя:
— Приветствую тебя, о краснокожий брат мой.
— Танух больше не сможет охранять дочь Седого Бобра.
— Дочь Седого Бобра станет моею скво в Месяце Падающих Листьев.[180]
Одинокий Волк кивнул одобрительно.
— Прощай, мой бледнолицый брат, — сказал он. — Мы уходим — и забираем этого трусливого койота, — Каухкан небрежно кивнул на слабо трепыхавшегося Гонта.
— Он твой, мой краснокожий брат. Хау.
Танух с Илхаки соскользнули с коней, мигом повязали миллионщика и уложили его на вьючную лошадь. На какое-то мгновение лицо Тануха утратило каменное выражение, и он шепнул:
— А чего он…
Фёдор скупо улыбнулся и постоял, провожая индейцев. Потом он вздохнул. Брезгливо обойдя труп Ларедо, вскочил на воронка и шагом двинулся домой. Вороной был недоволен, его пугала кровь, ему хотелось бежать, но Чуга осаживал его. Он слушал — и услышал.
Тонкий человечий вой взвился из леса, срываясь в визг, в нутряной клёкот.
— А ты не подличай, — буркнул помор и послал коня рысцой.
Подъезжая к Ла-Роке, он увидал бакборд, которым правила Наталья. За нею, как гвардейцы за каретой королевы, скакали бакеры — близняшки Гирины, Фима и Семён.
Тихонько засмеявшись, Чуга поехал навстречу.
…Причудливо завита нить человеческой судьбы! Думаешь одно, грезишь, мечтаешь, а выходит совсем иначе. «Дорожка к счастью» бывает прямой только на тихом озере в лунную ночь, а жизнь, случается, такие загогулины выписывает, что просто диву даёшься.
А ты верь, надейся да люби. Вот тебе и весь сказ.
Примечания
1
Сажень — примерно 2 метра (2,13 м). Здесь и далее — примечания автора, который прекрасно понимает, что сноски мешают читать. Поэтому не обращайте на них внимания, читайте на здоровье!
(обратно)2
Дома на Русском Севере были реально велики. Их ставили «брусом» (мы бы сказали — «Икарусом»), когда все комнаты вытягивались анфиладой, или «глаголем», то есть буквой «Г» в плане. Дом-«кошель» перекрывался общей двухскатной крышей, но её верхний стык проходил не над серединой всего дома, а по оси жилой части — один скат был коротким и крутым, другой — пологим и длинным. Он покрывал скотный двор с парой ворот, хлев, конюшню, наверху был сарай с сеновалом. Так поморам было сподручней — долгой зимой они работали по хозяйству в тепле. А на второй этаж вели крепкие сходни, куда можно было заезжать на телеге.
(обратно)3
Четверик — четырёхугольная основная часть храма в допетровской архитектуре, продолжавшаяся восьмериком — стоящим на нём восьмигранным верхним ярусом.
(обратно)4
Действительно, револьверы «смит-и-вессон» русской работы считались чуть ли не лучшими в то время. Заметим, что калибр в США измеряется в сотых долях дюйма. Таким образом, 44-й калибр (0,44 дюйма) — это 11 миллиметров.
(обратно)5
Памятник сей, на 500-рублёвой купюре изображённый, воздвигли-таки в 1914 году.
(обратно)6
Русская Америка со столицей в Новоархангельске (ныне Ситха) была продана США в марте 1867 года. Существуют подозрения, что продажа Аляски была грандиозной аферой, в результате которой кое-кто, включая «железного канцлера» Горчакова, получил «откат» от этой сделки, предававшей интересы империи на Тихом океане.
(обратно)7
Либава — ныне Лиепая.
(обратно)8
Гафельная шхуна — судно с косыми парусами, не требующее многочисленной команды, поскольку лазать по мачтам не нужно. В конце девятнадцатого века шхуны успешно конкурировали с пароходами.
(обратно)9
«Одинокая звезда» — прозвание штата Техас.
(обратно)10
Существовала такая порочная практика решения кадровой проблемы. В матросы люди шли без охоты, поэтому случалось, что простаков спаивали в портовых кабачках, а утром они просыпались в кубрике. А непьющих избивали до полусмерти и волокли на корабль, пока те не очнулись.
(обратно)11
Прикрученную. От слова «найтов» — связка, скрепа.
(обратно)12
Вообще-то, официально джинсы фирмы «Levi’s» берут начало с 1873 года, но предприимчивый Леви Страус шил штаны из ткани «деним», по крайней мере, с 1853-го.
(обратно)13
Полубак — надстройка в носовой части палубы. Фок-мачта — передняя, первая по счёту от носа. Фока-гафель — главный парус на этой мачте (если говорить о гафельной шхуне). Вторая мачта, располагавшаяся ближе к корме, называется грот-мачтой. Гик — горизонтальное рангоутное дерево, по которому растягивается нижняя шкаторина (край) паруса. Форштевень — брус, образующий носовую оконечность судна. Ванты — снасти стоячего такелажа, которыми мачты крепятся к бортам.
(обратно)14
Шелоник — так поморы называли юго-западный ветер.
(обратно)15
1 верста = 500 саженей = 1066,8 м.
(обратно)16
Джефферсон Девис — первый и последний президент Южной Конфедерации (Конфедеративных Штатов Америки) во время Гражданской войны 1861–1865 годов. «Честный Эйб» — прозвище Авраама Линкольна. По всей видимости, именно честность мешала Линкольну сделать карьеру. В 1831 году он разорился, а на следующий год потерпел поражение на выборах в Законодательное собрание штата. В 1838-м Авраам выставил свою кандидатуру на пост спикера, но избран не был. В 1843-м ему отказали в должности чиновника земельной службы, тогда же он провалился на выборах в Конгресс. Три года спустя его таки сделали конгрессменом, но двумя годами позже избиратели отказали ему в доверии. Линкольна не выбрали в Сенат в 1855-м. В 1856-м он пытался занять пост вице-президента, но безрезультатно, в 1858-м — снова провал на выборах. Но Авраам не унимался и вошёл-таки в Белый дом в 1861 году. В описываемое время президентом США являлся Эндрю Джонсон.
(обратно)17
Гражданскую войну начали мятежники-южане, 12 апреля 1861 года обстреляв форт Самтер. Чтобы не допустить раскола страны на Союз (объединение северных штатов) и Конфедерацию, Линкольн вступил в вооружённый конфликт, а после войны начал Реконструкцию — мирное, без мести и повальных грабежей, вовлечение Юга в общее государственное русло.
(обратно)18
«Большой дым», The Big Smoke — прозвание Лондона, данное за обилие дыма и смога.
(обратно)19
Треугольный парус, ставится на штаге между мачтами. В данном случае — между фок-мачтой и бушпритом — наклонным рангоутным деревом, выступающим с носа корабля.
(обратно)20
С июля 1867 года на флаге США красовались уже 37 звёзд — по числу штатов.
(обратно)21
Amigo (исп.) — друг. Территории Техас, Нью-Мексико, Аризона, Колорадо, Калифорния, отнятые у Мексики, стали местом действия практически всех вестернов, поскольку именно они и составляли американский Дальний Запад, а испаноговорящее население оставило специфический отпечаток в речи англосаксов, подпитав её словечками вроде «амиго», «хомбре» (человек, мужчина), «ранчо» (скотоводческое хозяйство), «сегундо» (управляющий), «меза» (столовая гора), «мустанг» (от mestenge — ничей, бесхозный), «лассо» и т. д.
(обратно)22
Знаменитые стрелки того времени. Самые известные ганфайтеры, такие как Пет Гаррет, Уэсли Хардин, Джим Котрайт, Люк Шорт, Уайетт Эрп, Бат Мастерсон, Док Холлидей, прославились несколько позже описываемых событий.
(обратно)23
Ганфайтер — букв. «боец с револьвером». Человек, обладающий врождёнными способностями к стрельбе (отличной координацией, быстрой реакцией, твёрдостью руки, глазомером).
(обратно)24
Данная модель производилась для военно-морского флота. Армейская модификация «ремингтона» имела 44-й калибр.
(обратно)25
Его сиятельство — титулование князей.
(обратно)26
Мастер — сленговое название капитана.
(обратно)27
«Стрелок» на брюках в то время не наводили — мода такая ещё не пришла.
(обратно)28
Стрэнд — центральная улица Лондона, связывающая Вестминстер и Сити.
(обратно)29
Пенни — монетка в 1 пенс. 1 фунт стерлингов содержал 240 пенсов. Для примера — кружка пива в пабе стоила 5 пенсов.
(обратно)30
В общем-то, род князей Турениных (ветви Оболенских) угас ещё в XVII веке, но жизнь полна неожиданностей…
(обратно)31
Британские револьверы Адамса производились с 1867 года.
(обратно)32
Шканцы — пространство между грот-мачтой и ютом (кормой).
(обратно)33
В ту пору Нью-Йорк занимал Манхэттен и Бронкс. Бруклин, Куинс, Лонг-Айленд являлись пригородами. И знаменитая статуя Свободы тоже не вздымала факел над островом Бедлоу — время ещё не пришло.
(обратно)34
Пять монет по 20 долларов, каждая из них содержала более 30 граммов чистого золота.
(обратно)35
Соверен — золотая монета в 1 фунт стерлингов (7,32 грамма чистого золота).
(обратно)36
«Золотой орёл» — монета в 10 долларов.
(обратно)37
Так нью-йоркцы прозывают свой город.
(обратно)38
Или Хогвота. Или Хоугвоута. Фамилию Houghwout можно выразить и так.
(обратно)39
Новый Амстердам был основан в 1626 году.
(обратно)40
Дангери — хлопчатобумажная саржа.
(обратно)41
Заметим, что американцы воспринимают это слово не как синоним паломника, а как переселенца.
(обратно)42
Самая знаменитая ковбойская шляпа работы Джона Стетсона. Кстати, характерными загибами полей «стетсон» обязан не причуде шляпника, а упаковке — чтобы уместить шляпу в коробке, поля её загибали. А ковбои углядели в этом особый шик.
(обратно)43
Известные художники XIX века.
(обратно)44
Буль — мебельный декоративный стиль барокко, названный по имени французского мастера Андре-Шарля Буля, чернодеревца короля Людовика XIV. Буль инкрустировал свои шкафы и комоды золоченой бронзой, черепаховой костью, рогом. Чиппендейл — стиль рококо XVIII века. Т. Чиппендейл сочетал в своих изделиях тонкое изящество и богатую резьбу. Истлейк — мебель машинной работы второй половины XIX века.
(обратно)45
Бонд-стрит — улица элитных бутиков в Лондоне. Название Old («Старая») формально и принадлежит лишь части улицы.
(обратно)46
Модное кафе на Пятой авеню.
(обратно)47
Лампы, изобретенные мастером Гийомом Карселем, в которых масло в горелку нагнеталось с помощью часового механизма.
(обратно)48
Питер Гендерсон держал в то время большой цветочный магазин.
(обратно)49
Русская колония на западном побережье Америки, примерно в 80 км к северу от Сан-Франциско. Основана в 1812 году, в 1841-м форт был продан Джону Саттеру, первопоселенцу из Швейцарии, основавшему в районе нынешнего Сакраменто колонию под названием Новая Гельвеция.
(обратно)50
Реальное историческое лицо — «великоустюжский купеческий сын».
(обратно)51
Столица Русской Америки. Новоархангельск располагался на Аляске, ныне это Ситха.
(обратно)52
Залив нынче зовётся Бодега, а Славянка переименована в Рашен-ривер (Русскую реку).
(обратно)53
Русские в Калифорнии укоренялись крепко, не подстраиваясь под инородцев, а их под себя прогибая. Кажим — это общественное здание у индейцев тлинкитов, что-то вроде мужского клуба; у русских — общежитие промышленных (так называли промысловых рабочих, охотников на морского бобра — калана). Бакеры — это те же вакеро, ковбои на мексиканский манер.
(обратно)54
«Бостонцами» русские поселенцы называли американцев.
(обратно)55
Мамонтовым деревом называли подвид секвойи.
(обратно)56
Курорты в Швейцарии.
(обратно)57
Вальс «На прекрасном голубом Дунае» был написан И. Штраусом в 1866 году.
(обратно)58
К тому времени Трансконтинентальная железная дорога ещё не была достроена, поезда из Нью-Йорка доходили до Абилина, штат Канзас. Канзас-Сити расположен на берегу Миссури.
(обратно)59
1 фут = 30,48 см.
(обратно)60
Стрелков.
(обратно)61
Реальное историческое лицо, один из самых прославленных скотоводов Дикого Запада. Чарльз Гуднайт, родившийся в 1836 году, стал ковбоем и техасским рейнджером, во время Гражданской войны принял сторону южан, хоть и не воевал с северянами, а охранял границу с Мексикой. Уже в 1866 году первым, вместе с Оливером Лавингом, провёл стадо коров из Техаса в Нью-Мексико и Колорадо, проложив тропу Гуднайта — Лавинга. В 1870-м Чарльз женился и основал ранчо на севере Техаса, в каньоне Пало-Дуро, самое большое и богатое в то время.
(обратно)62
Очень даже неплохое предложение. Ковбой в те времена получал 30 долларов в месяц, шериф — 50, управляющий ранчо («сегундо») — 80 долларов.
(обратно)63
Ярд равен трём футам, или 91,4 см. Фут — приблизительно 30 см, или 12 дюймов. Дюйм — 2,54 см.
(обратно)64
Луизиана — французская колония, названная в честь Людовика XIV. Занимала огромную площадь по всей долине Миссисипи, со столицей в Новом Орлеане. При посредничестве Томаса Джефферсона была куплена у Франции и присоединена к США.
(обратно)65
Бурбон — американское виски. Галлон — мера жидкости, приблизительно равная 4,5 литра.
(обратно)66
Четвертак (quarter) — монета в 25 центов.
(обратно)67
360 гранов — это приблизительно 22,5 грамма. 56-й калибр — 0,56 дюйма (14,2 мм).
(обратно)68
Винтовки Спенсера имели размещённый внутри приклада трубчатый магазин с расположением патронов друг за другом по одной продольной оси.
(обратно)69
Путь до Нового Орлеана на пароходе длился 16 дней, билет стоил 16 долларов. До Натчеза, крупного, по тем временам, порта на Миссисипи, было чуть ближе, но всё равно дорога занимала не менее двух недель.
(обратно)70
Алан Пинкертон, американский сыщик и разведчик, основал первое в мире частное сыскное агентство — «Национальное агентство Пинкертона», впервые используя фотографии, подробные описания преступников. Эмблемой агентства стал открытый глаз, а девизом: «Мы никогда не спим».
(обратно)71
Так переводится индейское название «Миси-зииби».
(обратно)72
Гонт — деревянная дощечка вроде черепицы. Вариант тёса.
(обратно)73
«Конкордовские» экипажи производились известной тогда фирмой «Эббот и Даунинг-Конкорд».
(обратно)74
Место на крыше дилижанса.
(обратно)75
Военная академия в США.
(обратно)76
Речь не о «большой» Колорадо, а о реке с тем же названием, протекающей в Техасе.
(обратно)77
Флавий Вегеций — римский военный теоретик и историк IV–V веков. Анри Жомини (1779–1869) — военный теоретик, проводивший идею «вечных» принципов в искусстве ведения войн.
(обратно)78
Ханты и эвенки.
(обратно)79
Дилижансы следовали и днём, и ночью, останавливаясь лишь на двадцать минут, чтобы пассажиры могли перекусить. Лошадей меняли 10–12 раз в сутки, проезжая за сутки 100–125 миль (примерно 160–200 км).
(обратно)80
Городовой — низший чин полиции. Это буквальный перевод на русский слова «полицейский», производного от греческого «полис», что значит «город» (с другой стороны, уездные полицейские звались не городовыми, а стражниками). Исправник — начальник городской полиции. В западных городках США эту должность занимали маршалы. Уездный исправник возглавлял полицию уезда в Российской империи (в США подобную функцию выполнял шериф, хотя такое сравнение не совсем корректно, поскольку шериф является выборным должностным лицом, а уездного исправника сперва избирало дворянство, а затем на этот пост стали назначать).
(обратно)81
Альгаробо — рожковое дерево.
(обратно)82
Сиеста — послеобеденный отдых в странах с жарким климатом. Жители пережидают самый зной в тени, устраивая себе «тихий час» и сдвигая «режим дня» до поздней ночи.
(обратно)83
То есть техасцы — ранее Техас принадлежал Мексике, но в начале XIX века эту новоявленную страну, совсем недавно бывшую Новой Испанией, трясло от политических баталий, поэтому техасцы провозгласили независимость. Мексиканскому диктатору Лопесу де Санта-Анне это не понравилось, и началась война. В марте 1836 года произошла знаменитая оборона форта Аламо, а в апреле техасские части под командованием Сэма Хьюстона разбили мексиканцев у Сан-Хасинто. С. Хьюстон стал первым президентом Республики Техас, в сороковых годах присоединившейся к США.
(обратно)84
Плаза (или плаца) — площадь в западном городке США, посреди которой обычно устанавливался «шест свободы» — флагшток.
(обратно)85
Просторечное сокращение от имени Чарльз.
(обратно)86
Боз Икард, реальное историческое лицо. Помогал Гуднайту с 1866 года и был у того на доверии.
(обратно)87
Сатисфакция — удовлетворение за оскорбление чести, получаемое на дуэли.
(обратно)88
Принятое в южных и западных штатах словечко, заимствованное из испанского. Обозначает мужчину.
(обратно)89
Скотопрогонная дорога, проложенная Джесси Чизхолмом. В 1866 году он проехал из Сан-Антонио в Абилин, преодолев тысячу километров напрямую, через Индейскую Территорию (или Нэйшен, ныне штат Оклахома). Весной следующего года железная дорога дошла до Абилина, и Чизхолм прогнал первое стадо из Техаса в Канзас.
(обратно)90
Испанские имена имеют свои особенности. Как правило, «просто Марией» девочек не называют, в ходу сложные имена, вроде Марии дель Пилар или Марии дель Консуэло, при этом употребляются имена Пилар или Консуэло. Кончита — уменьшительное от Консуэло.
(обратно)91
У испанцев и мексиканцев в ходу две фамилии — отцовская, которую ставят первой, и материнская — вторая. Обращаются к человеку по отцовской, хотя бывают и исключения. Например, Пабло Руис Пикассо известен нам под фамилией матери (вероятно, потому, что она у неё редкая, что для художника важно).
(обратно)92
Фунт — примерно 0,45 кг.
(обратно)93
Кстати, даже в 1873 году джинсы Levi’s стоили 1 доллар 46 центов.
(обратно)94
Именно так можно перевести слово «ковбой».
(обратно)95
Бронк (от исп. bronco — «дикая лошадь») — необъезженный мустанг.
(обратно)96
Седельная скатка — скатка из одеял, привязываемая поперёк седла сразу позади вилки, чтобы помочь всаднику плотнее сидеть в седле; седельная вилка — передняя часть деревянной основы седла, поддерживающая седельный рог.
(обратно)97
Шенкель — часть ноги всадника от колена до щиколотки, обращённая к коню. Дать шенкеля — сильно нажать шенкелями.
(обратно)98
Крытый конный фургон, приспособленный для движения по прерии. Производились неизвестным фабрикантом, изобретшим также сгущённое молоко. За образец были взяты повозки, которыми пользовались голландские переселенцы из Пенсильвании, осевшие в долине Конестога.
(обратно)99
Загон.
(обратно)100
Автору тоже известен «адрес» аллюзии…
(обратно)101
Чапсы (или чаппарахас — чехлы для защиты ног от колючек) бывают двух видов: «двухстволка» — каждая штанина сшита по всей длине ноги; «крылья летучей мыши» — скорее, разрезанный передник, штанина не сшита, а застегивается на ноге ремешками. Чапсы второго типа распространены гораздо шире, поскольку их можно надевать, не снимая шпор.
(обратно)102
Река в центральном Техасе, впадает в Мексиканский залив.
(обратно)103
«Техас» созвучен слову «тухес» (на идиш — «задница»).
(обратно)104
Музыкальный треугольник, триангль — ударный инструмент. Ковбои любили использовать его как гонг.
(обратно)105
Грулла (или грулья) — «серый журавль» (исп.); так на юго-западе США называют лошадей мышастой масти.
(обратно)106
Порода коров, отличавшихся длинными рогами.
(обратно)107
Традиционное название кладбища в западном городке. Существует версия, что словосочетание Boot Hill («Сапожный холм») связано с тем, что покойников хоронили, не сняв сапог. Или будущие мертвяки умирали, не разувшись?..
(обратно)108
Мишпуха — семья, компания.
(обратно)109
Бушель — мера сыпучих товаров, приблизительно 35,2 литра (куб. дециметров).
(обратно)110
Это был стандартный набор продуктов на одного взрослого переселенца.
(обратно)111
Ещё в начале 1860-х годов Джон Боузмен проложил тропу своего имени на золотые прииски Монтаны через земли индейцев дакота (сиу). Три года спустя по землям дакота, шайеннов и арапахо протянули ещё одну дорогу — Боузменский тракт, соединивший шахтёрские городки Западной Монтаны с Орегонским путём. Вождь оглала Красное Облако возглавил «движение Сопротивления». В декабре 1866-го воины вождя по имени Неистовый Конь перебили отряд капитана Феттермана, а летом 1867-го Красное Облако вовсю теснил белых в районе реки Паудер. Осенью 1868-го бледнолицым пришлось заключить мир с краснокожими.
(обратно)112
Старый Запад (Old West) — то же самое, что и Дикий Запад (Wild West). Так называлась территория Америки, которая постепенно осваивалась и чья граница (фронтир) последовательно отдалялась в сторону Тихого океана.
(обратно)113
Капитана, то есть начальника каравана, выбирали сами переселенцы. Должность эта была хлопотная, и не все с нею справлялись.
(обратно)114
Прозвища трейдеров на бирже: «быки» играют на повышение, «медведи» — на понижение.
(обратно)115
Пони, или пинто, — индейские лошади.
(обратно)116
Травуа — индейская волокуша из двух шестов, которую тащила за собой лошадь. На травуа перевозили раненых или разобранные типи (жилища, подобные чумам, — из жердей, укрытых шкурами).
(обратно)117
Бекицер — быстро (идиш).
(обратно)118
Цикавая — интересная (укр.).
(обратно)119
Гембель — неприятная обязанность, трудновыполнимое обязательство.
(обратно)120
Так тогда называли Гавайи.
(обратно)121
Новороссийск (или Славороссия) — крепость на юге Аляски, у залива Якутат.
(обратно)122
Из проектов конституции декабристов Н. Муравьёва и П. Пестеля.
(обратно)123
Это предложение выдвинул К. Рылеев.
(обратно)124
К началу XIX века Россия владела не только Аляской. Её колонии возникли в Калифорнии, тогда ещё испанской, и на Гавайских островах. К сожалению, политика самодержавия не позволила этим анклавам расширить границы, чтобы слиться в единую Русскую Америку.
(обратно)125
Бакборд — лёгкая четырёхколесная повозка, кузов которой опирается на оси через длинные упругие доски (вместо рессор); на платформе имеется сиденье для кучера и низкие борта из металлических прутьев, к которым привязывают груз; на бакбордах ездили ранчеро, сельские почтальоны, врачи, торговцы и т. п.
(обратно)126
Так переводится «Форт-Росс». Ныне в Форт-Россе практически не осталось зданий того времени — землетрясение и пожар сделали своё дело. Реконструкцию американцы сделали на свой манер, весьма далёкий от русских обычаев.
(обратно)127
Лёгкие промысловые суда. Русские байдары достигали десяти шагов в длину, поднимая 200 пудов груза и девятерых промысловиков.
(обратно)128
Серапе — ярко раскрашенное шерстяное одеяло, используемое в качестве накидки.
(обратно)129
Грубое испанское ругательство.
(обратно)130
Дон Антонио Суноль — реальное историческое лицо. Гринго — так в Мексике презрительно называют американцев.
(обратно)131
Реальное историческое лицо.
(обратно)132
Так русские называли Джона Саттера (Иоганна-Августа Зуттера), купившего Форт-Росс. В 1848 году у лесопилки Саттера нашли первое золото в Калифорнии.
(обратно)133
Текс — это не имя, а прозвище, означает «техасец».
(обратно)134
Обычная зарплата ковбоя составляла 30 долларов в месяц.
(обратно)135
Memento mori — помни о смерти (лат.).
(обратно)136
Зубцами. На такое «архитектурное излишество» в Новой Испании могли претендовать только выходцы из знатных родов.
(обратно)137
Агицин паровоз, правильнее: «а гиц ин паровоз» (идиш) — буквально: «жара в паровозе».
(обратно)138
Многие пуэбло культур анасази или могольон были покинуты после XI века, когда над Америкой разразилась Великая засуха, длившаяся 300 лет. После чего кочевые племена перебили цивилизованных обитателей пуэбло, и прогресс замер навек.
(обратно)139
Гэпнуть — ударить с размаха (укр.).
(обратно)140
Русские называли креолами детей от русского отца и туземной женщины.
(обратно)141
Новая Испания — испанская колония в Северной Америке, столица — Мехико (бывший Теночтитлан).
(обратно)142
Малинче стала переводчицей и наложницей Кортеса.
(обратно)143
Сейчас — штат.
(обратно)144
Здесь — статутная миля, которой пользовались тогда да и теперь в Америке. 1 миля = 1760 ярдов = 5280 футов = 1609,3 м.
(обратно)145
Выигрышная комбинация в покере.
(обратно)146
Егор Леонтьевич Черных — реальное историческое лицо, основал «Новую ранчу» (она также называлась «Равнина Черных»), расположенную дальше других от Форт-Росса.
(обратно)147
Джей Гулд — один из богатейших людей того времени, вышедший с самых низов. Сделал состояние на строительстве железных дорог. За жёсткий стиль в бизнесе получил прозвище «барона-разбойника».
(обратно)148
Пако — уменьшительное от Франческо.
(обратно)149
Тойон — вождь.
(обратно)150
Бобровое море — русское название моря Берингова.
(обратно)151
Мансы — сомнительные россказни. Бейц — яйцо (идиш).
(обратно)152
Михайловская крепость на острове Ситка была сожжена в 1802 году, во время войны с индейцами. На её месте был выстроен Новоархангельск, ставший столицей Русской Америки.
(обратно)153
Vaya con Dios! — Поехали с Богом! (исп.)
(обратно)154
Порт в Мексике, на восточном берегу Калифорнийского залива.
(обратно)155
Рост Б. Хуареса составлял 135 см.
(обратно)156
Теночки (ударение на «о») — самоназвание ацтеков.
(обратно)157
Лобо — волк (исп.).
(обратно)158
Технология производства мескаля такая же, как и у текилы. Но, в отличие от неё, мескаль имеет более яркий вкус и аромат.
(обратно)159
Штольня — горизонтальная горная выработка, имеющая выход на поверхность. Штреки выхода этого не имеют, служа для добычи руды и её транспортировки.
(обратно)160
Интересное выражение, наверняка перенятое Фёдором у друзей-одесситов. «Последним» в синагоге называли человека третьесортного, завалящего. Оттого и вопрос к очереди «Кто последний?» звучал иначе: «Кто крайний?»
(обратно)161
Более 70 см.
(обратно)162
Пульке — традиционный мексиканский напиток из перебродившего сока агавы крепостью 4–6 %.
(обратно)163
«У» и «йот» — названия букв, с которых начинаются имена Уве и Йорген.
(обратно)164
Каюрами индейцы-тлинкиты (и не только они) называли рабов.
(обратно)165
Деревянные семейные дома у тлинкитов.
(обратно)166
Одна тонкость — в те времена в ходу было такое, к примеру, словосочетание — «товарищ министра». В наших понятиях — это «заместитель».
(обратно)167
Презрительное прозвище мексиканцев.
(обратно)168
Asta la vista, amigo — до свидания, друг (исп.).
(обратно)169
Руралы (исп. руралес) — полиция сельской местности Мексики.
(обратно)170
Полное название Лос-Анджелеса, данное испанцами, звучит так: El Pueblo de Nuestra Senora la Reina de los Angeles sobre El Rio Porsiuncula («Селение Девы Марии, Царицы Ангелов, на реке Порсьюнкула»).
(обратно)171
Моя земля, моё небо (кит.).
(обратно)172
Поговорка того времени.
(обратно)173
Пекос является притоком Рио-Гранде (с американской стороны).
(обратно)174
Сагуаро высотой в 15 метров весит более семи тонн.
(обратно)175
Нож был назван в честь своего изобретателя, полковника Боуи, героя войны с Мексикой. Для «боуи» характерна ручка с гардой, а также изогнутый клинок («щучка»).
(обратно)176
Отель «Виндзор» более известен, но он возник лишь в 1880 году.
(обратно)177
Гангрену.
(обратно)178
Нефтяную компанию «Стандард ойл» Д. Рокфеллер основал в 1870 году, но нефтью занимался с 1859-го.
(обратно)179
Основной состав рабочих-путейцев. И ирландцы, и китайцы готовы были работать за один доллар в день.
(обратно)180
В сентябре.
(обратно)
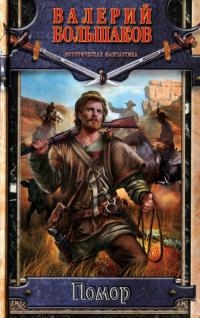



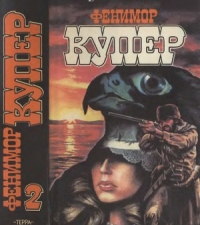
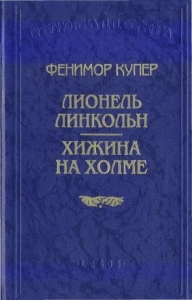

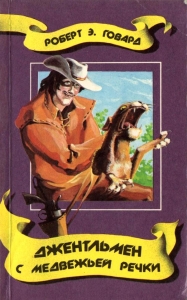

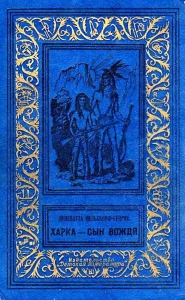
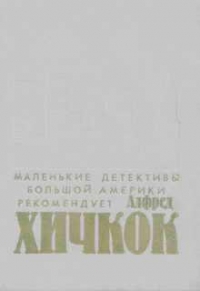
Комментарии к книге «Помор», Валерий Петрович Большаков
Всего 0 комментариев