ДЖЕК ЛОНДОН «СИЛА СИЛЬНЫХ» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)
Сила сильных
Притчи не лгут, но лгуны говорят притчами.
Лип-Кинг
Длиннобородый умолк, облизал сальные пальцы и вытер их о колени, едва прикрытые потрепанной медвежьей шкурой. Около старика на корточках сидели трое парней, его внуки: Быстроногий Олень, Желтоголовый и Боящийся Темноты. Они были похожи друг на друга — худые, нескладные, узкобедрые, кривоногие и в то же время широкие в груди, тяжелоплечие, с огромными руками; на всех троих болтались шкуры каких-то диких зверей. Грудь, плечи, руки и ноги обросли густой растительностью. Спутанные волосы на голове то и дело космами спадали на черные, точно бусинки, по-птичьи блестящие глаза. Сходство дополняли узкие лбы, широкие скулы и тяжелые, выдвинутые вперед подбородки.
Ночь стояла такая звездная, что видно было, как гряда за грядой тянулись, покуда хватал глаз, покрытые лесами холмы. Где-то далеко плясали на небе отсветы извергающегося вулкана. Позади людей чернело отверстие пещеры — оттуда тянуло холодком. Подле ярко пылающего костра лежали остатки медвежьей туши, а на приличном расстоянии припали к земле огромные, косматые, волчьего обличья, псы. Под рукой у каждого из сидевших вокруг костра были лук, стрелы и увесистая дубинка. Прислоненные к скале у входа в пещеру стояли грубые копья.
— Вот так мы и покинули пещеры и стали жить на деревьях, — снова заговорил Длиннобородый.
Внуки неудержимо, по-детски рассмеялись над только что услышанным рассказом. Хохотнул и Длиннобородый, и пятидюймовая костяная игла, продетая сквозь хрящ в носу, нелепо затряслась, запрыгала, придавая его физиономии еще большую свирепость. Старик не произнес этих слов, но животные звуки, которые он издал губами, обозначали то же самое.
— Это первое, что я помню о Приморской Долине, — продолжал Длиннобородый. — Да, мы были глупы. Мы не знали, в чем секрет силы. Ведь каждая семья жила сама по себе и заботилась только о себе. Тридцать семей в племени, а силы нашей не прибывало. Мы боялись друг друга, не ходили в гости. Мы построили шалаши на деревьях, а снаружи, у входа, держали груду камней, которыми встречали тех, кто приходил к нам. К тому же у нас были копья и стрелы. Никто не осмеливался пройти под деревом, принадлежащим чужой семье. Мой брат как-то сделал это, и старый Бу-уг проломил ему череп, и брат умер.
Бу-уг был очень сильный. Говорят, что он мог оторвать человеку голову. Я не слышал, чтобы он оторвал кому-нибудь голову, потому что все боялись его и прятались подальше. И отец мой боялся. Однажды, когда отец был на берегу. Бу-уг погнался за матерью. Она не могла бежать быстро, потому что накануне в горах мы собирали ягоды и медведь порвал ей ногу. Бу-уг поймал ее и потащил к себе на дерево. Отец не решился сделать так, чтобы она вернулась. Он испугался Бу-уга. А тот сидел на дереве и корчил ему рожи.
Отец не очень горевал. Жил среди нас еще один сильный человек. Крепкая Рука. Он умел хорошо ловить рыбу. Как-то Крепкая Рука полез за птичьими яйцами и сорвался с утеса. После этого он потерял свою силу. Стал подолгу кашлять, спина у него согнулась. Тогда отец взял жену Крепкой Руки. Тот пришел к нам под дерево и кашлял, а отец смеялся и бросал в него камнями. Таковы были обычаи в те времена. Мы не знали, как соединить нашу силу и сделаться по-настоящему сильными.
— Неужели и брат отнимал жену у брата? — подивился Быстроногий Олень.
— Да, отнимал, когда решал жить отдельно, на собственном дереве.
— А у нас так не делается, — сказал Боящийся Темноты.
— Потому что я научил кое-чему ваших отцов. — Длиннобородый засунул волосатую руку в медвежью тушу, вытащил пригоршню нутряного сала и стал задумчиво сосать его. Потом обтер пальцы и продолжал: — То, о чем я рассказываю, происходило очень давно, когда мы не все понимали.
— Нужно быть глупцом, чтобы не все понимать, — заметил Быстроногий Олень.
И Желтоголовый одобрительно заворчал.
— Верно, я расскажу, как потом мы стали еще большими глупцами. И все-таки в конце концов мы кое-чему научились. Вот как это случилось.
Мы, рыбоеды, не умели тогда соединять нашу силу так, чтобы сила племени была силой всех нас. А вот за перевалом, в Большой Долине, жили мясоеды. Они стояли друг за друга, вместе охотились, ловили рыбу, вместе воевали. И вот они пошли на нас. Каждая семья забилась в свою пещеру, попряталась на деревьях. Мясоедов было всего десять человек, но они сражались вместе, а мы каждый за себя.
Длиннобородый долго и старательно считал на пальцах.
— У нас было шестьдесят человек, — объяснил он наконец жестами и звуками. — Мы были сильны, но не знали этого. Мы видели, как мясоеды карабкались на дерево Бу-уга. Он хорошо дрался, но что он мог сделать в одиночку? Ведь остальные просто смотрели. Когда несколько мясоедов полезли на дерево, Бу-уг вынужден был высунуться из шалаша, чтоб сбросить на них камни. Другие только того и ждали: засыпали его стрелами. Так пришел конец Бу-угу.
Потом мясоеды принялись за Одноглазого, который вместе с семьей забился в пещеру. Они разложили у входа костер и стали выкуривать их точно так же, как мы сегодня выкурили из берлоги медведя. Потом мясоеды побежали к дереву Шестипалого, и пока они расправлялись с ним и с его взрослым сыном, мы кинулись прочь. Но мясоеды поймали нескольких наших женщин, убили двух стариков, которые не могли бежать быстро, и кое-кого из детей. Женщин они увели с собой, в Большую Долину.
Когда те, кто уцелел, вернулись, решено было созвать совет. Так решили, наверное, потому, что все были напуганы и поняли, как нужны друг другу. Да, мы держали совет, наш первый настоящий совет. И на том совете договорились создать племя. Урок пошел нам на пользу. Каждый из десяти мясоедов сражался за десятерых, потому что все десять сражались заодно. Они соединили свои силы. А у нас тридцать семей — шестьдесят человек — обладали силой лишь одного человека, потому что каждый сражался в одиночку.
Мы совещались долго, нам было трудно договориться, ибо мы не пользовались словами, как теперь. Потом, много лет спустя, человек по имени Гнида придумал несколько слов, потом другие тоже. Но в конце концов мы все-таки договорились соединить наши силы и быть заодно, когда мясоеды снова надумают прийти из-за перевала и похитить наших женщин. Так было создано племя.
Мы поставили двух мужчин поочередно днем и ночью дежурить на перевале, чтобы предупредить нас, если придут мясоеды. Они стали глазами племени. Кроме того, племя назначило десять человек, которые должны были всегда иметь при себе дубинки, копья и стрелы и быть готовыми отразить нападение. Прежде, отправляясь ловить рыбу, собирать моллюсков или птичьи яйца, человек брал с собой оружие. Половину времени он собирал пищу, а половину следил, как бы на него не напал кто-нибудь. Теперь дела пошли по-иному. Мужчины уходили без оружия, чтобы без опаски, не отвлекаясь, добывать пищу. Когда в горы за кореньями или ягодами отправлялись женщины, их сопровождали пять воинов. А на перевале дни и ночи напролет глаза племени следили за врагом.
Но потом начались раздоры. И как всегда, из-за женщин. Холостые мужчины пытались отнять чужих жен, и часто случались драки — то размозжат кому-нибудь голову, то проткнут копьем. Пока один из стражей дежурил на перевале, у него похитили жену, и он прибежал, чтобы отбить ее. За ним пришел и второй страж, опасаясь за свою жену. Произошла ссора и среди тех десяти воинов, которые всегда Носили при себе оружие; разделившись пополам, они сражались друг против друга, пока пятеро из них под натиском соперников не отступили к берегу.
Так племя лишилось глаз и воинов. У нас уже не было силы шестидесяти человек. У нас совсем не было силы. Тогда мы еще раз созвали совет и установили первые законы. Я в то время был юнцом, но я помню. Мы порешили, что не должны сражаться между собой, если хотим быть сильными, и что племя будет сурово расправляться с тем, кто убьет человека. По другому закону племя получало право сурово карать того, кто похитит чужую жену. Мы установили, что, если человек, обладающий большой силой, обижает братьев по племени, остальные обязаны лишить его силы. Если позволить ему, пользуясь силой, обижать других, то людей охватит страх, и племя распадется, и мы снова станем такими же слабыми, как в первое нашествие мясоедов, когда убили Бу-уга.
Жил среди нас сильный человек по имени Голень, очень сильный человек, который не признавал закона. Он полагался только на свою силу и потому забрал жену у Трехстворчатой Раковины. Тот стал было драться, но Голень раздробил ему череп. Однако Голень забыл, что, решив соблюдать закон, люди соединили свои силы, и племя убило его, а тело повесили на суке его собственного дерева в знак того, что закон сильнее любого человека. Мы все были законом, и нет никого, кто был бы могущественнее закона.
Случались и иные беспорядки, ибо знайте, о Быстроногий Олень, Желтоголовый и Боящийся Темноты, — нелегко создать племя. И было много всяких споров, порой мелочей, которые следовало уладить. А чего стоило собрать всех на совет! Мы совещались утром и днем, вечером и ночью. У нас не оставалось времени добывать пищу, потому что вечно возникали какие-нибудь дела: то назначить на перевал новых стражей, то решить, какую долю добычи отдавать тем, кто всегда носил при себе оружие и не мог поэтому добывать пищу.
Чтобы все уладить, нужен был старший, который стал бы голосом совета и отчитывался перед ним. Мы выбрали Фит-фита. Он был сильный и хитрый, а когда сердился, делал ртом «фит-фит», словно дикая кошка.
Тем десяти, которые охраняли племя, поручили навалить стену из камней в самой узкой части долины. Им помогали женщины, подростки и даже мужчины, пока стена не стала совсем крепкой. Люди покинули свои пещеры, спустились с деревьев и построили хижины под прикрытием стены. Большие хижины удобнее, чем пещеры и шалаши на деревьях, и жить стало лучше, ибо все соединили свои силы и образовали племя. Благодаря стене, воинам и стражам у племени оставалось больше времени охотиться, ловить рыбу, собирать коренья и ягоды. Было вдоволь хорошей пищи, никто не голодал. А Трехногий — его прозвали так потому, что в детстве ему перебили ноги и он ковылял с палкой, — так вот. Трехногий набрал семян дикой кукурузы и посеял их возле дома в долине. Потом он посадил корнеплоды и всякие другие растения, которые нашел в горах.
Благодаря построенной нами стене, нашим воинам и стражам мы чувствовали себя в Приморской Долине в полной безопасности, и никто не дрался из-за еды, потому что ее хватало на всех. К нам стали приходить целыми семьями из других племен в соседних долинах, а также из-за гор, где люди жили, как животные. И вскорости в Приморской Долине поселилось так много народу, что не сосчитать семей. Но еще до того кто-то надумал поделить землю, которая прежде была общей и принадлежала всем. Пример показал Трехногий, когда посадил кукурузу. Большинство, однако, не заботилось о земле. Мы считали глупым ограждать камнями участки. Пищи было вдоволь, а что еще человеку нужно? Помню, как мы с отцом делали ограду для Трехногого, и он дал нам взамен кукурузы.
Так и получилось, что землю захватили немногие, и больше всех Трехногий. Некоторым очень хотелось получить участки, и те, у кого была земля, отдавали ее за кукурузу, вкусные коренья, медвежьи шкуры и рыбу, которую земледельцы выменивали у рыбаков. Словом, не успели мы оглянуться, как свободной земли не осталось.
В то приблизительно время умер Фит-фит, и вождем выбрали его сына. Собачьего Клыка. Он сам потребовал, чтобы его сделали вождем. Он даже считал себя более мудрым вождем, чем отец. И в самом деле, поначалу он был хорошим вождем, много старался, так что совету постепенно нечего стало делать. Тут выплыл еще один, Кривогубый, и стал важным человеком в Приморской Долине. Мы никогда не замечали за ним каких-нибудь особых достоинств, пока он не объявил, что умеет разговаривать с тенями умерших. После мы прозвали его Жирным, потому что он не работал, много ел и стал большим и толстым. Жирный объявил, что только ему ведомы тайны смерти, что он слышит голос бога. Он заделался дружком Собачьего Клыка, и тот приказал построить Жирному большую хижину. Жирный наложил на хижину табу и держал там бога.
Собачий Клык понемногу прибирал к рукам дела совета, а когда в племени стали роптать, угрожая, что назначат другого вождя. Жирный посоветовался с богом и сказал, будто это противно воле божьей. Вождя поддерживал Трехногий и другие владельцы земли. Они подговорили самого сильного в совете. Морского Льва, и втихомолку дали ему земли, множество медвежьих шкур и несколько корзин кукурузы. И тогда Морской Лев сказал, что устами Жирного глаголет бог и что мы должны ему подчиняться. Скоро Морского Льва назначили помощником Собачьего Клыка, и он говорил от имени вождя.
А еще был в племени Пустой Живот, низенький и такой тонкий посередине, как будто никогда не ел досыта. В устье реки, там, где отмель гасила волны, он устроил большую вершу. Никто до него не додумался ловить рыбу вершей. Он делал ее несколько недель подряд, ему помогали жена и дети, а мы потешались над его затеей. Но когда все было готово, он в первый же день наловил столько рыбы, сколько не удавалось целому племени за неделю, и мы веселились такой удаче. На реке оказалось другое подходящее для верши место, и мы с отцом и еще человек десять решили последовать примеру Пустого Живота. Но из большой хижины, выстроенной для Собачьего Клыка, прибежали стражники. Они принялись колоть нас копьями и приказали убираться вон, потому что Пустой Живот по разрешению Морского Льва, который был подголоском Собачьего Клыка, сам задумал поставить там вершу.
Поднялся ропот, и мой отец потребовал созвать совет. Но когда он поднялся, чтобы говорить, Морской Лев проткнул ему горло копьем, и отец умер. А Собачий Клык, Пустой Живот, Трехногий и все, кто владел землей, сказали, что так надо. Жирный поддакнул: такова, дескать, воля господня. После этого люди боялись говорить в совете, и совет распался.
А был такой — звали его Свиное Рыло, — который надумал разводить коз. Он узнал, что так делают мясоеды, и скоро козы ходили у него стадами. Те, у кого не было ни земли, ни вершей, нанимались к Свиному Рылу, чтобы заработать еду, — они ходили за козами, охраняли их от волков и тигров, гоняли на пастбища в горы. За это он давал им козлиное мясо и шкуры прикрывать тело, а они нередко меняли козлятину на рыбу, кукурузу и коренья.
В то время как раз и появились деньги. Выдумал их Морской Лев, посоветовавшись с Собачьим Клыком и Жирным. Дело в том, что эта троица имела долю во всем, что добывалось в Приморской Долине. Из каждых трех корзин кукурузы одну отдавали им. То же самое с рыбой и козами. Они кормили воинов и стражей, а остальное забирали себе. Иногда после большого улова они не знали, что делать со своей долей. И вот Морской Лев заставил женщин изготавливать из ракушек деньги — маленькие круглые пластинки, гладкие, красивые, с отверстием посередине. Пластинки нанизывали на нитки, и эти нитки стали называть деньгами.
За одну нитку давали тридцать или сорок рыб, а женщинам, которые делали по нитке в день, давали по две рыбины каждой из доли Собачьего Клыка, Жирного и Морского Льва, которую они не могли съесть. Поэтому все деньги принадлежали им. Потом они сказали Трехногому и другим землевладельцам, что будут брать свою долю кукурузы и корнеплодов деньгами; Пустому Животу тоже сказали, что долю рыбы будут брать деньгами, а Свиному Рылу сказали, что будут брать свою долю коз и сыра деньгами. Так получилось, что человек, у которого ничего не было, вынужден был работать на того, кто чем-то владел, и ему платили деньгами. На них он покупал кукурузу, рыбу, мясо и сыр. А Трехногий и другие богатей давали Собачьему Клыку, Морскому Льву и Жирному их долю деньгами. Эти трое платили деньги воинам и стражам, а те на деньги покупали еду. А поскольку деньги были дешевы, Собачий Клык многих сделал своими воинами. Деньги нетрудно было изготовить, и некоторые попытались сами делать пластинки из раковин. Но стражники били их копьями и засыпали стрелами, утверждая, что те, кто делает деньги, стараются подорвать могущество племени. А подрывать могущество племени нельзя, ибо тогда придут из-за гор мясоеды и всех перебьют.
Жирный толковал волю бога, но потом он призвал Сломанное Ребро и сделал его жрецом, чтобы тот толковал его. Жирного, собственную волю и держал вместо него речи. И оба заставили других служить им. Также поступил и Пустой Живот, и Трехногий, и Свиное Рыло — подле их хижин постоянно валялись на солнышке какие-то бездельники, которых они посылали с разными поручениями. Таким образом, все больше и больше людей отрывали от работы, а остальным приходилось трудиться тяжелее, чем прежде. Оказалось, что иные не хотят работать и ищут способа, как заставить других работать на них. Один, по прозвищу Кривой, нашел такой способ. Он первым приготовил из кукурузы огненный напиток. И после он уже не работал, так как втихомолку сговорился с Собачьим Клыком, Жирным и другими хозяевами, что он будет единственным, кому разрешено делать огненный напиток. Но Кривой сам-то ничего не делал. За него работали другие, а он платил им деньги. Потом он продавал напиток, и люди охотно покупали. А сколько ниток денег он передал Собачьему Клику, Морскому Льву и прочим — не счесть!
Когда Собачий Клык решил взять вторую жену, а потом и третью, его, конечно, поддержали Жирный и Сломанное Ребро. Они сказали, что Собачий Клык не такой, как все, и что над ним — только бог, которого Жирный прятал в своем закрытом доме. Собачий Клык подтвердил их слова и сказал, что хотел бы знать, кто недоволен тем, что у него много жен. И еще Собачьему Клыку сделали большую лодку, и ради этого он оторвал много людей от работы: они подолгу болтались без дела и, лишь когда он решал выехать на лодке, садились за весла. Кроме того, он назначил Тигриную Морду начальником над стражниками, и тот стал правой рукой вождя и убивал людей, которые пришлись вождю не по сердцу. Тигриная Морда, в свою очередь, назначил себе помощника, и тот стал правой рукой начальника и убивал людей, которые пришлись начальнику не по сердцу.
И вот что странно: чем тяжелее становилась работа, тем меньше мы получали еды.
— Однако у вас были козы и кукуруза, корнеплоды и верши для рыбы, — возразил Боящийся Темноты. — Вы работали и не могли добыть себе пищу?
— Почему же, конечно, могли, — согласился Длиннобородый. — Три человека ловили вершей больше рыбы, чем все племя прежде, когда мы не знали вершей. Но разве я не сказал вам, что мы были глупцами? Чем больше пищи мы научились добывать, тем меньше мы ели.
— И вы не понимали, что все поедали те, кто не работал? — спросил Желтоголовый.
Длиннобородый печально покачал головой.
— Собаки у вождя отяжелели от мяса, и люди, которые не работали и валялись на солнце, заплыли жиром, в то время как маленькие дети плакали от голода и не могли уснуть.
Подавленный страшной картиной голода, Быстроногий Олень оторвал от туши кусок мяса и, наколов на палку, обжарил его на угольях. С аппетитом, громко причмокивая, он съел мясо. Длиннобородый продолжал:
— Когда мы начинали роптать, вставал Жирный и говорил, будто бог повелел избранным владеть землей и козами, рыбными вершами и огненным напитком, что без таких мудрых людей мы превратились бы в диких зверей — как в те времена, когда мы жили на деревьях.
За ним вставал бард, что был при Собачьем Клыке. Его прозвали Гнидой — такой маленький, уродливый, скрюченный, не умел ни работать, ни воевать. Но он любил сочные мозговые кости, вкусную рыбу, парное козье молоко, свежие побеги молодой кукурузы и удобное место у очага. Он стал слагать песни в честь вождя — сумел ничего не делать и быть сытым. А когда люди начинали роптать, иные даже забрасывали камнями дом вождя, он затягивал песню о том, как хорошо быть рыбоедом. Он пел, что мы избранники божьи и самые счастливые люди на земле. Он называл мясоедов хищными воронами и грязными свиньями и призывал нас сражаться и доблестно умирать, выполняя волю господню, который повелел уничтожать мясоедов. От той песни в сердце у нас вспыхивал пламень, мы требовали, чтобы нас вели на мясоедов. Мы забывали б голоде, забывали о своем недовольстве и с криками шли за Тигриной Мордой через перевал, били мясоедов и радовались победе.
Но ничто не менялось от этого в Приморской Долине. Единственно, нанимаясь в батраки к Трехногому, Пустому Животу или Жирному, можно было прокормить себя — ведь незанятой земли, где бы человек мог выращивать для себя кукурузу, больше не оставалось. Часто у Трехногого и его друзей не хватало на всех работы. Тогда люди голодали, голодали их жены, дети и старые матери. Тигриная Морда объявил, что желающие могут стать стражниками, и многие соглашались и после ничем не занимались, кроме как колотили копьями тех, кто работал и ворчал, что приходится кормить столько бездельников.
Когда люди начинали роптать, Гнида пел песни. Он пел о том, что Трехногий, Свиное Рыло и остальные — сильные и мудрые вожди, и потому все принадлежит им. Мы должны гордиться ими, говорилось в песне, и благодарить судьбу. Не будь их, мы погибли бы от собственного ничтожества и от руки мясоедов. Поэтому мы должны быть счастливы, отдавая все, что они пожелают. Жирный, Свиное Рыло и Тигриная Морда довольно кивали головой.
«Тогда я тоже буду сильным», — заявил однажды Длиннозубый.
Он собрал кукурузы, наварил огненного напитка и начал продавать его за нитки денег. Кривой стал кричать, что у Длиннозубого нет на это права. А тот сказал, что он тоже сильный, и пообещал размозжить Кривому голову, если он поднимет шум. Кривой испугался и побежал к Трехногому и Свиному Рылу. Потом втроем они пошли к Собачьему Клыку. Тот призвал к себе Морского Льва, а Морской Лев отправил гонца к Тигриной Морде. Тигриная Морда послал стражников, и те сожгли дом Длиннозубого вместе с огненным напитком, который он наварил. Жирный сказал, что это справедливо, а Гнида пел новую песню о том, что следует блюсти закон, что Приморская Долина — самое прекрасное место на свете и каждый, кто любит ее, должен идти уничтожать злых мясоедов. У нас в сердце снова вспыхивало пламя, и мы забывали свой гнев.
Странные дела творились в долине. Когда у Пустого Живота случался хороший улов и приходилось за небольшие деньги отдавать много рыбы, он бросал ее обратно в море, чтобы за оставшуюся часть получить больше денег. Иногда Трехногий даже не засевал свои огромные поля, чтобы выручить за кукурузу побольше. Женщины делали много-много пластинок из раковин, потому что требовалась уйма денег, чтобы купить что-нибудь. Тогда Собачий Клык запретил изготавливать пластинки. Женщины остались без работы, их стали нанимать на место мужчин. Я вот, помню, ловил рыбу вершей и получал нитку денег каждые пять дней. Пришла сестра, ей стали давать нитку за десять дней. Труд женщин обходился дешевле, да и еды им требовалось меньше. «А мужчины должны поступать в стражники», — заявил Тигриная Морда. Я-то не мог стать стражником: с детства прихрамывал на одну ногу, и начальник не взял бы меня. Много было таких, как я. Мы, убогие, могли только клянчить работу или ходить за детишками, пока женщины были заняты.
Желтоголовый тоже захотел есть и обжарил на угольях кусок медвежатины.
— Почему же вы не восстали, не перебили их — Трехногого, Свиное Рыло, Жирного и всех остальных? — удивленно спросил Боящийся Темноты. — Тогда у вас была бы пища.
— Мы не понимали этого, — отвечал Длиннобородый. — Забот всяких по горло, да потом эти стражники с копьями, и болтовня Жирного насчет бога, и Гнида со своими песнями. А когда кто-нибудь начинал задумываться и делиться мыслями с другими, его забирали стражники Тигриной Морды, привязывали к скале у самой воды, и он погибал во время прилива.
Непонятная это штука — деньги! Точно те песни, что пел Гнида. Чем больше их, тем, казалось, лучше, а выходило наоборот. Мы долго не могли взять в толк, в чем тут дело. А Собачий Клык — так тот начал копить деньги. Он собирал их в груду в особом доме, и стражники охраняли этот дом денно и нощно. И чем больше там набиралось денег, тем они становились дороже, и приходилось дольше работать за нитку пластинок. Да еще все время говорили о войне с мясоедами, и Собачий Клык с Тигриной Мордой набивали свои хижины зерном, вяленой рыбой, копченой козлятиной и сыром. Столько всяких запасов понаделали, а людям в горах не хватало еды. И что вы думаете? Как только люди начинали громко роптать. Гнида затягивал новую песню. Жирный говорил, что бог повелел уничтожить мясоедов, а Тигриная Морда снова вел нас через перевал убивать и умирать. Я не годился в воины, которые толстели, валяясь на солнце, но когда объявляли войну, Тигриная Морда брал меня вместе с остальными. Мы сражались до тех пор, пока не выходили запасы еды. Тогда мы возвращались и принимались снова работать и заготовлять пишу.
— Какие-то ненормальные вы были! — изрек Быстроногий Олень.
— И вправду ненормальные, — согласился Длиннобородый. — Мы ничего не понимали, ровным счетом ничего. Раздробленный Нос твердил, что все устроено несправедливо и плохо. Верно, мы стали сильными лишь тогда, когда соединили силы, говорил он. Справедливо было и то, что в племени стали лишать силы тех, кто обижал и задирал других, кто отнимал у братьев жен и убивал соседей. Но теперь племя не набирает силы, а слабеет, говорил он, потому что появились люди с иной силой, они вредят племени. Это Трехногий, за которым сила земли, это Пустой Живот, за которым сила рыболовной верши. Свиное Рыло, за которым сила козьего мяса. Надо лишить их злой силы, говорил Раздробленный Нос, надо заставить таких людей работать и установить: кто не работает, тот не ест.
А Гнида уже пел о таких, как Раздробленный Нос: они, дескать, тянут назад, жить на деревьях.
Нет, отвечал Раздробленный Нос, нет, он не тянет назад, он хочет идти вперед. Мы стали сильными тогда, когда соединили свои силы. Если рыбоеды соединят свою силу с силой мясоедов, не будет ни сражений, ни воинов, ни стражей, все станут трудиться, и будет так много еды, что каждому придется работать не больше двух часов в день.
Но Гнида в песнях своих твердил, что Раздробленный Hoc — лентяй. Он сочинил какую-то коварную «Песнь о пчелах», и те, кто слушал ее, теряли рассудок, как от крепкого огненного напитка. В песне рассказывалось о трудолюбивом пчелином рое и разбойной осе, которая таскала из сот мед. Оса была ленивая, она жужжала, что работа ни к чему и выгоднее подружиться с медведями, ибо они добрые и не таскают мед. Хотя Гнида говорил обиняками, все понимали, что пчелиный рой — это наше племя в Приморской Долине, медведи
— мясоеды, а ленивая пчела — Раздробленный Нос. Гнида пел, что пчелы послушались осу и рой начал погибать, и тут люди невольно заворчали, у них сжимались кулаки. А когда он запел про то, как пчелы поднялись и зажалили осу до смерти, люди набрали камней и принялись забрасывать ими Раздробленного Носа. Тот упал, а они бросали и бросали, пока не завалили его грудой камней. И среди тех, кто бросал тогда камни, были самые что ни на есть бедняки, которые тяжко трудились, но никогда не ели досыта.
После смерти Раздробленного Носа нашелся лишь один, кто не боялся встать и высказать то, что он думает. То был Волосатый. «Куда девалась сила сильных? — вопрошал он. — Мы сильные, вместе мы сильнее Собачьего Клыка, Тигриной Морды, Трехногого, Свиного Рыла и остальных, которые не работают, а жрут и наносят нам урон своей злой силой. Рабы не бывают сильными. Если бы тот, кто первым высек огонь, захотел воспользоваться своей силой, мы стали бы его рабами, как сегодня мы рабы Пустого Живота, который придумал вершу, и людей, которые придумали, как возделывать землю, разводить коз и варить огненный напиток. Когда-то мы жили на деревьях, братья мои, и на каждом шагу нас подстерегали опасности. Потом мы перестали драться друг с другом, потому что соединили свои силы. Так зачем нам сражаться с мясоедами? Не лучше ли нам соединить наши силы? Тогда мы будем поистине сильными. Будем действовать сообща, рыбоеды и мясоеды, будем вместе уничтожать хищников, разводить на горных склонах коз, выращивать в долинах кукурузу и корнеплоды. Мы будем такими сильными, что хищники убегут и погибнут. И не будет нам преград, ибо сила каждого превратится в силу всех людей на земле».
Так говорил Волосатый, но они убили его, объявив, что он сумасшедший и тянул нас назад, жить на деревьях. Почему? Всякий раз, когда кто-нибудь хотел идти вперед, те, что топтались на месте, кричали: он тянет назад, уничтожить его! И бедняки тоже забрасывали такого камнями, потому что были глупы. Мы все были глупы, кроме тех, кто не работал и жирел. О, они знали свое дело! Глупцы назывались мудрыми, а мудрых забрасывали камнями. Те, кто работал, не ел вдоволь, а кто не работал, обжирался.
Племя теряло былую силу. Дети рождались больными и хилыми. Мы мало ели, среди нас начались болезни, и люди гибли, как мухи. Вот тогда-то и нагрянули мясоеды. Мы слишком часто ходили на них войной, теперь они пришли отплатить нам кровью за кровь. Племя было слабое, мы не смогли удержать стену. Мясоеды перебили почти всех, кроме нескольких женщин, которых увели с собой за перевал. Гниде и мне удалось спастись. Я спрятался в глухой чащобе, охотился и не голодал. Потом я выкрал себе жену у мясоедов, и мы поселились в пещере на вершине горы, где нас не могли найти. У нас родилось три сына, и, когда они подросли, они, в свою очередь, выкрали жен у мясоедов. Ну, а остальное вам известно, ибо разве вы не сыновья моих сыновей?
— А где же Гнида? — спросил Быстроногий Олень. — Что сталось с ним?
— Он неплохо устроился: пошел к мясоедам и сделался бардом тамошнего вождя. Теперь он глубокий старик, но песни у него старые, те же, что он пел прежде. Когда человек хочет идти вперед. Гнида поет, что тот тянет назад, жить на деревьях.
Рассказчик снова вытащил из туши кусок сала и принялся жевать его беззубыми деснами.
— Настанет время, — сказал он, вытирая пальцы о бедра, — когда глупцы сгинут, а остальные пойдут вперед. Они соединят свои силы и будут сильными из сильных. Никто не будет воевать друг с другом. Люди забудут о воинах и стражниках на стенах. Они уничтожат хищников, и на склонах холмов, как предвещал Волосатый, будут пастись стада овец, а в горных долинах начнут выращивать кукурузу и корнеплоды. Все люди будут братьями, и не останется лежебок, которых нужно кормить. Такое время придет тогда, когда сгинут глупцы и поэты, которые сочиняют «Песни пчел». Ибо мы люди, а не пчелы.
По ту сторону рва
Старый Сан-Франциско (впрочем, не такой уж старый — я говорю о Сан-Франциско до землетрясения) был разделен на две части так называемым «рвом». Ров этот тянулся посреди Маркет-стрит, и здесь постоянно стоял лязг канатов, поднимавших и опускавших вагоны. Собственно, таких рвов было два, но упрощенный жаргон Запада объединил их в один, тем более что слово это приобрело уже значение символическое.
На северной стороне рва были торговый центр, магазины, театры, гостиницы, банки, конторы всех солидных и крупных фирм. На южной стороне — фабрики и заводы, всякие ремонтные мастерские, прачечные, мрачные трущобы и дома, где ютились рабочие. Таким образом, ров как бы обозначал разделение общества на классы. И никто не переходил этой границы так ловко и успешно, как Фредди Драмонд. С некоторого времени он умудрялся жить в обоих этих мирах и тут и там чувствовал себя как дома.
Фредди Драмонд был профессором социологии в Калифорнийском университете. Именно это побудило его в первый раз перейти через «ров». Прожив с полгода на южной стороне, в обширном рабочем гетто, он написал свою книгу «Чернорабочий», книгу, которую повсюду восхваляли как ценный вклад в литературу прогрессивную и великолепный отпор литературе недовольных. И в политическом и в экономическом смысле книга была до крайности ортодоксальна. Правления крупных железнодорожных компаний закупали книгу целыми выпусками для раздачи своим рабочим и служащим. Одно только Объединение Промышленников закупило и распространило пятьдесят тысяч экземпляров. В некотором отношении эта книга была так же порочна, как знаменитое «Послание к Гарсиа», и своей пагубной проповедью экономии и апологией действительности ничуть не уступала книге «Миссис Уиггс и ее капуста».
Вначале Фредди Драмонду было ужасно трудно приноровиться к новой для него среде. Он не привык к повадкам рабочих, а рабочим тем более были чужды его повадки. Они присматривались к нему недоверчиво.
У Фредди не было никакого трудового стажа, он не мог ничего рассказать о прежней работе. Руки у него были холеные, а его исключительная учтивость — в высшей степени подозрительна. Сперва он воображал, что здесь можно будет разыгрывать независимого американца, который пожелал заниматься физическим трудом и никому не обязан отдавать отчет. Но ему очень скоро стало ясно, что это не пройдет. Вначале рабочие видели в нем попросту чудака. Позднее, когда Фредди уже несколько освоился с новой средой, он незаметно для самого себя стал разыгрывать более подходящую роль: человека, который знавал лучшие дни, но которому не повезло в жизни — временно, разумеется.
Он многое узнал здесь и, усердно обобщая все, что видел, заполнял этими часто неверными обобщениями страницы своей книги «Чернорабочий». Впрочем, с благоразумием и консервативностью людей своего круга Фредди Драмонд не преминул оговориться, что выводы его — лишь «попытка обобщения».
Свои наблюдения он начал на большом консервном заводе Уилмекса, куда нанялся на сдельную работу — сколачивать небольшие упаковочные ящики. На завод поступали из мастерской готовые части, и Фредди Драмонду оставалось только собирать их и сколачивать молотком.
Работа была простая, но оплачивалась сдельно, и в среднем рабочий получал полтора доллара в день. Фредди Драмонд заметил, что некоторые без всяких усилий зарабатывают и больше — доллар и семьдесят пять центов. И уже на третий день он добился того же. Но, будучи человеком способным и честолюбивым и не желая работать спустя рукава, он на четвертый день заработал уже целых два доллара, а на пятый, понатужившись и подстегивая себя, — два с половиной. Его сотоварищи стали хмуриться неодобрительно и угрюмо на него поглядывать, обменивались на непонятном для него жаргоне какими-то колкими замечаниями на его счет. Говорили, что вот, мол, есть охотники подлизываться к хозяину и показывать свою прыть, тогда как прыть эту следует умерять, чтобы для всех не наступили черные дни. А Фредди Драмонда удивляло то, что люди на сдельщине работают вполсилы. Он тут же сделал вывод, что рабочие в основном — лодыри. И на другой день умудрился заработать три доллара.
Но вечером, когда он выходил с завода, его обступили рабочие. Они говорили с ним гневно и невразумительно; он не понимал их жаргона, а главное — не мог понять, чем объясняются их действия. А действовали они энергично: когда он отказался умерить темп своей работы и стал разглагольствовать о независимости американского гражданина, свободе действий и доблести труда, они решили своими средствами ослабить его пыл и усердие. Драка завязалась жестокая, ибо Драмонд был здоровенный малый и опытный спортсмен. Но в конце концов его сбили с ног, намяли ему бока, расквасили физиономию, отдавили сапогами пальцы. Пришлось пролежать в постели целую неделю и потом искать другой работы. Все это он должным образом изложил в своей первой книге, в главе «Тирания рабочего класса».
Через некоторое время, работая уже в другом цехе того же завода, где разносил работницам фрукты для приготовления консервов, он попробовал таскать сразу по два ящика вместо одного, но остальные грузчики немедленно стали ругать его за такую прыть. Это был явный саботаж, но Драмонд рассудил, что он пришел сюда лишь в качестве наблюдателя, а не для того, чтобы вводить какие-то реформы. Он стал таскать по одному ящику и так хорошо изучил искусство саботажа, что даже написал об этом специальную главу, закончив ее опять-таки «пробными» обобщениями.
За полгода пребывания на южной стороне он работал в разных местах и научился очень хорошо подделываться под настоящего рабочего. Он был прирожденный лингвист и, делая заметки у себя в записной книжке, изучил жаргон, на котором говорили рабочие. Это помогало ему лучше следить за ходом их мыслей и таким образом накоплять материал для будущей книги, которую он хотел назвать «Синтез психологии рабочего класса».
Еще до того, как он снова вынырнул на поверхность после первого спуска на «дно», Фредди Драмонд открыл в себе талант актера и проявил большую гибкость натуры. Его самого поражала эта способность приспособляться. Усвоив язык рабочих и преодолев неоднократные приступы малодушия, а также свою разборчивость, он убедился, что ему доступны теперь все закоулки жизни рабочего люда. Да, он так хорошо приноровился к этой среде, что чувствовал себя в ней как дома! И в предисловии ко второй книге, «Труженик», он писал:
«Чтобы узнать по-настоящему рабочего человека, надо трудиться плечом к плечу с ним, есть то, что он ест, спать в его постели, делить его развлечения, думать его мыслями, чувствовать то, что чувствует он. Это единственный путь, и я его избрал».
Фредди Драмонд не был глубоким мыслителем. Он не верил в новые теории. Все выработанные им для себя нормы и критерии были условны. Его диссертация о французской революции была отмечена в анналах университета не только как результат усердной, кропотливой и тщательной работы, но и потому, что это было самое сухое, мертвое и ортодоксальное из всех сочинений на эту тему.
Драмонд был человек очень замкнутый, с железной выдержкой. У него было мало друзей, это объяснялось его холодностью и необщительностью. Никаких пороков за ним не водилось, и, казалось, он даже не знал искушений. Табака не выносил, презирал пиво, и никто не видел, чтобы он когда-нибудь пил что-либо покрепче легкого столового вина.
На первом курсе университета его товарищи студенты, чья кровь была горячее, называли его «Ледник». Позднее, когда он был уже профессором, ему придумали кличку «Холодильник». Но огорчало его только одно ~ уменьшительное «Фредди», которое укрепилось за ним еще в те времена, когда он играл в университетской футбольной команде в качестве защитника. С этим никак не могла примириться его душа формалиста. Но он так и остался для всех «Фредди», за исключением тех случаев, когда к нему обращались официально. И в ночных кошмарах виделось ему будущее, когда все станут за глаза называть его фамильярно «старина Фредди».
Дело в том, что для доктора социологических наук он был слишком молод — ему было только двадцать семь лет, а на вид и того меньше. Рослый, широкоплечий, гладко выбритый, всегда опрятный, он производил впечатление студента, простодушного, здорового и непринужденно веселого. Он считался превосходным спортсменом. В высшей степени благовоспитанный и холодно-любезный, он умел держать людей на расстоянии. Вне стен университета никогда не говорил о своей научной работе. И только позднее, когда вышли в свет его книги и он стал предметом утомительного и назойливого внимания публики, Фредди Драмонд вынужден был иногда выступать с научными докладами в различных литературных и экономических обществах.
Он все делал правильно, слишком даже правильно. Одежда и манеры его всегда были безупречны. При этом его никак нельзя было назвать денди, вовсе нет! Этот молодой ученый всем своим внешним обликом и поведением, как две капли воды, походил на тех, кого в последние годы во множестве выпускают в свет наши высшие учебные заведения. Рукопожатие его было достаточно энергично и крепко, взгляд холодных голубых глаз убедительно ясен и прямодушен. Голос его звучал твердо и мужественно, и произносил он слова четко и правильно, так что его приятно было слушать. Единственным недостатком Фредди Драмонда была его чопорная сдержанность. Она никогда не изменяла ему. Даже во время футбольных матчей он проявлял хладнокровие, тем большее, чем напряженнее и азартнее становилась игра. Фредди считался прекрасным боксером, но за то, что он с точностью машины умел рассчитывать темпы своей игры, удары при нападении и защите, его называли «автоматом». Он редко получал в бою повреждения и так же редко причинял их противникам. Благоразумие и выдержка его были так велики, что он никогда не позволял себе нанести удар сильнее, чем рассчитывал. Для него спорт был только тренировкой и средством сохранять здоровье.
Время шло, и Фредди Драмонд все чаще стал переходить «границу» на Рыночной улице и скрываться на южной стороне. Там он проводил свои летние и зимние дни отдыха, иногда два дня, иногда целую неделю, и всегда не только приятно, но и с пользой. Еще бы! Ведь здесь можно было собрать так много материала! Третья книга Драмонда, «Массы и Хозяин», стала учебником в американских университетах. А он уже засел писать четвертую под названием «Порочность непроизводительного труда».
В складе души этого человека таился какой-то странный надлом или вывих. Быть может, это был бессознательный протест против окружающей среды и полученного воспитания, против наследия предков, которые из рода в род были книжниками, кабинетными учеными. Как бы то ни было, Фредди Драмонду нравилось жить среди рабочих. В своем кругу он слыл «Холодильником», а здесь, по другую сторону «рва», где его звали Билл Тотс, Верзила Билл, он пил, курил, дрался, ругался и был всеобщим любимцем.
Да, Билла все любили, и не одна девушка заглядывалась на него. Вначале он только, как хороший актер, играл роль, но с течением времени эта роль стала его второй натурой. Теперь он уже не притворялся, а действительно любил сосиски, колбасу, копченое сало, тогда как Фредди Драмонд всего этого терпеть не мог и никогда не ел.
То, что он делал вначале по необходимости и с определенной целью, он постепенно стал делать ради удовольствия. Когда подходило время вернуться в аудитории университета и в свою чопорную оболочку, он думал об этом с чувством недовольства и сожаления. И, вернувшись домой, частенько ловил себя на том, что с нетерпением ждет блаженного дня, когда можно будет перейти «на ту сторону», дать себе волю и «покуролесить». Не такой уж он был грешник, но в обличье Билла Тотса делал мириады вещей, которые для Фредди Драмонда были совершенно недопустимы. Более того, Фредди Драмонду никогда бы и в голову не пришло делать их. Это и было самое удивительное! Фредди Драмонд и Билл Тотс были совершенно различные люди, с диаметрально противоположными потребностями, вкусами, побуждениями. Билл Тотс со спокойной совестью работал вполсилы, а Фредди Драмонд считал это недостойным американца, более того — позором, величайшим преступлением, клеймил подобный «саботаж» в своей книге, посвящая этому целые главы. Фредди Драмонд не любил танцевать, а Билл Тотс не пропускал ни одного вечера в таких клубах, как, например, «Магнолия», «Звезда Запада» и «Элита». Он даже получил массивный серебряный кубок в тридцать дюймов высотой за лучшее выступление на ежегодном грандиозном бале-маскараде в Клубе Мясников. Билл Тотс любил девушек, и девушки любили его, а Фредди Драмонд усердно разыгрывал из себя аскета, открыто заявлял, что он против избирательных прав для женщин, цинично и зло высмеивал в душе совместное обучение.
Фредди Драмонд очень легко вместе с костюмом менял свои повадки. Входя в темную комнатушку, где преображался в Билла Тотса, он еще сохранял присущую ему чопорность, держался слишком прямо, откинув назад плечи, а лицо его было серьезно, почти сурово и, в сущности, лишено всякого выражения. Но выходил он из этой комнаты в одежде Билла Тотса уже совсем другим человеком. Билл Тотс вовсе не казался увальнем по сравнению с Фредди Драмондом, напротив, во всех его движениях появлялись гибкость и свободная грация. Даже голос его звучал по-иному, и смеялся Билл громко, весело, говорил, не стесняясь в выражениях, нередко уснащая речь крепкими словечками. По вечерам он засиживался допоздна в пивных с другими рабочими, всегда оставаясь благодушным даже в спорах и стычках. На воскресных прогулках или когда всей компанией возвращались домой из кино, Билл шел обычно между двумя девушками и с ловкостью, которую дает только опыт, незаметно обнимал обеих за талию, остроумно болтая и шутливо ухаживая за ними, как полагается славному и веселому парню из рабочего класса.
Билл Тотс был настоящий рабочий южной стороны, проникнутый классовым самосознанием не меньше, чем его товарищи, а штрейкбрехеров он ненавидел даже сильнее, чем самый ревностный член профессионального союза. Во время забастовки рабочих водного транспорта Фредди Драмонд умудрялся хладнокровно и критически наблюдать со стороны, как энергично Билл Тотс расправлялся с штрейкбрехерами-грузчиками. Ибо Билл состоял верным членом Союза Портовых Грузчиков, аккуратно платил членские взносы и имел полное право негодовать на тех, кто отнимал у него работу. Верзила Билл был такой сильный и ловкий парень, что его всегда выдвигали вперед, когда заваривалась каша. Фредди Драмонд, преобразившись в Билла Тотса, вначале только притворялся возмущенным, а потом уже вполне искренне возмущался, когда нарушали права рабочих. Только по возвращении в классическую атмосферу университета он снова обретал способность хладнокровно и беспристрастно обобщать свои наблюдения на «дне» и тут же излагал все на бумаге, как подобает ученому-социологу. Фредди Драмонд ясно видел, что узость кругозора мешает Биллу Тотсу подняться выше своего классового самосознания. А Билл Тотс этого не понимал. Когда штрейкбрехер отнимал у него работу, он приходил в бешенство и терял способность рассуждать. Зато Фредди Драмонд, безупречно одетый, подтянутый, сидя за письменным столом в своем кабинете или выступая в аудитории перед студентами, прекрасно во всем разбирался. Ему был ясен и Билл Тотс, и все, что окружало Билла, и вопрос о штрейкбрехерах и рабочих профсоюзах, и роль всего этого в экономическом процветании Соединенных Штатов и в их борьбе за господство на мировом рынке. А Билл Тотс действительно неспособен был заглядывать дальше сегодняшнего обеда или завтрашнего состязания боксеров в спортивном клубе.
Только когда Фредди Драмонд стал собирать материал для новой книги, «Женщина и Труд», он впервые почуял грозящую ему опасность. Слишком уж легко удавалось ему жить в двух разных мирах! Такая удивительная двойная жизнь была, в сущности, весьма неустойчива. И вот, сидя у себя в кабинете и размышляя об этом, Фредди понял вдруг» что долго так продолжаться не может, что это, в сущности, переходная стадия: ему неизбежно придется сделать выбор между двумя мирами и с одним из них распроститься навсегда. Продолжать жить в обоих он больше не мог. И, созерцая ряды книг, украшавших верхнюю полку книжного шкафа (все это были его труды, начиная с диссертации и кончая последней книгой — «Женщина и Труд»), он решил, что именно здесь тот мир, в котором ему следует навсегда оставаться. Билл Тотс сделал свое дело, но он стал уже для него, Фредди, чересчур опасным сообщником. И Биллу пора перестать существовать.
Виновницей тревоги, одолевшей Драмонда, была Мэри Кондон, председательница Международного союза перчаточников Э 974. В первый раз он увидел ее с галереи для публики на ежегодном собрании Северо-западной Федерации Труда. Увидел глазами Билла Тотса, и она очень пришлась ему по вкусу. Фредди Драмонду такие женщины не нравились. Правда, у Мэри была великолепная фигура, грациозная и мускулистая, как у пантеры, и чудесные черные глаза, которые то вспыхивали огнем, то лучились смехом и лаской. Но что из того? Фредди терпеть не мог женщин с избытком кипучей жизненной энергии и недостатком… ну, скажем, сдержанности. Фредди Драмонд признавал теорию эволюции, ибо она была признана всеми учеными мира, и безоговорочно допускал, что человек есть высшая ступень развития той массы отвратительных низших существ, что копошатся на нашей планете. Но его несколько шокировала такая генеалогия, и он старался о ней не думать. Этим, вероятно, и объяснялось то суровое самообуздание, которого он требовал от себя и проповедовал другим. Потому и нравились ему только женщины его типа, сумевшие освободиться от животного, чувственного начала, этого прискорбного наследия, женщины, которые путем самообуздания и аскетизма углубляли пропасть, отделяющую их от сомнительных предков человечества.
Биллу Тотсу подобные настроения были чужды. Ему полюбилась Мэри Кондон с той самой минуты, как он впервые увидел ее в зале съезда, и он твердо решил узнать, кто она такая. Вторая встреча с ней произошла совершенно случайно, когда он работал фургонщиком у Пата Морисси.
Его вызвали на Мишн-стрит, в дом меблированных комнат откуда надо было перевезти чей-то сундук в камеру хранения. Дочь хозяйки повела его наверх, в тесную комнатку, жилица которой, перчаточница, была только что отправлена в больницу. Билл этого не знал. Он нагнулся, поднял большой сундук и, взвалив его на плечо, выпрямился, стоя спиной к открытой двери. Вдруг за ним раздался женский голос:
— Вы член профсоюза?
— А вам какое дело? — отрезал Билл. — Ну-ка, отойдите с дороги! Видите, мне повернуться негде.
Не успел он это сказать, как его оттолкнули от двери с такой силой, что могучий парень завертелся волчком и, едва удержав сундук, ударился о стену. Он начал было ругаться, но в эту минуту глаза его встретились с гневно сверкавшими глазами Мэри Кондон.
— Ну, конечно, я состою в Союзе, — сказал он. — Я просто хотел вас подразнить.
— Покажите членский билет, — потребовала она деловым тоном.
— Он у меня в кармане. Но сейчас мне его не достать: проклятый сундук мешает. Пойдемте вниз, я свалю его в фургон и тогда покажу вам билет.
— Нет, поставьте сундук на место! — был приказ.
— Это еще зачем? Я же вам сказал: есть у меня членский билет.
— Оставьте сундук, слышите? Я не позволю ни одному штрейкбрехеру тронуть его. Постыдились бы! Этакий здоровенный детина празднует труса и отбивает хлеб у честных людей! Почему вы не хотите вступить в Союз и быть человеком?
Щеки Мэри побледнели, и видно было, что она сильно рассержена.
— Подумать только — такой здоровый, сильный мужчина идет в штрейкбрехеры, предает своих братьев, рабочих! Наверное, спите и видите, как бы поступить на службу в полицию, тогда вы в следующую забастовку сможете подстреливать бастующих возчиков. А может, вы и теперь уже служите в полиции? С вас это станется.
— Будет вздор молоть! — Билл с грохотом поставил сундук на пол и, выпрямившись, сунул руку во внутренний карман куртки. — Нате, глядите! Я же вам сказал: мне просто хотелось вас подурачить.
В руках у него действительно был членский билет профсоюза.
— Ладно, возьмите, — сказала Мэри. — И в другой рад не шутите этим.
Лицо ее прояснилось. И, когда она увидела, с какой легкостью Билл вскинул на плечо тяжелый сундук, она заблестевшими глазами оглядела его могучую и ладную фигуру. Но Билл этого не заметил: он был занят сундуком.
В другой раз он встретился с Мэри Кондон во время забастовки прачечных. Работники прачечных только недавно организовали свой Союз, были еще неопытны в этом деле и попросили Мэри Кондон руководить забастовкой. А Фредди Драмонд, предвидя, что надвигается, еще раньше отправил Билла Тотса на разведки, и Билл, вступив в их Союз, стал работать в прачечной. В утро забастовки мужчинам предложили первым бросить работу, чтобы подать пример работницам и укрепить их мужество. Билл случайно оказался у двери в катальный цех, когда Мэри Кондон пыталась туда войти. Заведующий, высокий и грузный мужчина, загородил ей дорогу — он вовсе не желал, чтобы его девушек сняли с работы, и решил отучить эту представительницу Союза вмешиваться в чужие дела. Когда Мэри попыталась протиснуться в дверь мимо него, он оттолкнул ее, схватив своей мясистой рукой за плечо. Мэри осмотрелась» по сторонам и увидела Билла.
— Эй, мистер Тотс! — крикнула она. — Помогите-ка мне! Я хочу войти.
Билла поразило и обрадовало то, что она запомнила его имя, которое узнала из членского билета. Мгновение — и заведующий отлетел от двери, в ярости выкрикивая что-то о правах и законности, а девушки побросали работу. До самого конца этой быстро и успешно закончившейся забастовки Билл состоял при Мэри Кондон в качестве добровольного связиста и верного адъютанта. А когда забастовка прекратилась, Фредди Драмонд снова вернулся в университет, недоумевая, чем эта женщина могла пленить Билла Тотса.
Фредди Драмонду подобная опасность не грозила. Но Билл влюбился страстно, и с этим приходилось считаться. Именно это обстоятельство явилось для Фредди Драмонда первым предостережением. И тогда он сказал себе, что работа его завершена, а значит, и рискованным похождениям можно положить конец. Ему незачем больше переходить на ту сторону «рва». Новая книга «Тактика и стратегия рабочего класса» почти готова, осталось только дописать последние три главы, и материала для них собрано достаточно.
К тому же, поразмыслив, он пришел к заключению, что ему следует наконец прочно утвердиться в своей социальной среде, а для этого необходима более тесная связь с людьми этой среды. Пора ему жениться — ведь совершенно очевидно, что если не женится Фредди Драмонд, то, несомненно, женится Билл Тотс, и страшно даже подумать, какие это вызовет осложнения.
Таким образом, в жизнь Фредди Драмонда вошла Кэтрин Ван-Ворст. Это была девушка с университетским образованием, дочь самого богатого из профессоров, декана философского факультета. И Фредди Драмонд решил, что это будет брак, подходящий во всех отношениях. Помолвка состоялась. Кэтрин Ван-Ворст, аристократически-сдержанная и здраво-консервативная, внешне холодная, хотя и не лишенная темперамента, умела владеть собой. Сдерживающее начало было в ней так же сильно, как и в Фредди Драмонде.
Все как будто шло хорошо. Но Фредди Драмонду еще трудно было устоять перед зовом «дна», его все еще манила вольная, беспечная жизнь, не отягощенная никакой ответственностью, жизнь, которой он жил на южной стороне. Близился день свадьбы, и хотя Фредди твердил себе, что его похождения были только данью молодости и он уже «перебесился», ему все сильнее хотелось окунуться с головой в эту жизнь, еще раз стать веселым и отчаянным парнем, Биллом Тотсом, прежде чем окончательно упокоиться в сереньком существовании ученого лектора и спокойном семейном благополучии. Искушение было тем сильнее, что последняя глава книги «Тактика и стратегия рабочего класса» все еще оставалась недописанной: не хватало кое-каких существенных данных, которых он не успел собрать.
И вот Фредди Драмонд, в последний раз превратившись в Билла Тотса, отправился на ту сторону и там на свою беду повстречался с Мэри Кондон. Вернувшись потом в свой кабинет, он неохотно вспоминал об этой встрече. Она еще сильнее обеспокоила его, явилась новым настойчивым предостережением. Билл Тотс вел себя возмутительно: встретив Мэри Кондон в Главном рабочем комитете, он этим не ограничился, пошел ее провожать, а по дороге пригласил в кабачок и угостил устрицами. Мало того. Прощаясь с Мэри у дверей ее дома, он обнял ее и несколько раз поцеловал в губы. В ушах его до сих пор еще звучали ее прощальные слова — она сказала тихо и нежно, с тем хватающим за душу рыданием в голосе, которое рождает только любовь: «Билл… милый, милый Билл!»
Фредди Драмонд трепетал, вспоминая это, — он чувствовал, что стоит на краю пропасти. Грозящие ему осложнения ужасали его тем более, что он не был создан для многоженства: не в его это было характере. Он говорил себе, что надо положить конец двойной жизни: либо стать окончательно Биллом Тотсом и жениться на Мэри Кондон, либо остаться Фредди Драмондом и обвенчаться с Кэтрин Ван-Ворст. Иначе его поведение будет достойно величайшего презрения.
Следующие несколько месяцев были месяцами непрерывных забастовок, нарушивших мирную жизнь Сан-Франциско. Профессиональные союзы рабочих и объединения хозяев вступили в борьбу с таким ожесточением, словно задались целью раз навсегда решить вопрос. А Фредди Драмонд правил корректуры, читал лекции и знать ничего не хотел о том, что творится на южной стороне. Он усердно ухаживал за Кэтрин Ван-Ворст и с каждым днем все больше уважал ее, восхищался ею и даже близок был к тому, чтобы полюбить ее.
Забастовка возчиков, правда, заинтересовала его, но меньше, чем он ожидал, а к грандиозной забастовке мясников он отнесся с полнейшим равнодушием. Дух Билла Тотса был окончательно изгнан, и Фредди Драмонд с обновленной энергией трудился над давно задуманной брошюрой об уменьшении прибыли.
Как-то днем, за две недели до свадьбы, Кэтрин заехала за ним и повезла смотреть в рабочем поселке новый клуб молодежи, в устройстве которого она принимала участие. Ехали они в автомобиле ее брата вдвоем, если не считать шофера. У Керни-стрит две улицы пересекаются под острым углом, образуя нечто вроде треугольника. Фредди Драмонд и Кэтрин ехали по Маркет-стрит, намереваясь завернуть за угол, на Гири-стрит. Они не подозревали, что происходит в это время на Гири-стрит и с чем им придется столкнуться на углу. Конечно, из газет Фредди знал, что началась забастовка рабочих мясной промышленности и борьба идет отчаянная, но он меньше всего думал об этом. Ведь рядом с ним сидела Кэтрин! И как раз в эти минуты он обстоятельно излагал ей свое мнение о рабочих поселках, мнение, сложившееся отчасти во время похождений Билла Тотса.
По Гири-стрит навстречу им двигалось шесть фургонов с мясом. Рядом с каждым возчиком-штрейкбрехером сидел полицейский. Впереди, позади и по обе стороны фургонов шагала охрана — отряд из сотни полицейских. А в арьергарде на почтительном расстоянии от них во всю ширину улицы валила толпа, растянувшись на несколько кварталов. Люди шли, сохраняя порядок, и только громкий говор выдавал их возбуждение. В этот день Мясной Трест пытался сорвать забастовку и снабдить мясом все гостиницы. Отелю Сент-Фрэнсис мясо было уже доставлено ценой множества разбитых окон и голов, а теперь экспедиция направлялась выручать Палас-отель.
Ничего не замечая, Фредди Драмонд продолжал беседовать с Кэтрин, а шофер их, все время давая сигналы, объезжал другие машины, делал широкий круг, чтобы добраться до угла и свернуть. Вдруг с Керни-стрит выехал большой фургон с углем, запряженный четверкой сильных лошадей, и загородил дорогу. Возчик в минутной нерешительности остановил фургон, и шофер Кэтрин, несмотря на предостерегающие окрики полицейских, погнал машину влево, нарушая правила уличного движения. Он хотел проскочить мимо фургона.
Тут уже Фредди Драмонд прервал разговор. Ему так и не пришлось возобновить его, ибо события развивались с быстротой поистине калейдоскопической. Он услышал рев толпы, увидел каски полисменов вокруг медленно продвигавшихся вперед фургонов с мясом. В этот миг возчик угольного фургона, стегнув лошадей, погнал их наперерез движению, затем круто осадил и затормозил фургон. После этого он привязал вожжи к ручке тормоза и уселся с видом человека, который приготовился застрять тут надолго. Автомобиль Кэтрин тоже вынужден был остановиться, так как в него, шумно фыркая, почти уперлись головами передние лошади упряжки угольного фургона.
Прежде чем шофер успел дать задний ход, автомобиль врезался в другой, одноконный фургон, которым управлял пожилой ирландец, пустивший лошадь в галоп. Драмонд сразу узнал и лошадь и расхлябанный фургон: ведь Билл Тотс не раз сам водил его, когда служил у этого ирландца. Пата Морисси. С другой стороны столкнулись фургон пивоваренного завода и угольный, а в эту минуту подкатил и трамвай, ходивший по Керни-стрит в восточный район. Вагоновожатый неистово звонил и орал на полисмена-регулировщика, потом проскочил вперед, и тогда на улице образовался полнейший затор. Подъезжали фургон за фургоном и застревали здесь. Сумятица росла. Остановились все фургоны с мясом. Полиция оказалась в ловушке. А рев напиравшей сзади толпы все усиливался. Наконец она хлынула вперед, окружив полицейских, которые лезли на загородившие дорогу фургоны.
— Ну, попали мы в переделку! — спокойно сказал Драмонд своей невесте.
— Да-а, — отозвалась Кэтрин так же невозмутимо. — Какие дикари!
В эти минуты она нравилась Драмонду больше, чем когда-либо. Да, это женщина в его вкусе! Он не осудил бы ее даже, если бы она вскрикнула от испуга и прижалась к нему. Но ее самообладание было поистине великолепно! Среди бушевавшей вокруг бури она сидела так спокойно, как будто это было обычное скопление экипажей перед зданием Оперы.
Полиция делала усилия расчистить проезд. Возчик фургона с углем, здоровенный малый, сняв куртку, спокойно сидел на козлах и курил трубку. Он снисходительно посматривал сверху на капитана полиции, который бесновался и осыпал его ругательствами, и в ответ только пожимал плечами. Позади застучали по головам дубинки, поднялся ураган воплей, проклятий, стонов. Шум стал еще оглушительнее, — было ясно, что толпа прорвала наконец цепь полицейских истаскивала штрейкбрехеров с козел. Капитан послал туда свой головной отряд, и толпу оттеснили. Между тем в верхних этажах дома справа, где помещались конторы, открывалось окно за окном, и оттуда стали швырять чем попало в полицейских и штрейкбрехеров. На их головы обрушился град мусорных корзинок, чернильниц, пресс-папье, в воздухе мелькали даже стулья и пишущие машинки.
Один из полицейских по приказу капитана взобрался на высокие козлы угольного фургона, чтобы арестовать возчика. А тот как будто миролюбиво, не спеша поднялся ему навстречу и вдруг обхватил его и швырнул вниз, прямо на капитана. Когда этот возчик, молодой великан, взял в каждую руку по увесистому куску угля, второй полицейский, который полез было на его фургон, предпочел с ним не связываться и соскочил на мостовую. Тогда по приказу капитана шестеро его людей атаковали фургон. А возчик, перебегая с места на место, отгонял их, швыряя вниз большие куски угля.
Толпа на тротуарах и возчики других фургонов поощряли его восторженными криками. Вожатый трамвая, колотивший полицейских по каскам рукояткой тормоза, был ими так избит, что с площадки его стащили уже в бесчувственном состоянии. Капитан, взбешенный энергичным отпором, сам возглавил атаку на угольный фургон. Десятка два полицейских осаждали теперь эту высокостенную крепость, но возчик отбивался так энергично, что один стоил целого отряда.
Полицейские по пять-шесть человек сразу валились на мостовую, под фургон. Возчик, отражая атаку на заднем конце фургона, обернулся как раз в ту минуту, когда капитан пробовал влезть на козлы и висел еще в воздухе в самом неустойчивом положении. Возчик запустил в него куском угля в добрых тридцать фунтов весом. Метательный снаряд этот угодил капитану прямо в грудь, и он полетел кувырком, ударился о круп коренника и свалился на землю у заднего колеса автомобиля, в котором сидели Фредди Драмонд и Кэтрин Ван-Ворст.
Кэтрин подумала, что он убит, но капитан поднялся и опять полез на фургон. Она протянула руку в перчатке и погладила еще дрожавшую от испуга, громко фыркавшую лошадь. Драмонд этого не заметил. Он был весь поглощен созерцанием битвы у фургона, и где-то в глубине его сложной души уже ворочался некий Билл Тотс в напряженных усилиях вернуться к жизни. Фредди Драмонд верил в законы и считал своим долгом поддерживать установленный порядок вещей, а сидевший в нем дикарь-бунтовщик не признавал ни того, ни другого. В эти минуты, более чем когда-либо, Фредди Драмонду понадобилась его железная выдержка. Но ведь недаром сказано, что дом, который треснул изнутри, обречен на разрушение. А Драмонд чувствовал, что воля его и душа раздваиваются, что весь он как бы распадается на двух человек — Фредди Драмонда и Билла Тотса.
Он сидел в автомобиле рядом с Кэтрин Ван-Ворст совершенно спокойно, но из глаз его уже смотрел Билл Тотс, и где-то внутри боролись за власть над их общим телом Фредди Драмонд, здравомыслящий, консервативный профессор социологии, и Билл Тотс, боевой член рабочего профсоюза, во всеоружии своего классового самосознания. Именно глазами Билла Тотса Фредди Драмонд видел неизбежный исход битвы у фургона с углем. Он видел, как на фургон забрался один полицейский, за ним другой, третий. Они неуклюже балансировали на рыхлой груде угля, но усиленно действовали длинными дубинками. Один удар пришелся возчику по голове, второй — в плечо. Его участь явно была решена. Он неожиданно ринулся вперед, обхватил руками двух полицейских разом и вместе с ними выбросился на мостовую, не ослабляя мертвой хватки, хотя был уже пленником этих людей.
Кэтрин Ван-Ворст обмирала от ужаса и отвращения при виде этой кровавой, жестокой стычки. Но через минуту совершенно неожиданное и необычайное происшествие отвлекло ее. Ее жених вдруг испустил какой-то нечеловеческий, дикий крик и вскочил с места. У нее на глазах он перепрыгнул через переднее сиденье прямо на широкую спину лошади, а с нее — на фургон. Его бешеная атака была стремительна, как ураган. Пораженный капитан не успел еще сообразить, что нужно этому прилично одетому, чрезвычайно возбужденному на вид джентльмену, как удар кулаком сшиб его с фургона на мостовую. За ним последовал лезший на фургон полицейский, которого джентльмен пнул ногой в лицо. Тут трое других полицейских вскочили на фургон и окружили Билла Тотса. Удар дубинки рассек ему голову. Пиджак, жилет и крахмальная манишка были изорваны в клочья. Но еще минута — и трое нападавших отлетели далеко и шлепнулись на землю, а Билл Тотс, удержав позиции, осыпал врагов градом угля.
Капитан первым храбро ринулся в атаку, но был опрокинут обрушенной на его голову грудой угля, вмиг превратившей его в негра. Полиции нужно было освободить дорогу впереди, прежде чем толпа прорвется через цепь. А Биллу Тотсу нужно было удержать на месте угольный фургон. пока не подоспеет толпа. И бой продолжался.
Толпа узнала своего защитника. Ага, Верзила Билл, как всегда, впереди! Кэтрин Ван-Ворст ошеломили поднявшиеся со всех сторон крики:
— Эй, Билл! Ты здесь, Билл! — Пат Морисси в диком восторге прыгал на своем фургоне и орал во весь голос:
— Так их, Билл! Задай им перцу! Слопай их живьем! А с тротуара какая-то женщина закричала:
— Берегись, Билл! Они лезут спереди!
Билл услышал ее предостережение и метко направленным градом угля очистил передок фургона от нападающих. Кэтрин, обернувшись, увидела на краю тротуара женщину с ярким румянцем на щеках и горящими черными глазами. Женщина с самозабвенным восторгом, не отрываясь, смотрела на того, кто несколько минут назад был еще Фредди Драмондом.
Из раскрытых окон контор загремели аплодисменты, и снова полетели вниз стулья, ящики. Толпа уже прорвала фронт с одной стороны и хлынула вдоль ряда фургонов. Каждый полицейский оказался в кольце атакующих. Всех штрейкбрехеров стащили с козел, постромки перерезали и напуганных лошадей разогнали. Многие полицейские, спасаясь, забрались под угольный фургон, кое-кто из них вскочил на лошадей, пытаясь удержать остальных, но лошади через свободный от людей тротуар ринулись все на Маркет-стрит.
Кэтрин Ван-Ворст услышала голос той самой женщины, что раньше предупредила Драмонда об опасности. Женщина снова появилась на обочине тротуара и кричала:
— Удирай, Билл, пора! Удирай!
Полиция в этот момент была сметена в сторону толпой. Билл Тотс соскочил с фургона, подошел к женщине на тротуаре. И Кэтрин Ван-Ворст увидела, как та обняла его и поцеловала в губы. Оба зашагали вниз по улице, и Билл одной рукой обнимал женщину за талию, болтая и смеясь с такой веселой непринужденностью, какой пытливо смотревшая им вслед Кэтрин никогда не ожидала от Фредди Драмонда.
Полицейские вернулись и в ожидании подкрепления и новых возчиков и лошадей стали очищать улицу. Толпа расходилась, сделав свое дело, а Кэтрин Ван-Ворст все еще смотрела вслед тому, кого она знала под именем Фредди Драмонда. Он был на голову выше всех и шагал, по-прежнему обнимая одной рукой ту женщину с черными глазами. И, сидя в автомобиле, Кэтрин видела, как эта пара пересекла Маркет-стрит, перешла через «ров» и скрылась на Третьей улице в рабочем гетто.
Шли годы. В Калифорнийском университете не читал больше лекций Фредди Драмонд, не появлялись книги по вопросам экономики и труда с напечатанным на обложке именем автора «Фредерик А. Драмонд». А по ту сторону «рва» появился новый лидер рабочих, Уильям Тотс. Он женился на Мэри Кондон, председательнице Международного союза перчаточников Э 974. Именно он организовал знаменитую забастовку поваров и официантов, которая дала такие блестящие результаты. В нее вовлечены были десятки других союзов, даже такие, которые имели к Союзу Поваров и Официантов довольно далекое отношение, — например, Союз Ощипывателей кур и Союз Гробовщиков.
Беспримерное нашествие
В 1976 году конфликт между Китаем и остальным миром достиг высшей точки. Именно поэтому было отложено празднование двухсотлетнего юбилея американской независимости. Спутались, смешались и были отсрочены по той же причине многие другие планы народов Земного шара. Мир словно вдруг очнулся, осознав возникшую опасность: а между тем в течение свыше семидесяти лет события незаметно вели именно в этом направлении.
Логическим началом процесса, который спустя семьдесят лет потряс весь мир, был 1904 год. В этом году произошла русско-японская война, глубокомысленно названная историками того времени началом вступления Японии на международную арену. В действительности же это событие стало началом пробуждения Китая, которое давно и тщетно ожидалось. Западные народы пробовали разбудить Китай, но им это не удавалось. Несмотря на весь свой оптимизм и расовое самолюбие, они вынуждены были признать, что задача невыполнима, что Китай никогда не проснется.
А между тем они упустили из виду то обстоятельство, что между ними и Китаем нет общего психологического языка ! Мыслительные процессы обеих рас коренным образом различались между собой. Не существовало между ними словаря доверия. Западный ум, проникнув в китайскую душу на небольшую глубину, оказался в запутанном лабиринте. Китайский ум проник в западную душу на столь же короткое расстояние и уперся в глухую, непонятную стену. Решающим оказался вопрос языка. Не нашлось способа внедрить западные понятия в китайскую душу. Китай продолжал спать. Материальные достижения и прогресс Запада были для него книгой за семью печатями; и Запад не мог раскрыть этой книги. Где-то глубоко в недрах сознания, в душе, скажем, расы, говорящей по-английски, была заложена способность откликаться на короткие саксонские слова; где-то глубоко, на задворках китайского сознания, была способность откликаться на их китайские иероглифы; но китайский ум не мог откликнуться на короткие саксонские слова; столь же мало ум англосакса мог откликнуться на иероглифы. Ткань их души была сплетена из совершенно различных материалов; духовно они были чужды друг другу. Вот почему западные материальные достижения и прогресс не потревожили векового сна Китая.
Но вот на сцену явилась Япония, победившая Россию в 1904 году. Японская раса была каким-то капризом, — парадоксом среди народов Востока. Каким-то странным образом Япония оказалась восприимчивой ко всему, что мог ей предложить Запад. Япония быстро усвоила западные идеи, переварила и так умело использовала их, что неожиданно выступила во всеоружии мировой державы. Трудно найти объяснение этой особенной восприимчивости Японии к чуждой культуре Запада, так же трудно было бы объяснить какую-нибудь биологическую игру природы в животном царстве.
Решительно разгромив великую русскую империю, Япония немедленно занялась осуществлением своей мечты, грандиозной мечты об устройстве своей империи. Корею она обратила в свою житницу и колонию; договорные привилегии и хитрая дипломатия дали ей монополию эксплуатации Маньчжурии. Но японцы этим не удовлетворились; они обратили свои взоры на Китай, в недрах огромной территории которого таились величайшие в мире залежи железа и угля — основа основ промышленной цивилизации. При наличии естественных богатств, вторым важнейшим фактором промышленности является труд. На этой территории жило население в 400 миллионов душ — четверть всего тогдашнего населения земного шара. Кроме того, китайцы великолепные рабочие, а их фаталистическая философия (или религия) и крепкая нервная организация делали из них бесподобных солдат при надлежащем управлении. Излишне говорить, что Япония была готова дать такое управление.
Но лучше всего, с японской точки зрения, было то, что китайцы — родственная им раса. Загадка китайского характера, которая явилась препоной для Запада, не была загадкой для Японии. Япония понимала китайцев так, как мы никогда не научимся понимать их. У китайцев те же умственные процессы. Японцы мыслят теми же самыми умственными символами, что и китайцы, и мысли их движутся по тем же самым мозговым бороздкам. Японцы проникли в глубь китайской души, у порога которой европейцы остановились в недоумении. Они увидели поворот, которого не заметил европеец, обошли препятствие и скрылись в разветвлениях китайской души, куда мы не могли последовать. Они были братья. Давным-давно один народ заимствовал у другого его письмена, а за несчетное число поколений до этого они ответвились от общего монгольского ствола. Неоднородные условия и примесь посторонней крови вызвали изменения и дифференциацию, но в глубине их существа лежало общее наследие, лежала общность, которую время не могло стереть.
И вот, Япония взяла на себя управление Китаем. В годы, последовавшие за войною с Россией, ее агенты рассеялись по всей китайской империи. В тысяче миль от последней миссионерской станции работали ее инженеры и шпионы, переодетые, как кули, или же странствующими купцами, либо бродячими буддийскими жрецами; они отмечали число лошадиных сил каждого водопада, удобные места для будущих фабрик, высоту гор и перевалов, стратегически сильные и слабые пункты, плодородие долин, число быков в округе или число земледельцев, которых можно было бы завербовать принудительными наборами. Никогда еще в этой стране не производилось подобной переписи, и ее никто не мог бы произвести, кроме настойчивых, патриотически настроенных японцев.
Но в скором времени маска таинственности была сброшена. Японские офицеры организовали китайскую армию; их капралы превратили средневековых воинов в солдат двадцатого века, знакомых со всей механикой современной войны и обнаруживших в стрельбе большую меткость, чем солдаты любой европейской нации. Японские инженеры углубили и расширили запутанную систему каналов, построили фабрики и литейные заводы, покрыли империю сетью телеграфов и телефонов и открыли эру железнодорожного строительства. Эти же самые творцы машинной цивилизации открыли колоссальные нефтяные залежи Чунсана, железные руды гор Хванг-Синга, медные залежи Чин-чи, и они же вскрыли газовую кладовую Вау-Ви, этот гигантский резервуар натурального газа во всем мире.
В государственных советах Китая заседали японские эмиссары. Японские государственные люди давали советы китайским государственным деятелям. Империя была обязана им своим политическим переустройством — они изгнали касту грамотеев — этих отчаянных реакционеров, и посадили на их место прогрессивных чиновников. В каждом городе и местечке империи возникли газеты. Разумеется, политику в таких газетах делали японские редакторы, получая директивы прямо из Токио. Эти газеты воспитали в прогрессивном духе широкие массы населения.
Китай наконец проснулся! Там, где Запад терпел неудачи, преуспела Япония. Она претворила западную культуру и достижения в понятия, доступные уму китайца. Уже Япония, когда она так внезапно проснулась, изумила мир. Но в ту пору она насчитывала всего только сорок миллионов жителей. Пробуждение Китая с его 400 миллионами жителей было изумительным и страшным. Китай был колосс среди народов, и уверенный голос его очень скоро зазвучал в делах и совещаниях наций. Япония науськивала Китай, а гордые западные народы почтительно слушали его.
Быстрый и замечательный подъем Китая, пожалуй, больше всего обусловливался превосходными качествами его трудолюбивого населения. Китаец являл собой совершеннейший промышленный тип. Он всегда был такой. По умению работать ни один рабочий в мире не может сравниться с китайцем. Труд — это воздух, которым дышит китаец. Для него труд был тем же, что странствия, войны в далеких краях и паломничество для других народов. Для китайца свобода — это доступ к средствам труда. Обрабатывать землю и без конца трудиться — вот все, что он требовал от жизни и от ее владык. Пробуждение Китая дало его бесчисленному населению не только свободу и неограниченный доступ к труду, но и доступ к высшим и основанным на научных достижениях механическим средствам труда.
Китай помолодел! Теперь только шаг оставался до Китая, встающего на дыбы. Китаец открыл в себе новую гордость и собственную волю. Китай зафыркал под уздой Японии, и недолго он просто фыркал. По совету Японии, он первым делом повыгонял из империи всех западных миссионеров, инженеров, капралов, купцов и учителей. А потом он начал изгонять аналогичных представителей Японии. Японских советников, воздав им должное и осыпав орденами, Китай отослал домой. Запад разбудил Японию, и точно так же, как Япония отплатила Западу, так и Китай теперь отплатил Японии. Исполинский протеже Японии, отблагодарив ее за любезное содействие, выкинул после того вон со всеми пожитками. Западные нации злорадно хихикали. Радужные мечты Японии разлетелись прахом. Она разгневалась — Китай высмеял ее. Кровь и мечи звали самураев в бой, и Япония, не подумав, объявила войну. Это произошло в 1922 году, и в какие-нибудь семь кровопролитных месяцев у Японии были отняты: Маньчжурия, Корея и Формоза, и она банкротом была выброшена обратно на свои крохотные перенаселенные острова. Япония сошла с мировой сцены. После этого она предалась искусству, поставив себе задачей изумлять и пленять мир чудесными произведениями красоты.
Вопреки ожиданиям, Китай не обнаружил воинственности. Его не влекли наполеоновские лавры, он довольствовался мирными занятиями. После бурного периода люди пришли к убеждению, что Китая надо бояться не в войне, а в торговле. Как мы увидим, никто тогда не догадался, где кроется истинная опасность. Китай продолжал развивать свою собственную машинную цивилизацию. Вместо большой постоянной армии он завел неизмеримо более многочисленную и великолепно обученную милицию. Китайский флот был ничтожен, но Китай и не старался усиливать свой флот. Открытые порты мира никогда не посещались китайскими броненосцами.
Настоящая опасность крылась в плодовитости китайского населения, и только в 1970 году раздался первый клич тревоги. Страны, прилегающие к Китаю, давно уже выражали недовольство по поводу китайской иммиграции; и как-то вдруг открылось, что Китай насчитывает 500 миллионов душ населения. Со времени пробуждения Китая население его увеличилось на добрую сотню миллионов. Бурхгальдтер обратил внимание на тот факт, что китайцев на свете больше, чем людей белой расы. Он произвел простой арифметический расчет, сложив цифры населения Соединенных Штатов, Канады, Новой Зеландии, Австралии, Южной Африки, Англии, Франции, Германии, Италии, Австрии, Европейской России и всей Скандинавии. В результате получилось 495 миллионов. И население Китая превысило эту чудовищную цифру на 5 миллионов! Цифры Бурхгальдтера пошли гулять по свету, и мир затрепетал.
Население Китая в продолжение многих столетий не росло. Территория Китая была насыщена людским материалом; другими словами, его территория, при примитивных способах производства, давала возможность прокормить единственно возможный максимум населения. Но теперь, когда Китай проснулся и развил машинную цивилизацию, его производительные силы колоссально возросли. И на той же территории он оказался в состоянии прокормить гораздо более многочисленное население. Одновременно увеличивалась рождаемость и падала смертность. Прежде, когда население с трудом добывало себе средства к существованию, голод уносил его излишки; благодаря машинной цивилизации, средства существования в Китае значительно возросли, и голод прекратился; население росло соразмерно возрастанию средств существования.
В этот переходный период развития своих сил Китай не строил завоевательных планов. Китайцы не были империалистической расой. Это был трудолюбивый, бережливый и миролюбивый народ. На войну он смотрел как на неприятную, но необходимую работу, которую иногда приходится выполнять. Таким образом, в то время как западные народы ссорились и дрались и пускались в мировые авантюры друг против друга, Китай спокойно продолжал трудиться у своих станков и размножаться. Но теперь ему стало тесно в пределах своих границ и он был вынужден выливаться на смежные территории медленно и неумолимо, наподобие гигантского ледника.
После переполоха, вызванного цифрами Бурхгальдтера в 1970 году, Франция сделала давно ожидаемый шаг. Французский Индокитай был наводнен, заполнен китайскими иммигрантами. Франция потребовала прекращения иммиграции, но китайская волна продолжала катиться. Франция сосредоточила стотысячную армию на границе между своей злополучной колонией и Китаем, а Китай послал миллион своих милиционеров. За ними двигалась другая армия — жены, сыновья, дочери и родичи со всем их личным и хозяйственным скарбом. Французскую армию китайцы смели прочь, как надоедливую муху. Солдаты китайской милиции, вместе со своими семьями насчитывавшие свыше пяти миллионов, хладнокровно завладели французским Индокитаем и расположились там на тысячелетнее житье.
Взбешенная Франция стала под ружье. Флот за флотом посылала она к берегам Китая и тем едва не довела себя до банкротства. У Китая не было флота, и он втянул свои силы в глубь территории, как улитка в свою раковину. В течение года французский флот блокировал побережье и бомбардировал покинутые города и деревни. Китай не обращал на это внимания и не обращался к остальному миру. Он преспокойно сидел вдали от огня французских орудий и продолжал работать. Франция выла и вопила, ломала бессильно руки и взывала о помощи к смущенным народам. Наконец она выслала карательную экспедицию с наказом идти походом на Пекин. Армия насчитывала 250 тысяч солдат — это был цвет Франции. Экспедиция не встретила сопротивления и двинулась в глубь страны. Больше ее не видели. Коммуникационные линии были перерезаны на другой же день, и ни один француз не остался в живых, чтобы рассказать о случившемся. Огромная пасть Китая поглотила их всех!
В последующие пять лет экспансия Китая во всех сухопутных направлениях быстро увеличивалась. Частью Китайской империи стали Сиам, Бирма и Малайский полуостров, несмотря на все усилия Англии, они были залиты волной переселенцев; и на всем протяжении южной границы Сибири наступающие орды Китая жестоко теснили Россию. Процесс завоевания был донельзя прост. Прежде всего являлись китайские иммигранты (или, вернее, они уже находились на месте, медленно и настойчиво просочившись в предыдущие годы). Затем раздавался звон оружия, и всякое сопротивление сметалось чудовищной армией милиции, за которой следовали с пожитками их семьи. И наконец, китайцы оседали колонистами на завоеванной территории. Никогда еще история не знала такого странного и действенного способа завоевания мира!
После захвата Непала и Бутана этот страшный живой прилив стал напирать на северную границу Индии. На западе была проглочена Бухара, на юго-западе Афганистан, Персия, Туркестан и вся Средняя Азия чувствовали на себе давление этого потока. Тем временем Бурхгальдтер пересмотрел свои цифры. Оказалось, что он ошибся. Население Китая, должно быть, равнялось 700 — 800 миллионам, — никто не знал в точности, но, во всяком случае, оно скоро должно было дойти до миллиарда. Бурхгальдтер объявил, что на каждого белокожего человека в мире приходится два китайца; и мир затрепетал. Рост Китая, вероятно, начался немедленно, с 1904 года. Вспомнили, что с той поры в Китае ни разу не было голода. При ежегодном приросте в 5 миллионов душ, общий прирост за истекшие семьдесят лет должен был составить 350 миллионов. Но кто мог точно знать? Может быть, он еще больше! Кто мог знать что-нибудь толком об этой странной новой угрозе двадцатого века — о Китае, старом Китае, помолодевшем, плодовитом и воинственном?!
В Филадельфии в 1975 году был созван конвент. На нем были представлены решительно все западные народы и некоторые из ближневосточных, но он оказался безрезультатным. Были разговоры о том, что во всех странах следовало бы назначить премию за детей для повышения рождаемости, но проект был поднят на смех математиками, которые указывали, что Китай далеко опередил всех на этом пути. Никаких действенных средств борьбы с Китаем предложено не было. Объединенные державы обратились к Китаю с угрозами, — и это было все, к чему привел конвент в Филадельфии. А Китай смеялся и над конвентом, и над державами. Ли-Танг-Фвунг, — сила, стоявшая за Троном Дракона, удостоил европейцев таким ответом:
«Какое дело Китаю до содружества наций? — говорил Ли-Танг-Фвунг. — Мы самая древняя, самая почтенная и царственная из рас! Нам предстоит выполнить свою собственную миссию. Правда, неприятно, что наша миссия не совпадает с миссией остального мира, но что же делать? Вы все разглагольствуете о „господствующих расах“ и „наследовании земли“, но мы можем только ответить: „Посмотрим! Вы не можете вторгнуться к нам. Мы не боимся ваших флотов. Не кричите: мы знаем, что наш флот невелик! Как видите, мы пользуемся им только для полицейских целей! Нас не интересует море. Сила наша в населении, численность которого скоро дойдет до миллиарда. Благодаря вам, мы теперь вооружены всей современной военной техникой. Посылайте ваши флоты! Мы будем их игнорировать. Посылайте ваши карательные экспедиции, — но прежде вспомните о Франции! Высадить полмиллиона солдат на наших берегах значило бы для каждого из вас напрячь все свои силы. А наша тысяча миллионов проглотит их одним глотком. Пошлите миллион; пошлите пять миллионов — и мы проглотим их с такой же готовностью. Пуф! Пустяки, жалкие кусочки! Уничтожьте, как угрожали Соединенные Штаты, десять миллионов кули, которыми мы наводнили ваши берега, — что ж, это количество едва ли равняется половине прироста нашего населения за один год“.
Так говорил Ли-Танг-Фвунг. Мир был ошеломлен, уничтожен, терроризован. Китаец сказал правду. Не было возможности бороться с потрясающей рождаемостью Китая! Если его население равнялось миллиарду и увеличивалось на двадцать миллионов в год, то через двадцать пять лет оно должно было составить полтора миллиарда — цифра, равная населению всего земного шара в 1904 году. И ничего с этим нельзя было поделать. Остановить этот неудержимый, чудовищный поток жизни не было возможности. Война была бесполезна. Китай смеялся над блокадой его берегов, он даже приветствовал вторжение! В его огромной пасти было довольно места для всех полчищ земного шара, какие он мог выслать. А тем временем поток желтой расы продолжал изливаться и затоплял Азию. Китай хохотал, читая в своих журналах ученые рассуждения рассеянных западных специалистов.
Но был один ученый муж, которого Китай не оценил — Якобус Ланингдэл. Он даже в сущности не был специалистом — разве что в очень широком смысле. Первоначально Якобус Ланингдэл был исследователем — до того времени весьма малоизвестным преподавателем, работавшим в Департаменте Народного здравоохранения в Нью-Йорке. Голова у Якобуса Ленингдэла была такая же, как всякая другая голова, но в этой голове родилась идея. И этой голове хватило ума держать свою идею в тайне. Он не стал писать статей для журналов, а вместо того попросил отпуск. 19 сентября 1975 года он прибыл в Вашингтон. Был вечер, но он проследовал прямо в Белый Дом, где ему была назначена аудиенция у президента. Он заперся с президентом Мейером на три часа. О том, что между ними происходило, мир узнал лишь спустя долгое время; а в то время мир вовсе не интересовался Якобусом Ланингдэлом. На следующий день президент созвал кабинет. На заседании присутствовал и Якобус Ланингдэл. Заседание было тайное. Но в этот же самый вечер Руфус Каудери, статс-секретарь по иностранным делам, покинул Вашингтон и ранним утром на следующий день отплыл в Англию. Тайна, которую он увозил с собою, получила огласку, но только среди глав правительств. Вероятно, только полдюжины человек в стране знали, какая мысль родилась в голове Якобуса Ланингдэла. Вскоре после этого в доках, арсеналах и на верфях закипела усердная работа. Народы Франции и Австрии подозрительно насторожились, но правительства так искренне призывали их к спокойствию, что они с доверием отнеслись к идущим полным ходом таинственным приготовлениям.
Это была Эпоха Великого Перемирия. Каждая страна торжественно обязалась не воевать ни с какой другой страной. Первым определенным шагом была постепенная мобилизация армий: России, Германии, Австрии, Италии, Греции и Турции. Затем началось движение на Восток. Все дороги, ведшие в Азию, были забиты воинскими поездами. Местом назначения был Китай — вот все, что было известно. Спустя немного времени началось великое движение по морю. Эскадры военных судов отправлялись из каждой страны. Флот шел за флотом, и все они направлялись к берегам Китая. Нации опустошили свои верфи. Они отправляли свои таможенные катера, почтовые суда, плавучие маяки. Они отправляли все до последнего устарелые крейсеры и броненосцы. Не довольствуясь этим, они взялись за торговый флот. По свидетельству статистики, 58 640 коммерческих пароходов, оснащенных прожекторами и скорострельными пушками, были отправлены разными народами в Китай.
А Китай улыбался и ждал. На его сухопутной границе сосредоточились миллионы солдат из Европы. Китай мобилизовал пятикратное число миллионов своей милиции и ждал вторжения. То же самое он сделал и на своем морском побережье. Но Китай был сбит с толку. После всех колоссальных приготовлений вторжения не последовало. Китай ничего не понимал! На великой сибирской границе все было спокойно. Ни города, ни деревни побережья не подверглись даже бомбардировке. Ни разу в истории мир не видел такого мощного собрания военных флотов. Флоты всего мира находились здесь; днем и ночью многотонные броненосцы бороздили волны у берегов Китая — и ничего не случалось! Не делалось даже никаких попыток. Неужели они надеются заставить Китай выползти из своей раковины? Китай улыбался. Неужели они надеются уморить его, взять голодом? Китай опять улыбался.
Но первого мая 1976 года всякий, кто мог находиться в столице империи — Пекине, с его одиннадцатимиллионным населением, — наблюдал бы любопытное зрелище. Он увидел бы, что улицы кишат болтливыми желтокожими зрителями, что каждая голова с косой запрокинута назад, и все косые глаза устремлены в небо. Высоко в небесной синеве увидел бы он крошечную черную точку, в которой по ее странным движениям он угадал бы воздушный корабль. С этих воздушных кораблей, летавших над городом, падали снаряды — странные, безобидные снаряды, трубочки из хрупкого стекла, которые разлетались на тысячи осколков, падая на улицы и крыши. Ничего не было смертоносного в этих стеклянных трубочках. Ничего страшного не происходило, не было даже взрывов. Правда, три китайца были убиты трубками, упавшими им прямо на голову с огромной высоты; но что такое три человека перед ростом рождений в двадцать миллионов? Одна трубка отвесно упала в рыбный пруд в саду и не разбилась. Хозяин дома выловил ее из воды. Он не решился сам вскрыть ее, но в сопровождении своих друзей и окружении толпы, которая все росла, он отнес таинственную трубку участковому магистру. Последний оказался храбрым человеком. У всех на глазах он разбил трубку ударом своего медного чубука. Ничего особенного не случилось! Тем, кто стоял в непосредственной близости, показалось, что из трубки вылетело несколько комаров. И это было все! Толпа залилась смехом и разошлась.
Не только Пекин, весь Китай был бомбардирован стеклянными трубочками. Крохотные аэропланы, поднимавшиеся с военных судов, имели на борту только двух человек, они кружились над городами, местечками и деревнями, причем один управлял машиной, а другой разбрасывал стеклянные трубочки.
Если бы спустя шесть недель тот же наблюдатель опять появился в Пекине, он тщетно стал бы искать его одиннадцать миллионов жителей. Он нашел бы несколько сот тысяч, трупы которых гнили в домах и на опустелых улицах, и были навалены высокими кучами на покинутых погребальных дрогах. Остальных же ему пришлось бы искать по большим и проселочным дорогам империи. Он увидел бы, что не всем удалось бежать из зараженного чумой Пекина; по их следам, по сотням тысяч непогребенных трупов, валяющихся на дорогах, он мог бы отметить направление их бегства. То же самое, что делалось в Пекине, происходило и во всех городах, местечках и селах империи. Всех их настигла чума и мор. Не один мор, и не два; десятки эпидемий. Все страшные формы неизлечимых болезней свирепствовали в стране китайской. Правительство слишком поздно поняло смысл колоссальных приготовлений: перевозки мировых армий, полетов крохотных воздушных кораблей и дождя стеклянных трубочек. Воззвания правительства были ни к чему. Они не могли остановить одиннадцать миллионов запуганных мором, несчастных людей, бежавших из Пекина и разносивших болезни по всей стране. Врачи и чины санитарного надзора умирали на своих постах; всепобеждающая смерть смеялась над декретами императора и Ли-Танг-Фвунга. Она посмеялась и над ним самим.
Ли-Танг-Фвунг умер на вторую неделю, а император, прятавшийся в летнем дворце, скончался в четвертую неделю моровой язвы.
Будь одна только эпидемия, Китай мог бы бороться с нею. Но от десятков болезней не могло быть в безопасности ни одно живое существо. Человек, уцелевший от оспы, умирал от скарлатины. Человека, невосприимчивого к желтой лихорадке, уносила в могилу холера. А если он не боялся холеры, то его уносила Черная Смерть — бубонная чума. Ибо бактерии, микробы и бациллы всех этих болезней, взращенных в лабораториях Запада, обрушились на Китай вместе с градом стеклянных пробирок.
Государственная организация рушилась. Правительство распалось. Декреты и воззвания были бесполезны, раз люди, составляющие и подписывавшие их, через минуту после этого умирали. Обезумевшие миллионы, гонимые смертью, не могли остановиться и никого не слушали. Они бежали из городов, заражая деревни и разнося с собой болезни. Наступило жаркое лето — Якобус Ланингдэл хитро рассчитал время, — и мор свирепствовал повсюду. О многом из того, что происходило, приходилось догадываться, о многом пришлось узнать из рассказов горстки людей, переживших это страшное время. Несчастные люди миллионами скитались по империи. Огромная армия, собранная Китаем на границе, растаяла. Запасы сельских хозяев были разграблены, а новых хлебов не сеяли. Хлеб, уже засеянный, остался без уборки, ибо некому было убирать его. Всего ужаснее, пожалуй, было бегство людей. В нем участвовали многие миллионы, бросившиеся к границам империи, где их останавливали и поворачивали вспять колоссальные армии Запада. Избиение обезумевших полчищ на границах приняло чудовищные размеры. Сторожевая линия Запада отодвигалась на двадцать — тридцать миль, чтобы избежать заразы от бесчисленных мертвецов.
Однажды чума прорвала фронт и начала свирепствовать среди германских и австрийских солдат, охранявших границы Туркестана. На такой случай заранее были сделаны приготовления. И хотя шестьдесят тысяч европейских солдат погибло, но международный корпус врачей изолировал заразу и отогнал ее назад. Во время этой борьбы родилась мысль, что появился новый микроб эпидемии, что каким-то образом между микробами чумы произошла помесь, давшая начало новому и страшно ядовитому микробу. Существование этого микроба первым заподозрил Вомберг, который заразился им и умер. Позднее его выделили и изучали Стивене, Газенфельд, Норман и Ландерс.
Таково было беспримерное нашествие на Китай. Положение миллиарда людей сделалось безвыходным. Запертым в огромной и зараженной бойне, утратившим всякую организацию и связи между собой, им оставалось только умирать. Спасенья не было. Их отбрасывали как от сухопутных границ, так и от моря. Семьдесят пять тысяч судов патрулировали вдоль берегов. Днем их дымящиеся трубы туманили водный горизонт, а ночью ослепительно яркие прожекторы бороздили тьму, не давая улизнуть и самой маленькой джонке. Жалки были попытки бесчисленных флотилий джонок прорваться! Ни одной из них не удалось обмануть морских сторожевых ищеек! Современная военная машина сдерживала дезорганизованную массу китайцев, а эпидемии делали свое дело.
Старая война с ее приемами стала смешна. На ее долю осталась патрульная служба. Китай смеялся над войной и получил войну; но это была ультрасовременная война, война двадцатого века; война ученых и лабораторий, война Якобуса Ланингдэла. Пушки во сто тонн весом были игрушками по сравнению с микроорганическими снарядами, извергавшимися из лабораторий, этими вестниками смерти, этими ангелами разрушения, которые носились по империи, насчитывавшей миллиард душ.
Летом и осенью 1976 года Китай представлял собой кромешный ад. Нигде нельзя было спастись от микроскопических снарядов, которые залетали в самые далекие тайники. Сотни миллионов трупов лежали неубранными. Микробы размножались, и к концу эпидемии ежедневно миллионы людей умирали от голода. Голод ослаблял организмы, разрушая их сопротивляемость микробам. Людоедство, убийства, безумие царили в стране. Так погибал Китай.
Только в феврале следующего года, в самую сильную стужу появились первые экспедиции европейцев. Эти экспедиции были немногочисленны. Их составляли ученые и воинские отряды; но они вступали в Китай со всех сторон. Несмотря на самые тщательные противозаразные меры, немало солдат и несколько врачей заразились. Но разведка мужественно продолжалась. Экспедиции нашли Китай опустошенным. Они нашли разоренную пустыню, по которой шатались стаи диких собак и шайки отчаянных бандитов, уцелевших от эпидемии. Их предавали смерти на месте. И тогда началось великое дело оздоровления Китая. На это ушло пять лет и сотни миллионов денег. А затем на китайскую территорию двинулся остальной мир — не зонами, по идее барона Альбрехта, а разнородными группами, согласно демократической американской программе. В 1982 году и в последующие годы в Китае образовалось счастливое смешение наций; это был колоссальный и успешный эксперимент скрещивания. Известно, к каким блестящим техническим, духовным и художественным результатам привел этот опыт.
В 1987 году был объявлен конец Великому Перемирию, и началась старая вражда между Францией и Германией из-за того же Эльзаса и Лотарингии. В апреле над Европой грозно сгустились черные тучи, и 17 апреля был созван конвент в Копенгагене. Так как на нем присутствовали все народы мира, то все нации торжественно обязались никогда не применять друг против друга лабораторной войны, которую они пустили в ход при нашествии на Китай.
Извлечено из «Исторических Опытов» Уолта Мервина.
Враг всего мира
Чудо-ученый и архивраг человечества Эмиль Глюк был наконец пойман Сайласом Бэннермэном. Показания Глюка, которые он дал перед тем, как сесть на электрический стул, проливают свет на ряд загадочных, явно не связанных между собой событий, которые так всполошили мир в 1933 и в 1941 годах. А до тех пор, пока не был опубликован этот удивительный документ, мир и не подозревал, что существует какая-то связь между убийством короля и королевы Португалии и гибелью нью-йоркских полицейских. Хотя деяния Эмиля Глюка носят отвратительный характер, мы не можем не испытывать некоторой жалости к этому несчастному уроду и отверженному гению. Эта сторона его биографии никогда не освещалась, но, ознакомившись с его признанием и изучив большое количество свидетельских показаний, документов и мемуаров того времени, мы можем довольно точно воссоздать образ Эмиля Глюка и выявить, под влиянием каких факторов и обстоятельств сформировалось это чудовище в человеческом облике и что толкнуло его на страшный путь преступлений.
Эмиль Глюк родился в городе Сиракузы, штат Нью-Йорк, в 1895 году. Отец его, Джозеф Глюк, был ночным сторожем и состоял в специальной полиции. В 1900 году он внезапно скончался от воспаления легких. Мать Эмиля Глюка, хорошенькое хрупкое создание, до замужества была модисткой. Убитая горем, она ненадолго пережила своего мужа. Впечатлительность, передавшаяся мальчику по наследству от матери, получила в нем патологически страшное развитие.
В 1901 году Эмиль, которому исполнилось тогда шесть лет, стал жить у своей тетки, миссис Энн Бартелл. Она была сестрой его матери, но не испытывала никаких теплых чувств к робкому, впечатлительному мальчику. Энн Бартелл была тщеславной, пустой и бессердечной женщиной. Живя в постоянной нужде, она к тому же вынуждена была содержать ленивого сумасброда-мужа. Маленький Эмиль Глюк оказался нежеланным прибавлением семейства, и, уж конечно, Энн Бартелл не преминула внушить это несчастному мальчику. Для того, чтобы показать, как с ним обращались в юные годы, достаточно привести следующий случай.
Прожив в доме Бартеллов немногим более года, Эмиль сломал ногу. Он потерпел увечье, свалившись с крыши — этого запретного места для игр, куда все мальчишки всегда лазили и будут лазить до скончания века. Берцовая кость была переломлена в двух местах. С помощью перепугавшихся товарищей Эмиль сумел дотащиться до тротуара, где потерял сознание. Соседские дети боялись сварливой, с резкими чертами лица женщины, которая была главой в доме Бартеллов; однако, набравшись храбрости, они все же позвонили и сообщили ей о несчастном случае. Но она даже не взглянула на мальчика, лежавшего без памяти на тротуаре, и, хлопнув дверью, вернулась к своей лохани с мокрым бельем. Время шло. Стал накрапывать мелкий дождик, а Эмиль, уже пришедший в сознание, все еще лежал на тротуаре и плакал.
Следовало немедленно вправить ногу. Как всегда бывает в таких случаях, быстро поднялась температура, и положение ребенка стало угрожающим. Часа через два, после того, как возмущенные соседки пристыдили Энн Бартелл, она вышла поглядеть на мальчика. Ткнув в бок лежавшего у ее ног беспомощного ребенка, истеричная женщина отреклась от него. Она кричала, что это не ее ребенок и что надо вызвать карету «скорой помощи» и отвезти его в приемный покой городской больницы. Затем она вернулась в дом.
Но нашлась одна женщина, Элизабет Шепстоун, которая, узнав, в чем дело, велела положить мальчика на снятый ставень, вызвала доктора и, оттолкнув Энн Бартелл, распорядилась внести мальчика в дом. Как только прибыл доктор, Энн Бартелл предупредила, что не заплатит ему за услуги. Целых два месяца маленький Эмиль не покидал постели. Весь первый месяц он лежал на спине, и никто ни разу не перевернул его. Никто не ухаживал за ним, он лежал в одиночестве, и только изредка его бесплатно навещал перегруженный работой доктор. У него не было игрушек или чего-либо такого, что помогло бы ему скоротать томительно тянувшиеся дни болезни. Никто не сказал ему ни единого ласкового слова, никто не утешал его, гладя по головке, он не испытал ни единого проявления нежности и заботы… ничего, кроме упреков и грубостей со стороны Энн Бартелл, которая все время повторяла, что он ей не нужен. И вполне понятно, как в таком окружении в душе заброшенного, одинокого ребенка возникла ожесточенность и враждебность к роду человеческому, которая позже проявилась втакой форме, что ужаснула весь мир.
Как ни странно, но именно благодаря Энн Бартелл Эмиль Глюк получил высшее образование. А объяснение этому простое. Муж-сумасброд, покинув ее, напал на золотую жилу в Неваде и вернулся домой миллионером. Энн Бартелл, ненавидевшая мальчика, немедленно отправила его за сотню миль в Фарристаунскую частную школу. Застенчивый и впечатлительный, одинокий и непонятый человечек, в Фарристауне он был одинок, как никогда. Он ни разу не ездил домой, как другие мальчики, в дни каникул и праздников. Вместо этого он бродил по пустынным зданиям и окрестностям, пытался заводить дружбу с не понимавшими его слугами и садовниками и, как вспоминают, проводил дни в полях или у камина, уткнувшись носом в какую-нибудь книгу. Именно тогда он и натрудил себе глаза и был вынужден с тех пор носить очки, которые так знакомы нам по фотографиям, опубликованным в газетах в 1941 году.
Он оказался способным учеником. Уже с одним таким прилежанием, какое было у него, он мог пойти далеко, но дело даже не в его усидчивости. Ему достаточно было бросить один взгляд в текст, и он уже знал его в совершенстве. Это привело к тому, что он прочел огромное количество дополнительной литературы и за полгода приобрел знаний больше, чем средний ученик за пять лет. В 1909 году, когда ему едва исполнилось четырнадцать лет, он был уже подготовлен («оолее, чем подготовлен», как сказал директор школы) к поступлению в Иейльский или Гарвардский университет. Но по молодости лет он еще не мог поступить ни в одно из этих учебных заведений и в 1909 году был принят в старинный Баудойнский колледж. В 1913 году он закончил его с высшими наградами и тотчас уехал вместе с профессором Брэдлафом в Беркли, в Калифорнию. За всю жизнь у Эмиля Глюка был один-единственный друг — профессор Брэдлаф. Из-за слабых легких профессору пришлось переехать из штата Мэн в Калифорнию. Этому способствовало еще и то обстоятельство, что ему предложили кафедру в университете штата. В течение 1914 года Эмиль Глюк жил в Беркли и слушал специальный курс по различным отраслям науки. В конце того же года не стало двух человек, смерть которых спутала его планы на жизнь. В лице профессора Брэдлафа он потерял единственного друга, а смерть Энн Бартелл лишила его средств к существованию. Ненавидя несчастного юношу до конца дней своих, она лишила его наследства, оставив ему всего сто долларов.
В следующем году двадцатилетний Эмиль Глюк стал преподавателем химии в Калифорнийском университете. Там он провел несколько спокойных лет и выполнял нудные, будничные обязанности, честно отрабатывая причитавшееся ему жалованье. Он не прекращал учебы и набрал полдюжины степеней. Он стал, между прочим, доктором социологии, доктором философии и доктором естественных наук, хотя позже был известен людям только как профессор Глюк.
Когда ему исполнилось двадцать семь лет, он опубликовал книгу «Секс и прогресс», и имя его впервые замелькало на страницах газет. Книга эта и по сей день остается одним из основополагающих трудов по истории и философии брака. Семьсот страниц пухлого тома содержат тщательно подобранный научный материал и оригинальные выводы. Книга была предназначена для ученых и совсем не рассчитана на сенсацию. Но в последней главе Глюк упомянул чисто гипотетически о желательности пробных браков, отведя им буквально три строчки. Газеты сразу же ухватились за эти три строчки и так «раздули дело», как выражались в те дни, что заставили весь мир смеяться над двадцатисемилетним молодым близоруким профессором Глюком. Его снимали фотографы, осаждали репортеры, женские клубы по всей стране принимали резолюции, осуждавшие его безнравственные теории, а в законодательном собрании штата при обсуждении вопроса об ассигнованиях было выдвинуто предложение не ассигновать университету положенных сумм, пока Глюк не будет уволен. (Конечно, никто из обвинителей не читал книги, для них было достаточно трех строчек, преподнесенных газетами в искаженном виде.) С того времени Эмиль Глюк возненавидел газетчиков. Из-за них серьезный и представляющий научную ценность труд шести лет был выставлен на посмешище и стал одиозным. Хотя они потом и пожалели об этом, но он до конца дней так и не простил их.
Газеты виноваты и еще в одной неприятности, обрушившейся на Глюка. В течение пяти лет после издания книги он хранил молчание, а такая замкнутость не предвещает ничего хорошего для одинокого человека. И можно лишь с сочувствием представить себе, как ужасно одинок был Эмиль Глюк в своем многолюдном университете, потому что у него не было друзей, которые могли бы оказать ему моральную поддержку. Единственным утешением его были книги, и он с головой погрузился в чтение и занятия.
Но в 1927 году он принял приглашение выступить перед «Обществом человеческих интересов» Эмеривилля. Он не решился говорить без подготовки, и вот сейчас перед нами лежит экземпляр его заранее написанной речи. Она сдержанна, сугубо научна, суха и, следует отметить, отражает довольно консервативные позиции оратора. Но в своей речи он упомянул о (цитирую по рукописи) «…промышленной и социальной революции, которая происходит в обществе».
Репортер, присутствовавший на собрании, ухватился за слово «революция», вырвал его из контекста и написал искаженное сообщение о собрании, в котором изобразил Эмиля Глюка настоящим анархистом. Сразу же сообщение об «анархисте профессоре Глюке» было передано по проводам и помещено на первых страницах всех газет страны.
В первый раз Глюк еще пытался отвечать на нападки прессы, но теперь он молчал. Он ожесточился. Профессора и преподаватели советовали ему написать опровержение, но он угрюмо отклонил их предложение и даже, когда ему угрожали увольнением, отказался представить в свое оправдание текст произнесенной речи. Он не пожелал подать в отставку и был исключен из числа преподавателей университета. Следует добавить, что на председателя и членов правления университета было оказано политическое давление.
Гонимый, оклеветанный, непонятый и одинокий, бедняга даже не пытался постоять за себя. Всю жизнь ему подстраивали всякие пакости, но сам он никому не делал зла. Однако он еще не был настолько ожесточен, чтобы окончательно выйти из себя. Потеряв место и не имея никаких средств к существованию, он был вынужден приняться за поиски работы. Сначала он поступил на судостроительный завод «Юнион айрон уоркс» в Сан-Франциско, где проявил себя очень способным конструктором. Именно здесь он детально ознакомился с линейными кораблями и их устройством. Но репортеры и тут не оставили его в покое и детально описали в газетах его новое занятие.
Он тотчас уволился и нашел другое место, но после того, как репортеры заставили его раз пять переменить занятие, он закалился и перестал обращать внимание на травлю, которую ему устроила пресса.
Это было уже тогда, когда он открыл гальванопластическую мастерскую на Телеграф-авеню в Окленде. На его маленьком предприятии работали три мастера и два ученика. Сам он тоже очень много трудился. Как показал на суде полицейский Кэрью, Глюк редко покидал мастерскую раньше часу ночи. Именно в этот период своей жизни он усовершенствовал систему зажигания для двигателей внутреннего сгорания и запатентовал ее, что потом сделало его богатым.
Эмиль Глюк открыл свою мастерскую ранней весной 1928 года, того самого года, когда он так неудачно влюбился в Айрин Тэкди. Теперь трудно себе представить, чтобы любовь такого необыкновенного существа, каким был Эмиль Глюк, могла быть обыкновенной. К тому, что мы говорили о его гениальности, одиночестве и болезненной впечатлительности, следует добавить, что он совсем не знал женщин. Из-за своей неопытности он не сумел выразить обуревавшие его чувства обычным путем, а чрезмерная робость привела его к весьма необычным изъявлениям любви.
Айрин Тэкли была довольно хорошенькой, но пустой и легкомысленной молодой женщиной. В то время она работала в небольшой кондитерской, находившейся напротив мастерской Глюка. Он часто захаживал в кондитерскую и, не спуская с девушки глаз, пил там прохладительные напитки. Девушка, кажется, была к нему совершенно равнодушна и просто кокетничала с ним. Она говорила, что он «чудной», и даже как-то назвала его «тронутым», рассказывая, как он сидит у стойки и пялит на нее глаза сквозь очки, как он краснеет и заикается, когда она смотрит на него, и как часто он в смущении стремительно выбегает из кондитерской.
Глюк делал ей поразительные подарки. Он подарил ей серебряный чайный сервиз, кольцо с бриллиантом, меха, театральный бинокль, скучнейшую многотомную «Историю мира» и мотоцикл, весь отникелированный в его собственной мастерской. Этим подношениям положил конец любовник девушки, который разгневался и заставил ее вернуть Глюку странный ассортимент подарков.
Этот человек по имени Уильям Шербурн — грубое, тупое существо с тяжелой челюстью, выбился из рабочих в весьма удачливые мелкие подрядчики. Глюк ничего не понимал. Он попытался объясниться с девушкой, когда она возвращалась вечером с работы. Она пожаловалась Шербурну, и тот однажды подстерег и избил Глюка. Это была очень жестокая трепка, о чем свидетельствует запись в регистрационной книге больницы «Скорой помощи», куда в ту же ночь попал Глюк и где он оставался на излечении в течение целой недели.
Но Глюк так ничего и не понял. Он продолжал свои попытки объясниться с девушкой. Боясь Шербурна, он обратился к начальнику полиции с просьбой разрешить ему носить при себе револьвер. В просьбе ему было отказано, а газеты, по своему обыкновению, сделали из этого сенсацию. А тут как раз произошло убийство Айрин Тэкли. Это случилось в субботу вечером, за шесть дней до ее свадьбы с Шербурном. Она допоздна работала в кондитерской, откуда ушла после одиннадцати часов с недельным жалованьем в сумочке. Она доехала на трамвае по Сан-Пабло-авеню до Тридцать четвертой улицы, где сошла и отправилась пешком к своему дому, который находился в трех кварталах от трамвайной остановки. В живых ее больше не видели. На другое утро труп ее был найден на каком-то пустыре.
Эмиля Глюка тотчас арестовали. Ничто не могло спасти его. Прямых улик не было, его обвинили на основании свидетельских показаний, состряпанных оклендской полицией. Нет сомнений в том, что большая часть показаний была попросту сфабрикована. Показания капитана Шехана оказались явным лжесвидетельством, и уже гораздо позже было доказано, что в ту самую ночь «свидетеля» не только не было поблизости от места, где произошло убийство, но что он вообще находился тогда за городом в одном заведении на Санлеандрской дороге.
Несчастный Глюк был приговорен к пожизненному заключению в Санквентинской тюрьме, но газеты и публика считали приговор судебной ошибкой и требовали для него смертной казни.
Глюк прибыл в Санквентинскую тюрьму 17 апреля 1929 года. Тогда ему было тридцать четыре года. И вот целых три с половиной года (причем большую часть этого срока он провел в одиночном заключении) ему предоставили на размышления о людской несправедливости. Именно в этот период его ожесточение достигло апогея, и он стал ненавистником всего рода человеческого. В тот же период он написал свой знаменитый трактат «О человеческой этике», незаурядную брошюру «Разумный преступник» и разработал ужасный, чудовищный план мести. Некое событие, приключившееся с ним, когда он еще работал в своей мастерской, подсказало ему идею уникального орудия мести. Как пишет сам Глюк в своих показаниях, во время пребывания в тюрьме он разработал теоретически каждую деталь прибора и, оказавшись на свободе, мог сразу же приступить к мщению.
Освобождение его вызвало сенсацию. Но и оно было преступно оттянуто из-за бездушной бюрократической волокиты, бытовавшей в то время. В ночь на 1 февраля 1932 года во время попытки ограбления одного из жителей Пьемонтских холмов был смертельно ранен бандит Тим Хэсуэлл. Он прожил еще три дня и за это время не только признался в убийстве Айрин Тэкли, но и предоставил убедительные доказательства своего преступления. Он указал как на соучастника на заключенного Фолсомской тюрьмы Берта Дэнникера, умиравшего от чахотки, и тот тоже признался. Сегодня мы даже вообразить себе не можем, какая путаница и волокита существовали в судопроизводстве поколение назад. Доказательства невиновности Эмиля Глюка были представлены в феврале, а из тюрьмы он был выпущен лишь в октябре. Несправедливо осужденный, он в течение еще восьми месяцев был вынужден подвергаться незаслуженному наказанию. Это отнюдь не способствовало улучшению его настроения, и мы легко можем представить себе, сколько горечи накопилось в его душе за эти томительные восемь месяцев.
Он оказался на свободе осенью 1932 года, и снова его имя замелькало на первых страницах газет. Вместо того, чтобы выразить сожаление по поводу случившегося недоразумения, газеты в поисках сенсации продолжали по-прежнему травить его. Газета «Сан-Франциско интеллидженсер» пошла даже дальше. Ее редактор Джон Хартуэлл придумал остроумную версию, в которой игнорировались признания двух преступников и содержалась попытка доказать, что в конечном счете в убийстве Айрин Тэкли виноват Глюк. Хартуэлл умер. Умер и Шербурн, а полицейский Филиппе был ранен в ногу и уволен из оклендской полиции.
Убийство Хартуэлла долго оставалось неразрешимой загадкой. Он был один в своем кабинете. Револьверные выстрелы услышал редакционный курьер. Он вбежал в комнату и увидел в кресле умирающего Хартуэлла. Полиция ломала себе голову, каким образом его собственный револьвер, находившийся в запертом ящике стола, вдруг стал стрелять. Пули пробили ящик и поразили Хартуэлла в живот. Полиция отвергла версию о том, что здесь имело место самоубийство, мысль об убийстве была сочтена абсурдной, и ответственность за происшествие была возложена на компанию «Эврика», занимавшуюся производством патронов. Полицейские считали, что произошли самопроизвольные выстрелы, и химикам компании пришлось натерпеться страху во время следствия. Но полиция не знала, что комнату номер 633 в доме, находившемся как раз напротив редакции, снимал Эмиль Глюк, который и был в ней в то самое время, когда раздались непонятные выстрелы из револьвера Хартуэлла.
Тогда никто не видел никакой связи между смертью Хартуэлла и смертью Уильяма Шербурна. Шербурн все еще жил в том самом доме, который он построил для Айрин Тэкли, и однажды утром, в январе 1933 года, его нашли там мертвым. Следствие установило, что причиной смерти явилось самоубийство, так как Шербурн был застрелен из собственного револьвера. В ту же ночь случилось еще одно любопытное событие. У дома Шербурна подстрелили полицейского Филиппов. Он дополз до полицейского телефона, находившегося на углу, и вызвал «скорую помощь». Полицейский утверждал, что кто-то сзади выстрелил ему в ногу. Нога его была размозжена тремя пулями тридцать восьмого калибра, и ее пришлось ампутировать.
Но когда в полиции узнали, что увечье было нанесено выстрелами из собственного револьвера Филиппов, его подняли на смех и обвинили в том, что он был пьян. Несмотря на его уверения, что он в рот не брал спиртного и не притрагивался к револьверу, лежавшему в заднем кармане брюк, Филиппов выгнали из полиции. Признание Глюка, которое он сделал шесть лет спустя, сняло с несчастного полицейского обвинение в позорном поступке. В настоящее время он находится в добром здравии и получает от города приличную пенсию.
Расправившись со своими личными врагами, Эмиль Глюк искал теперь более широкое поле деятельности, хотя его ненависть к газетчикам и полицейским по-прежнему оставалась неудовлетворенной. Пока он находился в тюрьме, процентные отчисления с дохода компаний, использовавших изобретенную им систему зажигания для двигателей внутреннего сгорания, поступали на его счет в банк, и с каждым годом его состояние все увеличивалось. Он был независим, мог ехать куда угодно и удовлетворить свое чудовищное желание мстить.
Он стал маньяком и анархистом, причем не идейным, а каким-то диким анархистом. Может быть, это не то слово и его лучше назвать нигилистом и террористом. Но известно, что он не входил ни в одну террористическую организацию. Он действовал в одиночку, но нагнал на людей в тысячу раз больше страха и произвел в тысячу раз больше разрушений, чем все террористические организации, вместе взятые.
Он ознаменовал свой отъезд из Калифорнии взрывом Форта Мейсон. В своих показаниях он говорил об этом как о маленьком эксперименте (он, мол, просто набивал себе руку). Восемь лет он бродил по свету, сея ужас, причиняя убытки на сотни миллионов долларов, губя людей без счета. Благоприятным последствием его злодеяний было лишь то опустошение, которое он произвел в рядах самих террористов. Каждый раз, когда он совершал какое-нибудь преступление, полиция хватала всех террористов, оказавшихся поблизости, и многие из них были казнены. Только в одном Риме после убийства итальянского короля было казнено семнадцать человек.
Самым потрясающим деянием его было, пожалуй, убийство короля и королевы Португалии. Это произошло в день их бракосочетания. Против террористов были приняты все возможные меры предосторожности. Улицы, ведущие к собору, были оцеплены двойной шеренгой солдат, а королевский экипаж охраняли две сотни кавалеристов. И вдруг случилась поразительная вещь. Автоматические винтовки кавалеристов, как и винтовки стоявших поблизости пехотинцев, начали стрелять. Поднялась паника, дула стреляющих винтовок были направлены во все стороны. Побоище было ужасным — лошади, солдаты, зрители, король и королева оказались изрешеченными пулями. Дело осложнилось еще и тем, что среди теснившейся за цепью солдат толпы у двух террористов, которые находились поодаль друг от друга, взорвались бомбы. Террористы намеревались бросить эти бомбы в королевскую чету, если бы представилась такая возможность. Но кто знал, что случится? Страшное опустошение, произведенное взорвавшимися бомбами, усилило панику. Полагали, что взрывы входили в планы нападавших.
Одного нельзя было лишь объяснить — поведения солдат в тот момент, когда их винтовки стали стрелять. Никто не мог поверить, что они тоже участвовали в заговоре. Однако от их пуль погибли сотни людей, в том числе и король с королевой. С другой стороны, еще в большее недоумение приводил тот факт, что семьдесят процентов самих солдат было убито или ранено. Некоторые объясняли это тем, что верные своему долгу солдаты, из числа тех, кто присутствовал во время нападения на королевский экипаж, открыли огонь по предателям. Но хотя многие из оставшихся в живых были подвергнуты пытке, ни один из них не дал показаний, подтверждавших эту версию. Они упрямо твердили, что вообще не стреляли из своих винтовок и что винтовки стали стрелять сами. Проводившие экспертизу химики посмеялись над ними, заявив, что один патрон, начиненный новым бездымным порохом, мог еще самопроизвольно взорваться, но абсолютно исключали возможность того, чтобы все патроны в данном районе взорвались одновременно. В конце концов это поразительное происшествие так и не получило объяснения.
По общему мнению, сложившемуся в других странах мира, все это дело явилось результатом паники, созданной экспансивными латинянами после взрыва двух бомб, брошенных террористами. И в этой связи припоминали смешной случай, который произошел много лет тому назад, когда разыгралось сражение между русским флотом и английскими рыбачьими лодками.
Эмиль Глюк посмеивался и продолжал свое черное дело. Он-то знал, что случилось. Но откуда об этом мог ведать мир? Глюк случайно открыл секрет своего оружия, когда еще работал в гальванопластической мастерской на Телеграф-авеню в городе Окленде. Как-то «Тэрстон Пауэр компани» установила радиостанцию неподалеку от его мастерской. И через некоторое время гальваническая ванна вышла из строя. Обмотка аппаратуры замкнулась во многих местах. Осматривая повреждения. Глюк обнаружил в местах замыканий мелкие спайки. Замкнутый накоротко ток накалил обмотку, раствор закипел, и работа стала. Но что вызвало замыкание? Глюк задумался. Ход его рассуждений был прост. До установки радиостанции аппаратура работала хорошо. Она вышла из строя только после установки радиостанции. Следовательно, причиной этого была работа радиостанции. Но что же произошло? Ответ на этот вопрос был найден быстро. Если электромагнитные волны способны заставить слипаться железные опилки когерера, находящегося за океаном в трех тысячах миль от передатчика, то электромагнитные волны, излучаемые радиостанцией, находящейся всего в четырехстах футах от мастерской, могли вызвать тот же эффект в плохо изолированных местах обмотки. В то время Глюк не проявил особого интереса к этому явлению. Он просто перемотал обмотку и продолжал заниматься гальванопластикой. Но потом, в тюрьме, он вспомнил об этом случае, и его осенило. Он понял, что может создать бесшумное, незаметное оружие, с помощью которого будет вершить свою месть. Его великое открытие, которое он унес с собой в могилу, заключалось в том, что он умел создавать направленные электромагнитные волны любой мощности. В то время эта проблема не была еще решена радиоинженерами, как, впрочем, она не решена и теперь. Но Эмиль Глюк, сидя в тюремной камере, сумел докопаться до ее сути. А выйдя на волю, он осуществил свою идею. Умея направлять электромагнитные волны, он довольно просто вызывал искру в пороховых погребах форта, в снарядах на линкоре или в патронах револьверов. Он мог не только взрывать на расстоянии порох, ему удавалось вызывать пожары. При его участии начался большой бостонский пожар, но, как он заявил в своих показаниях, это была чистая случайность, правда, добавил он, пожар явился для него приятной неожиданностью, о которой он потом никогда не сожалел.
Некто иной, как Эмиль Глюк, вызвал ужасную германо-американскую войну, которая унесла около восьмисот тысяч жизней и потребовала почти неисчислимых затрат. Следует вспомнить, что в 1939 году, вследствие Пикардского инцидента, отношения между двумя странами были напряженными. И хотя интересы Германии были несколько ущемлены, тем не менее она не хотела войны и в знак своих мирных намерений послала кронпринца и эскадру из семи линейных кораблей с дружественным визитом в Соединенные Штаты Америки. В ночь на пятнадцатое февраля семь броненосцев стали на якорь в Гудзоновом заливе напротив Нью-Йорка.
В ту же ночь Эмиль Глюк, захватив свой аппарат, вышел на катере в море. Этот катер, как выяснилось впоследствии, он приобрел у «Росс Тэрнер компани», а детали аппарата, пущенного в ход в ту ночь, — на заводе «Коламбиа электрик». Но тогда об этом никто не знал. Известно было только то, что семь броненосцев взлетели на воздух один за другим с интервалом между взрывами ровно в четыре минуты. Погибло девяносто процентов матросов и офицеров, в том числе и кронпринц.
За много лет до этого события на рейде Гаваны был взорван американский линкор «Мэн», после чего тотчас же началась война с Испанией, хотя тогда существовали законные сомнения относительно того, был ли взрыв результатом диверсии или случайности. Но взрыв семи броненосцев с интервалами в четыре минуты объяснить случайностью уже было нельзя. Германия считала, что взрывы произведены подводной лодкой, и немедленно объявила войну. И только через шесть месяцев после признания Глюка она вернула Соединенным Штатам Филиппины и Гавайские острова.
Тем временем злой волшебник и человеконенавистник Эмиль Глюк разрушительным смерчем носился по земле. Он не оставлял следов. С научной тщательностью он уничтожал все улики. Обычно он снимал комнату или дом и тайком устанавливал там свою аппаратуру, которую, между прочим, так усовершенствовал и упростил, что она занимала очень мало места. Осуществив намеченный план, он осторожно увозил аппаратуру. Такая осторожность сулила ему долгую жизнь и множество ужасных преступлений.
Весьма приметным делом была эпидемия самострелов среди нью-йоркских полицейских. Она стала одной из самых кошмарных тайн того времени. Всего за две недели более сотни полицейских получили ранения в ногу из собственных револьверов. Инспектор Джонс не разрешил этой загадки, но в конце концов он перехитрил Глюка. По его рекомендации полицейские перестали носить револьверы, и больше происшествий с самопроизвольными выстрелами не было.
Ранней весной 1940 года Глюк уничтожил судоверфь на острове Мэр. Из своей комнаты в Вальехо он послал электромагнитный луч через пролив в сторону острова Мэр. Сначала он направил его на линкор «Мэриленд». Корабль стоял в доке у минногосклада. На его носовой палубе была временно сооружена огромная деревянная платформа, на которой лежало более сотни мин. Эти мины предназначались для обороны Золотых Ворот. Любая из них могла уничтожить десяток линкоров, а всего этих мин насчитывалось больше сотни. Разрушения были ужасны, но это было только начало. Глюк направил луч на побережье острова Мэр и взорвал пять торпедных катеров, склад снарядов и большое хранилище боеприпасов в восточной оконечности острова. Поведя луч к западу, он по дороге зацепил несколько отдельных складов, находившихся на холмах в глубине острова, взорвал три крейсера и линкоры «Орегон», «Делавэр», «Нью-Хемпшир» и «Флорида», причем последний только что вошел в сухой док, и этот великолепный док был уничтожен вместе с кораблем.
Ужасная катастрофа потрясла всю страну. Но она не шла в сравнение с тем, что случилось позже. Ранней осенью того же года Эмиль Глюк смел с лица земли все, что находилось, на атлантическом побережье страны от Мэйна до Флориды. Форты, береговые оборонительные сооружения всех видов, склады мин, торпед и других боеприпасов взлетели на воздух. Три месяца спустя, в середине зимы, он таким же ошеломляющим ударом опустошил северное побережье Средиземного моря от Гибралтара до Греции.
Все страны были охвачены страхом. Никто не сомневался, что все эти разрушения — дело рук человеческих, но из-за беспристрастности Эмиля Глюка не менее ясно было и то, что разрушительную работу ведет не одна какая-либо определенная страна. Очевидно было лишь одно: какие бы люди ни стояли за этим, они представляют угрозу для всего мира. Ни одна страна не могла считать себя гарантированной от разрушений. Никакие оборонительные меры не могли быть приняты против таинственного и всемогущего врага. Орудия ведения войны были бесполезны; мало сказать, бесполезны, иметь их — значило подвергаться угрозе. На год прекратилось производство пороха, а все солдаты и матросы были удалены из военных укреплений и с кораблей. А на совещании держав, состоявшемся в то время в Гааге, даже началось серьезное обсуждение вопроса о всеобщем разоружении.
Но тут сотрудник секретной службы Соединенных Штатов Сайлас Бэннермэн арестовал Эмиля Глюка и прославился на весь мир. Сначала Бэннермэна подняли на смех, но он так хорошо подготовил дело, что в течение нескольких недель убедил в виновности Глюка даже самых закоренелых скептиков. Однако Бэннермэн так и не смог объяснить даже самому себе, почему ему вдруг пришло в голову, что Эмиль Глюк причастен к жестоким преступлениям. Правда, Бэннермэн выполнял в Вальехо секретное правительственное задание и был там во время взрыва острова Мэр, правда и то, что на улицах Вальехо он видел Эмиля Глюка, на которого ему указали, как на подозрительного чудака, но тогда Глюк не произвел на него никакого впечатления. И только во время своего отпуска в Скалистых горах, читая сообщения о разрушениях на атлантическом побережье, Бэннермэн вдруг вспомнил об Эмиле Глюке. И тут же ему пришла в голову мысль, что имеется какая-то связь между Глюком и разрушениями. Это была только гипотеза, но ее оказалось достаточно, чтобы дать пищу для размышлений. Великое дело — создание гипотез, которые сами по себе являются продуктом подсознательной работы мозга. Явление это так же необъяснимо, как необъяснимо, например, внезапное озарение, приведшее Ньютона к открытию закона всемирного тяготения.
Остальное оказалось нетрудным. «Где был Глюк, когда по атлантическому побережью пронесся ураган разрушений?» — спросил себя Бэннермэн. По его собственной просьбе ему поручили расследовать это дело. Он тотчас же установил, что ранней осенью 1940 года Глюк разъезжал по атлантическому побережью. Он также установил, что во время эпидемии самострелов среди полицейских Глюк был в Нью-Йорке, «А где Глюк теперь?» — продолжал спрашивать себя Бэннермэн. И, словно в ответ на этот вопрос, стали поступать сообщения о повальных разрушениях на Средиземном море.
Бэннермэн знал, что месяц тому назад Глюк выехал в Европу. Бэннермэну даже не потребовалось ехать туда самому. Сопоставляя телеграфные сообщения о разрушениях и сведения, предоставляемые сотрудничавшими с ним европейскими секретными службами, Бэннермэн проследил путь Глюка по всему Средиземноморью и установил, что каждый раз прибытие Глюка на новое место совпадало по времени с очередным взрывом береговых укреплений и военных кораблей. Он также выяснил, что Глюк только что отплыл на лайнере «Плутоник» компании «Грин стар» в Соединенные Штаты.
Бэннермэну все было ясно, оставалось только до прибытия Глюка уточнить некоторые детали. В этом ему умело помог Джордж Браун, специалист из радиокомпании «Вуд систем». Когда «Плутоник» показался на траверзе Сэнди Хук; к нему подошел военный катер. Бэннермэн поднялся на борт корабля и арестовал Эмиля Глюка.
Потом состоялся суд. Глюк во всем признался. Давая показания, он выразил сожаление лишь о том, что действовал слишком медленно. Он сказал, что если бы он мог представить себе, что его когда-нибудь арестуют, он бы поторопился и разрушений было бы в тысячу раз больше.
Глюк умер и унес с собой в могилу свой секрет, хотя, как теперь стало известно, представители французского правительства сумели проникнуть к нему и предложили ему миллиард франков за его изобретение, которое заключалось в том, что он мог создавать мощное направленное электромагнитное излучение. «Что? — спросил Глюк. — Продать его, чтобы дать вам возможность поработить и угнетать бедное человечество? Ничего не выйдет!»
И хотя военные министерства всех стран продолжали проводить изыскания в своих секретных лабораториях, им так и не удалось раскрыть тайну изобретения Эмиля Глюка.
Эмиль Глюк казнен 4 декабря 1941 года в возрасте сорока шести лет. Так не стало самого несчастного в мире гения, человека колоссального интеллекта, огромные способности которого никогда не были использованы для добрых дел и получили такое извращенное развитие, что обладатель их стал самым удивительным из всех преступников.
Из книги мистера А.Г. Бэрнсайда «Оригинальные преступники», публикуется с разрешения издательства «Холидей и Уитсанд».
Мечта Дебса
В тот день я проснулся на час раньше обычного. Это было в высшей степени удивительно, и я лежал, широко раскрыв глаза, охваченный каким-то смутным беспокойством. Я не мог понять, в чем дело. Меня угнетало предчувствие: случилось или должно было вот-вот случиться нечто страшное, Но что? Я попытался собраться с мыслями и вспомнил, как после землетрясения 1906 года многие утверждали, что незадолго до первого толчка они испытали необъяснимое чувство страха. Неужели Сан-Франциско снова постигнет землетрясение?
Я затаил дыхание, тупо ожидая, что вот-вот раздастся грохот, зашатаются стены, посыпятся кирпичи. Но все было тихо. Так вот что меня поразило — тишина! Я не слышал привычного шума большого города, и это, естественно, вызывало беспокойство. Обычно в такое время дня мимо моего дома каждые три минуты бежали трамваи, а тут ни одного вагона за десять минут. Верно, забастовали трамвайщики, подумал я, или отключили энергию из-за какой-нибудь аварии. Но нет, тишина была слишком глубокой. Не дребезжали колеса, не скрежетали тормоза, не стучали копыта по поднимающейся в гору мостовой.
Я нажал кнопку звонка подле кровати и прислушался, хотя отлично знал, что на третьем этаже колокольчика не слышно, даже если звонок действовал. Звонок действовал, ибо минуты три спустя вошел Браун с завтраком на подносе и утренней газетой. Лицо его было бесстрастно, как всегда, но во взгляде я заметил тревогу и ожидание. Кроме того, на подносе не было сливок.
— Сливок сегодня не принесли, — объяснил он, — и хлеба тоже.
И в самом деле на подносе я не увидел французских булочек, вместо них лежали ломтики получерствого, оставшегося, верно, от вчерашнего обеда, хлеба из грубой муки, который я терпеть не мог.
— Сегодня ничего не доставили, сэр, — извиняющимся тоном начал Браун, но я прервал его:
— А газета?
— Только газету и принесли, сэр, но завтра газеты тоже не будет. Она не выйдет — так там написано. Может быть, послать за сгущенным молоком, сэр?
Я покачал головой, решив довольствоваться черным кофе, и развернул газету. Огромные заголовки объясняли все, объясняли слишком многое — пессимизм издателей был просто-напросто смешон. В Соединенных Штатах объявлена всеобщая забастовка, сообщалось в газете, в информированных кругах высказываются самые мрачные прогнозы относительно снабжения городов.
Я читал быстро, пропуская абзацы и вспоминая попутно, сколько хлопот доставляли в прошлом волнения среди рабочих. На протяжении жизни целого поколения всеобщая забастовка была как бы мечтой рабочего движения, мечтой, которая родилась в голове Дебса, одного из знаменитых рабочих лидеров, лет тридцать назад. Помнится, во время пребывания в колледже я даже написал для какого-то журнала статью на эту тему, озаглавив ее «Мечта Дебса». Весьма бесстрастным, но в то же время довольно безапелляционным, должен признаться, тоном я объявил всеобщую забастовку пустой мечтой, не более того. Шли годы, менялся мир, давно забыт Гомперс, распалась Американская федерация труда, умер Дебс, унеся с собой бредовые революционные идеи. Но мечта его, как видно, осталась жить и вот наконец обрела плоть. Я от души смеялся над теми мрачными видами на будущее, которые рисовала газета. Боже мой, как все это знакомо! Сколько было на моем веку так называемых трудовых конфликтов, но рабочим ни разу не удавалось взять верх. Я был убежден, что происшествие уладится благополучнейшим образом, что это вопрос дней. Поскольку забастовка приняла национальный характер, за дело возьмется правительство.
Я отбросил газету и начал быстро одеваться. Интересно сейчас побродить по улицам Сан-Франциско, когда замерло движение и весь город словно по чьему-то приказанию отбыл на каникулы.
— Прошу прощения, сэр, — обратился ко мне Браун, подавая портсигар. — Мистер Хармед хотел бы поговорить с вами до того, как вы уйдете.
— Пусть войдет, — сказал я.
Хармед — мой дворецкий. Когда он вошел, я увидел, что он с трудом сохраняет спокойствие. Хармед сразу приступил к делу.
— Как мне быть, сэр? У нас иссякают запасы, а шоферы, которые доставляют продукты, присоединились к забастовке. И электричество выключили — там тоже, видно, бастуют.
— А магазины открыты? — спросил я.
— Только небольшие, сэр. Продавцы тоже не работают, и в больших магазинах некому обслуживать покупателей. В маленьких же справляются сами владельцы с помощью домочадцев.
— Возьмите машину, отправляйтесь по всем магазинам. Покупайте все, что может понадобиться, да побольше. Не забудьте коробку свечей, впрочем, нет, полдюжины коробок. А когда разделаетесь с покупками, пусть Гаррисон заедет за мной в клуб, но не позднее одиннадцати.
Хармед удрученно покачал головой.
— Мистер Гаррисон, как член профсоюза шоферов, прекратил работу, а я не умею водить машину.
— Как? И он тоже? — спросил я. — Ну что ж, когда мистер Гаррисон соблаговолит явиться, передайте ему, что он может поискать работу в другом месте.
— Хорошо, сэр.
— А вы-то сами, Хармед, не состоите случаем в Союзе дворецких?
— Нет, сэр, — последовал ответ. — И даже, если бы состоял, я ни за что не покинул бы своего хозяина в такую минуту. Нет, сэр, я бы…
— Хорошо, хорошо, благодарю вас! А теперь приготовьтесь сопровождать меня. Я сам поведу машину. Мы сделаем такие запасы, какие позволят нам выдержать долгую осаду.
Был первый день мая, и погода стояла чудесная даже для этой поры. На небе ни облачка, ветер утих, в воздухе было разлито какое-то целительное тепло. По пути нам попадалось немало автомобилей, за рулем сидели их владельцы. На улицы высыпало много народу, но повсюду сохранялись порядок и тишина. Прогуливались разодетые в свои лучшие воскресные костюмы рабочие, наслаждаясь, по-видимому, эффектом, который произвела на горожан забастовка. Все выглядело так необычно и вместе с тем так мирно, что я даже испытывал некоторое удовольствие. Нервы, разумеется, были чуточку возбуждены, как во время какого-нибудь невинного и неопасного приключения. Навстречу попалась мисс Чикеринг — она изящно восседала за рулем своего миниатюрного автомобиля. Завидев меня, она сделала поворот и на углу догнала мою машину.
— Мистер Корф, мистер Корф, — зачирикала она, — вы не знаете, где можно купить свечи? Объездила с десяток магазинов — все распроданы. Это просто ужас, вы не находите?
Но по заблестевшим глазкам было видно, что мисс Чикеринг говорит неправду, что ей, как и остальным людям нашего круга, было ужасно интересно и забавно. Поиски свечей и те показались нам необыкновенным приключением. Мы объездили весь город и лишь в рабочем квартале, южнее Маркет-стрит, в какой-то крохотной бакалейной лавке нашли свечи. Мисс Чикеринг думала ограничиться одной коробкой, но я убедил ее взять четыре. Сам же я купил дюжину коробок. Кто знает, насколько еще затянется забастовка! Кроме того, я доверху загрузил свой просторный автомобиль несколькими мешками муки, дрожжами, консервами и другими столь же необходимыми припасами. Руководство покупками взял на себя Хармед, он суетился и кудахтал, точно хлопотливая наседка.
Самое любопытное в первый день забастовки было то, что никто не принял ее всерьез. Все от души смеялись над опубликованными в утренних газетах заявлениями профсоюзных лидеров о том, что забастовка продлится не меньше месяца, а то и все три. Мы, по правде сказать, в тот же день могли бы догадаться, что забастовка рассчитана надолго, ибо рабочие, не в пример остальным, не кинулись запасаться продуктами. Им это было ни к чему. За много месяцев наперед каждый из них втайне от хозяев очень искусно устроил себе личный склад провизии. Потому мы и смогли делать покупки только в рабочих кварталах.
Но по-настоящему я встревожился лишь тогда, когда днем приехал в клуб. Там царило полное смятение. Коктейли продавали без маслин, обслуживали медленно и как-то нерасторопно. Собравшиеся были явно обеспокоены, иные едва сдерживали гнев. Еще у входа я услышал гул голосов. На своем обычном месте, в курительной комнате, восседал в кресле генерал Фолсом и, поглаживая пухлый живот, отбивался от полдюжины наседавших на него джентльменов, которые требовали, чтобы он немедленно принял какие-то меры.
— Я сделал все» что мог, — говорил он. — Из Вашингтона не поступало никаких распоряжений. Если вам, джентльмены, удастся телеграфировать моему начальству, я сделаю все, что мне прикажут. Иначе я не могу ничего предпринять. Утром, узнав о забастовке, я первым делом вызвал войска из Президио, три тысячи человек. Они охраняют банки. Монетный двор, почтамт и все общественные здания. Беспорядка пока не наблюдается. Забастовщики держатся мирно. Не могу же я стрелять в них просто так — вырядились, точно на праздник, и высыпали на улицы со своими чадами и домочадцами.
— Интересно, что творится сейчас на Уолл-стрит? — услышал я голос Джимми Уомболда, когда проходил мимо. Можно понять озабоченность Джимми: совсем недавно он скупил порядочное количество акций «Консолидейтед-Вестерн».
— Послушай, Корф, — подбежал ко мне Аткинсон. — У тебя машина на ходу?
— Да, — отвечал я. — А что с твоей?
— Что-то сломалось, а мастерские закрыты. Понимаешь, моя жена застряла где-то около Траки. Телеграмму не пошлешь ни за какие деньги. Она должна была приехать вечером. Может быть, умирает там с голоду! Одолжи, пожалуйста, машину.
— Бесполезно, — вмешался Холстед. — Все равно через залив не переправиться. Паромы не ходят. Однако я знаю, что делать. У Роллинсона… Эй, Роллинсон, подойди-ка сюда на минутку! Аткинсону нужно переправить машину через залив. У него жена в Траки. Не можешь ли ты вызвать из Тибурона «Ларлетту», чтобы перевезти автомобиль? «Ларлетта» — океанская прогулочная шхуна водоизмещением двести тонн.
Роллинсон в раздумье покачал головой:
— Пожалуй, сейчас не найти грузчиков, чтобы поднять его на борт, даже если бы было кому вести «Ларлетту». Ведь весь экипаж, члены Союза моряков, тоже побросал работу.
— Но моя жена, наверно, умирает с голоду, — хныкал Аткинсон.
Я направился дальше. В другом углу курительной группа озабоченных джентльменов окружила Берти Мессенера, горячо убеждая его в чем-то. А Берти с присущим ему хладнокровием насмешливо подзадоривал их своими циничными замечаниями. Берти Мессенер плевал на забастовку. Ему на все было наплевать. Он был равнодушен ко всему и пресыщен — радостями жизни по крайней мере; что до горестей, то они вовсе не привлекали его. Он стоил двадцать миллионов, вложенных в надежнейшие предприятия, и за всю жизнь не поработал и часа — денежки ему достались от отца и двух дядюшек. Где он только не побывал, чего не перевидел, чего не перепробовал, и единственно не успел жениться, несмотря на решительную и упорную осаду нескольких сотен тщеславных мамаш. Много лет он был самой желанной приманкой, которую никому пока не посчастливилось схватить. Он был до неприличия выгодной партией, ибо, помимо богатства, выделялся молодостью, красотой и безукоризненной репутацией. Отличный спортсмен, юный белокурый бог, ему с завидной легкостью удавалось все, в том числе и избежать уз брачного союза. У него, начисто лишенного честолюбия и страстей, не возникало и мысли сделать то, в чем он мог успеть лучше других.
— Но это же бунт! — плакался один из собеседников Берги Мессенера; другой называл забастовку восстанием и революцией; третий — разгулом анархии.
— Ничего похожего, — возражал Берги. — Я все утро толкался на улицах — никаких беспорядков. Ни разу не видел таких законопослушных граждан. Нечего впадать в панику — никакая эго не революция и не бунт. Просто всеобщая забастовка, как и объявлено. Теперь ваш ход, джентльмены!
— Мы примем игру, будьте уверены! — воскликнул Гарфилд, один из трамвайных магнатов. — Мы их поставим на место, этих грязных животных. Погодите, вот примется за дело правительство!
— Но где оно, ваше правительство? — язвил Берти. — Может быть, уже на дне океана. Мы ведь не знаем, что происходит в Вашингтоне. Не знаем даже, есть у нас правительство или нет.
— Ну, на этот счет можете не волноваться! — негодующе выпалил Гарфилд.
— Я ничуть не волнуюсь, уверяю вас, — с ленивой улыбочкой ответствовал Берти. — Скорее волнуетесь вы, друзья. Посмотрите-ка на себя в зеркало, Гарфилд.
Почтенный джентльмен не последовал совету Берти, однако выглядел он и в самом деле крайне возбужденным: седые волосы разлохматились, лицо побагровело, рот угрюмо кривился, растерянно блуждали глаза.
— Но это же несправедливо, говорю я вам, — сказал коротышка Гановор; по унылому тону я понял, что он повторял это в сотый, наверное, раз.
— Хватит, Гановер, — оборвал его Берти. — Тошно слушать вашу болтовню. Вы же сторонники открытого цеха и все уши мне прожужжали о праве на работу и прочем. И гнули эту линию из года в год. Рабочим ничего не оставалось, как начать всеобщую забастовку. Что тут незаконного? Помолчите минуту, Гановер, прошу вас! Сколько лет вы твердили о богом данном праве работать… или не работать? Вот вам и результат! Грязное в общем-то дело. Сначала вы прижали рабочих, теперь рабочие прижали вас, и нечего жаловаться.
Исполненные благородного негодования, все в один голос стали отрицать, что они прижимали рабочих.
— Напротив, сэр! — кипятился Гарфилд. — Мы делали для рабочих все, что могли. Прижимали!.. Нет, мы давали им возможность жить. Давали работу. Интересно, как бы они прожили без нас?
— Намного лучше, намного, — откровенно насмехался Берти. — Вы прижимали и обманывали рабочих при каждом удобном случае. Из кожи лезли, чтобы вам такой случай представился.
— Ничего подобного! Клевета! — раздались возмущенные голоса.
— Нет, это не клевета, — невозмутимо продолжал Берти. — Вы помните ту забастовку возчиков тут, в Сан-Франциско? Всем известно, что забастовка была спровоцирована Ассоциацией нанимателей. Вы знаете, что мне это известно — ведь я сидел здесь, в этой самой комнате, когда тут велись закулисные переговоры и обсуждались новости. Вы толкнули рабочих на забастовку, потом подкупили мэра и начальника полиции, и те благополучно разогнали рабочих. Нужно было поглядеть, как вы, мнящие себя благотворителями, прижали в тот раз рабочих.
Позвольте, я еще не кончил. Не далее как в прошлом году губернатором Колорадо был избран кандидат по рабочему списку. Но разве он вступил в должность? Нет, и вы знаете, почему. Дело рук ваших дружков — благотворителей и капиталистов из Колорадо. Разве тогда не обманули рабочих? Вы три года продержали в тюрьме по ложному обвинению в убийстве президента Ассоциации горняков Юго-Запада. Расправившись с ним, вы погубили и ассоциацию. Станете утверждать, что вы и на этот раз не прижали рабочих? А разве не обман — объявить в третий раз прогрессивный налог противоречащим конституции? Обман, такой же откровенный обман, как и в том случае, когда вы провалили в Конгрессе закон о восьмичасовом рабочем дне.
Но венцом ваших махинаций стало наступление на закрытый цех. Известно, каким образом вам удалось добиться своего. Вы подкупили Фарберга, последнего президента прежней Американской федерации труда. Вы сделали его своим ставленником, вернее, ставленником всех трестов и ассоциации нанимателей. Вы спровоцировали грандиозную забастовку на предприятиях, где работали только члены профсоюза. Фарберг, как и следовало ожидать, предал рабочих. Вы выиграли конфликт, и Американская федерация труда распалась. Да, да, вы уничтожили ее, но просчитались. На обломках АФТ рабочие создали Международный союз рабочих, который стал самой крупной и крепкой в истории Соединенных Штатов профсоюзной организацией. Вы сами помогли создать этот союз, вы сами виноваты в нынешней забастовке. После разгрома прежних федераций рабочим не оставалось ничего иного, как создать новую организацию. И вот эта новая организация объявила забастовку, и рабочие снова требуют установить систему закрытых цехов. И после этого у вас хватает бесстыдства утверждать, будто вы никогда не прижимали и не обманывали рабочих. Какая чепуха!
На этот раз никто не осмелился отрицать что-либо. Только Гарфилд попробовал защититься:
— Но мы были вынуждены поступать так! Иначе рабочие взяли бы верх.
— Да я не об этом, — ответил Берти. — Нечего плакаться, коли ваши затеи обернулись против вас самих, вот в чем дело. Вспомните, сколько раз голодовками вы заставляли рабочих подчиниться и прекратить забастовку. Ну, а теперь они намерены заставить вас подчиниться им. Они требуют закрытого цеха, и если из-за этого вам придется поголодать, значит, так тому и быть!
— Однако вы и сами не раз наживались на обмане рабочих, — ввернул Брентвуд, один из самых хитрых и проницательных адвокатов наших корпораций.
— Скупщик краденого — такой же преступник, как и вор, — усмехнулся он. — Обманывать не обманывали, а свой куш сорвали.
— Это не имеет никакого отношения к делу, дорогой Брентвуд, — холодно и отчетливо произнес Берти. — И вы туда же, толковать о морали, как и Гановер. Справедливо, несправедливо — разве об этом сейчас речь? Одно я знаю наверное: грязная это игра. Единственное, что я говорю: нечего хныкать, если рабочие прижали вас. Да, я тоже наживался на обмане, хотя благодаря вам сам не марал руки грязными делишками. Вы, джентльмены, делали это за меня.
Поверьте, я вовсе не ходячая добродетель, я такой же. как и вы. Но мой драгоценный папочка и его любезные братцы оставили мне кучу денег — ими-то я и платил за грязную работу.
— Вы хотите сказать, что мы… — в негодовании начал Брентвуд.
— Да бросьте вы кипятиться, — высокомерно оборвал его Берти. — Какой смысл лицемерить в этом воровском логове? Высокие слова уместны в газетах, юношеских клубах да воскресных школах — это тоже часть игры, которую мы ведем. Но, ради Бога, не надо притворяться друг перед другом. Мы с вами отлично знаем, какой разбой был учинен прошлой осенью в строительном профсоюзе, кто давал деньги, кто был исполнителем и кто нажился. — Брентвуд побагровел. — Все мы одним миром мазаны, и нечего распространяться о морали. Я еще раз говорю: ведите игру, бейтесь до последнего, но не хнычьте, если вам наступают на хвост.
Отходя от спорящих, я успел услышать, как Берти снова начал пугать своих собеседников более серьезными последствиями забастовки. В частности, он указал на ощутимый уже недостаток продуктов и спросил джентльменов, что они намерены предпринять. Позже я встретил Берти в гардеробной, он уходил, и я подвез его на своей машине.
— Да, всеобщая забастовка — это удар, — задумчиво говорил Берти, когда мы мчались по многолюдным улицам, где, однако, сохранялся полный порядок. — Удар сокрушительной силы! Пока мы дремали, рабочие улучили момент и двинули нам в самое уязвимое место — в желудок. Нет, Корф, уберусь-ка я отсюда на время. И ты уезжай, послушай доброго совета. В деревню, куда угодно. Там хоть можно спокойно переждать. Эх, запастись бы всем необходимым, забраться в какую-нибудь хижину или палатку!.. А здесь нашему брату придется подтянуть пояс.
В тот день я и представить себе не мог, как прав был Берти. «Паникер», — подумал я и решил из любопытства остаться в городе. Расставшись с ним, я не поехал домой, а снова отправился на поиски продуктов. Каково было мое удивление, когда я обнаружил, что в тех крохотных бакалейных лавчонках, где я побывал утром, все уже распродано. Тогда я помчался в Петреро, и там мне чудом удалось купить еще один пакет свечей, два мешка крупчатки, фунтов десять пшеничной муки (пригодится для слуг), ящик консервированной кукурузы и два ящика томатов. Все говорило за то, что перебои в снабжении неминуемы, и я мысленно поздравил себя с удачной и своевременной покупкой.
На следующее утро мне, как обычно, подали в постель кофе, но без сливок и, что еще хуже, без утренней газеты. Не знать, что творится в мире, оказалось настоящим лишением. В клубе тоже мало что было известно. Из Окленда прибыл на своем катере Райдер, а Холстед успел сгонять на машине в Сан-Хосе, но и они не рассказали ничего нового. И в Окленде и в Сан-Хосе жизнь замерла полностью, бакалейные лавки пустые — все подчистили люди с деньгами, на улицах безупречный порядок. Но что происходит в остальных городах — в Чикаго, Нью-Йорке, Вашингтоне? Вероятно, то же самое, что и здесь. Но никто не знал наверное, и это внушало тревогу.
Кое-что сообщил нам генерал Фолсом. Его люди попытались связаться по телеграфу с другими городами, но провода повсюду оказались перерезанными. То было единственным пока незаконным действием со стороны забастовщиков, и генерал не сомневался, что оно подготовлено заранее. Он попытался снестись по радио с гарнизоном в Бенишии. Войска охраняли телеграфную линию на всем протяжении до Сакраменто, и один раз оттуда донесся вызов, но потом связь оборвалась снова: провода все-таки перерезали. Генерал Фолсом был убежден, что по всей стране власти пытаются установить связь, но он не высказал своего мнения относительно того, насколько эти попытки окажутся успешными. Его безмерно беспокоило, что рабочие перерезали провода, и он считал это частью обширного и детально разработанного заговора. Попутно он высказал сожаление о том, что правительство задержалось со строительством запроектированной сети радиостанций.
Однообразно текли дни, все оставалось по-прежнему. Улеглось волнение, вызванное первыми событиями. Толпы народа больше не запружали улицы. Рабочие не приходили с семьями в наши кварталы посмотреть, как мы реагируем на забастовку. Стало меньше машин. Мастерские и гаражи были закрыты, и любая поломка выводила машину из строя. У меня тоже что-то случилось со сцеплением, но починить невозможно было ни за какие деньги. Так что мне тоже приходилось ходить пешком. Жизнь в Сан-Франциско замерла, никто не имел никакого понятия о том, что происходит в стране. Но именно это отсутствие сообщений заставляло предполагать, что жизнь замерла повсюду.
Время от времени по всему городу расклеивались рабочие прокламации, отпечатанные, по-видимому, много месяцев назад и свидетельствовавшие, как тщательно готовил забастовку Международный союз рабочих. Каждая мелочь была предусмотрена заранее. До сих пор не было зарегистрировано ни одного акта насилия, если не считать того, что солдаты расстреляли нескольких рабочих, которые перерезали провода. Однако голодающие обитатели трущоб начали выказывать зловещие знаки нетерпения и беспокойства.
Бизнесмены, миллионеры и адвокаты провели несколько совещаний и приняли соответствующие решения. Но как довести эти решения до сведения публики? Мы не могли даже напечатать их. Однако в результате этих совещаний генерала Фолсома убедили отдать распоряжение захватить крупные магазины и склады с зерном и мукой. Мера была вполне своевременна, так как люди состоятельные уже стали терпеть лишения, и следовало немедленно установить хлебный рацион. Я заметил, что мои слуги начинают проявлять недовольство, а припасов в доме порядком поубавилось. Потом только я узнал, что каждый из них потихоньку воровал продукты и откладывал для себя.
После установления хлебного рациона возникли новые затруднения. Дело в том, что в Сан-Франциско было не так уж много запасов продовольствия, их не могло хватить надолго. Забастовщики, и те вынуждены были ввести нормы на хлеб, хотя у каждого, разумеется, было вдоволь припасено всякой снеди. Запасы продовольствия на складах, которые охранялись людьми генерала Фолсома, таяли с поразительной быстротой. Да и как могли солдаты отличить какого-нибудь мелкого служащего или обитателя трущоб от члена Международного союза рабочих? Первых надо было кормить, а солдаты не знали всех забастовщиков в лицо, не говоря уже об их женах или детях. Не один раз с помощью нанимателей из очередей за хлебом выкидывали членов Союза, но что это могло дать? Поначалу правительственные катера доставляли продукты с армейских складов на Мэр-Айленд и Эйнджел-Айленд, но вскорости и там все кончилось. Теперь солдаты получали свои рационы из конфискованных продуктов, причем в первую очередь.
Словом, приближалась катастрофа. Участились ограбления и иные правонарушения. Люди пускались на всякого рода незаконные делишки; должен признаться, что к тому были склонны прежде всего обитатели трущоб и представители высших классов. Забастовщики могли позволить себе полностью сохранять порядок: у них было чем питаться.
Помню, однажды утром, придя в клуб, я застал Холстеда и Брентвуда шепчущимися в углу. Они посвятили меня в свой план. У Брентвуда машина была пока на ходу, и они решили стащить где-нибудь корову. Холстед запасся огромным ножом, какие бывают у мясников, и топором, и мы отправились за город. То тут, то там паслись коровы, но неподалеку непременно торчал хозяин. Мы продолжили наши поиски, поехав по окраине города на восток, и там, среди холмов у Хантерс Пойнт, наткнулись на корову, которую сторожила маленькая девочка. Тут же пасся и упитанный теленок. Надо ли говорить, что мы не тратили времени даром. Девочка с ревом убежала, а мы забили корову. Я опускаю непривлекательные подробности: как-никак мы не были обучены такой работе, и нам пришлось порядком повозиться.
Но, как мы ни спешили, нам не удалось довести дела до конца. Послышались крики, и мы увидели, что к нам бегут какие-то люди. Мы кинули нашу добычу и бросились наутек. Но нас никто не преследовал. Люди торопливо рубили тушу. Они, видно, тоже были не прочь поживиться чужим. Мы быстренько сообразили, что мяса хватит на всех, и помчались обратно. То, что произошло после, не поддается описанию. Мы выли и дрались из-за мяса, как дикари. Брентвуд показал себя настоящим зверем: он огрызался, рычал, угрожал проломить череп всякому, кто посмеет захватить нашу долю.
Пока мы таким образом делили тушу несчастной коровы, на сцене появились новые лица. То была рабочая дружина общественного порядка — придумают же такое! Их было человек двадцать, и у каждого в руках была плеть или дубинка. Та негодная девчонка, что привела их, приплясывала от возбуждения, по щекам у нее бежали слезы. «Так их! Так их! — кричала она. — Задайте тому дядьке в очках. Это все он придумал! По морде ему, по морде!» Тот дядька в очках был я, и мне порядком двинули по физиономии, хотя у меня достало присутствия духа сдернуть до того очки. Да, задали нам перцу! Брентвуду в кровь разбили нос, Холстеда так полоснули по лицу плетью из змеиной кожи, что на щеке вздулся багровый рубец. Мы со всех ног кинулись к машине.
И вот чудо! Там, спрятавшись за кузовом, стоял насмерть перепуганный теленок. Брентвуд дал нам знак не двигаться, а сам крадучись, точно волк или тигр, стал подбираться к нему. Нож и топор, конечно, остались на поле брани, зато у нас были целы собственные руки. Брентвуд вцепился теленку в горло, и они в обнимку покатились по земле. Потом мы втащили нашу добычу в машину, прикрыли полостью и направились домой. Но неудачи преследовали нас. Через несколько минут лопнула шина. Починить ее было невозможно, к тому ж сгущались сумерки, и мы решили бросить машину. Брентвуд взвалил на плечи прикрытую полостью тушу теленка и, отдуваясь, неверными шажками поплелся впереди. Мы по очереди тащили того проклятого телка, но все равно уморились до смерти и ко всему заблудились. Мы брели несколько часов и вдруг наткнулись на группу каких-то хулиганов. Они были голодны не меньше, чем мы, и, конечно, не состояли ни в каких союзах. Как бы там ни было, им достался теленок, а нам новые синяки. Брентвуд чуть с ума не сошел от обиды и злости, пока мы добирались домой; впрочем, он и выглядел как законченный псих: разодранная в клочья одежда, раздувшийся, словно слива, нос, кровоподтек под глазом.
С тех пор мы не решались отправляться на охоту за коровами. Кроме того, генерал Фолсом приказал солдатам конфисковать всех коров; мясо пошло тем же солдатам и полицейским. Вряд ли можно винить в чем-либо нашего генерала: его долг — поддерживать порядок в городе, и он выполнял свой долг с помощью солдат, и, естественно, он был обязан в первую очередь кормить их.
В это приблизительно время и произошла великая паника. Люди из состоятельных классов стали лихорадочно покидать город, затем зараза перекинулась в трущобы. Генерал Фолсом довольно потирал руки. Сама собой разрешалась продовольственная проблема: кто-то подсчитал, что Сан-Франциско покинули около двухсот тысяч человек, а это немало. Никогда не забуду тот день. Утром я съел какую-то сухую корочку. Потом полдня стоял в очереди за хлебом и вернулся домой, когда уже стемнело, — изнуренный, голодный, бережно неся два стакана риса и ломтик свинины. У дверей меня встретил встревоженный, усталый Браун. Все слуги ушли, остался он один, объявил он. Я был до глубины души тронут этой верностью и, узнав, что он весь день ничего не ел, предложил ему разделить со мной скудный ужин. Мы сварили стакан риса, зажарили половину свинины, остальное приберегли на утро. Я лег спать голодным и беспокойно проворочался всю ночь. Утром я обнаружил, что Браун тоже сбежал, прихватив, к несчастью, остатки риса и свинины.
В тот день в клубе собралась лишь небольшая горсточка угрюмых джентльменов. Никакого обслуживания не было: прислуга разбежалась. Я заметил также, что исчезло столовое серебро, и догадывался, куда оно подевалось. Не думаю, что его растащили слуги: сами члены клуба добрались до него прежде слуг. И они распорядились серебром очень просто. За Маркет-стрит, в кварталах, где жили забастовщики, в обмен на серебро можно было получить у тамошних хозяев неплохие продукты. Я немедленно вернулся домой. Так оно и есть: моего серебра тоже не оказалось. Сохранился только огромный кубок; я аккуратно завернул его и отнес на Маркет-стрит.
Плотно поев, я почувствовал себя несравненно лучше и еще раз зашел в клуб узнать, нет ли каких новостей. Там я застал Гановера, Коллинза и Дейкона, они как раз собрались уходить. Они сказали, что в клубе никого нет, и позвали меня с собой. Они решили выбраться из города на лошадях Дейкона — лишняя лошадь для меня найдется. Генерал Фолсом намекнул Дейкону, что с завтрашнего дня все лошади в городе будут конфискованы и забиты, и тому, естественно, чертовски не хотелось расставаться со своей четверкой великолепных ездовых лошадей. В городе лошадей осталось совсем немного, потому что в первые же дни, как только вышло все сено и овес, их стали выгонять на луга. Бердэл, например, который держал немалое извозное дело, погнал за город сотни три ломовых битюгов общей стоимостью 130 тысяч долларов, если считать по пятьсот за лошадь. Он, конечно, надеялся заполучить большинство из них обратно после забастовки, но ему не удалось вернуть ни одной. Их съели беженцы из Сан-Франциско. Из-за острого недостатка продовольствия начали даже забивать армейских мулов и лошадей.
По счастью, в конюшнях Дейкона было предостаточно сена и овса. Нам удалось раздобыть четыре седла, животные были в отличном состоянии, к тому ж застоялись. Я хорошо помню Сан-Франциско после большого землетрясения, но тот Сан-Франциско, который раскинулся перед нами, когда мы ехали верхом, являл еще более унылый вид. И подумать только, не из-за стихийного бедствия, а из-за ненавистной тирании рабочих союзов. Мы проехали Юнион-сквер, театр, отель. Улицы были пустынны. Кое-где попадались автомобили, брошенные владельцами из-за неисправности или отсутствия горючего. Если бы не случайные полицейские да солдаты, охраняющие банки и общественные здания, можно было бы подумать, что город вымер. Потом мы наткнулись на какого-то профсоюзника, он приклеивал свежую прокламацию. Мы остановились, чтобы прочитать. «Забастовщики соблюдают полный порядок, и мы сохраним этот порядок до конца. Мы прекратим забастовку лишь тогда, когда будут полностью удовлетворены наши требования, а наши требования будут удовлетворены лишь тогда, когда наниматели вынуждены будут пойти на уступки из-за голода, как нередко и мы из-за голода шли на уступки».
— То же самое говорил Мессенер, — проворчал Коллинз. — Что до меня, то я готов пойти на уступки, только кому они нужны, мои уступки? Боже, кажется, целую вечность не ел досыта! Интересно, какой вкус у конины?
Неподалеку мы увидели другую прокламацию: «Когда наниматели будут готовы пойти на уступки, мы откроем им доступ к телеграфным линиям и позволим ассоциациям нанимателей по всей стране связаться друг с другом. Однако мы позволим передавать лишь те сообщения, в которых будут обсуждаться условия прекращения забастовки».
Мы пересекли Маркет-стрит и вскоре въехали в рабочий район. На улицах было много прохожих. У ворот группами стояли люди из МСР. Довольные, сытые ребятишки затевали игры. Дородные женщины восседали на ступеньках возле дома. Все бросали на нас любопытные взгляды, а мальчишки бежали за нами, улюлюкая: «Эй, мистер, а ты есть не хочешь?» Какая-то женщина с ребенком на руках закричала Дейкону: «Послушай, толстяк, не хочешь выменять свою лошадку на еду? Дам свинины, картофеля, смородинного варенья, масла да еще пару стаканов кофе!»
— Вы заметили, что последние дни на улицах не видно бродячих собак? — обратился Гановер ко мне.
Да, я заметил, но как-то не придал тому значения. Пора, пора выбираться из этого проклятого города! Наконец мы достигли дороги, ведущей к Сан-Бруно, и поехали по ней к югу. Мы спешили на мою виллу, что находилась неподалеку от Менло. Но скоро мы убедились, что в деревне опаснее и пустыннее, чем в городе. Там солдаты и члены Союза поддерживали порядок, тут же царила полная анархия. Двести тысяч, что покинули Сан-Франциско, начисто опустошили местность, словно пронеслась тут туча саранчи.
Все было подчищено, точно метлой. То тут, то там вспыхивали драки, чинились грабежи. У обочины дороги на каждом шагу попадались трупы, поодаль виднелись обгорелые остатки ферм. Ограды были повалены, посевы вытоптаны, голодающие орды не оставили ни единой курицы, ни другой живности, повыдергали даже кустики на грядках. То же самое творилось и на других дорогах, идущих из Сан-Франциско. Кое-где, в стороне от дорог, фермерам с револьверами и ружьями в руках удавалось отстаивать свое имущество. Они не желали разговаривать с нами, угрожая стрелять, если мы попытаемся приблизиться. Надо признаться, что разбой и разрушения были делом рук обитателей трущоб и людей из имущих классов. Забастовщики, припрятав у себя продукты, спокойненько отсиживались дома.
Еще в самом начале нашего путешествия нам выпал случай убедиться, насколько серьезным стало положение. Внезапно недалеко раздались какие-то крики и выстрелы. Совсем близко засвистели пули. Потом послышался треск ломаемого кустарника, на дорогу выскочил огромный вороной битюг и поскакал прочь. Мы едва успели заметить, что лошадь была изранена и сильно хромала. За ней вдогонку промчались три человека в военной форме. Они быстро скрылись в лесу, и мы только слышали, как они перекликаются. Затем на дорогу вышел еще один солдат и присел на валун, вытирая с лица пот.
— Это полицейские, — прошептал Дейкон. — Дезертиры.
Увидев нас, человек осклабился и попросил спичку. В ответ на вопрос Дейкона, что произошло, он сообщил, что полицейские разбегаются. «Жрать нечего! Все отдают регулярным частям», — пожаловался он. Кроме того, мы узнали, что из тюрьмы на Элкатраз-Айленд выпустили всех заключенных, потому что их нечем стало кормить.
До конца дней своих не забуду одного зрелища, которое нам довелось наблюдать в пути. Оно открылось нашим глазам совершенно внезапно за поворотом дороги. Вплотную к обочине подступали деревья, сквозь ветви лился мягкий солнечный свет. В воздухе порхали бабочки, с поля доносилось пение жаворонка. А посреди дороги стоял многоместный лимузин, в кабине и возле валялись трупы. Мы догадались, что случилось с теми несчастными людьми. Они бежали из города, на них напали какие-то хулиганы и растерзали их. Каких-нибудь двадцать четыре часа отделяли нас от этого страшного происшествия. Пустые банки от мясных и фруктовых консервов красноречиво рассказывали о причинах нападения. Дейкон внимательно осмотрел тела.
— Так я и думал! — воскликнул он. — Что-то знакомым показался мне автомобиль. Это Перрингтон с семьей. Теперь надо смотреть в оба.
— Но на нас какой резон нападать? — возразил я. — У нас еды нет.
Дейкон молча показал на лошадь подо мной, и я понял, что он имеет в виду.
Утром того дня у лошади, на которой ехал Дейкон, отвалилась подкова. Мягкое копыто сбилось, и к полудню лошадь захромала. Дейкон не мог ехать верхом и отказался бросить несчастное животное. Он настоятельно просил нас продолжать путь, а сам надеялся дойти пешком и привести лошадь. Больше мы не видели Дейкона, не узнали даже, как он погиб.
К часу дня мы прибыли в Менло, точнее, туда, где раньше был Менло, ибо от города остались одни развалины. Куда ни поглядеть, всюду были трупы. Огромный пожар спалил дотла деловую часть города и несколько жилых кварталов. Лишь кое-где сохранились дома, но приблизиться к ним оказалось невозможно: всякий раз нас встречали выстрелы. Какая-то женщина бродила среди развалин своего коттеджа. Прежде всего разграбили магазины, рассказала она, и мы представили себе разъяренную, рычащую от голода толпу пришельцев, расправляющихся с горсточкой горожан. Плечом к плечу бились миллионеры и нищие, чтобы раздобыть пищу, а потом схватывались из-за нее друг с другом. Пало Альто и Стенфордский университет подверглись такому же нашествию. Впереди расстилалась выжженная, безлюдная пустыня, так что мы сочли наиболее благоразумным укрыться на моей вилле. Она прилепилась у подножия убегающих вдаль холмов, милях в трех к западу.
По пути туда мы увидели, что разрушительный смерч докатился даже до тех глубинных уголков. Первый поток беженцев держался преимущественно дорог, сметая в своем движении городки и поселения, но следующие волны захлестнули всю округу, прошлись по ней, точно гигантская метла. Моя вилла, построенная из кирпича и бетона и крытая черепицей, уцелела от огня, но имела жалкий вид. У ветряной мельницы мы наткнулись на мертвого садовника; земля вокруг него была усеяна стреляными гильзами: бедняга защищался, видимо, до конца. Но двух работников-итальянцев, экономки и ее мужа и след простыл. Не осталось никакой живности: ни породистых коров с телятами, ни жеребят, ни даже птицы. Кухня и камин, где бродяги стряпали пищу, были в ужасном состоянии, а следы костров снаружи свидетельствовали о том, какое множество народу заночевало там. Они утащили все, что не могли съесть. Нам не досталось ни крошки.
Наша троица провела томительную ночь, тщетно ожидая появления Дейкона, а утром с револьверами в руках нам пришлось отбиваться от полудюжины мародеров. Потом мы забили одну лошадь, позавтракали, припрятав ос— татки мяса на будущее. Днем Коллинз пошел прогуляться и не вернулся. Гановер впал в полнейшее отчаяние и предложил, не медля ни минуты, убираться отсюда, так что мне с большим трудом удалось убедить его дождаться утра. Лично я был уверен, что забастовка прекратится со дня на день, и был полон решимости вернуться в Сан-Франциско. На рассвете мы с Гановером расстались: он направился к югу, привязав к седлу полсотни фунтов конины, я с таким же грузом двинулся на север. Коротышке Гановеру посчастливилось избежать всяких опасностей, и я не сомневаюсь, что он всю жизнь будет надоедать собеседникам рассказами о необыкновенных приключениях, которые ему привелось пережить.
По той же дороге я добрался до Белмонта, но там трое полицейских отняли у меня конину. Все по-прежнему, сказали они, разве что хуже стало. У членов МСР вдоволь всяких припасов, так что они могут продержаться еще несколько месяцев. Неподалеку от Бадена меня окружили человек двенадцать и отняли лошадь. Двое из них были полицейскими из Сан-Франциско, остальные — солдаты регулярных частей. Это было чудовищно. Уж если солдаты дезертируют, значит, дело совсем скверно. Едва я успел отойти от них, как раздался выстрел, и последняя лошадь из великолепной четверки Дейкона грохнулась наземь.
Уж не везет так не везет. Я растянул сухожилие и сумел добраться лишь до южной оконечности Сан-Франциско. Там я свалился в каком-то сарае, дрожа от холода и в то же время сгорая от пламени лихорадки. Я провалялся в сарае два дня, не в силах пошевельнуть пальцем, а на третий, пошатываясь от головокружения и опираясь на импровизированный костыль, поплелся в город. Я очень ослабел: три дня во рту ни крошки не было. То был день сплошных кошмаров и мучений. Словно во сне, я видел, как навстречу и мимо тянулись сотни солдат, а за ними, объединившись в большие группы для удобства самозащиты, множество полицейских в сопровождении своих семейств.
Войдя в город, я вспомнил, что где-то неподалеку находится дом, где мне посчастливилось обменять свой серебряный кубок на еду, и голод погнал меня туда. Уже смеркалось, когда я добрался до места. Я обошел дом с бокового переулка, вскарабкался на заднее крыльцо и упал. Кое-как я дотянулся костылем до двери и постучал. Потом я, наверное, потерял сознание, ибо, очнувшись, увидел, что нахожусь в кухне, кто-то брызжет мне в лицо водой и вливает в рот виски. Я захлебнулся, пытался заговорить. Я бормотал, что у меня нет больше серебряного кубка, что я щедро вознагражу их после, лишь бы мне дали что-нибудь поесть. Хозяйка прервала меня:
— Боже мой, неужели вы ничего не знаете? Забастовка прекращена еще днем. Вам, конечно, надо подкрепиться.
Она захлопотала у плиты, открывая банку свинины и грея сковороду.
— Пожалуйста, дайте мне кусочек сейчас, — попросил я и через несколько мгновений жадно поглощал ломоть хлеба с консервированной свининой; тем временем хозяин рассказал мне, что требования МСР полностью удовлетворены. Связь восстановлена, и ассоциации нанимателей повсеместно пошли на уступки. В Сан-Франциско, правда, никого из нанимателей не осталось, но от их имени вел переговоры генерал Фолсом. Утром возобновится движение поездов, отправятся в рейсы пароходы, и, как только будет восстановлен порядок, жизнь войдет в свою колею.
Так закончилась всеобщая забастовка. Не приведи Господь пережить такое снова! Это страшнее, чем война. Да, да, джентльмены, всеобщая забастовка — жестокая и аморальная акция, человеческий разум должен найти более рациональный способ управления промышленностью. Кстати, Гаррисон опять служит у меня шофером. В числе условий, выдвинутых МСР, было совершенно абсурдное требование: восстановить членов профсоюза на прежней работе. Браун так и не вернулся, хотя остальная прислуга по-прежнему со мной. Сперва у меня недостало решимости отказать им: как-никак, беднягам туго пришлось в те дни, когда они сбежали, прихватив мои запасы и серебро. Теперь же я и вовсе не могу уволить их: все стали членами МСР. Нет, рабочая тирания переполнила чашу человеческого терпения. Необходимо немедленно что-то предпринять!
Морской фермер
— К нам идет карантинный катер, — сказал капитан Мак-Элрат.
Лоцман что-то буркнул в ответ, а капитан перевел бинокль с катера на полоску берега и на Кингстаун, а потом, медленно оглядев вход в бухту, стал смотреть на северную сторону ее, где был Хаут Хэд.
— Попали в самый прилив; еще часа два — и будем на месте, — заверил лоцман, словно подбадривая. — Куда станем, в Рингс энд Бейзен?
Теперь капитан что-то буркнул в ответ.
— Вот она, дублинская погодка!
Капитан опять что-то пробурчал под нос. Он устал от бурного плавания по Ирландскому морю, от бессонной ночи на капитанском мостике; устал от долгих скитаний, — два года и четыре месяца, как он уехал из дому, восемьсот пятьдесят дней по судовому журналу.
— Настоящая зимняя погода, — сказал он, помолчав. — В тумане и города не разглядишь. Теперь дождь зарядит на целый день.
Капитан Мак-Элрат был так мал ростом, что над парусиновым обвесом мостика виднелась только его голова. Рядом с ним возвышались фигуры лоцмана, младшего помощника и рулевого. Этот рулевой был здоровенный немец. сбежавший с военного судна, на которое он записался в Рангуне. Впрочем, маленький рост ничуть не мешал капитану Мак-Элрату быть отличным моряком. Во всяком случае, у компании он был на хорошем счету, и капитан сам бы мог в этом убедиться, если б получил доступ в архив и прочел все, что подробно и тщательно заносилось в его послужной список. Однако мнение свое о капитане компания держала про себя. Так уж было заведено. Компания строго придерживалась того принципа, что от служащего следует всячески скрывать, что он незаменимый или хотя бы просто ценный работник, а поэтому, щедрая на выговоры, она никогда никого не хвалила. Да и кто такой капитан Мак-Элрат, чтобы его хвалить? Один из восьмидесяти капитанов на одном из восьмидесяти пароходов компании, что вдоль и поперек бороздят моря и океаны.
По главной палубе, ступая по заржавевшим листам железа, которые могли бы многое рассказать о силе и жестокости морских волн, шли два китайца-кочегара и несли завтрак. Один из матросов свертывал штормовой леер, протянутый от бака к люкам, к грузовым лебедкам и к трапу.
— Нелегкий рейс, — сказал лоцман.
— Да уж досталось крепко, пришлось попыхтеть. Но это бы все ничего, а вот время потеряли. Для меня хуже нет — время терять.
Сказав это, капитан Мак-Элрат повернулся, и лоцман, следя за его взглядом, увидел все то, что безмолвно, но красноречиво объясняло потерю времени. Коричневая дымовая труба совсем побелела от налета соли, крупные кристаллы которой поблескивали на трубке гудка, как только случайный луч солнца пробивался сквозь просветы в облаках. Спасательная шлюпка исчезла, а железные шлюп-балки, перекрученные и погнутые, свидетельствовали о страшной силе удара, который пришлось выдержать старому «Триапсику». Шлюп-балки по правому борту тоже пустовали, и жалкие обломки второй шлюпки лежали возле разбитого светового люка над машинным отделением, теперь прикрытого брезентом. На бридждеке сломанную дверь кают-компании кое-как приколотили для защиты от ударов волны; неподалеку боцман и матрос снимали огромную предохранительную сеть, которая не смогла ослабить неистовый натиск моря.
— Уже дважды я заявлял компании про эту дверь, — сказал капитан Мак-Элрат, — а они все свое. Сойдет, говорят, и так. А шторм был здоровый. Волны прямо невиданные. И вот самая большая и натворила дел. Дверь вышибло, она плашмя так и брякнулась на стол кают-компании. Каюту механика разбило, — вот уж он злился!
— Волна, видать, была подходящая, — посочувствовал лоцман.
— Да уж, ничего не скажешь, поддала нам жару. Пришлось попотеть. Тогда вот и помощника моего прикончило. Он стоял со мной на мостике, а я ему велел осмотреть клинья на люке номер один. Течь была сильная. И гляжу я — что-то не нравится мне люк номер один. Только я подумал, не лечь ли в дрейф до утра, а тут волна как взмоет — выше мостика. Ну и волна, я такой отродясь не видывал. Нас на мостике и то окатило. Второпях никто не хватился помощника. Дел было по горло: дверь забить, люк над машинным отделением покрыть брезентом, — а потом смотрим — помощника-то и нет. Последним его рулевой видел, когда он спускался по трапу. Ну, давай искать: на носу нет, в каюте нет, в машинном отделении тоже нет. Потом вышли на нижнюю палубу, смотрим — а он лежит по обе стороны паровой трубы. Так его кожухом трубы пополам и разрезало.
Лоцман крепко выругался в знак изумления и ужаса.
— Да, лежит это он, — устало продолжал капитан, — половина по одну сторону трубы, половина — по другую. Разрезало его ровнехонько надвое, как селедку. Видно, смыло волной с верхней палубы, потащило вниз и трахнуло прямо головой о кожух. Он ему и угодил между глаз. Да так и разрезал сверху донизу, словно кусок масла. Тут тебе правая половина лежит, с рукой и с ногой, а тут левая. Картина, скажу, не из приятных. Ну, сложили мы его, завернули в парусину да и спустили в море.
Лоцман снова выругался.
— А впрочем, жалеть о нем не приходится, — заметил капитан Мак-Элрат, — невелика потеря. Моряк он был никудышный. Ему бы свиней пасти в самый раз, да и то, может, не по плечу.
Говорят, есть три категории ирландцев: католики, протестанты и северные ирландцы; и северный ирландец — это, по сути дела, шотландский переселенец. Однако ничто не приводило капитана в большую ярость, чем когда его по выговору, случалось, принимали за шотландца. В Ирландии он родился, ирландцем намерен был сойти в могилу, хотя от него не раз слышали пренебрежительные отзывы о южных ирландцах и даже об оранжистах. Сам он был просвитерианин. Правда, в его общине конгрегацию оранжистов посещали не более пяти человек. Родиной капитана был остров Мак-Гилл, где среди семи тысяч его земляков царили такая трезвенность и согласие, что на всем острове был только один полисмен и вовсе не было кабаков.
Капитан Мак-Элрат не любил моря, и море никогда не влекло его. Оно давало ему средства к жизни — вот и все. Оно было для него таким же местом службы, как для других бывает фабрика, лавка или контора. Никогда романтика не пела ему призывных песен. Никогда приключение не горячило его холодную кровь. Он был лишен воображения. Его не поражали чудеса морских глубин, а бури, смерчи, ураганы, приливы и отливы были только бесчисленными препятствиями для судна и для того, кто стоит на капитанском мостике. Больше они для него ничего не означали. Он смотрел на диковинки дальних стран, не замечая их. В его зрачках отражались ослепительные красоты тропических морей и грозные штормы Северной Атлантики или южной части Тихого океана. Но из всего этого он запомнил лишь сломанную дверь кают-компании, залитые волной палубы, плохо задраенные люки, нехватку топлива, задержки в пути или расходы на окраску после неожиданных ливней и шквалов.
— Я свое дело знаю, — любил он говорить. Но, кроме своего дела, он ничего не знал и не подозревал даже, что перед его невидящим взором проходит мир, полный чудес. Компания не сомневалась в том, что капитан знает свое дело, иначе в сорок лет ему бы не удалось стать шкипером «Триапсика» — судна в три тысячи регистровых тонн нетто, грузоподъемностью в девять тысяч тонн, оцененного в пятьдесят тысяч фунтов.
Капитан ушел в море не из любви к нему, а потому, что так суждено было судьбой, ибо он родился не первенцем, а вторым сыном в семье. Остров Мак-Гилл невелик, и только ограниченное количество его жителей могло прокормить себя на земле. Те же, кому земли не хватало, — а таких было много, — поневоле уходили в море для заработка. Так шло из поколения в поколение. Старшим сыновьям доставалась земля отцовских ферм, младшим — море, которое они бороздили весь свой век. И Дональд Мак-Элрат, сын фермера, с малых лет привыкший пахать поле, бросил любимую землю и по воле судьбы принялся перепахивать соленые воды ненавистного моря. Он трудился не покладая рук в течение двадцати лет и благодаря своему упорству, выдержке, трезвости и бережливости сумел из юнги и простого матроса сделаться помощником капитана, а со временем и шкипером парусных судов. Он служил на пароходах младшим помощником, а потом и старшим и наконец стал капитаном сначала малых судов, а затем и крупных, пока не поднялся на капитанский мостик старого «Триапсика». Старого, правда, но еще оправдывающего свои пятьдесят тысяч фунтов и способного провезти в трюме сквозь любые штормы и ураганы девять тысяч тонн груза.
Он стоял на капитанском мостике «Триапсика», на этом почетном месте, которого добивались многие, и смотрел на открывающийся перед ним Дублинский порт, на смутные очертания города под мрачным небом ненастного дня, на причудливые узоры из снастей и бесчисленных мачт. После двух кругосветных плаваний и бесконечных рейсов по морям он возвращался теперь домой к жене, которую не видал два года и четыре месяца, и к ребенку, которого не видал ни разу, а мальчик уже начал ходить и говорить. Он взглянул на палубу: кочегары и угольщики выскакивали из-под полубака, словно кролики из садка, и бежали по палубе, местами покрытой ржавчиной, на корму, где должен был происходить врачебный осмотр. Он смотрел на лица китайцев-матросов, бесстрастные, как у сфинксов, на их странную походку: они волочили тощие ноги в грубых, казалось, слишком тяжелых для них башмаках.
Он смотрел на них невидящим взором, рассеянно перебирая пальцами под козырьком фуражки жесткие белесые волосы. Все, что встречал его взгляд, было лишь фоном, на котором он видел созданную его воображением картину счастья, картину, которая рисовалась ему в долгие бессонные ночи на капитанском мостике во время снежных шквалов или тропических ливней, когда бурные волны окатывали палубу и подбрасывали старый «Триапсик», а мачты трещали под напором свирепого ветра. Ему чудилась ферма с пристройками под соломенной кровлей, и играющие на солнце дети, и жена на крыльце; в хлеву мычат коровы, на дворе кудахчут куры, из конюшни доносится топот копыт, по соседству стоит отцовская ферма, а за ней широкая равнина и любовно возделанные огороженные поля, которые тянутся до гребня пологих холмов. Это была его сокровенная Мечта, его Романтика, его Приключение, желанная цель всех его стремлений, высокая награда за долгие годы труда в море, за бесчисленные борозды, которые он прокладывал по зыбкой почве морских полей.
Этот моряк исколесил весь свет, но мечты и желания его были просты, проще, чем у какого-нибудь наивного деревенского домоседа. Отец его прожил семьдесят один год на острове Мак-Гилл, и не было случая, чтобы он оставил свой дом, свою постель хотя бы на одну ночь. Вот это была идеальная жизнь, по мнению капитана Мак-Элрата. И он не понимал, как это люди могут по собственной воле бросить ферму ради моря. Он объездил весь мир и знал его так, как сельский башмачник, сидящий в своей лавчонке, знает свое село. Весь мир казался капитану Мак-Элрату огромным селом, где улицы — длиной в тысячу миль, а может, и того длиннее, где переулки огибают бурные мысы или ведут к тихим лагунам, от перекрестков которых берут начало дороги в цветущие края южных морей или в края вечных льдов, страшных айсбергов и штормов. Залитые огнями города казались ему лавками на этих огромных улицах, лавками, где совершалась купля и продажа, где можно пополнить запасы угля, выгрузиться или взять груз, прочесть прибывшие из Лондона приказы компании и следовать, согласно этим приказам, дальше и дальше по бесконечно длинным морским большакам, время от времени останавливаясь, чтобы сдать груз или принять новый и везти его туда, куда разрешат страховщики, туда, куда манят шиллинги и пенсы. Но как томительно скучны были все эти скитания! Если бы не погоня за хлебом насущным, такая жизнь казалась бы капитану и вовсе бессмысленной.
Последний раз капитан расстался с женой в Кардиффе, двадцать восемь месяцев тому назад; он повез в Вальпарайзо девять тысяч тонн угля. Судно сидело по ватерлинию. Из Вальпарайзо налегке в Австралию — шесть тысяч миль. Путь был трудный — штормы, топлива не хватило, еле дотянули. Потом покрыли еще семь тысяч миль до Орегона — опять с углем, а вслед за этим прошли еще больше — до берегов Японии и Китая; оттуда на Яву за сахаром, отвезли груз в Марсель, потом по Средиземному морю в Черное; оттуда снова с переполненным трюмом в Балтимору — везли хромовую руду; по дороге попали в шторм, опять израсходовали топливо, пришлось зайти на Бермуды; по срочному фрахту отправились в Норфолк в штате Виргиния, там нагрузились контрабандным углем и повезли его в Южную Африку. Потом попали в Японию, в военный порт Сасебо; оттуда в Австралию. Снова срочный фрахт и погрузка в Сиднее, в Мельбурне и в Аделаиде. Потом доставка груза на остров св. Маврикия и Лоренцо Маркез, в Дурбан, в бухту Алгоа и Капштадт. Потом на Цейлон за дальнейшими распоряжениями; из Цейлона в Рангун, где взяли груз риса и отправились в Рио-де-Жанейро; оттуда в Буэнос-Айрес за маисом, повезли его в Англию и на континент, зашли в Сан-Винсент и уже там получили приказ следовать в Дублин. Два года и четыре месяца, восемьсот пятьдесят дней по судовому журналу, курсировали они по бесконечным морским дорогам, и вот теперь наконец возвращаются домой в Дублин. До чего же он устал!
К «Триапсику» пришвартовался маленький катер; поднялся шум, звон, скрип, скрежет, — и по команде «малый вперед» старого, потрепанного морского бродягу, направляя и подталкивая, медленно протиснули в док Рингс энд Бейзен. С кормы и с носа подали концы, а на берегу уже собрались встречающие — те счастливцы, что всегда живут на суше.
— Стоп машина! — скомандовал капитан густым басом. Третий помощник повернул ручку машинного телеграфа. Второй помощник подал команду: «Спустить трап!» И когда трап был спущен, добавил: «Ну вот, все в порядке».
Спуск трапа был самой последней задачей, а слова «все в порядке» означали, что команда теперь свободна и может сойти на берег. Плавание окончено. Матросы бросились по заржавленной палубе к заранее упакованным вещам. Все жадно вдыхали запах земли, вдыхал его и сам капитан, и, бросив лоцману прощальное «счастливо», он спустился в свою каюту. По трапу уже поднимались инспектор, таможенные чиновники, конторские служащие и грузчики. Вскоре с делами было покончено, в каюте остался только агент компании, с которым следовало пойти в контору.
— Жене сообщили? — спросил капитан вместо приветствия.
— Телеграфировали, как только узнали, что вы возвращаетесь.
— Наверное, она приедет утренним поездом, — вслух подумал капитан и пошел мыться и переодеваться.
С порога он последний раз окинул взглядом свою каюту, где на стене висели фотографии жены и ребенка — сына, которого он никогда не видел. Потом вошел в кают-компанию — стены ее были отделаны кленом и кедром. Здесь за длинным столом, рассчитанным на десять человек, в течение всего томительного плавания он всегда обедал в одиночестве. Смех и споры кают-компании были чужды ему. Молчаливый и угрюмый, сидел он за столом, и бесшумно прислуживавший ему китаец-стюард только подчеркивал его молчаливость. Внезапно с болью в сердце осознал он свое одиночество за эти два с лишним года. Ни с кем не делил он своих тревог и сомнений. Младшие помощники слишком молоды и беспечны, а старший был глуп, как пень, так что какие уж тут советчики. Один лишь спутник не разлучался с ним ни на минуту, спутник этот — служебный долг. Вместе сидели они за столом, вместе стояли на капитанском мостике, вместе жили в каюте и делили одну постель.
— Ну, теперь-то мы распрощаемся, — сказал капитан своему мрачному спутнику. — Хоть на время.
Он сошел на берег и, пропустив мимо себя последнего матроса, отправился в контору, где после обычных долгих формальностей сдал дела. Ему предложили выпить виски, но он попросил содовой воды с молоком.
— Не такой уж я праведник, а все же пива и виски в рот не беру.
После полудня, покончив с раздачей жалованья команде, капитан поспешил в одно из отделений конторы, где его ожидала жена.
Первый взгляд его был обращен на жену, хотя ему очень хотелось разглядеть ребенка, сидевшего подле нее в кресле. После долгого объятия он отстранил ее от себя, жадно вглядываясь в ее черты и поражаясь тому, что время не изменило их.
«Какой он любящий муж», — сказала бы о нем жена. «Какой суровый и желчный человек», — сказали бы подчиненные.
— Ну, как ты, Энни? — спросил он и снова прижал ее к себе.
И опять отстранил ее, эту женщину, которая десять лет была его женой и которую он так мало знал. Ведь, в сущности, она была ему почти чужой. Более чужой, чем китаец-стюард, чем помощники; ведь с ними он встречался каждый день, восемьсот пятьдесят дней долгого плавания. Вот уже десять лет, как они женаты, а провели вместе не более девяти недель, можно считать, медовый месяц. И в каждый свой приезд капитан как бы заново знакомился с женой. Такова участь всех, кто уходит бороздить морские просторы. Мало видят они своих жен и почти вовсе не знают своих детей. Рассказывал же старший механик на пароходе, как однажды его не пустили в собственный дом; приехал он домой, а четырехлетний сынишка, никогда не видевший отца, запер перед его носом дверь.
— Вот какой у нас сынок, — сказал капитан и неуверенно протянул руку, собираясь потрепать мальчика по щеке. Но мальчик отстранился и боязливо прижался к матери.
— Господи, — воскликнула она, — ведь он родного отца не знает!
— Да и отец его не знает. Я б его и не отличил среди других ребятишек, хотя, по-моему, у него в точности твой нос.
— А глаза твои, правда, Дональд? Это твой папа, малыш. Будь умником, поцелуй же его скорее.
Но ребенок крепче прижался к матери, посмотрел на капитана еще более испуганно и недоверчиво и чуть было не расплакался, когда тот попытался взять его на руки. У капитана сжалось сердце, и, скрывая огорчение, он выпрямился и достал из кармана часы.
— Пора ехать, Энни, — сказал он, — а то опоздаем на поезд.
В поезде он сначала сидел молча, то глядя на жену и ребенка, заснувшего у нее на коленях, то в окно на засеянные поля и покрытые травой холмы, смутно различимые сквозь сетку моросящего дождя. В купе, кроме них, никого не было; ребенок быстро уснул, жена уложила его на диван и тепло укутала. И когда иссякли расспросы о здоровье всех родственников и знакомых и обсуждены были все события и новости на острове Мак-Гилл, включая погоду, цены на землю и хлеб, и больше не о чем стало говорить, кроме как о самих себе, капитан Мак-Элрат приступил к рассказу о своих кругосветных странствованиях, который он приготовил для жены. Но это не был рассказ о диковинках дальних стран, о прекрасных краях или о таинственных городах Востока.
— А что это за остров Ява? — однажды прервала его жена.
— Ява? Сплошная лихорадка, вот и все. Половина команды слегла, и работать было некому. Только и знали хину глотать. Хина да джин всей команде с утра натощак. Тут и здоровые стали притворяться больными.
Другой раз она спросила его о Ньюкасле.
— Дрянь город — уголь и пыль. У меня там два китайца-кочегара удрали. Компании пришлось платить за них штраф правительству за каждого по сто фунтов. А мне присылают в Орегон письмо. «С величайшим, — пишут, — сожалением мы узнали об исчезновении в Ньюкасле двух китайцев из числа вашей команды. Предлагаем впредь быть осмотрительнее». Осмотрительнее! Скажите пожалуйста! Будто и без них не знаю. Китайцам этим причиталось по сорока пяти фунтов жалованья. Кому бы в голову пришло, что они удерут?
А эти знай свое заладили: «Мы сожалеем», «Мы предлагаем» да «Нас удивляет». Черт бы его подрал, это дырявое корыто. Что это им, «Лукания», что ли? И умудрились еще топливо экономить. А то вот с винтом была история. Сколько я к ним приставал из-за него. Старый-то винт был железный, у него погнулись лопасти. Нельзя было идти с нормальной скоростью. Поставили мы новый винт, медный. Компании это обошлось в девятьсот фунтов. Они и решили во что бы то ни стало его окупить. А мы как раз тогда попали в шторм, еле тащимся. «Крайне сожалеем, — пишут, — что рейс из Вальпарайзо в Сидней был столь продолжительным. Вы шли со средней скоростью сто шестьдесят семь миль в день. Мы ожидали, что при наличии нового винта будут лучшие результаты. Вам следовало идти со скоростью двести шестнадцать миль».
А ведь рейс-то был зимний, шторм, ураган страшный, машины застопорили. Дрейфуем шесть дней, топливо совсем на исходе, а у меня еще в придачу помощник болван болваном. Сигнальные огни и то не мог отличить. Как ночью идет встречный пароход, так он меня будит. Ну, я компании про все это написал; а они мне в ответ: «Наш консультант по навигации считает, что вы слишком отклонились на юг». А то еще: «Мы ожидаем от нового винта лучших результатов». Консультант по навигации. Подумаешь! Моряк сухопутный. А шли мы как надо при зимнем рейсе из Вальпарайзо в Сидней, и широта была обычная.
А потом зашел я в Окленд за углем — мы шесть дней дрейфовали, чтобы сэкономить топливо, у меня тогда тонн двадцать оставалось, — так вот, думаю, надо хоть убытки возместить и наверстать время. Вот и решил я не брать лоцмана. Сам ввел пароход в док, сам и вывел. Там и без лоцмана можно обойтись. И что же ты думаешь — встречаю в Иокогаме капитана Робинсона с «Диапсика». Разговорились мы о портах по пути в Австралию, а он меня и спрашивает:
— А в Окленд вам не случалось заходить?
— Как же, — говорю, — недавно оттуда.
— Ах, вот оно что! — говорит, да не слишком-то ласково. — Значит, вы и есть тот самый умник, из-за которого мне письмо прислали? Полюбуйтесь.
«Получен счет на 13 фунтов за лоцмана в Окленде. Уведомляем вас, что один из наших пароходов вошел в Окленд, не нанимая лоцмана. Считаем нужным отметить, что вы произвели излишний расход. Предлагаем впредь подобных расходов не повторять».
А меня, думаешь, они поблагодарили за экономию? Как же, дождешься от них! К капитану Робинсону привязались из-за пятнадцати фунтов, а меня тоже пожаловали: «Получен счет на две гинеи за вызов в Окленде врача для команды. Предлагаем объяснить непредвиденный расход». У меня там заболели два китайца. Я боялся, что у них бери-бери, и послал за врачом. И недели не прошло, как их похоронили. А этим легко писать: «Объясните непредвиденный расход» или «Считаем нужным отметить, что вы произвели излишний расход», как в письме к капитану Робинсону.
Ты думаешь, я им не писал из Ньюкасла, что их старое корыто до того прогнило, что ему пора в сухой док? Семь месяцев судно не чистили, а курсировали мы вдоль западного побережья. Там не успеешь оглянуться, и уж всякая дрянь днище облепила. Время горячее, велят везти уголь в Портленд. Тут еще с нами в один день вышла «Аррата», пароход компании «Вурлайн», и тоже держит курс на Портленд. А мой старый «Триапсик» еле ползет. Делает шесть узлов, хорошо, когда семь. Беру я в Комоксе топливо и вот получаю письмо; подписано самим директором и внизу его рукой приписка: «Аррата» обогнала вас на четыре с половиной дня. Весьма разочарован». Разочарован, изволите видеть! Я же им телеграфировал из Ньюкасла. Ведь когда пароход поставили в портлендский сухой док, оказалось, что у него днище усами обросло в фут длиной, и ракушки прилипли, ну вот с мой кулак, и устрицы, что твоя тарелка. Потом в доке столько всякой дряни и мусора осталось, что за два дня не могли убрать.
А чего стоит история с колосниками в Ньюкасле? Их сделали тяжелее, чем заказал механик, и фирма забыла поставить в счет разницу в весе. В последнюю минуту, когда я уже выправил все бумаги и собрался на пароход, являются ко мне со счетом. «По ошибке с вас недополучено шесть фунтов за колосники». Говорят, что были на пароходе у Макферсона и что тот подписал. Мне это не понравилось, и я платить отказался. А они мне: «Неужто вы своему старшему механику не доверяете?» А я говорю: «Конечно, доверяю, но подписать это я не обязан. Поедем на пароход, потом вас бесплатно доставят на берег. Мне надо самому поговорить с Макферсоном!»
Но они не поехали. В Портленде опять получаю от них письмо и счет. Я не ответил. В Гонконге получаю письмо от компании. Оказывается, счет послали туда. Я им написал с Явы, объяснил, в чем дело. В Марселе опять письмо от компании: «Получен счет на шесть фунтов за дополнительную работу для машинного отделения. Счет подписан механиком, но вашей подписи нет. По какой причине вы не доверяете своему механику?» Я им пишу в ответ, что и не думал ему не доверять, что счет этот вышел по случаю разницы в весе и что в общем все в порядке. И, думаешь, они его оплатили? Ничуть не бывало. Заявили, что сначала надо разобрать дело. А потом какой-то конторщик заболел, и счет так и затеряли. И тут посыпались письма то от компании, то от фирмы. «По ошибке с вас недополучено шесть фунтов». Где я только их не получал — и в Балтиморе, и в Модзи, и в Рангуне, и в Рио, и в Монтевидео. Так до сих пор дело тянется. Да, милая моя, на хозяев нелегко угодить.
Капитан умолк, переживая рассказанное, и потом негодующе проворчал: «По ошибке с вас недополучено шесть фунтов за колосники».
— А ты про Джимми слыхал? — спросила жена после недолгого молчания.
Капитан отрицательно покачал головой.
— Его и еще трех матросов смыло волной с кормы.
— Где?
— У мыса Горн. Они плыли на «Торнсби».
— Что же они, в обратный путь шли?
— Да, — кивнула она. — Мы только три дня назад об этом узнали. Как бы с его женой чего не случилось. Больно уж убивается.
— Да, хороший был парень, — сказал капитан, — только очень с норовом. Мы ведь с ним вместе служили помощниками на «Абионе». Вот оно как! Значит, Джимми погиб.
Снова жена прервала наступившее молчание.
— А про «Бенкшир» ты тоже ничего не слыхал? Мак Дугелл потерпел на нем крушение в Магеллановом проливе.
— Да, это место гиблое, — сказал капитан. — Мой дурак помощник там нас два раза чуть не прикончил. Я бы такого болвана к мостику и близко не подпускал. Подходили мы к Нэроурич. Погода ненастная, снежный шквал. Я сижу в рубке и решаю изменить курс, и говорю ему:
— Зюйд-ост-тень-ост.
Он повторяет:
— Есть зюйд-ост-тень-ост, сэр.
Через пятнадцать минут сам поднимаюсь на мостик.
— Что-то я не припомню этих островов, — говорит помощник. — Разве при входе в Нэроурич есть острова?
Я глянул и ору штурвальному:
— Клади руль на штирборт!
Такой поворот старику «Триапсику» никогда еще не приходилось делать. Подождал я, пока снежный шквал утихнет, а потом смотрю — Нэроурич от нас к востоку оказался, а острова при входе в Фолс-Бей к югу. Спрашиваю рулевого:
— Ты какой курс держал? А он:
— Зюйд-тень-ост, сэр.
Смотрю на помощника: ну что тут ему толковать? Так бы его и прихлопнул на месте. Ошибся, болван, на четыре румба. Еще бы минут пять, и старому «Триапсику» крышка.
А потом при выходе из пролива он еще почище отмочил! Не будь ненастья, мы бы в четыре часа выбрались. А мне до этого пришлось сорок часов выстоять на мостике. Даю я помощнику курс и объясняю, что надо идти так, чтобы Асктарский маяк был все время за кормой. Говорю: дальше норд-веста не заходить, и все будет в порядке, а сам спустился в каюту, прилег соснуть. Да какой тут сон! На душе неспокойно. Думаю: сорок часов выстоял, неужели еще четыре не достоять? А он того гляди за эти четыре часа судно загубит. Нет, говорю, пойду. Встал я, умылся, выпил чашку кофе и подымаюсь на мостик. Смотрю, вот тебе и на! Асктарский маяк на норд-вест-тень-вест. «Триапсик» почти на мели. Ну, не дубина этот помощник. Уже дно почти видно. Не досмотри я, «Триапсику» тут и конец. Вот так он за тридцать часов два раза чуть не угробил судно.
Капитан стал разглядывать спящего ребенка, и в его маленьких голубых глазах затеплилось радостное удивление. Чтобы отвлечь капитана от мрачных воспоминаний, жена заговорила о другом.
— Помнишь Джимми Мак-Кола? Ты ведь с его сыновьями в школу ходил. У него ферма за домом доктора Хейторна. Вспомнил?
— Да-да, помню. А что он,у мер?
— Нет, жив-здоров. Так вот, приходит он к твоему отцу, когда ты уехал в Вальпарайзо, и спрашивает, бывал ты в этом городе раньше или нет.
Отец и говорит:
— Нет, не бывал.
А Джимми удивляется:
— Как же он туда дорогу найдет? А отец ему в ответ:
— Что же тут мудреного? Вот, к примеру, надо тебе кого-нибудь разыскать в Белфасте. Белфаст — город большой. Ну, как ты дорогу найдешь?
— Меня-то язык доведет, — отвечает Джимми. — Я бы стал у прохожих спрашивать.
А отец ему:
— Я же говорю, дело немудреное. Вот и Дональд также. Он у встречных пароходов справляется, пока не наткнется на судно, что побывало в Вальпарайзо. Тут ничего мудреного нет.
Капитан усмехнулся, и на миг усталые глаза его повеселели.
— А уж до чего тощий был, помощник-то. В пору из одного двоих таких, как мы с тобой, выкроить, — опять заговорил капитан, и в глазах его мелькнула лукавая искорка. Видимо, он был доволен своим остроумием. Но искорка тут же погасла, и снова глаза его поблекли и помрачнели. — А в Вальпарайзо он умудрился выгрузить три тысячи шестьсот футов стального троса и не взять с приемщика расписку. Я был занят, выправлял бумаги на отход. Вышли мы в море, вижу, расписки у него нет.
— Что же, — говорю, — и расписку не сумел взять? А он отвечает:
— Я и не знал. Ведь трос все равно сразу сдадут агентам.
— Что же, — говорю, — первый раз в море вышел? Не слыхал никогда, что помощник обязан взять расписку после сдачи груза? Да еще где? На западном побережье! Теперь приемщик сопрет сколько ему вздумается.
Так оно и вышло. Выгрузили три тысячи футов, а до агентов дошло две тысячи. Приемщик, конечно, клялся и божился, что помощник так ему две тысячи футов и сдал. В Портленде получаю от компании письмо. Достается, ясно, мне, а не помощнику. А я же на берегу был по делу. Что же мне, выходит, пополам разорвись? Так до сих пор и компания и агенты все пишут мне об этом деле.
Никудышный он был моряк. Разве такие нужны компании? А, думаешь, не постарался он мне пакость устроить в Торговой инспекции за то, что я взял слишком много груза? Так прямо и заявили боцману и мне, когда мы обратно шли, что пароход при отправке сидел на полдюйма ниже ватерлинии. Мы тогда стояли в Портленде, брали груз, а потом отправились в Комокс за топливом. Между нами говоря, так оно и было. На полдюйма я ниже сидел, это точно. И вот ведь, подлюга, донести на меня собирался, только не успел — кожухом его раскроило.
Ну и болван же был! Приняли в Портленде груз, а чтобы дойти до Комокса, надо было еще взять шестьдесят тонн угля. А в угольном доке мест нет. Брать лихтер очень дорого. У дока как раз стоит французское судно. Я и спросил капитана, сколько он возьмет, если вечером уступит нам место часика на два. Он говорит: двадцать долларов. Я согласился. Как-никак, а для компании экономия. Только стемнело, подхожу к доку и беру уголь. Потом выходим на стоянку. Выходить пришлось кормой вперед, а тут как на грех что-то с реверсом не ладится. Старик Макферсон говорит, что можно его двигать вручную, потихоньку. Я говорю: ладно. Вот мы и тронулись. А на борту был лоцман. Идем против сильного течения. Невдалеке стоит пароход, по бокам у него два лихтера. На пароходе есть сигнальные огни, а на лихтерах нет. Между прочим, вывести такое большое судно, как наше, против течения дело не пустяшное, да еще с испорченным реверсом. Нам надо было пройти рядом с тем пароходом, чтобы выйти из дока и стать на якорь. Только я крикнул Макферсону: «Средний вперед», — и мы тут как двинем кормой в лихтер. Лоцман спрашивает:
— В чем дело?
— Сам, говорю, не знаю, что там такое.
Лоцман-то был не из опытных. Ну, вышли мы на хорошую стоянку, отдали якорь, и все бы сошло гладко, если бы не этот осел помощник, будь он трижды проклят. Поднимается по трапу на мостик и объявляет:
— А мы лихтер разбили.
А уж лоцман уши навострил.
— Какой еще такой лихтер? — спрашиваю.
— Да лихтер возле того судна, — говорит.
— Никакого, — говорю, — лихтера я не видел. — И довольно крепко наступаю ему на ногу. Когда лоцман уехал, я помощнику говорю:
— Ну, раз у тебя, парень, голова ни черта не варит, так хоть язык держи на привязи.
— Но вы же разбили лихтер?
— Может, и так. Но кто тебя за язык тянет лоцману сообщать? Хотя, имей в виду, никакого лихтера я там не заметил.
Наутро, только я успел одеться, входит стюард и докладывает:
— К вам какой-то человек, сэр.
— Веди сюда, — говорю.
Его приводят.
— Садитесь, — говорю.
Он сел. Это был хозяин лихтера. И когда он мне все выложил, я ему и заявляю:
— Я никакого лихтера не видел.
— Как же так? — говорит. — Не видели возле того судна двухсоттонного лихтера с целый дом величиной?
— Сигнальные огни на том судне я видел. Судно я ведь не задел? Значит, все в порядке.
— Не задели! Зато мой лихтер задели! Так его долбанули, что теперь убытков на тысячу долларов. И вы мне их возместите!
— Вот что, хозяин, — говорю. — Когда я ночью веду судно, то я следую правилам, а там черным по белому сказано: следи за сигнальными огнями. На лихтере огней не было? Не было. И никакого лихтера я и знать не знаю.
— А ваш помощник говорит…
— Плевать, — говорю, — на помощника. Вы лучше скажите: у вас на лихтере сигнальные огни были или нет?
— Нет, — отвечает, — не было. Да ведь ночь-то была светлая, луна взошла.
— Послушайте, — говорю. — Вы, я вижу, человек толковый, ну да и я в своем деле кое-что смыслю. Так вот имейте в виду — без сигнальных огней никакие лихтеры я замечать не обязан. Если в суд надумаете подавать — пожалуйста, а сейчас — будьте здоровы. Стюард вас проводит.
На том дело и кончилось. Ну, видишь, какая дрянь! Для капитанов просто счастье, что его пополам распороло у паровой трубы. Он и держался-то потому только, что имел связи.
— А знаешь что? — сказала жена. — Мне земельные агенты говорили, что скоро будет продаваться ферма Уикли. — И она украдкой лукаво взглянула на мужа, проверяя, какое впечатление произвели ее слова.
При этой вести глаза капитана загорелись, и он расправил плечи, как человек, готовый приступить к приятной для него работе. Вот она, желанная мечта, ферма по соседству с землей отца и совсем близко от фермы тестя.
— Мы ее купим, — сказал он. — Только смотри, раньше, чем дела не сделаем и деньги не уплатим, никому ни слова. Я кое-что сколотил за последнее время, хоть с приработками теперь туговато. А все-таки есть у нас кругленькая сумма на черный день. Я потолкую с отцом и оставлю ему деньги, чтобы он при первой возможности купил ферму, если я уйду в море.
Он протер холодное запотевшее стекло, но сквозь сетку дождя за окном ничего нельзя было разглядеть.
— В молодости я все боялся, что меня могут уволить, да признаться, и до сих пор побаиваюсь. А теперь купим ферму, и бояться нечего. Пусть увольняют: море перепахивать — дело незавидное. Ведешь по всем морям да во всякую погоду судно стоимостью в пятьдесят тысяч фунтов, да с грузом тоже тысяч на пятьдесят. Это уж выходит сто тысяч фунтов, или полмиллиона долларов, как говорят янки. И за все это, за весь риск и ответственность, дают тебе двадцать фунтов в месяц. Слыханное ли дело, чтобы на суше управляющий какой-нибудь фирмы с капиталом в сотни тысяч фунтов стал бы работать за двадцать фунтов в месяц?
А хозяев у меня сколько! И компания, и страховщики, и Торговая инспекция — и всяк вертит по-своему. Одни требуют — подавай скорость, а что на риск идешь — им дела нет. Другие — чтобы риска не было, хоть черепахой ползи. Торговая инспекция требует осторожности, тут без задержек не обойдешься. Три разных хозяина, и каждый норовит надавать по шее, чуть что не так.
Чувствуя, что поезд замедляет ход, капитан снова приблизил лицо к запотевшему стеклу. Потом он встал, застегнул пальто, поднял воротник и неумело взял на руки спящего ребенка.
— Я потолкую с отцом, а перед отъездом отдам ему деньги. Как станут продавать ферму, он ее тут же и купит. А тогда пусть меня компания увольняет. Кончатся мои скитания, заживем мы с тобой вместе, Энни, и пошлем море ко всем чертям.
При мысли о будущем лица их просветлели, и перед обоими на миг возникла картина мирного счастья. Энни потянулась к мужу, и, когда поезд остановился, они поцеловались над спящим ребенком.
Сэмюэль
Маргарет Хэнен при любых обстоятельствах нельзя было не заметить, но особенно поразила она меня, когда я увидел ее в первый раз: взвалив на плечи мешок зерна в добрый центнер весом, она нетвердыми, но решительными шагами шла от телеги к амбару и лишь на минутку остановилась передохнуть у крутой лесенки, по которой нужно было подниматься к закромам. Ступенек было четыре, и Маргарет поднималась по ним шаг за шагом, медленно, но уверенно и с такой упрямой настойчивостью, что мне ив голову не пришло опасаться, как бы силы ей не изменили и не свалился с плеч этот мешок, под тяжестью которого чуть не пополам согнулось ее тощее и дряхлое тело. Сразу было видно, что эта женщина очень стара, и оттого-то я и задержался у телеги, наблюдая за нею.
Шесть раз прошла она от телеги к сараю, перетаскивая на спине полные мешки, и, поздоровавшись, не обращала на меня больше никакого внимания. Когда телега опустела, она полезла в карман за спичками и закурила коротенькую глиняную трубку, уминая горящий табак заскорузлым и, видимо, онемелым большим пальцем. Я смотрел на ее руки, жилистые, распухшие в суставах, с обломанными ногтями, обезображенные черной работой, покрытые мозолями, шрамами, а кое-где свежими и заживающими царапинами, — такие руки бывают обычно у мужчин, занятых тяжелым физическим трудом. Сильно вздутые вены красноречиво говорили о возрасте, о годах непосильной работы. Глядя на них, трудно было поверить, что это руки женщины, которая когда-то считалась первой красавицей острова Мак-Гилл. Впрочем, это я узнал позднее.
А в тот день мне были совершенно незнакомы ни эта женщина, ни ее история.
На ней были тяжелые мужские башмаки из грубой покоробившейся кожи, надетые на босу ногу, и я еще раньше заметил, что эти твердые, как железо, башмаки, в которых ее голые ноги болтались свободно, при ходьбе натирали ей лодыжки. Плоскогрудая, худая, она была одета в грубую мужскую рубаху и рваную юбку из некогда красной фланели. Но меня больше всего заинтересовало ее лицо, обветренное, морщинистое, обрамленное нечесаными космами седых волос, и я не мог уже от него оторваться. Ни растрепанные волосы, ни сеть морщин не могли скрыть красоту ее чудесного высокого лба, линии которого были безупречны. Ввалившиеся щеки и острый нос мало вязались с огнем, тлевшим в глубине ярко-голубых глаз. Окруженные сетью мелких морщинок, которые их почему-то не старили, глаза Маргарет были ясны, как у молодой девушки, — ясны, широко раскрыты и зорки, а их прямой, немигающий, пристальный взгляд вызывал во мне какое-то замешательство. Любопытной особенностью этого лица было расстояние между глазами. Мало у кого это расстояние достигает длины глаза, а у Маргарет Хэнен оно составляло не меньше чем полторы длины. Но лицо ее было настолько симметрично, что эта особенность ничуть его не портила, и не очень внимательный наблюдатель, пожалуй, даже не заметил бы ее. Утративший четкость линий беззубый рот с опущенными углами сухих пергаментных губ не обнаруживал еще, однако, той вялости мускулов, которая является обычным признаком старости. Такие губы могли быть у мумии, если бы не присущее им выражение непреклонного упорства. Они вовсе не казались безжизненными, — напротив, в их решительной складке чувствовалась большая душевная сила. В выражении губ и глаз крылась разгадка той уверенности, с какой эта женщина, ни разу не оступившись и не теряя равновесия, таскала тяжелые мешки наверх по крутой лестнице и высыпала зерно в ларь.
— Вы старая женщина, а взялись за такую работу! — решился я сказать.
Она поглядела на меня своим странным неподвижным взглядом, подумала и заговорила с характерной для нее неторопливостью, словно знала, что перед нею — вечность и спешить не к чему. И опять поразила меня ее безмерная уверенность в себе. Несомненно, в ней сильно было ощущение вечности, и отсюда — эта твердая поступь и спокойствие, с которым она таскала по лестнице тяжелые мешки, — словом, отсюда была ее уверенность в себе. В своей духовной жизни она, вероятно, точно так же не боялась оступиться или потерять равновесие. Странное чувство вызывала она во мне. Я встретил существо, которое во всем, не считая самых элементарных точек соприкосновения, оказывалось вне моего человеческого понимания. И чем ближе узнавал я Маргарет Хэнен в следующие несколько недель, тем сильнее ощущал эту ее непонятную отчужденность. Маргарет казалась гостьей с какой-то другой планеты, и ни сама она, ни ее односельчане не могли помочь мне хоть сколько-нибудь понять, какого рода душевные переживания, какой накал чувств или философское мировоззрение двигали ею в прошлом и настоящем.
— Мне через две недели после Страстной пятницы минет семьдесят два, — сказала она, отвечая на мое замечание.
— Ну, вот видите, я же говорю, что вы стары для такой работы. Это работа для мужчины, и притом сильного мужчины, — настаивал я.
Она опять задумалась, словно созерцая вечность, — и это производило такое странное впечатление, что я бы нисколько не удивился, если бы, уснув и проснувшись через столетие, увидел, что она только еще собирается ответить мне.
— Работу кому-то делать надо, а я не люблю кланяться людям.
— Неужели у вас нет ни родных, ни детей?
— У меня их много, но они не помогают мне. Она на минуту вынула изо рта трубку и прибавила, кивком головы указывая на дом:
— Я живу одна.
Я посмотрел на крытый соломой вместительный дом, на большой амбар, на поля, широко раскинувшиеся вокруг и, очевидно, принадлежавшие хозяину этой фермы.
— Как же вы одна обрабатываете такой большой участок?
— Да, участок большой. Семьдесят акров. Хватало дела и моему старику, и сыну, да еще работник у нас жил, и служанка для домашней работы, а во время уборки приходилось нанимать поденщиков.
Она взобралась на телегу и, беря в руки вожжи, пытливо посмотрела на меня своими живыми и умными глазами.
— Вы, должно быть, из-за моря — из Америки то есть?
— Да, я американец.
— В Америке, наверное, не много встретишь людей с нашего острова Мак-Гилл?
— Не припомню, чтобы я встретил в Штатах хоть одного. Она кивнула.
— Да, народ у нас такой — домоседы. Правда, нельзя сказать, чтобы они не ездили по свету, но в конце концов все возвращаются домой — все, кто не погиб в море и не умер на чужбине от лихорадки или других напастей.
— А ваши сыновья тоже были в плавании и вернулись домой? — спросил я.
— Да, все, кроме Сэмюэла: Сэмюэл утонул. Я готов был поклясться, что, когда она упомянула это имя, в глазах ее зажегся какой-то странный свет. И, словно под влиянием внезапно возникшей между нами телепатической связи, я угадал в ней огромную печаль, неизбывную тоску. Мне показалось, что вот он — ключ к тайнам этой души, путеводная нить, которая, если упорно ее держаться, приведет к разъяснению всего непонятного. Я почувствовал, что точка соприкосновения найдена и что в эту минуту я заглянул в душу Маргарет. У меня уже вертелся на языке второй вопрос, но она причмокнула губами, понукая лошадь, крикнула мне: «Будьте здоровы, сэр!» — и уехала.
Жители острова Мак-Гилл — простой, бесхитростный народ. Я думаю, во всем мире вы не найдете таких трудолюбивых, степенных и бережливых людей. Встретив их на чужбине (а вне родины их можно встретить только в море, ибо каждый уроженец Мак-Гилла представляет собой помесь моряка с фермером), никак не примешь их за ирландцев. Сами они считают себя ирландцами, с гордостью говорят о Северной Ирландии и насмехаются над своими братьями — шотландцами. Между тем они, несомненно, шотландцы, — правда, давно переселенные сюда, но все же настоящие шотландцы, сохранившие тысячу характерных черт, не говоря уж об особенностях речи и мягком произношении, которое только благодаря чисто шотландской обособленности и замкнутости внутри своего клана могло сохраниться до сих пор.
Лишь узкий морской залив в каких-нибудь полмили шириной отделяет остров Мак-Гилл от материка Ирландии. Но, переехав эту полосу воды, вы оказываетесь в совершенно иной стране. Здесь уже сильно чувствуется Шотландия. Начать хотя бы с того, что все жители острова — пресвитериане. Затем, если я вам скажу, что на всем острове нет ни одного трактира, а живет здесь семь тысяч человек, это даст вам некоторое представление об их воздержанности. Жители Мак-Гилла преданны старым обычаям, общественное мнение здесь — закон, священники пользуются большим влиянием. В наше время мало найдется мест, где так почитают родителей и слушаются их. Молодежь гуляет только до десяти часов вечера, и ни одна девушка не пойдет никуда со своим кавалером без ведома и согласия родителей.
Молодые люди отправляются в плавание, и разгульная жизнь портов дает им возможность «перебеситься», но в промежутках между рейсами они, возвратившись домой, ведут прежний, строго нравственный образ жизни, ухаживают за девушками только до десяти часов вечера, по воскресеньям ходят в церковь слушать проповедь, а дома слушают все те же, знакомые с детства, суровые наставления старших. Сколько бы женщин ни знавали во всех концах света эти сыновья-моряки, они из мудрой осторожности никогда не привозят себе оттуда жен. Единственным исключением на всем острове был школьный учитель: он провинился в том, что взял себе жену с другого берега залива, за полмили от родной деревни. Ему этого не простили, и он до конца дней своих так и оставался у всех в немилости. Когда он умер, жена его вернулась к своим родным, и это пятно было смыто с герба Мак-Гилла. Обычно все моряки кончали тем, что женились на местных девушках, обзаводились семьей и являли собой образец всех тех добродетелей, которыми гордится остров.
Остров Мак-Гилл не имеет славного прошлого. Он не может похвастать ни одним из тех событий, которые входят висторию. Никогда здесь не замечалось пристрастия к зеленому цвету, не бывало фенианских заговоров, аграрных беспорядков. За все время произошел только один случай выселения, и то чисто формальный, — это был пробный опыт, проделанный по совету адвоката самого арендатора.
Таким образом, у острова Мак-Гилл нет летописи. История его обошла. Он платил положенные налоги, признавал своих коронованных правителей и ничем не беспокоил мир. Взамен он просил только одного: чтобы и мир оставил его в покое. Для жителей острова вселенная делилась на две части: остров Мак-Гилл и остальная поверхность земного шара. И все, что не было островом Мак-Гилл, рассматривалось его жителями как чуждый, далекий и варварский мир. Уж им ли было не знать этого, — ведь их земляки-мореходы, вернувшись домой, могли кое-что порассказать о том, другом мире и его богопротивных обычаях.
О существовании острова Мак-Гилл я узнал впервые от шкипера торгового парохода из Глазго, на котором я в качестве пассажира плыл от Коломбо до Рангуна. Он снабдил меня рекомендательным письмом, и оно открыло мне двери дома миссис Росс, вдовы шкипера. Миссис Росс жила с дочерью, а ее два сына, тоже уже шкиперы, находились в плавании. Она не сдавала комнат, и мне удалось у нее поселиться только благодаря письму ее сына шкипера Росса, Вечером, после моей встречи с Маргарет Хэнен, я стад расспрашивать о ней миссис Росс, -и сразу понял, что в самом деле натолкнулся на какую-то загадку.
Миссис Росс, как и все другие жители острова (в чем я скоро убедился), сначала очень неохотно отвечала на мои расспросы о Маргарет Хэнен. Все же в тот вечер я узнал от нее, что Маргарет была когда-то одной из первых здешних красавиц. Дочь зажиточного фермера, она и замуж вышла за человека состоятельного, Томаса Хэнена. Она никогда ничем не занималась, кроме домашнего хозяйства, и не работала в поле, как большинство женщин на острове.
— А где ее дети?
— Два сына, Джэми и Тимоти, женаты и ушли в плавание. Видали ридом с почтой большой дом? Это дом Джэми. А ее незамужние дочери живут у своих замужних сестер.
Остальные все умерли.
— Умерли все Сэмюэлы, — вставила Клара, как мне показалось, со смешком.
Кдара — это дочь миссис Росс, высокая, красивая девушка с чудесными черными глазами.
— Тут не над чем зубы скалить» — упрекнула ее мать.
— Сэмюэлы? Какие Сэмюэлы? — вмешался я.
— Это ее четыре сына — те, что умерли.
— И все четыре носили имя Сэмюэл?
— Да.
— Как странно! — заметил я, нарушая затянувшееся молчание.
— Да, очень странно, — согласилась миссис Росс, невозмутимо продолжая вязать лежавшую у нее на коленях шерстяную фуфайку, одну из тех частей туалета, которые она постоянно вязала для своих сыновей,
— И умерли только Сэмюэлы? — допытывался я, стараясь узнать что-нибудь еще.
— Да, остальные живы, — был ответ. — Семья почтенная, другой такой, семьи нет на острове. Из всех мужчин, что когда-либо уходили отсюда в море, ее сыновья — самые лучшие. Пастор всегда ставит их другим в пример. И о дочках никто никогда дурного слова не сказал.
— Но почему же они бросили ее на старости лет? — настойчиво допытывался я. — Почему родные дети не заботятся о ней? Почему она живет одна? Неужели они никогда ее не навещают и не помогают ей?
— Нет, никогда, — вот уже больше двадцати лет. Она сама в этом виновата, она их выжила из дому, а мужа своего, старого Тома Хэнена, вогнала в гроб.
— Пьет? — рискнул я спросить.
Миссис Росс покачала головой с таким презрительным видом, как будто пьянство — слабость, до которой не унизится самый последний человек на острове Мак-Гилл.
Наступило долгое молчание. Миссис Росс упорно вязала и оторвалась от работы только для того, чтобы кивком головы разрешить Кларе пойти погулять с ее женихом, молодым штурманом парусной шхуны. Я в это время рассматривал страусовые яйца, висевшие на стене в углу подобно гроздьям каких-то гигантских плодов. На каждом яйце было грубо намалевано фантастическое море, по которому, вздымая волны, плыли на всех парусах суда. Рисунки эти отличались полным отсутствием перспективы, искупавшимся разве только точностью и обилием технических деталей. На каминной полке стояли две большие раковины (явно парные) с затейливой резьбой, сделанной терпеливыми руками новокаледонских каторжников. Между ними красовалось чучело райской птицы. Великолепные раковины южных морей были расставлены в комнате повсюду. Из раковин моллюсков в стеклянных ящиках выглядывали тонкие веточки кораллов. Были тут дротики из Южной Африки, каменные топоры с Новой Гвинеи, большущие табачные кисеты с Аляски, на которых были вышиты бусами тотемы племен, австралийский бумеранг, модели различных судов под стеклянными колпаками, чаша каннибалов «Кай-кай» с Маркизских островов и хрупкие шкатулочки Вест-Индии и Китая с инкрустациями из перламутра и драгоценных сортов дерева.
Я смотрел на эти трофеи, привезенные домой моряками, но думал не о них, а о загадочной Маргарет Хэнен, которая «вогнала в гроб» мужа и от которой отвернулась вся ее семья. Она не пьет. В чем же тут дело? Может быть, причиной этому какая-нибудь ужасающая жестокость? Или неслыханная измена мужу? Или страшное преступление — из тех, что в старые времена случались в деревнях?
Я высказал вслух свои догадки, но миссис Росс на все только отрицательно качала головой.
— Нет, ничего подобного, — сказала она. — Маргарет была примерной женой и доброй матерью, и я уверена, что она во всю свою жизнь мухи не обидела. Она и детей воспитала в страхе Божьем и всех вывела в люди. Беда в том, что она свихнулась, стала настоящей идиоткой.
И миссис Росс выразительно постучала пальцем по лбу, чтобы наглядно показать, что у Маргарет голова не в порядке.
— Но я разговаривал нею сегодня, и, по-моему, она разумная женщина и удивительно бодра для своих лет.
— Да, все это верно, — спокойно подтвердила миссис Росс. — Я не про это говорю, а про ее неслыханное, безбожное упрямство. Такой упрямой женщины, как Маргарет, во всем свете не сыщете. И все из-за имени Сэмюэл. Так звали ее младшего и, говорят, самого любимого брата — того, что наложил на себя руки из-за ошибки пастора, потому что пастор не зарегистрировал в Дублине нашу новую церковь. Кажется, ясно было, что имя Сэмюэл — несчастливое. Так нет же, Маргарет не хотела с этим согласиться. Сколько было разговоров еще тогда, когда она окрестила Сэмюэлом своего первого ребенка, того, что умер от крупа! И можете себе представить — после этого она взяла да и назвала следующего сына тоже Сэмюэлом! Этот второй прожил только три года — упал в котел с кипятком и сварился насмерть, а все ведь из-за ее проклятого, дурацкого упрямства! Непременно ей надо было иметь Сэмюэла. Вот и схоронила четверых сыновей! После смерти первого мальчика родная мать в ногах у нее валялась, просила, заклинала ее не называть следующего этим именем. Но ее никак нельзя было уломать. Маргарет Хэнен всегда ставила на своем, а в особенности когда дело касалось имени Сэмюэл.
Она была просто помешана на этом имени. Ведь когда крестили ее второго мальчика — того, что потом сварился, то все соседи и родня, все, кроме тех, кто жил в доме, встали и ушли, ушли в ту самую минуту, когда священник спросил у нее, какое имя дать ребенку, а она ответила:
«Сэмюэл». Да, все встали и ушли. А тетка Фанни, сестра ее матери, на пороге обернулась и сказала громко, так, что все слышали: «И зачем она хочет загубить младенца?» Священник тоже слышал, и ему стало неприятно (он потом говорил это моему, Лерри), но что поделаешь, раз так хотела мать? Нет такого закона, который запрещал бы матери назвать своего ребенка, как ей хочется.
А третьего сына она разве не назвала Сэмюэл? А когда он погиб в море около мыса Доброй Надежды, разве она не пошла против природы и не родила четвертого? Вы подумайте, ей было сорок семь лет, и в сорок семь лет она родила! В сорок семь лет! Срам, да и только!
На другое утро я уже от Клары услышал рассказ о смерти любимого брата Маргарет Хэнен. И в течение недели, расспрашивая то того, то другого, я постепенно узнал эту трагическую историю.
Сэмюэл Данди был самым младшим из четырех братьев Маргарет, и, по словам Клары, Маргарет души в нем не чаяла. Он был шкипером каботажного парусника и перед уходом в плавание женился на Агнес Хьюит. По описанию Клары, Агнес была маленькая женщина с тонким личиком, очень хрупкая, нервная и болезненно впечатлительная. Они с Сэмюэлом первые венчались в новой церкви, и после двухнедельного медового месяца Сэмюэл, поцеловав жену, ушел в море на большом четырехмачтовом барке «Лохбэнк».
Из-за этой самой новой церкви и вышла ошибка у пастора. Как потом объяснял один из старост, виноват был не только он, но и Кафлинская пресвитерия, в которую входили все пятнадцать церквей на острове Мак-Гилл и материке. Дело было так: старая церковь совсем развалилась, и ее снесли, а на том же фундаменте построили новую. Ни священник, ни пресвитерия никак не могли предположить, что новая церковь с точки зрения закона представляет собой нечто другое, чем старая.
— И в первую же неделю в новой церкви были обвенчаны три пары, — рассказывала Клара. — Первыми — Сэмюэл Данди и Агнес Хьюит, на другой день после них — Альберт Махан с Минни Дункан, а в конце недели — Эдци Трои с Фло Мэкинтош. Молодые мужья были моряки, и не прошло и двух месяцев, как они все трое вернулись на свои суда и ушли в плавание, и никто из них не подозревал, в какую беду они попали.
Должно быть, сам дьявол устроил себе из этого потеху. Все складывалось как назло. Свадьбы были отпразднованы на первой неделе мая, и только через три месяца священник, как полагается, представил дублинским властям отчет за четверть года. В ответ немедленно пришло извещение, что церковь его незаконная, так как она не зарегистрирована законным порядком. Ее спешно зарегистрировали, и дело уладилось. Но не так легко было узаконить браки: все три мужа были в плавании. Одним словом, выходило, что их жены — им вовсе не жены.
— Но пастор не хотел их пугать, — продолжала Клара. ~ Он хранил все в секрете и выжидал, пока моряки вернутся из плавания. И вот, как на грех, когда он уехал на дальний конец острова крестить, неожиданно вернулся домой Альберт Махан, — его судно только что прибыло в Дублин. Пастор узнал эту новость в девять часов вечера, когда был уже в халате и ночных туфлях. Он сразу велел оседлать лошадь и вихрем помчался к Альберту Махану. Альберт как раз ложился спать и стащил уже один сапог, а тут входит пастор.
— Едемте со мною оба! — говорит пастор, еле переводя дух.
— Это еще зачем? Я устал до смерти и хочу спать, — отвечает Альберт.
— Вам надо законно обвенчаться, — объясняет пастор. Альберт посмотрел на него, нахмурился и говорит:
— Что это вы, пастор, шутить вздумали? А про себя (я не раз слыхала, как Альберт это рассказывал) удивляется: неужто пастор в его годы пристрастился к виски?
— Разве мы не венчаны? — спрашивает Минни.
Пастор покачал головой.
— Так, значит, я не миссис Махан?
— Нет, — отвечает пастор, — вы не миссис Махан. Вы всего-навсего мисс Дункан,
— Да вы же сами нас обвенчали!
— И да и нет, — говорит пастор.
И тут он им все рассказал. Альберт надел второй сапог, и они пошли за пастором и обвенчались законным порядком, как полагается, и Альберт Махан потом часто говаривал: «Не каждому ма нашем острове доводилось венчаться дважды».
Через полгода вернулся домой и Эдди Трои, и его тоже обвенчали вторично. Но Сэмюэл Данди отправился в плавание на три года, и его судно не вернулось в срок. К тому же Агнес ждала его не одна, а с двухлетним сыном на руках, и это еще больше осложняло дело. Шли месяцы, и жена Сэмюэла просто чахла от тревоги.
— Не о себе я думаю, — говорила она не раз, — а о бедном малыше, который растет без отца. Если с Сэмюэлом что случится, что будет с ребенком?
Компания Дойд занесла «Лохбэик» в список судов, пропавших без вести, и владельцы перестали выплачивать жене Сэмюэла половину его жалованья. Но Агнес больше всего мучило то, что сын ее оказался незаконнорожденным. И когда на возвращение Сэмюэла уже не оставалось никакой надежды, Агнес вместе с ребенком утопилась в заливе.
Дальше эта история становится еще трагичнее, «Лохбэнк» вовсе не погиб. Из-за ряда всяких бедствий и нескончаемых задержек в пути, о которых слишком долго рассказывать, судну пришлось проделать такой длительный и непредвиденный рейс, какой случается раз или два в столетие. То-то, должно быть, тешился дьявол* В конце концов Сэмюэл вернулся из плавания, и, когда ему сообщили страшную весть, у него словно что-то оборвалось в голове и сердце. На другое утра его нашли на могиле жены и ребенка, где он наложил на себя руки. С тех пор как стоит остров Мак-Гилл, никто так страшно не умирал здесь! Сэмюэл плевал в лицо священнику, осыпал его ругательствами и так ужасно богохульствовал перед смертью, что у тех, кто ходил за ним, тряслись руки, и они боялись взглянуть на него.
И после всего этого Маргарет Хэнен назвала своего первенца Сэмюэлом1 Чем объяснить, упрямство этой женщины? Или это было не упрямство, а одержимость навязчивой идеей, желание, чтобы один из ее сыновей непременно носил имя Сэмюэл?
Третий ребенок была девочка, и ее назвали именем матери. Четвертый— опять мальчик. Несмотря на постигшие ее удары судьбы, несмотря на то, что от нее отшатнулись все родные и знакомые, Маргарет упорствовала в своем решении дать и этому ребенку имя любимого брата. С ней перестали здороваться в церкви даже друзья детства, с которыми она росла, вместе. Мать Маргарет, после новых тщетных уговоров, покинула ее дом, объявив, что, если ребенка назовут этим именем, — она до конца жизни не будет говорить с дочерью. Старуха прожила после этого еще тридцать с лишним лет т сдержала слово.
Пастор соглашался окрестить ребенка любым именем, только не Сэмиээлом, и все остальные священники на острове тоже отказывались назвать его так, как хотела мать. Маргарет сначала грозила, что подаст на них в суд, но в конце концов повезла малыша в Белфаст, и там его окрестили Сэмюэлом.
И ничего худого не случилось. Вопреки ожиданиям всего острова, ребенок рос и хорошо развивался. Школьный учитель постоянно твердил веем, что он не видывал мальчика смышленее и способнее. У Сэмюэла был замечательно крепкий организм и огромная жизненная энергия. К удивлению всех, он не хворал ни одной из обычных детских болезней: ни корью, ни коклюшем, ни свинкой. Он был словно забронирован от микробов, абсолютно невосприимчив ко всем болезням. Он не знал, что такое головная боль или боль в ухе. «Хоть бы у него когда прыщик или чирей вскочил!» — говорил мне кто-то из стариков. В школе Сэмюэл побивал рекорды в учении и спорте и опередил всех мальчиков своего возраста.
Маргарет Хэнен торжествовала. Этот чудо-мальчик был ее сын и носил дорогое ей имя! Все друзья и родные, кроме матери, вернулись к ней, признав свою ошибку. Правда, были такие старые карги, которые упорно держались прежнего мнения и, зловеще покачивая головами, за чашкой чая шептались о том, что мальчик слишком хорош и, значит, недолговечен, что ему не уйти от проклятия, которое навлекла на него бессовестная мать, дав ему это имя. Молодежь вместе с Маргарет высмеивала их, но старухи продолжали качать головами.
У Маргарет родились еще дети. Пятым был мальчик, она назвала его Джэми, а за ним, одна за другой, родились три девочки — Элис, Сара и Нора, потом сын Тимоти и снова две дочки — Флоренс и Кэти. Кэти была одиннадцатой по счету и последней: в тридцать пять лет Маргарет Хэнен почила от трудов. Она и так уж постаралась для острова Мак-Гилл и королевы: вырастила девять здоровых детей. С ними все было благополучно. Казалось, что смертью двух первых сыновей кончились все ее злоключения. Девять остальных выжили, и один из них носил имя Сэмюэл.
Джэми решил стать моряком, — впрочем, решение это было до некоторой степени вынужденное, ибо на острове Мак-Гилл так уж принято, чтобы старшие сыновья оставались дома и владели землей, а младшие отправлялись бороздить моря. Тимоти последовал примеру брата, и к тому времени, когда Джэми в первый раз принял командование торговым судном, отплывшим из Кардиффа, Тимоти уже был помощником капитана на большом паруснике.
Сэмюэл остался дома, но он не имел ни малейшей склонности к сельскому хозяйству. Жизнь фермера ему не нравилась. Братья его стали моряками не из любви к морю, а потому, что для них это был единственный способ прокормить себя. Он же, которому в этом не было надобности, завидовал братьям, когда те, возвратясь из дальнего плавания и сидя на кухне у очага, рассказывали всякие чудеса о заморских странах.
Сэмюэл, к великбму разочарованию отца, стал учителем и даже получил аттестат в Белфасте, куда ездил сдавать экзамены. Когда старый учитель ушел в отставку, Сэмюэл занял его место. Но он тайком изучал навигацию, и Маргарет очень любила слушать, как ее старший сын, сидя с братьями у огня, побивал их в теоретических вопросах, несмотря на то, что они оба уже были капитанами. Когда Сэмюэл, школьный учитель, сын почтенных родителей и наследник фермы Хэнен, неожиданно отправился в плавание простым матросом, негодовал только один Том. Маргарет твердо верила в счастливую звезду сына и была убеждена, что все, что бы он ни делал, — к лучшему. В самом деле, Сэмюэл и тут проявил свои замечательные способности. Моряки не помнят такого быстрого повышения. Он не пробыл и двух лет матросом, как его забрали с бака и назначили штурманом. Было это во время стоянки в одном из тех портов Западного побережья, где свирепствует лихорадка, — и экзаменовавшая Сэмюэла комиссия шкиперов убедилась, что он знает больше, чем когда-либо знали они. Прошло еще два года, и он отплыл из Ливерпуля на судне «Стэрри Грэйс» с дипломом капитана дальнего плавания в кармане. Но тут свершилось то, о чем все годы каркали старухи.
Мне рассказывал об этом Гэвин Мак-Нэб, тоже уроженец Мак-Гилла, служивший тогда боцманом на «Стэрри Грэйс».
— Да, я очень хорошо все помню, — говорил он. — Мы шли, как нам полагалось по рейсу, на восток, и погода вдруг сильно испортилась. Сэмюэл Хэнен был отличный моряк, другого такого моряка свет не знал. Как сейчас его вижу, когда он стоял на вахте в то последнее утро и громадные волны бушевали за кормой; а он один смотрел, как «Стэрри Грэйс» выдерживает их удары, — наш капитан уже несколько дней пьянствовал внизу в каюте. В семь часов Хэнен поставил шхуну по ветру, не рискуя больше идти вперед в такой страшный шторм. В восемь он позавтракал и ушел к себе в каюту, а через полчаса на мостик вылез капитан. Глаза мутные, трясется весь и держится за перила. Буря была страшная, можете мне поверить, кругом света Божьего не видно, а он стоит и только глазами хлопает да сам с собой разговаривает. Наконец как крикнет рулевому: «Отойди назад!» Младший помощник, который стоял около него, так и ахнул: «Господи помилуй, что это вы!» Но капитан наш и не взглянул на него, а все что-то бурчит и бурчит себе под нос. Потом вдруг выпрямился, приосанился и опять крикнул: «Меняй галс, кому я говорю! Оглох ты, что ли, черт тебя побери!»
Недаром говорят, что пьяным везет, — ведь «Стэрри Грэйс» шла, не зачерпнув и ведра воды, при таком-то шторме! Это был не ветер, а настоящее наказание Господне. Второй помощник выкрикивал распоряжения, и все матросы носились как сумасшедшие. А капитан кивнул головой и, довольный, ушел вниз допивать виски. Это было все равно что послать на верную смерть всех людей на судне, потому что даже самый большой корабль не может плыть в такую погоду. Да какое там плыть! И вообразить себе нельзя, что творилось на море, в жизни не видел ничего подобного! А я ведь сорок лет плаваю, начал еще мальчишкой. Ужас, что было!
Помощник капитана стоял бледный, как смерть. Он пробыл на мостике полчаса, потом не выдержал, сошел вниз и позвал на помощь Сэмюэла и третьего помощника. Да, уж на что хороший моряк был Сэмюэл, а тут и он спасовал. Все смотрел и раскидывал умом так и этак, но не знал, что делать. Остановить судно он не решался, потому что, пока будешь останавливать, с него снесет и команду и все остальное. Ничего больше не оставалось, как идти дальше. Если бы буря усилилась, нас все равно ждала смерть. Рано или поздно разбушевавшиеся волны непременно смыли бы нас всех с кормы в море.
Я вам сказал, что это был не шторм, а чистое наказание Господне. Где там! Не Бог, а сам дьявол, должно быть, наслал его! Я на своем веку видал виды, но такое не дай Бог еще пережить! Внизу, в кубрике, никто не рискнул остаться. На палубах тоже не было ни единой души. Матросы все толпились наверху, цеплялись за что придется. Все три помощника были на корме, два человека — у штурвала, и только этот пьяница-капитан, нализавшись, храпел внизу, в каюте.
И вдруг я вижу, что примерно в миле от нас поднимается волна выше всех других, как остров из моря. Я таких в жизни не видал. Три помощника стояли рядом и тоже смотрели, как она надвигается, и все мы молили Бога, чтобы она прошла мимо и не обрушилась на нас. Но молитва не помогла. Волна встала, как гора, захлестнула корму и закрыла нам небо. Три помощника кинулись в разные стороны: второй и третий побежали к винтам и полезли на бизань-мачту, а Хэнен бросился помогать штурвальным. Он был храбрый человек, этот Сэмюэл Хэнен! Пошел навстречу такой волне, не думая о себе, думая только о спасении судна. Оба матроса были привязаны к штурвалу, но Сэмюэл хотел быть наготове, на случай, если кто из них погибнет и нужно будет его заменить. И вот в этот миг волна и обрушилась на судно. С мостика нам не видно было кормы, на нее хлынула тысяча тонн воды. Волна смыла всех, всех унесла — двух помощников, забравшихся на бизань, Сэмюэла Хэнена, бежавшего к штурвалу, обоих штурвальных, да и самый штурвал тоже. Так мы их больше и не видели. Судно вышло из ветра и потеряло управление. Двоих из нас смыло с мостика в море, а нашего плотника мы нашли потом на корме, у него не осталось ни одной целой косточки, и тело превратилось в какой-то кисель…
Тут-то и начинается самое необычайное во всей этой истории — чудо, свидетельствующее о героической душе Маргарет. Этой женщине было сорок семь лет, когда пришла весть о гибели Сэмюэла. Через некоторое время по всему острову пошли невероятные слухи. Да» поистине невероятные! Никто им не верил. Доктор Холл пренебрежительно фыркал и отмахивался от такого вздора. Все смеялись, как смеются забавной шутке. Выяснилось, что слух исходит от Сары Дэк, единственной служанки Хэненов. Сара Дэк уверяла, что это правда, но ее называли бессовестной лгуньей. Кое-кто из соседей даже решился спросить об этом самого Тома Хэнена, но от него ничего не добились. Том в ответ только хмурился и бранился.
Молва заглохла, и Мак-Гилл уже занялся было обсуждением гибели в Китайском море «Гренобля», все офицеры которого и половина экипажа родились и выросли на острове. Однако сплетня не хотела умирать. Сара Дэк все громче твердила свое. Том Хэнен бросал вокруг все более угрюмые взгляды, а доктор Холл, побывав в доме у Хэненов, перестал недоверчиво фыркать. Наступил день, когда весь остров встрепенулся, и языки заработали вовсю. То, о чем говорила Сара Дэк, казалось всем неестественным, неслыханным. И когда через некоторое время факт стал для всех очевидным, жители Мак-Гилла, подобно боцману «Стэрри Грэйс», решили, что тут дело не обошлось без дьявола. По словам Сары, эта одержимая, Маргарет, была уверена, что у нее будет мальчик. «Я родила одиннадцать, — говорила она. — Шестерых девочек и пятерых мальчиков. И как во всем, так и тут должен быть ровный счет. Шесть тех и шесть других — вот и выйдет поровну. Я рожу мальчика — это так же верно, как то, что солнце восходит каждое утро».
У нее и в самом деле родился мальчик, и притом прекрасный. Доктор Холл восторгался его безупречным и крепким сложением и даже написал доклад для Дублинского медицинского общества, в котором указывал, что это самый интересный случай в его многолетней практике. Когда Сара Дэк сообщила, сколько весит новорожденный, ей отказались верить и опять назвали ее лгуньей. Но доктор Холл подтвердил, что он сам взвешивал малыша, и тот весит именно столько, сколько сказала Сара, — и после этого остров Мак-Гилл, затаив дыхание, слушал без недоверия все, что ни сообщала Сара о росте и аппетите ребенка. И снова Маргарет Хэнен повезла сына в Белфаст, и там его окрестили Сэмюэлом.
— Это был не ребенок, а золото, — рассказывала мне Сара Дэк.
Когда я познакомился с Сарой, она была уже шестидесятилетней старой девой, полной и флегматичной. Память этой женщины хранила события столь трагические и необычайные, что если бы она болтала еще десятки лет, рассказы ее все равно не могли бы утратить интереса для ее приятельниц.
— Да, не ребенок, а золото, — повторила Сара. — И никогда он не капризничал. Посадишь его, бывало, на солнышке, и он сидит часами — пока не проголодается, его не слышно. А какой сильный! Сожмет что-нибудь в руках, так не вырвешь у него, как у взрослого мужчины. Помню, когда ему было от роду всего несколько часов, он так вцепился в меня ручонками, что я вскрикнула от испуга. На редкость здоровый был ребенок. Спал, ел, рос и никогда никого не беспокоил. Ни разу не бывало, чтобы он хоть одну минуту мешал нам спать по ночам, — даже когда у него резались зубы.
Маргарет все качала его на коленях и спрашивала, был ли когда-нибудь другой такой красавчик во всех трех королевствах.
А как быстро он рос! Это, наверное, оттого, что он так много ел. К году Сэмми был уже ростом с двухлетнего. Только ходить и говорить долго не начинал. Издавал горлом какие-то звуки и ползал на четвереньках, — больше ничего. Но при таком быстром росте этого можно было ожидать. Он становился все здоровее и крепче. Даже старый Том Хэнен и тот веселел, глядя на него, и твердил, что другого такого мальчонки не сыщешь во всем Соединенном Королевстве.
Доктор Холл первый заподозрил неладное, Я отлично это помню, хотя, правда, тогда мне и в голову не приходило, что у доктора такие подозрения. Как-то раз я заметила, что он держит у Сэмми перед глазами разные вещи и кричит ему в уши то громче, то тише, то отойдет от него подальше, то ближе подойдет. Потом, уходя, наморщил брови и покачал головой, как будто ребенок болен. Но я готова была поклясться, что Сэмми вполне здоров, ведь я же видела, как он ест и как быстро растет. Доктор Холл не сказал Маргарет ни слова, и я никак не могла понять, чем он так озабочен.
Помню, как маленький Сэмми в первый раз заговорил. Ему было уже два года, а по росту он сошел бы за пятилетнего. Только с ходьбой у него дело не ладилось, все еще ползал на четвереньках. Всегда он был веселый и довольный, никому не надоедал, если его вовремя кормили. А ел он очень уж часто. Помню, я развешивала во дворе белье, а Сэмми вылез из дому на четвереньках, мотает своей большой головой и жмурится на солнце. И вдруг заговорил. Я чуть не умерла со страху — и тут только поняла, почему доктор Холл ушел тогда такой расстроенный. Да, Сэмми заговорил! Никогда еще ни у одного ребенка на острове не было такого громкого голоса. Я вся дрожала. Сэмми ревел по-ослиному! Понимаете, сэр, ревел совершенно так, как осел, громко и протяжно, так что, казалось, у него того и гляди лопнут легкие.
Сэмми был идиот, страшный, здоровенный идиот, настоящее чудовище. После того как он заговорил, доктор Холл сказал об этом Маргарет, но она не хотела верить и твердила, что это пройдет, что это от слишком быстрого роста. «Погодите, дайте срок, — говорила она. — Погодите, увидите!»
Но старый Том Хэнен понял, что доктор прав, и с тех пор уже не поднимал головы. Он не выносил идиота и не мог заставить себя хотя бы прикоснуться к нему. Но при этом, надо вам сказать, его словно притягивала к Сэмми какая-то таинственная сила. Я не раз видела, как он наблюдал за ним из-за угла, — смотрит, смотрит, и глаза у него чуть на лоб не лезут от ужаса. Когда идиот начинал реветь по-ослиному, старый Том затыкал уши, и такой у него был несчастный вид, что просто жалко было смотреть.
А ревел Сэмми здорово! Он только это и умел — реветь и есть, да рос как на дрожжах. Бывало, проголодается и начнет орать, и унять его можно было только кормежкой. По утрам он всегда выползал за порог кухни, смотрел, жмурясь, на солнце и ревел. Из-за этого рева ему и конец пришел.
Я очень хорошо помню, как все это случилось. Сзмми было уже три года, а на вид ему можно было дать десять. С Томом творилось что-то неладное, и чем дальше, тем хуже. Ходит, бывало, в поле и все что-то бормочет, разговаривает сам с собой. В то утро он сидел на скамейке у дверей кухни и прилаживал ручку к мотыге. А идиот незаметно вылез во двор и, по обыкновению, заревел, глядя на солнце. Вижу, старый Том вздрогнул и уставился на него. А тот мотает себе большой башкой, жмурится и ревет, как осел. Тут Том не выдержал. На него вдруг что-то нашло: как вскочит да как треснет идиота рукояткой мотыги по голове, и еже раз, и еще — все бил, бил, будто перед ним бешеная собака. Потом пошел на конюшню и повесился на балке.
После этого я не хотела оставаться у них в доме и перебралась к своей сестре, той, которая замужем за Джеком Мартином. Они хорошо живут.
Я сидел на скамейке перед кухонной дверью и смотрел на Маргарет Хэнен, а она мозолистым пальцем уминала горящий табак в трубке и смотрела на окутанные сумраком поля. Это была та самая скамейка, на которой сидел Том в последний, страшный день своей жизни. А Маргарет сидела на пороге, где рожденное ею чудовище так часто грелось на солнце и, мотая головой, ревело по-ослиному. МЫ беседовали вот уже около часа.
Маргарет отвечала мне все с тем же неторопливым спокойствием человека, уверенного, что у него» впереди верность, — спокойствием, которое так шло к кож. Но я, хоть убейте, не мог угадать, какие побуждения скрывались в темной глубине этой души. Была ли она мученицей за правду, могла ли она поклоняться столь абстрактной истине? Может быть, в тот далекий день, когда эта женщина назвала своего первенца Сэмюэлом, она служила абстрактной истине, которая представлялась ей высшей целью человеческих стремлений?
Или в ней попросту говорило слепое животное упорство, упорство заартачившейся лошади? Тупое своеволие крестьянки? Что это было — каприз, фантазия? Единственный заскок ума, во всем остальном очень здравого и трезвого? Или, напротив, в ней жил дух Джордано Бруно? Может быть, она упорствовала потому, что была убеждена в своей правоте? Может быть, с ее стороны это была стойкая и сознательная, борьба против суеверия? Или, — мелькнула у меня более хитроумная догадка, — быть может, она сама была во власти какого-то глубокого и сильного суеверия, особого рода фетишизма, альфой и омегой которого было это загадочное пристрастие к имени Сэмюэл?
— Вот вы сами скажите, — говорила мне Маргарет. — Неужели, если бы я своего второго Сэмюэла назвала Лэрри, так он не упал бы в кипяток и не захлебнулся бы? Между нами говоря, сэр (вы, я вижу, человек умный и образованный), — разве имя может иметь какое-нибудь значение? Разве, если бы его звали Лэрри или Майкл, у нас в тот день не было бы стирки и он не мог бы упасть в котел? Неужели кипяток не был бы кипятком и не ошпарил бы ребенка, если бы ребенок назывался не Сэмюэл, а как-нибудь иначе?
Я согласился, что она рассуждает правильно, и Маргарет продолжала:
— Неужели такой пустяк, как имя, может изменить волю Господа? Выходит, что миром правит случай, а Бот — слабое, капризное существо, которое может изменить человеческую судьбу только из-за того, что какой-то червь земной, Маргарет Хэнен, вздумала назвать своего ребенка Сэмюэлом? Вот, например, мой сын Джэми не хотел принять на свое судно одного матроса, финна, — и знаете, почему? Он верит, что финны могут накликать дурную погоду. Как будто они распоряжаются ветрами! Что вы на это скажете? Вы тоже думаете, что Господь, посылающий ветер, склонит голову сверху и станет слушать какого-то вонючего финна, который сидит на баке грязной шхуны?
Я сказал:
— Ну, конечно нет.
Но Маргарет непременно хотела развить свою мысль до конца.
— Неужели вы думаете, что Бог, который управляет движением звезд, которому весь наш мир — только скамеечка для ног, пошлет назло какой-то Маргарет Хэнен большую волну у мыса Доброй Надежды, чтобы смыть ее сына на тот свет, — и все только за то, что она окрестила его Сэмюэлом?
— А почему непременно Сэмюэлом? — спросил я.
— Не знаю. Так мне хотелось.
— Но отчего?
— Ну, как я могу объяснить вам это? Может ли хоть один человек из всех, кто живет или жил на земле, ответить на такой вопрос? Кто знает, почему нам одно любо, а другое — нет? Мой Джэми, например, большой охотник до сливок. Он сам говорит, что готов их пить, пока не лопнет. А Тимоти с детства терпеть не может сливки. Я вот люблю грозу, люблю слушать, как гремит, а моя Кэти при каждом ударе грома вскрикивает, и вся трясется, и залезает с головой под перину. Никогда я не слыхала ответа на такие «почему». Один Бог мог бы ответить на них. А нам с вами, простым смертным, знать это не дано. Мы знаем только, что нам нравится, а что — нет. Нравится — и все. А объяснить, почему, ни один человек не может. Мне вот нравится имя Сэмюэл, очень нравится. Это красивое имя и звучит чудесно. В нем есть какая-то удивительная прелесть.
Сумерки сгущались. Мы оба молчали, и я смотрел на этот прекрасный лоб, красоту которого даже время не могло испортить, на широко расставленные глаза, ясные, зоркие, словно вбиравшие в себя весь мир. Маргарет встала, давая мне понять, что пора уходить.
— Вам темно будет возвращаться. Да и дождик вот-вот хлынет — небо все в тучах.
— А скажите, Маргарет, — спросил я вдруг, неожиданно для самого себя, — вы ни о чем не жалеете? С минуту она внимательно смотрела на меня.
— Жалею, что не родила еще одного сына.
— И вы бы его… — начал я и запнулся.
— Да, конечно, — ответила она. — Я бы дала ему то же имя.
Я шагал в темноте по дороге, обсаженной кустами боярышника, думал обо всех этих «почему» и то про себя, то вслух повторял имя «Сэмюэл», вслушиваясь в это сочетание звуков, ища в нем «удивительную прелесть», которая пленила Маргарет и сделала жизнь ее такой трагической. «Сэмюэл». Да, в звуке этого имени было что-то чарующее. Несомненно, было!


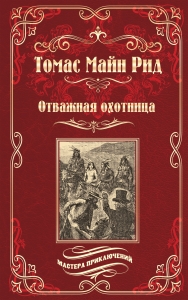

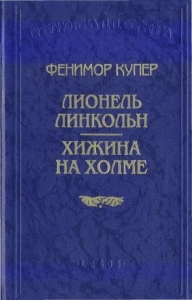



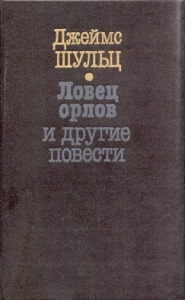



Комментарии к книге «Сила сильных (Сборник рассказов)», Джек Лондон
Всего 0 комментариев