ДЖЕК ЛОНДОН «НА ЦИНОВКЕ МАКАЛОА» (СБОРНИК РАССКАЗОВ)
На циновке Макалоа
На Гавайях, в отличие от большей части жарких стран, женщины долго не старятся и даже в старости красивы. Женщине, сидевшей под деревом хау — а она была не накрашена и никак не старалась скрыть разрушительную работу времени, — искушенный наблюдатель в любой точке земного шара, кроме Гавайских островов, дал бы лет пятьдесят. А между тем и дети ее, и внуки, и Роско Скандуэл, за которым она уже сорок лет как была замужем, знали, что ей шестьдесят четыре года, — двадцать второго июня исполнится шестьдесят пять. Она казалась куда моложе, несмотря на то, что, читая сейчас журнал, надела очки и снимала их всякий раз, как взгляд ее устремлялся на лужайку, где резвилась стайка детей.
Прекрасно было старое дерево хау, высокое, как дом, — она и сидела под ним, как в доме, до того густую и уютную тень давала его огромная крона; прекрасна была лужайка — беспенный зеленый ковер, раскинувшийся перед бунгало, столь же прекрасным, благородным и дорогостоящим. А в другой стороне, сквозь бахрому из стофутовых кокосовых пальм, виден был океан: за отмелью — синева, сгущавшаяся у горизонта до темного индиго, ближе к берегу — шелковистые переливы яшмы, изумруда и рубина.
И это был только один из домов, принадлежавших Марте Скандуэл. Ее городской особняк в нескольких милях отсюда в Гонолулу на улице Нууану, между первым и вторым фонтаном, был настоящим дворцом. Сотни гостей перебывали и в ее комфортабельном доме на горе Танталус, и в ее доме на склоне вулкана, и в ее горном домике, и в ее приморской вилле на Гавайи — самом большом из островов. Однако и этот дом на побережье Ваикики не уступал остальным по красоте местоположения и благородству архитектуры, да и на содержание его тратилось не меньше. Вот и сейчас два садовника японца подрезали мальвы, третий со знанием дела подравнивал длинную изгородь из кактусов цереус, на которых скоро должны были распуститься таинственные ночные цветы Японец-лакей в белоснежном полотняном костюме принес из дома чай, за ним шла горничная японка в ярком кимоно, красивая и легкая, как бабочка. В противоположном конце лужайки другая горничная японка торопилась с целой охапкой мохнатых полотенец к купальням, откуда уже выбегали дети в купальных костюмчиках. А под пальмами у самого моря две нянюшки китаянки с черными косами, в красивой национальной одежде — белые кофты и длинные белые штаны — сторожили каждая свою колясочку с младенцем.
Все эти слуги, няньки и внуки были слугами, няньками и внуками Марты Скандуэл. И это она передала внукам свой цвет кожи — кожи гавайцев, прогретой гавайским солнцем, — который не смешаешь ни с каким другим. Дети были всего на одну восьмую или на одну шестнадцатую гавайцами, однако ни семь восьмых, ни пятнадцать шестнадцатых белой крови не могли стереть с их кожи золотисто-коричневые краски Полинезии. Но опять-таки только опытный наблюдатель догадался бы, что эти дети, играющие на лужайке, — не чистокровные белые. Их дед, Роско Скандуэл, был белый; Марта — белая на три четверти; сыновья их и дочери — на семь восьмых; а внуки — на пятнадцать шестнадцатых или, в тех случаях, когда их отцы или матери вступали в брак с потомками гавайцев, — тоже на семь восьмых. Порода и с той и с другой стороны была отличная: Роско происходил по прямой линии от пуритан Новой Англии, а Марта — по столь же прямой линии — от гавайского вождя, чей древний род славили в песнях за тысячу лет до того, как люди научились писать.
У дома остановился автомобиль, и из него вышла женщина, которой на вид было не более шестидесяти лет, которая пересекла лужайку упругой походкой хорошо сохранившейся сорокалетней женщины и которой на самом деле исполнилось шестьдесят восемь. Марта поднялась ей навстречу, и они с чисто гавайской сердечностью крепко обнялись и поцеловались в губы. Их лица и все движения выражали искреннее, горячее чувство; только и слышно было, что «сестрица Белла», «сестрица Марта», вперемешку с несвязными расспросами друг о друге, о братьях, дядьях и тетках. Но, наконец, первое волнение встречи утихло, и со слезами умиления на глазах они уселись друг против друга за чайный столик. Можно было подумать, что они не виделись много лет. В действительности их разлука длилась два месяца. И одной было шестьдесят четыре года, другой — шестьдесят восемь. Но не забудьте, что в груди у них билось сердце на одну четверть гавайское, насквозь прогретое солнцем и любовью.
Дети устремились к тете Белле, как волны к берегу, и получили щедрую порцию поцелуев и ласк, прежде чем отбыть на пляж под присмотром нянюшек.
— Я решила выбраться сюда на несколько дней, — объяснила Марта, — пассат сейчас улегся.
— Ты здесь уже две недели — Белла нежно улыбнулась младшей сестре — Мне братец Эдвард сказал. Он встречал меня на пристани и чуть не силой увез к себе повидаться с Луизой и Дороти и поглядеть на его первого внучонка — он в нем просто души не чает.
— Боже мой! — воскликнула Марта — Две недели! Я и не заметила, как пролетело время.
— А где Энни? — спросила Белла. — И Маргарет? Марта пожала пышными плечами, выражая этим снисходительную любовь к своим уже немолодым, но легкомысленным дочерям, которые на целых полдня вверили детей ее заботам.
— Маргарет на собрании общества городского благоустройства, они там задумали посадить деревья и мальвы по обеим сторонам Калакауа-авеню. А Энни изводит на восемьдесят долларов автомобильных шин, чтобы собрать семьдесят пять долларов для Английского Красного Креста. Сегодня у них день уплаты членских взносов.
— Роско, наверно, торжествует, — сказала Белла и заметила, что глаза ее сестры горделиво сверкнули. — Я еще в Сан-Франциско узнала о первых дивидендах Компании Хо-о-ла-а. Помнишь, когда их акции стоили семьдесят пять центов, я вложила тысячу долларов для детей бедняжки Эбби и сказала, что продам, когда эти акции поднимутся до десяти долларов?
— И все смеялись над тобой, да и над всяким, кто покупал их, — подхватила Марта. — Но Роско знал, что делает. Сейчас они идут по двадцать четыре.
— Я продала свои по радио, с парохода, по двадцать долларов, — продолжала Белла. — И сейчас Эбби с ног сбилась — шьет туалет за туалетом, собирается с Мэй и Тутси в Париж.
— А Карл? — спросила Марта.
— О, тот кончает Гарвардский университет…
— …который он все равно окончил бы, уж тебе-то это должно быть известно, — заметила Марта.
Белла признала свою вину — она уже давно решила, что сын ее школьной подруги получит университетское образование за ее счет, — но добавила добродушно:
— А все же приятнее, что за него платит Хо-о-ла-а. Можно даже сказать, что платит Роско, — ведь я потому тогда купила акции, что положилась на его здравый ум.
Она медленно огляделась по сторонам, и взгляд ее, казалось, впитал не только красоту, комфорт и покой всего, на чем он останавливался, но также красоту, комфорт и покой других оазисов, подобных этому, разбросанных по всем островам. Со вздохом удовлетворения она добавила:
— Наши мужья создали нам богатую жизнь на те средства, что мы им принесли.
— И счастливую… — подтвердила Марта и почему-то сразу умолкла.
— …и счастливую для всех, кроме сестрицы Беллы, — беззлобно закончила ее мысль старшая сестра.
— Печально получилось с этим браком, — тихо сказала Марта, преисполненная нежного сочувствия. — Ты была так молода. Напрасно дядя Роберт поторопился выдать тебя замуж.
— Да, мне было всего девятнадцать лет, — согласилась Белла. — Но Джордж Кастнер ни в чем не виноват.
И видишь, сколько он для меня сделал из-за могилы. Дядя Роберт поступил умно. Он знал, что Джордж энергичен, и упорен, и дальновиден. Уже тогда, пятьдесят лет назад, он один понял, как важно завладеть водами Наала. Люди думали, что он скупает землю для пастбищ. А он покупал будущее воды в этих краях, и как он преуспел — ты сама знаешь. Иногда мне просто стыдно становится, как подумаю о своих доходах. Нет, что другое, а брак наш не удался не из-за Джорджа. Останься он в живых, я и по сей день могла бы жить с ним вполне счастливо. — Она медленно покачала головой. — Нет, он не виноват. Никто здесь не виноват. Даже я. А если кто и виноват… — она улыбнулась грустно и ласково, словно желая смягчить впечатление оттого, что собиралась сказать, — если кто и виноват, так это дядя Джон.
— Дядя Джон! — изумилась Марта. — Если уж на то пошло, так я бы скорее сказала — дядя Роберт. А дядя Джон…
Белла только улыбнулась в ответ.
— Но ведь замуж тебя выдал дядя Роберт! — не унималась Марта.
— Конечно. — Белла кивнула головой. — Только дело тут не в муже, а в лошади. Я попросила дядю Джона дать мне лошадь, и он дал. Вот так все и случилось.
Наступило молчание, полное недоговоренности и тайны, и Марта Скандуэл, прислушиваясь к голосам детей и негромким замечаниям служанок, возвращавшихся с пляжа, вдруг почувствовала, что вся дрожит от дерзкой решимости. Она жестом отогнала детей.
— Бегите, милые, бегите. Бабушке надо поговорить с тетей Беллой.
И пока высокие, звонкие детские голоса постепенно стихали за лужайкой, Марта с душевным участием смотрела на скорбные тени, которые тайная полувековая печаль наложила на лицо ее сестры. Скоро пятьдесят лет, как она помнит эти скорбные тени. Поборов в себе гавайскую робость и мягкость, она решилась нарушить полувековое молчание.
— Белла, — сказала она, — мы ничего не знаем. Ты никогда ничего не говорила. Но мы так часто, так часто думали…
— И ни о чем не спрашивали, — благодарно докончила Белла.
— Но теперь, наконец, я спрашиваю. Мы с тобою старухи. Слышишь? Порою, даже страшно становится, как подумаешь, что это мои внуки, мои внуки, а ведь я и сама-то словно только вчера была беззаботной девчонкой, ездила верхом, купалась в большом прибое, в отлив собирала ракушки да смеялась над десятком поклонников. Так давай хоть сейчас, на старости лет, забудем обо всем, кроме того, что ты моя дорогая сестра, а я — твоя.
У обеих на глазах стояли слезы. Ясно было, что старшая готова заговорить.
— Мы думали, что это все — Джордж Кастнер, — продолжала Марта, — а о подробностях только гадали. Он был холодный человек. В тебе кипела горячая гавайская кровь. Может, он с тобой жестоко обращался. Брат Уолкот всегда говорил, что он, наверно, бьет тебя.
— Нет, нет! — перебила ее Белла. — Джордж Кастнер никогда не бывал ни груб, ни жесток. Я даже нередко жалела об этом. Он ни разу не ударил меня. Ни разу на меня не замахнулся. Ни разу не прикрикнул. Ни разу — можешь ты этому поверить? Пожалуйста, сестра, поверь мне, — мы с ним не поссорились, не поругались. Но только его дом — наш дом — в Наала был весь серый. Все там было серое, холодное, мертвое. А во мне сверкали все краски солнца и земли, моей крови и крови моих предков. Очень мне было холодно в Наала, холодно и скучно одной с серым, холодным мужем. Ты же знаешь, Марта, он был весь серый, как те портреты Эмерсона, что висели у нас в школе. Кожа у него была серая. Он никогда не загорал, хоть и проводил целые дни в седле во всякую погоду. И внутри он был такой же серый, как снаружи.
А мне было всего девятнадцать лет, когда дядя Роберт устроил наш брак. Что я понимала? Дядя Роберт поговорил со мной. Он объяснил мне, что богатства и земли Гавайских островов постепенно переходят к бельм людям. Гавайская знать упускает из рук свои владения. А когда дочери знатных гавайцев выходят замуж за белых, их владения, под управлением белых мужей, растут и процветают. Он напомнил мне, как дедушка Уилтон взял за бабушкой Уилтон бесплодные горные земли, потом приумножил их и создал ранчо Килохана…
— Даже тогда оно уступало только ранчо Паркера, — гордо вставила Марта.
— И еще он сказал мне, что, если бы наш отец был так же предусмотрителен, как дедушка, половина паркеровых земель отошла бы к Килохана и оно стало бы лучшим ранчо Гавайских островов. И сказал, что мясо никогда, никогда не упадет в цене. И что будущее гавайцев — это сахар. Пятьдесят лет назад это было, а он во всем оказался прав. И он сказал, что белый человек Джордж Кастнер далеко видит и далеко пойдет и что нас, сестер, много, а земли Килохана по праву должны отойти братьям; если же я выйду за Джорджа, будущее мое обеспечено.
Мне было девятнадцать лет. Я только что вернулась домой из Королевского пансиона, — ведь тогда наши девушки еще не ездили учиться в Штаты. Ты, сестрица Марта, одна из первых получила образование в Америке. Что я знала о любви, а тем более о браке? Все женщины выходят замуж. Это их назначение в жизни. И мама и бабушка — все были замужем. Мое назначение в жизни — выйти замуж за Джорджа Кастнера. Так сказал дядя Роберт, а я знала, что он очень умный. И я поселилась со своим мужем в сером доме в Наала.
Ты помнишь его. Ни деревца кругом — только холмистые луга; позади-высокие горы, внизу — море, и ветер, ветер без конца, у нас дуло и с севера, и с юга, и с юго-запада тоже. Но ветер не пугал бы меня — как не пугал он нас в Килохана, — не будь такими серыми мой дом и мой муж. Мы жили одни. Он управлял в Наала землями Гленов, которые всей семьей уехали к себе в Шотландию. Тысяча восемьсот долларов в год да коровы, лошади, ковбои и дом для жилья — вот что он получал за свою работу.
— По тем временам это было немало, — заметила Марта.
— Но за услуги такого человека, как Джордж Кастнер, они платили очень дешево, — возразила Белла — Я прожила с ним три года. Не было утра, чтобы он встал позже, чем в половине пятого. Он был предан своим хозяевам душой и телом. Не обсчитал их ни на пенни, не жалел ни времени, ни сил. Потому-то, возможно, наша жизнь и была такая серая. Но слушай, Марта. Из своих тысячи восьмисот долларов он каждый год откладывал тысячу шестьсот. Ты только подумай! Мы вдвоем жили на двести долларов в год. Хорошо еще, что он не пил и не курил. И одевались мы на эти же деньги. Я сама шила себе платья — можешь себе представить, какие ужасные. Дрова нам приносили, но всю работу в доме я делала сама: стряпала, пекла, стирала…
— Это после того, как ты с самого рожденья была окружена слугами! — жалостливо вздохнула Марта. — В Килохана их были целые толпы.
— Но ужаснее всего было это голое, голодное убожество! — вскричала Белла. — На сколько времени мне приходилось растягивать фунт кофе! Новую половую щетку покупали тогда, когда на старой ни одного волоска не оставалось. А вечная говядина! Свежая и вяленая, утром, днем и вечером! А овсяная каша! Я с тех пор ни ее, да и никакой другой каши в рот не беру.
Внезапно она встала и, отойдя на несколько шагов, вперила невидящий взгляд в многоцветное море. Потом, успокоившись, вернулась на свое место великолепной, уверенной, грациозной походкой, которую не может отнять у гавайской женщины никакая примесь белой крови. Белла Кастнер, с ее тонкой, светлой кожей, была очень похожа на белую женщину. Но высокая грудь, благородная посадка головы, длинные карие глаза под полуопущенными веками и смелыми дугами бровей, нежные линии небольшого рта, который даже сейчас, в шестьдесят восемь лет, словно таил еще сладость поцелуя, — все это вызывало в воображении образ дочери древних гавайских вождей. Ростом она была выше Марты и, пожалуй, отличалась еще более царственной осанкой.
— Мы прямо-таки прославились как самые негостеприимные хозяева. — Белла рассмеялась почти весело. — От Наала до ближайшего жилья было много миль и в ту и в другую сторону. Изредка у нас останавливались переночевать путники, задержавшиеся в дороге или ищущие убежища от бури. Ты знаешь, как радушно принимали, да и сейчас принимают гостей на больших ранчо. А мы стали всеобщим посмешищем. «Что нам до мнения этих людей? — говорил Джордж. — Они живут сейчас, сегодня. Через двадцать лет, Белла, придет наш черед. Они будут такие же, как сейчас, но они будут уважать нас. Нам придется кормить их, голодных, и мы будем кормить их хорошо, потому что мы будем богаты, Белла, так богаты, что я и сказать тебе боюсь. Но я что знаю, то знаю, и ты должна в меня верить».
Джордж был прав. Он не дожил до этого, но двадцать лет спустя мой месячный доход составлял тысячу долларов. А сколько он составляет сейчас, я даже не знаю, честное слово! Но тогда мне было девятнадцать лет, и я говорила Джорджу: «Нет, сегодня, сейчас! Мы живем сейчас! Через двадцать лет нас, может быть, и на свете не будет. Мне нужна новая щетка. И есть сорт кофе всего на два цента фунт дороже, чем эта гадость, которую мы пьем. Почему я не могу жарить яичницу на масле — сейчас? И как бы мне хотелось иметь хоть одну новую скатерть. А постельное белье! Мне стыдно постелить гостю наши простыни, впрочем, и гости к нам не часто решаются заглянуть».
«Запасись терпением, Белла, — отвечал он, бывало. — Очень скоро, через несколько лет, те, кто сейчас гнушается сидеть за нашим столом и спать на наших простынях, будут гордиться, получив от нас приглашение, — если они к тому времени не умрут. Вспомни, как умер в прошлом году Стивенс, — он жил легкой жизнью, всем был другом, только не себе самому. Хоронить его пришлось обществу, — он ничего не оставил, кроме долгов. А разве мало других идут той же дорогой? Вот хотя бы твой брат Хэл. Он этак и пяти лет не протянет, а сколько горя доставляет своим дядьям. Или принц Лилолило носится мимо меня на коне со свитой из полсотни гавайских лодырей — все крепкие парни, им бы надо работать и позаботиться о своем будущем, потому что он никогда не будет королем. Не дожить ему до этого».
Джордж был прав. Брат Хэл умер. И принц Лилолило тоже. Но Джордж был не совсем прав. Он сам, хотя не пил, и не курил, и не растрачивал силу своих рук на объятия, а свои губы на поцелуи, кроме самых коротких и равнодушных, и всегда вставал с петухами, а ложился прежде, чем в лампе выгорит десятая часть керосина, и никогда не думал о собственной смерти, — он сам умер еще раньше, чем брат Хэл и принц Лилолило.
«Запасись терпением, Белла, — говорил мне дядя Роберт. — Джордж Кастнер — человек с большим будущим. Я выбрал тебе хорошего мужа. Твои нынешние лишения — это лишения на пути в землю обетованную. Не всегда на Гавайских островах будут править гавайцы. Свое богатство они уже упустили из рук, упустят и власть. Политическая власть и владение землей неотделимы одно от другого. Предстоят большие перемены, перевороты-никто не знает, какие и сколько, но одно известно: в конце концов и власть и землю захватят белые. И когда это случится, ты займешь первое место среди женщин наших островов, — я в этом не сомневаюсь, как и в том, что Джордж Кастнер будет правителем Гавайев. Так суждено. Так всегда бывает, когда белые сталкиваются с более слабыми народами. Я, твой дядя Роберт, сам наполовину белый и наполовину гаваец, знаю, о чем говорю. Запасись терпением, Белла».
«Белла, милая», — говорил дядя Джон; и я понимала, сколько нежности ко мне живет в его сердце. Он, благодарение богу, никогда не советовал мне запастись терпением. Он понимал. Он был очень мудрый. Теплый он был, человечный, а потому и более мудрый, чем дядя Роберт и Джордж Кастнер, — те искали не возвышенного, а земного, вели счета в толстых книгах и не считали удары сердца, бьющегося рядом с другим сердцем, они складывали столбики цифр и не вспоминали о взглядах, словах и ласках любви. «Белла, милая», — говорил дядя Джон. Он понимал. Ты ведь слышала, что он был возлюбленным принцессы Наоми. Он был верным любовником. Он любил только раз. Люди говорили, что после ее смерти он стал какой-то странный. Так оно и было. Он полюбил один раз и навеки. Помнишь его заповедную комнату в Килохана, куда мы вошли только после его смерти, и оказалось, что там был устроен алтарь принцессе? «Белла, милая», — вот все, что он мне говорил, но я знала, что он все понимает.
Мне было девятнадцать лет, и три четверти белой крови не убили во мне горячего гавайского сердца, и я не знала ничего, кроме детских лет, проведенных в роскоши Килохана. Королевского пансиона в Гонолулу, да моего серого мужа в Наала с его серыми рассуждениями, трезвостью и бережливостью, да двух бездетных дядьев, одного — с холодным, проницательным умом, другого
— с разбитым сердцем и вечными мечтами о мертвой принцессе. Нет, ты только представь себе этот серый дом! А я выросла в таком довольстве, среди радостей и смеха, не смолкавшего в Килохана, и в Мана у Паркеров, и в Пуувааваа! Ты помнишь, мы жили в те дни в царственной роскоши. А в Наала, — поверишь ли. Марта, — у меня была швейная машинка из тех, что привезли еще первые миссионеры, маленькая, вся дребезжащая, и вертеть ее нужно было рукой.
К нашей свадьбе Роберт и Джон подарили моему мужу по пяти тысяч долларов. Но он попросил сохранить это в тайне. Знали только мы четверо. И пока я на своей дребезжащей машинке шила себе грошовые платья, он покупал на эти деньги землю — ты знаешь где, в верховьях Наала, — покупал маленькими участками и всякий раз отчаянно торговался, притворяясь последним бедняком. А сейчас я с одного туннеля Наала получаю сорок тысяч в год.
Но стоила ли игра свеч? Я изнывала от такой жизни. Если бы он хоть раз обнял меня по-настоящему! Если бы хоть раз пробыл со мною лишних пять минут, позабыв о своих делах и о своем долге перед хозяевами! Иногда я готова была завизжать, швырнуть ему в лицо горячую миску с ненавистной овсяной кашей или разбить вдребезги мою швейную машинку и сплясать над нею, как пляшут наши женщины, — лишь бы он вспылил, вышел из терпения, озверел, показал себя человеком, а не каким-то серым, бездушным истуканом.
Вся скорбь сбежала с лица Беллы, и она искренне и весело рассмеялась своим воспоминаниям.
— А он, когда на меня находило такое, с важным видом оглядывал меня, с важным видом щупал мне пульс, смотрел язык и советовал принять касторки и пораньше лечь, обложившись горячими вьюшками, — к утру, мол, все пройдет. Пораньше лечь! Мы и до девяти-то часов редко когда засиживались. Обычно мы ложились в восемь, — экономили керосин. У нас в Наала обедать не полагалось, — а помнишь за каким огромным столом обедали в Килохана? Мы с Джорджем ужинали. Затем он подсаживался поближе к лампе и ровно час читал старые журналы, которые брал у кого-то, а я, сидя по другую сторону стола, штопала его носки и белье. Он всегда носил дешевые, жиденькие вещи. Когда он ложился спать, ложилась и я. Разве можно было позволить себе такое излишество — пользоваться керосином в одиночку! И ложился он всегда одинаково: заведет часы, запишет в дневник погоду, потом снимет башмаки — обязательно сначала правый, потом левый — и поставит их рядышком на полу, со своей стороны кровати.
Чистоплотнее его я не видела человека. Он каждый день менял белье. А стирала я. Чист он был просто до противности. Брился два раза в день. Тратил на себя больше воды, чем любой гаваец. А работал больше, чем любые два белых человека вместе взятых. И понимал, какие сокровища скрыты в водах Наала.
— И он дал тебе богатство, но не дал счастья, — сказала Марта.
Белла со вздохом кивнула головой.
— В конце концов, что такое богатство, сестрица Марта? Вот я привезла с собой на пароходе новый «пирсарроу». Третий за два года. Но, боже мой, что значат все автомобили и все доходы в мире по сравнению с другом — с единственным другом, любовником, мужем, с которым можно делить и труд, и горе, и радость, с единственным мужчиной…
Голос ее замер, и сестры, задумавшись, молчали, а по газону ковыляла к ним, опираясь на палку, древняя старуха, сморщенная и сгорбленная под тяжестью сотни прожитых лет. Глаза ее — щелочки между ссохшихся век — были острые, как у мангусты. Она опустилась на землю у ног Беллы и забормотала беззубым ртом, запела по-гавайски хвалу Белле и всем ее предкам, заодно импровизируя приветствие по случаю возвращения ее из плавания за большое море — в Калифорнию. Не переставая петь, она ловкими старыми пальцами массировала обтянутые шелком чулок ноги Беллы, от щиколотки вверх, за колено.
Потом Марта тоже получила свою долю песен и массажа, и обе сестры со слезами на глазах заговорили со старой служанкой на древнем языке и стали задавать ей извечные вопросы о ее здоровье, годах и праправнуках, — ведь она массировала их еще в раннем детстве, в огромном доме Килохана, а ее мать и бабка из поколения в поколение массировали их мать и их бабок. Побеседовав со старухой сколько полагалось, Марта поднялась и проводила ее до самого дома, где дала ей денег и велела красивым и заносчивым горничным японкам позаботиться и столетней гавайянке, угостить ее «пои» — кушаньем из корней водяной лилии, «йамака» — сырой рыбой, толчеными восковыми орехами «кукуи» и водорослями «лиму», которые нежны на вкус и легко разминаются беззубыми деснами. То были старые феодальные отношения: верность простого человека господину, забота господина о простом человеке; и Марта, в которой было на три четверти белой крови англосаксов Новой Англии, не хуже чистокровных гавайцев помнила и соблюдала быстро исчезающие обычаи седой старины.
Она шла обратно к столику под большим деревом, и Белла со своего места словно обнимала ее всю любящим взглядом. Марта была пониже ее ростом, но лишь чуть-чуть пониже, и держалась не так величественно, но была она статная, красивая, настоящая дочь полинезийских вождей, с великолепной фигурой, не испорченной, а скорее смягченной временем, которую приятно обрисовывало свободное платье черного шелка с черным кружевом, стоившее дороже любого парижского туалета.
Глядя на сестер, возобновивших свою беседу, всякий подивился бы их сходству: тот же прямой четкий профиль, широкие скулы, высокий чистый лоб, серебряная седина пышных волос, нежный рот, говорящий о десятилетиями вскормленной, уже привычной гордости, прелестные тонкие дуги бровей над прелестными длинными карими глазами. При взгляде на их руки, почти нетронутые временем, особенно поражали тонкие на концах пальцы, которые с младенчества массировали им старые гавайские служанки вроде той, что сидела сейчас в доме за угощением из пои, йамака и лиму.
— Так мы прожили год, — возобновила свой рассказ Белла, — и понимаешь, что-то стало налаживаться. Я начала привыкать к моему мужу. Так уж созданы женщины.
Я во всяком случае такая. Ведь он был хороший человек. И справедливый. В нем были все исконные пуританские добродетели. Я начала к нему привязываться, можно даже сказать — почти полюбила его. И если бы дядя Джон не дал мне тогда лошадь, я знаю, что действительно полюбила бы мужа и была бы с ним счастлива, хотя это, конечно, было бы скучноватое счастье.
Ты пойми, я ведь не знала других мужчин, не таких, как он, лучше его. Мне уже приятно было смотреть на него через стол, когда он читал в короткий перерыв между ужином и сном, приятно было услышать стук копыт его лошади, когда он вечером возвращался из своих бесконечных поездок по ранчо. И от его скупых похвал у меня радостно замирало сердце, — да, сестрица Марта, я узнала, что значит краснеть от его немногословной справедливой похвалы за какую-нибудь хорошую работу или правильный поступок.
Вот так и шло бы все ладно до конца, если бы не пришлось ему отправиться пароходом в Гонолулу. По делам, конечно. Он собирался пробыть в отлучке не меньше двух недель — сперва уладить какие-то дела Гленов, а потом и свои собственные: купить еще земли в верховьях Наала. Ты ведь знаешь, он скупал дикие горные участки у самого водораздела, которые не имели никакой ценности, — если не считать воды; они шли по пять-десять центов за акр. Мне хотелось поехать с ним в Гонолулу. Но он, как всегда помня об экономии, решил — нет, лучше в Килохана. Мало того, что на мою поездку домой он мог не тратить ни цента, вдобавок представилась возможность сэкономить даже те жалкие гроши, которые я истратила бы на еду, если бы осталась одна в Наала, и купить на них еще несколько акров земли в горах. А в Килохана дядя Джон согласился дать мне лошадь.
Дома я первые дни чувствовала себя как в раю. Сначала мне просто не верилось, что на свете может быть так много еды. И меня приводило в ужас, что пропадает столько добра. После мужниной муштровки мне все время казалось, что даром переводят добро. Здесь не только слуги, даже их престарелые родственники и дальние знакомые питались лучше, чем мы с Джорджем. Ты помнишь, как было у нас, да и у Паркеров — каждый день резали корову, скороходы доставляли свежую рыбу из прудов Ваипио и Кихоло, и всегда все самое лучшее, самое дорогое… А любовь! Как у нас в семье любили друг друга! Про дядю Джона и говорить нечего. А тут и брат Уолкот был дома, и брат Эдвард, и все младшие сестры, только ты и Салли еще не вернулись из школы. И тетя Элизабет как раз у нас гостила, и тетя Дженет с мужем и со всеми детьми. С утра до ночи поцелуи, ласковые слова, все, чего мне так недоставало целый долгий, унылый год. Я изголодалась по такой жизни. Словно после кораблекрушения меня носило по волнам в шлюпке и вот выбросило на песок и я припала к холодному, журчащему роднику под пальмами.
А потом явились они — верхом из Кавайхаэ, куда их привезла королевская яхта, — целой кавалькадой, все в венках, молодые, веселые, на лошадях с паркеровского ранчо, тридцать человек, и с ними сто паркерсвских ковбоев и столько же их собственных слуг — весь королевский кортеж. Затеяла эту прогулку принцесса Лихуэ, — мы уже тогда знали, что ей недолго жить, ее сжигала страшная болезнь — туберкулез. Она прибыла в сопровождении племянников: принца Лилолило, которого везде встречали как будущего короля, и его братьев — принцев Кахекили и Камалау. С принцессой была и Элла Хиггинсворт, — она справедливо считала, что по линии Кауаи в ней больше королевской крови, чем у царствующего рода; и еще Дора Найлз, и Эмили Лоукрофт, и… да к чему всех перечислять! С Эллой Хиггинсворт мы жили в одной комнате в Королевском пансионе. Они остановились у нас на часок отдохнуть, пира не устраивали, пир ждал их у Паркеров, но мужчинам подали пиво и крепкие напитки, а женщинам — лимонад, апельсины и прохладные арбузы.
Мы расцеловались с Эллой Хиггинсворт и с принцессой, которая, оказывается, меня помнила, и со всеми остальными женщинами, а потом Элла поговорила с принцессой, и та пригласила меня ехать с ними — догнать их в Мана, откуда они должны были тронуться в путь через два дня. Я просто себя не помнила от счастья — тем более после года заточения в сером доме Наала. И мне все еще было девятнадцать лет, до двадцати не хватало одной недели.
О, мне и в голову не приходило, чем это может кончиться. Я была так увлечена разговором с женщинами, что даже не разглядела Лилолило, видела только издали, что он выше всех других мужчин. Но я никогда еще не участвовала в такой прогулке. Я помнила, как высоких гостей принимали в Килохана и в Мана, но сама была еще мала, меня не приглашали, а потом я уехала учиться, а потом вышла замуж. Я знала, что мне предстоят две недели райского блаженства, — не так уж много в предвкушении еще целого года в Наала.
Вот я и попросила дядю Джона дать мне лошадь, то есть, конечно, трех лошадей — одну для слуги и еще одну вьючную. Шоссейных дорог тогда не было. И автомобилей не было. А какая лошадь досталась мне! Ее звали Хило. Ты ее не помнишь. Ты тогда была в школе, а в следующем году, еще до твоего возвращения, она сломала шею себе и наезднику на ловле дикого скота на Мауна-Кеа. Ты, наверно, об этом слышала — молодой американец, офицер флота.
— Лейтенант Баусфилд, — кивнула Марта.
— Но Хило, ах что это был за конь! До меня ни одна женщина на нем не ездила. Трехлеток, почти четырехлеток, только что объезженный. Такой черный и гладкий, что на ярком свету блестел, как серебро. Это была самая крупная лошадь на всем ранчо, от королевского жеребца Спарклингдью и дикой кобылы, и всего несколько недель как заарканена. В жизни я не видала такой красоты. Корпус горной лошади — крепкий, пропорциональный, с широкой грудью, шея чистокровного скакуна, не худая, но стройная, чудесные чуткие уши — не такие маленькие, которые кажутся злыми, и не большие, как у какого-нибудь упрямца-мула. И ноги у нее были чудесные — безупречной формы, уверенные, с длинными упругими бабками, потому она так легко и ходила под седлом.
— Я помню, — перебила ее Марта, — принц Лилолило при мне говорил дяде Джону, что ты — лучшая наездница на Гавайях. Это было два года спустя, когда я вернулась из школы, а ты еще жила в Наала.
— Неужели он это сказал! — воскликнула Белла. Даже кровь прилила ей к щекам, а длинные карие глаза засветились — она вся перенеслась в прошлое, к любовнику, который полвека уже как обратился в прах. Но из благородной скромности, столь присущей гавайским женщинам, она тут же постаралась загладить это неуместное проявление чувств новыми славословиями своей лошади.
— Ах, когда она носила меня вверх и вниз по травянистым склонам, мне чудилось, что я во сне беру барьеры, она каждым скачком словно взлетала над высокой травой, прыгала, как олень, как кролик, как фокстерьер, ну, ты понимаешь. А как она танцевала подо мной, как держала голову! Это был конь для полководца, такого, как Наполеон или Китченер. А глаза у нее были… не злые, а такие умные, лукавые, точно она придумала хорошую шутку и вот-вот засмеется. Я попросила дядю Джона дать мне Хило. Дядя Джон посмотрел на меня, а я на него; и хоть он ничего не сказал, я чувствовала, что он подумал: «Белла, милая», и что при взгляде на меня перед ним встал образ принцессы Наоми. И дядя Джон согласился. Вот так оно и случилось.
Но он потребовал, чтобы я сперва испытала Хило — вернее, себя — без свидетелей. С этой лошадкой не легко было справиться. Но коварства или злобы в ней не было ни капли. Правда, она раз за разом выходила из повиновения, но я делала вид, что не замечаю этого. Я совсем не боялась, а потому она все время ощущала мою волю и даже вообразить не могла, что не я хозяин положения.
Я сколько раз думала — мог ли дядя Джон предвидеть, чем все это кончится? Самой мне это наверняка не приходило в голову в тот день, когда я верхом явилась к принцессе, на ранчо Паркеров. А там шел пир горой. Ты ведь помнишь, как старики Паркеры умели принять гостей. Устраивали охоту на кабанов, стреляли дикий скот, объезжали и клеймили лошадей. Слуг нагнали видимо-невидимо. Ковбои со всех концов ранчо. И девушки отовсюду-из Ваиме и Ваипио, из Хонокаа и Паауило; как сейчас их вижу — сидят рядами на каменной стене загона, где клеймили скот, и плетут венки — каждая для своего ковбоя. А ночи, полные аромата цветов, ночи с песнями и танцами, и по всей огромной усадьбе Мана бродят под деревьями влюбленные пары! И принц…
Белла умолкла, и ее мелкие зубы, все еще белые и чистые, крепко прикусили нижнюю губу, а невидящий взгляд устремился в синюю даль. Через минуту, справившись с собой, она продолжала:
— Это был настоящий принц, Марта. Ты видела его до того, как… после того как вернулась из школы. На него заглядывались все женщины, да и мужчины тоже. Ему было двадцать пять лет — красавец, в расцвете молодости, с сильным и щедрым телом, сильной и щедрой душой. Какое бы безудержное веселье ни царило вокруг, как бы ни были беспечны забавы, он, казалось, ни на минуту не забывал, что он — королевского рода и все его предки были вождями, начиная с того первого, о котором сложили песни, того, что провел свои двойные челны до островов Таити и Райатеи и привел их обратно. Он был милостив, светел, приветлив, но и строг, и суров, и резок, когда что-нибудь приходилось ему очень уж не по нраву. Мне трудно это выразить. Он был до мозга костей мужчина и до мозга костей принц, и было в нем что-то от озорника-мальчишки и что-то непреклонное, что помогло бы ему стать сильным и добрым королем, если бы он вступил на престол Я словно сейчас его вижу — таким, как в тот первый день, когда я коснулась его руки и говорила с ним… всего несколько слов, застенчиво, робко, как будто не была целый год женой серого чужестранца в сером доме Наала. Полвека прошло с тех пор — ты помнишь, как тогда одевались наши молодые люди: белые туфли и брюки, белая шелковая рубашка и широкий испанский кушак самых ярких цветов, — полвека прошло, а он вот так и стоит у меня перед глазами. Элла Хиггинсворт хотела представить меня ему и повела на лужайку, где он стоял, окруженный друзьями. Тут принцесса Лихуэ бросила ей какую-то шутку, и она задержалась, чтобы ответить, а я остановилась шага на два впереди ее.
И когда я там стояла одна, смущенная, взволнованная, он случайно заметил меня. Боже мой, как ясно я его вижу — стоит, слегка откинув голову, и во всей его фигуре, во всей позе что-то властное, и веселое, и удивительно беззаботное, что было ему так свойственно. Глаза наши встретились. Он выпрямился, чуть подался в мою сторону. Я не знаю, что произошло. Может быть, он приказал, и я повиновалась. Я знаю только, что была хороша в тот день — в душистом венке, в восхитительном платье принцессы Наоми, которое дядя Джон достал мне из своей заповедной комнаты; и еще я знаю, что пошла к нему совсем одна по лужайке, а он оставил тех, с кем беседовал, и пошел мне навстречу. Мы шли друг к другу совсем одни по зеленой траве, словно для каждого из нас не было другой дороги в жизни.
Очень ли я хороша была в молодости, сестрица Марта? Не знаю. Но в ту минуту, когда его красота и царственная мужественность проникли мне в самое сердце, я вдруг ощутила и свою красоту, словно — как бы это сказать? — словно то совершенное, что было в нем и исходило от него, рождало во мне какой-то отзвук.
Ни слова не было сказано. Но я знаю, что подняла голову и взглядом ясно ответила на гром и трубный звук немого призыва и что, если бы за этот взгляд, за эту минуту мне грозила смерть, я и тогда, не задумываясь, отдала бы ему себя, и он понял это по моим глазам, по лицу, по учащенному дыханию. Хороша я была в двадцать лет. Марта, очень хороша?
И Марта, которой исполнилось шестьдесят четыре года, посмотрела на Беллу, которой стукнуло шестьдесят восемь, и серьезно покивала головой, а про себя оценила и ту Беллу, что сидела перед нею сейчас, — гордая голова на все еще полной и круглой шее, более длинной, чем обычно бывает у гавайских женщин, властное лицо с выдающимися скулами и высокими дугами бровей; густые, по-прежнему кудрявые волосы, уложенные в высокую прическу, посеребренные временем, так что особенно темными казались четкие тонкие брови и карие глаза. И, словно ослепленная тем, что увидела, Марта скромно скользнула взглядом по великолепным плечам и груди Беллы, по всему ее пышному телу, к ногам в шелковых чулках и нарядных туфлях, маленьким, полным, с безупречным высоким подъемом.
— «Нам молодость дается только раз», — засмеялась Белла. — Лилолило был настоящий принц. Я так изучила его лицо, каждое его выражение .. позднее, в наши волшебные дни и ночи у поющих вод, у дремлющего прибоя и на горных дорогах. Я знала его чудесные смелые глаза. Под прямыми черными бровями, его нос — нос истинного потомка короля Камехамеха, и малейший изгиб его рта. Во всем мире нет губ красивее, чем у гавайцев, Марта.
И весь он был красивый и сильный — от прямых, непокорных волос до бронзовых лодыжек. Тут на днях кто-то назвал одного из уайлдеровских внуков «королем Гарварда». Ну-ну! Как же они назвали бы моего Лилолило, если б могли поставить его рядом с этим юнцом и всей его футбольной командой!
Белла умолкла и перевела дух, крепко сжав на полных коленях изящные маленькие руки. Легкий румянец разлился у нее по лицу, прекрасные глаза светились — она снова переживала дни своего юного счастья.
— Ну, конечно, ты угадала. — Белла вызывающе повела плечами и взглянула прямо в глаза сестре. — Мы покинули веселую усадьбу Мана и пустились в путь дальше — вниз по лавовым склонам в Кихоло, там пировали, купались, ловили рыбу и спали на теплом песке под пальмами; потом вверх в Пуувааваа, там охотились на кабанов, носились с арканом за дикими лошадьми, ловили баранов на горных пастбищах; и дальше, через Кона, в горы, а потом вниз — к королевскому дворцу в Каилуа, а там купанье в Кеаухоу, бухта Кеалакекуа, Напоопоо, Хонаунау. И везде люди выходили встречать нас и несли цветы, фрукты, рыбу, свиней, и сердца их были полны любви и песен, головы почтительно склонялись перед членами королевской семьи, а с губ слетали возгласы восхищения и песни о давних, но незабытых днях. Чего же было и ждать, сестрица Марта? Ты знаешь, каковы мы, гавайцы, какими мы были полвека назад. Лилолило был прекрасен. Мне все было нипочем. Лилолило мог вскружить голову любой женщине. А мне все было нипочем еще потому, что меня ждал серый, холодный дом в Наала. Я знала, на что иду. У меня не было ни сомнений, ни надежды. О разводах в те времена и не помышляли. Жена Джорджа Кастнера не могла стать королевой Гавайских островов, даже если бы перевороты, которые предсказывал дядя Роберт, свершились еще не скоро и Лилолило успел бы стать королем. Но я не думала о троне. Если мне и хотелось стать королевой, так только в сердце Лилолило. Я не обольщалась. Что невозможно, то невозможно, и я не тешила себя пустыми мечтами.
Самый воздух вокруг меня дышал любовью. Лилолило любил меня. Он украшал мою голову венками, его скороходы приносили цветы из садов Мана — ты их помнишь, — бежали с ними пятьдесят миль по горам, по лаве, И доставляли в футлярах из коры банана свежими, будто только что сорванными, — бутоны на длинных стеблях, похожие на нитки неаполитанского коралла. А во время нескончаемых пиршеств я всегда должна была сидеть рядом с ним на циновке Макалоа — личной циновке принца, на которую не смели опуститься простые смертные, если на то не было его особого желания. И мне велено было ополаскивать пальцы в его личной чаше, где на теплой воде плавали душистые лепестки цветов. Да, он велел мне у всех на глазах брать из его миски красную соль, и красный перец, и лиму, и восковой орех, а рыбу есть с его блюда из дерева ку, которым во время таких же увеселительных путешествий пользовался сам великий Камехамеха. Мне подносили и все лакомства, предназначенные только для Лилолило и для принцессы. И надо мною веяли его опахала из перьев, и слуги его были моими слугами, и сам он был мой, и любил меня всю — от головы, увенчанной цветами, до кончиков ног.
Белла снова прикусила губу и невидящим взглядом смотрела в морскую даль, пока не справилась с собой и своими воспоминаниями.
— Мы ехали все дальше — через Кона, Кау, Хоопулаа и Капуа на Хонуапо и Пуналуу; целая жизнь вместилась в эти две коротких недели. Цветок расцветает только раз. То была пора моего цветения: у меня был Лилолило, и мой чудесный конь, и сама я была королевой — пусть не для всех островов, но для любимого. Он говорил, что я — солнечный блик на черной спине левиафана; я -капелька росы на дымящемся гребне лавы; я — радуга на грозовой туче…
Белла помолчала.
— Что он еще мне говорил — я тебе не скажу, — закончила она серьезно, — но в словах его был огонь, красота и любовь, он слагал для меня песни и пел их мне при всех, вечером, под звездами, когда мы пировали, лежа на циновках, и мое место было рядом с ним, на циновке Макалоа.
Дивный сон подходил к концу. Но мы еще поднялись на Килауэа и, разумеется, бросили в кипящий кратер свои приношения богине Пеле — цветы, рыбу и густое пои, завернутое в листья ти. А потом стали спускаться через Пуна к морю, снова пировали, плясали и пели в Кохоуалеа, Камаили и Опихикао, купались в прозрачных пресноводных озерах Калапана и, наконец, вышли на побережье, в Хило.
Все было кончено. Мы ни словом об этом не обмолвились. И без слов было ясно, что это — конец. Яхта ждала у пристани. Мы запоздали на много дней. Из Гонолулу пришли вести, что у короля усилились припадки безумия, что католические и протестантские миссионеры строят тайные козни, и назревают неприятности с Францией. Они отплывали из Хило со смехом, с цветами и песнями-так же, как за две недели до того высадились в Кавайхаэ. Расставались весело, с берега на яхту и с яхты на берег неслись шутки, последние напутствия, поручения, приветы. Когда поднимали якорь, хор из слуг Лилолило запел на палубе прощальную песню, а мы, сидевшие в больших челнах и вельботах, увидели, как ветер надул паруса яхты и она отделилась от берега.
Все время, пока длилась суматоха сборов и прощании, Лилолило, забыв обо всех, с кем должен был проститься, стоял у поручней и смотрел вниз, прямо на меня. На голове у него был венок, который я ему сплела. Уезжавшие стали бросать свои венки друзьям в лодки. Я не надеялась, не ждала… Нет, все-таки чуть-чуть надеялась, только никто этого не видел, лицо у меня было гордое и веселое, как у всех вокруг. И Лилолило сделал то, чего я ждала от него, ждала с самого начала. Глядя мне в глаза прямо и честно, он снял с головы мой чудесный венок и разорвал его надвое. Я видела, как губы его беззвучно произнесли одно только слово — «пау». Кончено. Не отводя от меня глаз, он разорвал каждую половину венка еще раз и бросил остатки цветов — не мне, а в разделившую нас полосу воды, которая становилась все шире и шире. Пау. Все было кончено…
Белла долго молчала, вперив взгляд в далекий горизонт. Младшая сестра не решалась выразить словами свое сочувствие, но глаза ее были влажны.
— В тот день, — продолжала Белла, и голос ее звучал сперва сурово и сухо, — я пустилась в обратный путь по старой скверной тропе вдоль берега Хамакуа. Первый день было не очень трудно. Я как-то вся онемела. Я была так полна тем чудесным, о чем предстояло забыть, что я не сознавала, что оно должно быть забыто. На ночь я остановилась в Лаупахоэхоэ. Я думала, что проведу бессонную ночь. Но меня укачало в седле, и онемение еще не прошло, и я всю ночь проспала как убитая.
Зато на следующий день что было! Поднялся ветер, лил проливной дождь. Тропу размыло, лошади наши скользили и падали. Ковбой, которого дядя Джон дал мне в провожатые, сначала уговаривал меня вернуться, но потом отчаялся, покорно ехал следом за мной и только головой покачивал да бормотал, что я, видно, помешалась. Вьючную лошадь мы бросили в Кукуихаэле. В одном месте мы пробирались почти вплавь по глубокой грязи. В Ваиме ковбою пришлось сменить свою лошадь. Но мой Хило выдержал до конца. Я пробыла в седле с раннего утра до полуночи, а в полночь, в Килохана, дядя Джон снял меня с лошади, на руках отнес в дом, поднял служанок и велел им раздеть меня и размассировать, а сам напоил меня горячим вином и какими-то снотворными снадобьями. Наверно, я бредила и кричала во сне. Наверно, дядя Джон обо всем догадался. Но никогда, никому, даже мне, он не сказал ни слова. О чем бы он ни догадался, он все схоронил в заповедной комнате принцессы Наоми.
Какие-то обрывки воспоминаний сохранились у меня об этом дне, полном бессильной, слепой ярости, — распустившиеся мокрые волосы хлещут меня по груди и лицу, ручьи слез смешиваются с потоками дождя, а в душе — бешеная злоба на мир, где все устроено скверно и несправедливо… Я помню, что стучала кулаками по луке седла, кричала что-то обидное своему ковбою, вонзала шпоры в бока красавцу Хило, а в душе молилась, чтобы он взвился на дыбы и, упав, придавил меня к земле — тогда не будут больше мужчины любоваться красотой моего тела — либо сбросил меня с тропы, и я погибла бы в пропасти и обо мне сказали бы «пау» — так же бесповоротно, как произнес одними губами Лилолило, когда разорвал мой венок и бросил в море…
Джордж пробыл в Гонолулу дольше, чем думал. Когда он вернулся в Наала, я уже ждала его там. Он церемонно обнял меня, равнодушно поцеловал в губы, с важным видом посмотрел мой язык, сказал, что я плохо выгляжу, и уложил в постель с горячими вьюшками, предварительно напоив касторкой. И я снова вошла в серую жизнь Наала, точно в часовой механизм, и стала одним из зубцов или колесиков, что вертятся все вокруг и вокруг, безостановочно и неумолимо. Каждое утро в половине пятого Джордж вставал с постели, а в пять уже садился на лошадь. Каждый день овсяная каша, и отвратительный дешевый кофе, и говядина, свежая и вяленая, свежая и вяленая. Я стряпала, пекла и стирала. Вертела ручку дребезжащей машинки и шила себе платья. Еще два бесконечных года я каждый вечер сидела напротив него за столом и штопала его дешевые носки и жиденькое белье, а он читал прошлогодние журналы, которые брал у кого-то, потому что сам жалел денег на подписку. А потом пора было спать — керосин ведь стоил денег, — и Джордж заводил часы, записывал в дневник погоду и, сняв башмаки — сначала правый, потом левый, — ставил их рядышком со своей стороны кровати.
Но теперь уже не было надежды, что я привяжусь к моему мужу, — это только казалось до того, как принцесса Лихуэ пригласила меня на прогулку и дядя Джон дал мне лошадь. Вот видишь, сестрица Марта, ничего бы не случилось, если бы дядя Джон отказался дать мне лошадь. А теперь я изведала любовь, я помнила Лилолило; так мог ли после этого мой муж завоевать мое уважение и привязанность? И еще два года в Наала жила мертвая женщина, которая почему-то ходила и разговаривала, стряпала и стирала, штопала носки и экономила керосин… Врачи сказали, что всему причиной было недостаточно теплое белье, — ведь он и в зимнюю непогоду вечно рыскал в верховьях Наала.
Его смерть не была для меня горем, — я слишком много горевала, пока он был жив. И радости я не испытывала. Радость умерла в Хило, когда Лилолило бросил мой венок в море и мои ноги забыли, что значит упоение танца. Лилолило умер через месяц после моего мужа Я не видела его с того прощанья в Хило. Да, поклонников у меня потом было хоть отбавляй; но я, как дядя Джон, могла отдать свое сердце только раз в жизни. У дяди Джона была в Килохана комната принцессы Наоми. У меня вот уже пятьдесят лет есть комната Лилолило — в моем сердце. Ты, сестрица Марта, первая, кого я впустила в нее…
Еще один автомобиль, описав круг, затормозил перед домом, и на лужайке показался муж Марты. Прямой, сухощавый, с седой головой и выправкой военного, Роско Скандуэл был одним из членов «большой пятерки», которая, сосредоточив в своих руках все деловые нити, вершила судьбы Гавайских островов. Хоть он и был чистокровный американец, уроженец Новой Англии, но по гавайскому обычаю сердечно обнял Беллу и расцеловался с нею. Он с одного взгляда понял, что здесь только что шел женский разговор и что, хотя обе сестры глубоко взволнованы, мудрость, пришедшая с годами, поможет им быстро обрести мир и покой.
— Приезжает Элси с малышами, — сообщил он, поцеловав жену, — я получил радиограмму с парохода. Они погостят у нас несколько дней, а потом поедут дальше, на Мауи.
Марта принялась соображать вслух:
— Я хотела устроить тебя в розовой комнате, сестрица Белла, но, пожалуй, ей там будет удобнее с детьми и няньками, а тебя мы поместим в комнате королевы Эммы.
— Это даже лучше, я и в прошлый раз там жила, — сказала Белла.
Роско Скандуэл, хорошо знавший, какова любовь и пути любви на Гавайях, прямой, сухощавый, представительный, стал между красавицами сестрами и, обняв ту и другую за пышную талию, медленно пошел с ними к дому.
Ваикики (Гавайи), 6 июня 1916 г.
Кости Кахекили
С верхушек гор Коолуа доносились порывы пассатного ветра, колебавшего огромные листья бананов, шелестевшего в пальмах, с шепотом порхавшего в кружевной листве деревьев альгаробы. Это было перемежающееся дыхание атмосферы — именно дыхание, вздохи томного гавайского предвечерья. А в промежутках между этими тихими вздохами воздух тяжелел и густел от аромата деревьев и испарений жирной, полной жизни земли.
Много людей собралось перед низким домом, похожим на бунгало, но только один из них спал. Остальные пребывали в напряженном молчании. Позади дома заверещал грудной младенец, издавая тонкий писк, который трудно было унять даже наскоро сунутой грудью. Мать, стройная хапа-хаоле (полубелая), облаченная в свободную холоку из белого муслина, быстрой тенью мелькнула между банановыми и хлебными деревьями, проворно унося подальше крикливого младенца. Прочие женщины, хапа-хаоле и чистые туземки, с тревогой наблюдали за ее бегством.
Перед домом на траве сидели на корточках десятка два гавайцев. Мускулистые, широкоплечие, они были настоящими силачами. Загорелые, с блестящими карими и черными глазами, с правильными чертами широких лиц, они казались такими же добродушными, веселыми и кроткими по нраву, как сам гавайский климат. Странным образом противоречил этому свирепый вид их одеяний. За грубые кожаные наколенники засунуты были длинные ножи, рукоятки которых выдавались наружу. Сандалии украшены были испанскими шпорами с огромными колесами. Если бы не их нелепые венки из пахучей маиле, надетые поверх щегольских ковбойских шляп, у них был бы вид настоящих бандитов. У одного, выделявшегося плутоватой красотою фавна и с глазами фавна, пламенел кокетливо заткнутый за ухо двойной цветок гибиска. Над их головами, заботливо укрывая от солнца, простирался широкий навес, образованный огненными цветами невиданного тропического растения, и из каждого цветка торчали пушистые листочки перистых пестиков. Издалека, заглушенный расстоянием, доносился топот стреноженных коней. Взоры всех были напряженно устремлены на спящего, который лежал навзничь на циновке лаухала под деревьями.
Рослыми были эти гавайские ковбои, но спящий был еще рослее! Судя по белоснежной бороде и таким же волосам, он был значительно старше их. Толстые запястья и огромные пальцы свидетельствовали о могучем телосложении. Одет он был в широкие штаны из грубой бумажной ткани и бязевую рубаху без пуговиц, открывавшую грудь, заросшую лохмами таких же белоснежных волос, как и на голове. Ширина и высота этой груди, ее упругие и пластичные, теперь отдыхавшие мускулы свидетельствовали об огромной силе человека. И ни загар, ни обветренность кожи не могли скрыть того, что это был настоящий хаоле — чистокровный белый.
Вздернутая в небо огромная белая борода, не подстригавшаяся цирюльником, поднималась и опускалась с каждым дыханием, а белоснежные усы топорщились, как иглы дикобраза. Внучка спящего, девочка лет четырнадцати, в рубахе муу-муу, сидела возле него на корточках и отгоняла мух перистым опахалом. На ее лице написаны были озабоченность, нервная настороженность и благоговение — словно она прислуживала богу.
И действительно, спящий бородач Хардмэн Пул был для нее, как и для многих других, богом: источником жизни, источником питания, кладезем мудрости, законодателем, улыбающимся благодеянием и карающим черным громом — короче говоря, владыкой, у которого было четырнадцать живых и совершенно взрослых сыновей и дочерей, шесть правнуков, а внуков столько, что ему трудно было счесть их даже на досуге.
За пятьдесят один год до этого он высадился из беспалубной шлюпки в Лаупа-хоэхоэ на наветренном берегу Гавайских островов. Эта шлюпка была единственной уцелевшей с китобойного судна «Черный Принц», из Нью-Бедфорда[1]. Уроженец этих мест, он в двадцать лет благодаря своей сокрушительной силе и ловкости уже был вторым помощником на погибшем впоследствии китобойном судне. Прибыв в Гонолулу и хорошенько оглядевшись, он первым делом женился на Каламе Камаиопили, потом стал лоцманом порта Гонолулу, после этого открыл салун с меблированными комнатами и наконец после смерти отца Каламы занялся скотоводством на унаследованных ею обширных пастбищах.
Свыше полувека жил он с гавайцами и, по их признанию, знал их язык лучше очень многих туземцев. Женившись на Каламе, он взял за ней не только землю, он приобрел и звание вождя и верноподданность простолюдинов. Вдобавок он сам обладал всеми природными качествами, необходимыми вождю: исполинским ростом, бесстрашием, гордостью, пылким нравом, не переносившим ни малейшего оскорбления, ни заносчивости; не боясь решительно ничего, какой бы могучей силой ни обладал противник, он добивался преданности прочих смертных не каким-нибудь презренным торгашеством, а самой широкой щедростью. Он знал гавайцев насквозь, знал их лучше, чем они знали себя, в совершенстве усвоил их полинезийскую велеречивость, знал их поверья, обычаи и обряды.
И вот на семьдесят втором году жизни, проведя в седле целое утро, начавшееся в четыре часа, он лежал теперь в тени деревьев, предаваясь привычной и священной сьесте[2], которую ни один подданный не посмел и не позволил бы нарушить никому даже из равных великому владыке. Только королю предоставлялось это право, но король также убедился в свое время, что нарушить сьесту Хардмэна Пула значило разбудить человека, способного сказать в лицо весьма неприятную правду, а ее, как известно, не любят выслушивать даже короли.
Солнце продолжало палить. В отдалении слышался конский топот. Умирающий пассат вздыхал и жужжал, нарушая промежутки покоя. Еще тяжелее стал аромат цветов. Женщина принесла обратно успокоившегося младенца. Деревья сложили свои листья и замерли в обморочном покое теплого воздуха. Девочка, затаив дыхание от огромной важности своей задачи, продолжала отгонять мух, и два десятка ковбоев напряженно и безмолвно наблюдали за спящим.
Хардмэн Пул проснулся. Очередной вздох был не таким глубоким, как обычно. Не поднялись и белые длинные усы. Вместо этого под бородой отдулись щеки. Поднялись веки, открыв голубые глаза, живые и глубокие, нисколько не сонные; правая рука потянулась к лежавшей рядом недокуренной трубке, а левая — к спичкам.
— Принеси джина с молоком! — приказал он по-гавайски девочке, задрожавшей при его пробуждении.
Он закурил трубку и не обращал ни малейшего внимания на ожидавших верноподданных, пока стакан молока с джином не был принесен и выпит.
— Ну? — отрывисто спросил он. Двадцать физиономий расплылось в улыбке, двадцать пар черных глаз заблестели приветственно, а он вытер оставшиеся на усах капли джина с молоком. — Чего вы тут околачиваетесь? Что вам нужно? Подойдите поближе.
Двадцать гигантов, в большинстве молодых, поднялись и с великим звоном и бренчанием шпор и цепочек на шпорах зашагали к нему. Они стали вокруг него, застенчиво прячась друг за друга, конфузливо улыбаясь и в то же время совершенно невольно проявляя некоторую фамильярность. Правду сказать, для них Хардмэн Пул был больше, чем вождь. Он был их старший брат, или отец, или патриарх; со всеми он состоял в родстве так или иначе, по гавайским обычаям через жену и многочисленные браки своих детей и внуков. Стоило ему нахмуриться, и они все терялись, его гнев приводил их в ужас, приказ его мог бросить их на верную смерть; и все же никому из них и в голову не пришло бы обратиться к нему иначе, чем просто по имени, и это имя «Хардмэн», «Суровый Человек», по-гавайски выговаривалось: Канака Оолеа.
По знаку Хардмэна они снова уселись на траву и с заискивающими улыбками ждали, когда он обратится к ним.
— Что вам нужно? — спросил он по-гавайски с резкостью и суровостью — напускной, как они знали.
Они еще шире растянули рты в улыбке и задвигали широкими плечами и мощными торсами, как огромные щенята. Хардмэн Пул выделил из них одного.
— Ну, Илииопои, что тебе нужно?
— Десять долларов, Канака Оолеа.
— Десять долларов! — вскричал Пул в притворном ужасе при упоминании столь огромной суммы. — Не собираешься ли ты взять вторую жену? Вспомни, чему учат миссионеры! По одной жене, Илииопои, по одной жене! Потому что тот, у кого много жен, обязательно попадет в ад!
Шутка была встречена хихиканьем и блеском смеха в глазах.
— Нет, Канака Оолеа, — был ответ. — Дьяволу известно, что мне не хватает кай-кай для одной жены и ее многочисленных родичей.
— Кай-кай? — повторил Пул завезенное из Китая обозначение пищи, которым гавайцы заменили их собственное слово паина. — Разве вы нынче не получили кай-кай?
— Да, Канака Оолеа, — вмешался старый, сморщенный туземец, который только что вышел из дома и присоединился к сидевшим. — Все они получили кай-кай на кухне, и вдоволь; они ели, как отбившиеся лошади, приведенные с лавы.
— А тебе что надо, Кумухана? — обратился Пул к старику и в то же время сделал знак девочке, чтобы она отгоняла мух с другой стороны.
— Двенадцать долларов! — объявил Кумухана. — Я хочу купить осла и подержанное седло с уздечкой. Мои ноги ослабели и не носят меня.
— Подожди! — приказал белый. — Мы с тобой поговорим об этом деле и о других важных делах, когда я закончу с остальными и они уйдут.
Сморщенный старик кивнул и стал закуривать трубку.
— Кай-кай на кухне был хорош! — продолжал Илииопои, облизнувшись. — Пои была первый сорт, свинина жирная, лососина не воняла, рыба очень свежая, и ее вдоволь, хотя нужно сказать, что опихи (маленькие ракушки, гнездящиеся в камнях) были пересолены и потому жесткие. Опихи никогда не следует солить! Сколько раз говорил я тебе, Канака Оолеа, что опихи нельзя солить! Я битком набит хорошей кай-кай. Чрево мое отяжелело от нее. Но нет легкости моему сердцу, ибо нет кай-кай в моем доме, где у меня жена, она же тетка второй жены твоего четвертого сына, и моя дочь-малютка, и старая мать моей жены, и приемное дитя старой матери моей жены — калека, и сестра моей жены, которая тоже живет с нами со своими тремя детьми, ибо отец их скончался от злой водянки…
— Пять долларов отсрочат ваши похороны на день или два? — оборвал Пул эти излияния.
— Да, Канака Оолеа, и даже можно будет купить моей жене новый гребень и для меня немножко табаку!
Из кошелька, который он достал из кармана штанов, Хардмэн Пул выудил золотую монету и ловко метнул ее в протянутую руку.
Холостяку, которому нужны были шесть долларов на новые краги, на табак и на шпоры, досталось три доллара; столько же другому, которому требовалась шляпа; а третьему, скромно попросившему два доллара, отпущено было четыре с присовокуплением цветистого комплимента искусству, с которым он заарканил на горах одичавшего быка. Все знали, что Хардмэн, по общему правилу, сокращает претензии вдвое, и потому удваивали их размеры.
Хардмэн Пул знал это и про себя улыбался. Такова уж была его манера обращаться с многочисленными подчиненными, и она нисколько не подрывала их уважения к нему.
— А тебе, Ахуху? — спросил он туземца, имя которого означало — «Ядовитое дерево».
— И на пару штанов! — заключил Ахуху список своих нужд. — Я очень много и далеко ездил за твоим скотом, Канака Оолеа, и там, где мои штаны терлись о седло, от них ничего не осталось. Нехорошо, когда говорят, что ковбой Канаки Оолеа, к тому же еще родственник сводной сестры жены Канаки Оолеа, стыдится слезть с седла и пятится задом от всех, кто видит его!
— Вот тебе на дюжину пар штанов, Ахуху! — улыбнулся Хардмэн Пул, вручив туземцу деньги. — Я горжусь тем, что моя семья хранит мою честь. А потом, Ахуху, из этой дюжины пар штанов ты одну пару дай мне, иначе и мне придется пятиться задом, потому что и мои штаны совсем износились, и мне тоже стыдно!
Громкий смех был ответом на последнюю шутку белого вождя, и вся группа этих физически развитых, но по-детски наивных людей направилась к поджидавшим их коням, все, за исключением старого, сморщенного Кумухана, которому приказано было остаться.
Целых пять минут сидели они в полном молчании. Затем Хардмэн Пул приказал девочке принести еще стакан джина с молоком, и когда она это сделала, он кивнул ей, чтобы она передала стакан Кумухане. Стакан не отрывался от губ туземца, пока не был опорожнен, после чего старик громко вздохнул и причмокнул губами.
— Много ава выпил я на своем веку, — задумчиво сказал он, — но ведь ава — напиток простого человека, а напиток хаоле — напиток вождей. В ава нет огня и силы спирта, в ава нет покалывания и кусания, которое очень приятно, так же приятно, как приятно жить.
Хардмэн Пул улыбнулся и кивнул в знак согласия, а старый Кумухана продолжал:
— В спирте есть тепло; он обогревает чрево и душу. Он согревает сердце. И душа и сердце стынут у человека, когда он стар.
— А ты стар! — согласился Пул. — Почти так же, как я.
Кумухана покачал головой и пробормотал:
— Если бы я не был старше тебя, то я был бы так же молод, как ты.
— Мне семьдесят один! — заметил Пул.
— Я не знаю счета, — был ответ. — Что случилось, когда ты родился?
— Давай сообразим, — задумался Пул. — Теперь у нас 1880 год, почти семьдесят один, останется девять. Я родился в 1809 году. В том году скончался Келиимакаи, тогда в Гонолулу жил шотландец Арчибалд Кэмпбел.
— В таком случае я постарше тебя, Канака Оолел! Я хорошо помню шотландца; я в то время играл среди камышовых хижин Гонолулу и уже ездил верхом на досках во время прибоя в Вайкики. Я мог бы показать тебе место, где стояла хижина шотландца! Там находится теперь Матросская Миссия. И я знаю, когда я родился. Мне не раз говорили об этом моя бабушка и мать. Я родился, когда госпожа Пеле (богиня огня, она же богиня вулканов) разгневалась на жителей Пайэа; они перестали приносить ей в жертву рыбу из своего пруда, и она наслала поток лавы с Хуулалаи и засыпала их пруд. И рыбный пруд Пайэа погиб навеки. Вот когда я родился!
— Это было в 1801 году, когда Джеймс Бонд строил корабли для Камехамехи в Хило, — сказал Пул, — стало быть, тебе семьдесят девять лет, и ты восемью годами старше меня. Ты очень стар!
— Да, Канака Оолеа, — пробормотал Кумухана, пытаясь гордо выпятить впалую грудь.
— Ты очень мудр!
— Да, Канака Оолеа.
— И ты знаешь много тайн, ведомых только старцам!
— Да, Канака Оолеа.
— И, стало быть, ты знаешь… — Хардмэн Пул сделал паузу, чтобы сильнее загипнотизировать старика упорным взглядом своих выцветших голубых глаз. — Говорят, кости Кахекили взяты из тайника и в настоящее время покоятся в Королевском Мавзолее. А мне шепнули, что только ты один из всех ныне живущих знаешь правду!
— Знаю! — был гордый ответ. — Один я знаю.
— И что же, лежат они там? Да или нет?!
— Кахекили был алии (верховный вождь). По прямой линии от него происходит твоя жена Калама. Она тоже алии. — Старик помолчал, глубокомысленно сжав губы. — Я принадлежу ей, как и весь мой род принадлежал ее роду. Только она может повелевать великими таинствами, известными мне! Она мудра, слишком мудра для того, чтобы приказать мне выдать эту тайну. Тебе, о Канака Оолеа, я не отвечаю «да», но не отвечаю и «нет». Это тайна алии, которой не знают сами алии.
— Хорошо, Кумухана! — ответил Хардмэн Пул. — Но ты не забывай, что я также алии, и чего не посмела спросить моя славная Калама, то спрошу я! Я пошлю за нею сейчас же и прикажу ей повелеть тебе ответить! Но это будет глупо и вдвойне глупо с твоей стороны. Лучше расскажи тайну мне, и она ничего не узнает! Уста женщин выливают все, что втекает в ухо, — так уж они созданы! Я мужчина, а мужчина создан иначе. Ты хорошо знаешь, что мои губы так же плотно замыкают тайну, как спрут присасывается к соленой скале. Если ты не скажешь мне, так скажешь Каламе и мне, и уста ее начнут говорить, и в скором времени последний малахини будет знать все! Будет знать то, что, если скажешь мне одному, знали бы только мы с тобой!
Долго сидел Кумухана в полном молчании, обсуждая про себя приведенный довод и не видя возможности уклониться от его неумолимой логики.
— Велика твоя мудрость, хаоле! — промолвил он наконец.
— Да? Или нет? — Хардмэн Пул приставал, как с ножом к горлу.
Кумухана огляделся кругом, потом остановил взор на девчонке, отгонявшей мух.
— Уходи! — приказал ей Пул. — И не возвращайся, пока я не хлопну в ладоши.
Больше Хардмэн Пул не промолвил ни слова, даже когда девочка скрылась в доме; но на его лице был написан неумолимый, как железо, вопрос: да или нет?
Опять Кумухана осмотрелся и взглянул даже вверх, на ветви дерева, словно боялся шпиона. Губы у него пересохли. Он облизывал их языком. Дважды пытался заговорить — и вместо слов издавал лишь нечленораздельный звук. И наконец, понурив голову, он прошептал так тихо и торжественно, что Хардмэну Пулу пришлось приблизить ухо, чтобы услышать: «Нет».
Пул хлопнул в ладоши, и из дому опрометью выскочила трепещущая девочка.
— Принеси молока с джином старому Кумухане! — приказал Пул. И обратился к Кумухане: — Теперь рассказывай всю историю!
— Погоди! — был ответ. — Погоди, пока эта маленькая вахине придет и уйдет!
Девочка ушла, джин с молоком отправился путем, предназначенным для джина и молока, когда они смешаны в одно, а Хардмэн Пул ждал рассказа, не понукая больше старика. Кумухана положил руку на грудь и глубоко покашливал, как бы прося поощрения; наконец он заговорил:
— В стародавние дни страшное это было дело — смерть великого алии! Кахекили был великий алии. Поживи он еще немного, он был бы королем. Кто знает? Я был тогда молодой, еще неженатый. Ты знаешь, Канака Оолеа, когда скончался Кахекили, и можешь высчитать, сколько мне было тогда лет. Он умер, когда правитель Боки открыл «Блонд-Отель» в Гонолулу. Ты ведь слыхал об этом?
— Я в ту пору находился на наветренной стороне Гавайских островов, — отвечал Пул. — Но я слышал об этом. Боки построил спиртоочистительный завод и снимал в аренду земли Маноа для разведения сахара, а Каахуману, в то время бывший правителем, отменил аренду, повырывал с корнями сахарный тростник и насажал картофель. Боки разгневался, стал готовиться к войне, собрал своих бойцов вместе с десятком дезертиров с китобойного судна, достал пять медных пушек из Вайкики…
— Вот в эту самую пору и умер Кахекили! — быстро подхватил Кумухана.
— Ты очень мудр! Многое из старых времен ты знаешь лучше, чем мы, старые канаки!
— Это произошло в 1829 году, — благодушно продолжал Пул. — Тебе было тогда двадцать восемь лет, а мне двадцать, и я только что пристал к берегу после пожара на «Черном Принце».
— Мне было двадцать восемь, — подхватил Кумухана, — это верно! Я очень хорошо помню медные пушки Боки из Вайкики. В ту пору Кахекили и скончался в Вайкики. Люди до сих пор думают, будто его кости были отвезены в Хале-о-Кеауе (мавзолей) в Хонаунау, в Кона…
— А много лет спустя были перевезены в Королевский Мавзолей сюда, в Гонолулу, — закончил Пул.
— И есть еще люди, Канака Оолеа, которые и по сей день полагают, будто королева Элис укрыла их с остальными костями своих предков в огромных кувшинах в своей запретной комнате. Все это неправда! Я хорошо знаю. Священные кости Кахекили исчезли навсегда! Они нигде не покоятся! Они перестали существовать! Великое число ветров кона посеребрило прибой Вайкики с той поры, как последний смертный глядел на последнего Кахекили! Я один остался в живых из всех этих людей. Я последний человек — и не рад тому, что остался последним…
Я был молод, и сердце мое горело, как раскаленная добела лава, тоской по Малиа — она была среди домочадцев Кахекили. Горело по ней и сердце Анапуни, но сердце у него было черное, как ты увидишь! В ту ночь, в ночь кончины Кахекили, мы с Анапуни были на попойке. Анапуни и я были простолюдинами, как все канаки и вахине, пировавшие с простыми матросами с китобойного судна. Мы пьянствовали на циновках у взморья Вайкики возле старого хейяу (храма), где теперь находится пляж. В ту ночь я узнал, сколько могут выпить матросы хаоле. Что касается нас, канаков, то наши головы разгорячились, были легки и трещали от виски и рома, как сухие тыквы.
Дело было за полночь — я хорошо это помню, — когда я увидел Малиа, никогда не показывавшуюся на попойках; она направлялась к нам по мокрому песку взморья. Целый ад загорелся в моей душе, когда я заметил, как смотрит на нее Анапуни — он был к ней ближе всех, потому что сидел напротив меня в кругу пьянствовавших. О, я знаю, что во мне горели виски, и ром, и молодость; но в то мгновение мой безумный ум решил, что, если она заговорит с ним и с ним первым пойдет танцевать, я стисну его обеими руками за горло и сброшу вниз, в прибой, шумевший возле нас, потоплю, задушу, уничтожу препятствие, стоявшее между мною и ею! Имей в виду — она никак не могла выбрать между нами и только он давно уже мешал ей стать моей!
Это была красивая девушка с фигурой величественной, как у жены вождя. И дивно хороша была она, когда шла к нам по песку в сиянии луны! Даже матросы хаоле умолкли и, разинув рты, уставились на нее. Какая у нее была походка! Я слышал, о Канака Оолеа, твои рассказы о женщине Елене, из-за которой загорелась Троянская война. Так скажу тебе, что из-за Малиа куда больше мужчин штурмовали бы стены ада, чем их бросилось на старый городишко, о котором у вас в обычае так много и долго говорить, когда вы выпьете чересчур мало молока и чересчур много джина.
Ее походка! И эта луна, мягкое мерцание медуз в прибое, как сияние газовых рожков у рампы, которую я видел в новом театре хаоле. Шла не девушка, а женщина. Она не порхала, как струйки воды на тихом, огороженном взморье, — нет, она шла величественно, царственно, как жидкая лава, текущая по склонам Кау к морю, как движение волн, поднятых морским пассатом, как приход и уход четырех великих приливов года, наверно, отдающихся музыкой в ушах божественной вечности — музыкой, недоступной недолговечному смертному человеку!
Анапуни был к ней ближе прочих. Но смотрела она на меня. Слыхал ли ты, о Канака Оолеа, зов — беззвучный, но более громкий, чем трубы архангелов? Так взывала она ко мне через головы пьяниц! Я наполовину поднялся, ибо не совсем еще напился; но Анапуни схватил ее и привлек к себе, а я откинулся назад, уперся на локоть, наблюдал за ними и бесновался. Он хотел усадить ее возле себя, и я ждал. Если бы она села и затем танцевала с ним, то еще до утра Анапуни был бы мертв: я задушил бы его и утопил в мелком прибое!
Не правда ли, странная штука любовь, о Канака Оолеа? Но нет, ничего здесь нет странного! Так и должно быть в пору юности человека, иначе род человеческий не мог бы продолжаться.
— Вот почему влечение к женщине сильнее желания жить, — вставил Пул.
— Иначе не было бы ни мужчин, ни женщин!
— Да! — подтвердил Кумухана. — Но много лет прошло с той поры, как во мне угасла последняя искра этого пламени. Я вспоминаю его, как человек вспоминает когда-то виденный им восход солнца: было и нет. Так человек стареет, остывает и пьет джин не ради безумия, а ради тепла. Молоко очень питательно!..
Но Малиа не села возле Анапуни. Я помню, что глаза у нее дико блуждали, волосы были распущены и развевались, когда она нагнулась и что-то шепнула ему на ухо. Ее волосы закрыли его, и сердце мое стукнуло в ребра, и голова закружилась так, что я как бы ослеп. И если бы через минуту она не пошла ко мне, то я пересек бы круг и схватил ее!
Этому не суждено было случиться. Ты помнишь вождя Конукалани? Он подбежал к кругу. Лицо его почернело от гнева. Он схватил Малиа не за руку, нет, за волосы схватил он ее, потащил за собой и скрылся. И до сих пор я не могу понять случившегося! Я только что готов был убить за нее Анапуни — и не поднял ни руки, ни возмущенного голоса, когда Конукалани потащил ее прочь за волосы. Не сделал этого и Анапуни. Разумеется, мы были простолюдины, а он вождь! Это так, но почему же два простолюдина, обезумевшие от желания обладать женщиной, которое сильнее в них желания жить, позволяют вождю, пускай даже высшему в округе, тащить эту женщину за волосы? Как мы, двое мужчин, желавшие ее больше жизни, не убили вождя на месте? Это — нечто более могущественное, чем желание жить, чем желание обладать женщиной; но что это такое? И почему?
— Я тебе отвечу! — сказал Хардмэн Пул. — Это потому, что в большинстве люди глупцы, и, стало быть, о них должны заботиться те, кто умнее. Вот тайна предводительства! Во всем мире вожди командуют людьми. Во всем мире, сколько ни существуют люди, существовали вожди, которым приходилось говорить этому множеству глупцов: «Сделайте это, не делайте того-то. Работайте и работайте, как мы приказываем вам, иначе брюхо у вас будет пусто, и вы погибнете. Повинуйтесь законам, которые мы сочинили для вас, иначе вы будете, как звери, и не будет вам места на свете. Вы бы не уцелели, если бы не вожди, которые командуют вами и устраивают дела ваших отцов. Не было бы у вас семьи, если бы мы вами не управляли. Вы должны вести себя смирно, благопристойно, быть людьми воспитанными. Вы должны рано ложиться вечерами и по утрам рано вставать на работу, если хотите иметь постели для сна, а не гнездиться на деревьях, как глупые птицы. Сейчас время сажать ямс — и вы должны сажать его. И сейчас, теперь, сегодня, а не то чтобы плясать и гулять нынче, а сажать ямс завтра или в какой-нибудь другой из множества ваших ленивых дней! Вы не должны убивать друг друга и не имеете права трогать жен ваших соседей. Такова жизнь для вас! Ибо вы зараз обдумываете только один день, а мы, ваши вожди, обдумываем за вас все дни много дней вперед!»
— Как облако на горной вершине, спускающееся сверху и обволакивающее человека, а он смутно распознает, что это облако, так и твоя мудрость для меня, Канака Оолеа! — бормотал Кумухана. — Грустно все же, что мне суждено было родиться простолюдином и все дни моей жизни прожить простолюдином…
— Это потому, что ты сам был прост! — уверял Хардмэн Пул. — Когда человек рождается простым, а по природе не прост, он поднимается и сбрасывает вождя, и сам делается вождем над вождями! Почему ты не управляешь моим ранчо с его многими тысячами голов скота, не меняешь пастбищ с приходом дождей, не ловишь диких быков, не продаешь мяса на парусные суда, и на военные корабли, и людям, живущим в домах Гонолулу, не споришь с адвокатами, не помогаешь составлять законы и не говоришь королю, что ему следует делать, а что делать опасно? Почему никто другой не делает того, что я делаю? Никто из всех людей, работающих на меня, кормящихся из моих рук и заставляющих думать за них меня, работающего усерднее кого-либо из них, меня, который ест не больше любого из них и который, как и все они, может спать зараз только на одной циновке лаухала?
— Вот я и выбрался из облака, Канака Оолеа! — проговорил Кумухана, и физиономия его заметно просияла. — Теперь я понимаю! Многое стало ясным! За все мои долгие годы алии, под которыми я родился, думали за меня! Проголодавшись, я всегда приходил к ним за едой, как прихожу теперь на твою кухню. Много людей ест в твоей кухне, и в дни пиров ты для них убиваешь жирных быков. Вот почему и нынче я пришел к тебе стариком, труд которого не стоит и шиллинга в неделю, а прошу у тебя двенадцать долларов на покупку осла и подержанного седла с уздечкой! Вот почему мы, дважды десять глупцов, под этими самыми деревьями полчаса тому назад просили у тебя кто доллар, кто два, кто четыре, кто пять, кто десять, кто двенадцать. Мы беспечные люди, дети тех беспечных дней, когда никто не додумался бы сажать вовремя ямс, если бы наши алии не заставили бы нас делать это, люди, которые не хотели и одного дня подумать за себя, а теперь, когда мы состарились и никуда не годимся, знаем, что наш алии обеспечит нам кай-кай для нашего брюха и соломенную кровлю, чтобы под ней приютиться…
Хардмэн Пул кивнул и напомнил:
— Ну, а что же кости Кахекили? Вождь Конукалани оттащил прочь Малиа за волосы, а вы с Анапуни сидели смирно в кругу пьяниц. Что же такое шепнула Малиа на ухо Анапуни, когда наклонилась над ним, закрыв ему лицо своими волосами?
— Что Кахекили скончался. Вот что она шепнула Анапуни! Что Кахекили только что умер и что вожди, приказав всем домочадцам оставаться в доме, обсуждают вопрос, как распорядиться с его костями и плотью, прежде чем весть о его смерти распространится. Что верховный жрец Эоппо переубедил всех, и она, Малиа, подслушала ни много, ни мало, как то, что меня и Анапуни избрали в жертвы, которые должны будут отправиться одним путем с Кахекили и его костями и ходить за ним во веки веков в мире теней!
— Моэпуу — человеческое жертвоприношение! — вставил Пул. — А между тем прошло уже девять лет со дня прибытия миссионеров.
— А за год до их прибытия идолов посбрасывали с подножий и нарушили все табу! — добавил Кумухана. — Но вожди все еще держались старого обычая, обычая хунакеле, и прятали кости алии в таком месте, чтобы ни один человек не мог их найти, не мог делать рыболовных крючков из их челюстей или наконечников для стрел из длинных костей. Смотри, о Канака Оолеа!
Старик высунул язык, и Пул, к своему изумлению, увидел, что поверхность этого чувствительного органа была от корня до кончика покрыта чрезвычайно сложной татуировкой.
— Это было сделано через несколько лет после прибытия миссионеров, когда скончался Кеопуолани. Мало того, я выбил у себя четыре передних зуба и выжег дужки на всем моем теле. И всякого, кто в эту ночь осмеливался высунуть нос за дверь, убивали вожди! Нельзя было зажечь огня в доме, не слышно было ни шума, ни шороха. Даже собак и свиней, поднимавших шум, убивали, а всем кораблям хаоле в порту запретили бить в колокола той ночью! Страшная вещь была в те дни смерть алии!
Но вернемся к ночи, в которую скончался Кахекили. Мы продолжали сидеть в кругу пьяниц после того, как Конукалани утащил Малиа за волосы. Некоторые из матросов хаоле начали было ворчать, но в те дни их было мало в стране, а канаков было много. И больше Малиа не видел никто из живых. Конукалани знал, как ее убили, но никому не рассказывал. А в последовавшие годы разве смели задавать ему такие вопросы простолюдины вроде меня и Анапуни?
Она все рассказала Анапуни перед тем, как ее оттащили. Но у Анапуни было черное сердце. Мне он не сказал ничего! Он стоил того убийства, которое я замышлял! В кругу сидел исполин гарпунщик, пение которого было подобно мычанию быка; я загляделся на него, покуда он ревел какую-то морскую песню, и когда бросил взгляд через круг на Анапуни, увидел: Анапуни исчез. Он бежал в высокие горы, где мог прятаться с птицеловами недели и месяцы. Это я узнал впоследствии.
А что же я? Я сидел, стыдясь того, что мое желание обладать женщиной оказалось слабее моего рабского повиновения вождю. И топил свой стыд в больших кружках рома и виски, пока все вокруг меня не пошло ходуном и в голове и снаружи, пока Южный Крест не заплясал хула на небе, пока горы Коолау не закланялись своими царственными вершинами Вайкики, а прибой Вайкики не поцеловал их в лоб. А гигант гарпунщик продолжал реветь — это был последний звук, который я услышал, ибо я откинулся навзничь на циновку лаухала и на время как бы умер.
Когда я проснулся, чуть-чуть серел рассвет. Чья-то голая нога пнула меня в ребро. После невероятного количества напитков, которое я проглотил, удар пяткой показался мне очень неприятным. Канаки и вахине с попойки ушли по домам. Я один оставался среди спящих матросов, и огромный гарпунщик храпел, как кашалот, положив голову на мои ноги.
Меня еще несколько раз пнули пяткой; я сел, меня затошнило. Но тот, который пнул меня, находился в великом нетерпении и спрашивал, куда девался Анапуни. Я не знал этого, и вот меня опять толкали — на этот раз с обеих сторон — два нетерпеливых человека за то, что я не знал. Не знал я и того, что Кахекили скончался. Но я догадался, что случилось нечто серьезное, ибо люди, толкавшие меня, были вожди, люди с большой властью. Один был Аимоку из Канеохе, другой — Хумухуму из Маноа.
Они приказали мне следовать за ними и обращались со мной очень грубо. Когда я поднялся, голова гарпунщика скатилась с моих ног через край циновки на песок. Он хрюкнул, как свинья, раскрыв рот, и весь его язык вывалился изо рта на песок. Он не втянул его обратно. Впервые я тут узнал, как длинен язык человека! Я видел песок на этом языке, и меня стошнило вторично. О, как ужасен день после ночи попойки! Я весь горел, внутри у меня все пересохло и пылало, как лава, как язык гарпунщика, сухой и вывалянный в песке. Я нагнулся напиться из кокосового ореха, но Аимоку выбил его из моих дрожащих пальцев, а Хумухуму ударил меня по затылку тыльной частью руки.
Они шли передо мной плечом к плечу, с торжественными и мрачными лицами, а я плелся за ними следом. Во рту было дурно от выпитого, голова страшно болела, и я готов был отрезать свою правую руку за глоток, за один глоток воды. Если бы я получил его, то, я знаю, он закипел бы у меня в утробе, как вода, пролитая на раскаленные камни очага. О, как страшен день после попойки! Жизнь многих людей, умерших молодыми, прошла передо мной с той поры, как я в последний раз был в состоянии выпить такое великое количество хмельного. Молодость не знает меры!
Мы шли, и я начал понимать, что скончался какой-нибудь алии. Не видно было ни одного канака, спящего на песке или крадущегося домой после ночи любви; ни одного каноэ не видно было на ранней ловле, когда со сменой прилива рыба так хорошо идет на приманку. Когда мы проходили мимо хейяу (храма), к которому бывало причаливали бриги и шхуны великого Камехамехи, я увидел, что с большого двойного каноэ Кахекили сняты навесы из циновок и что, несмотря на отлив, много людей тащат его по песку в воду. Все эти люди были вожди. И хотя у меня плыло перед глазами, голова кружилась, и нутро горело жаждой, я догадался, что скончавшийся алии был Кахекили. Ибо он был стар, и всего скорее следовало ожидать именно его смерти.
— Я слышал, что его смерть в большей степени, чем вмешательство Кекуаноа, помешала восстанию правителя Боки! — заметил Хардмэн Пул.
— Именно смерть Кахекили помешала этому, — подтвердил Кумухана. — Все простолюдины, когда в ту ночь разнеслась весть о его смерти, укрылись в своих деревянных домах, не зажигали ни огня, ни трубок, не дышали громко, потому что в своем доме они были табу от избрания в жертвы. Бежали также все бойцы правителя Боки и дезертиры с кораблей хаоле, так что медные пушки остались без прислуги, а кучка вождей сама по себе ничего не могла сделать.
Аимоку и Хумухуму посадили меня на песок в сторонке от огромного двойного каноэ, которое спускали на воду. И когда оно поплыло, все вожди почувствовали жажду, ибо они не привыкли к такой работе; мне было приказано влезть на пальмы возле навесов для лодок и сбрасывать кокосовые орехи. Вожди напились и освежились, но мне они не позволили напиться.
Потом они перенесли Кахекили из его дома в каноэ в гробу хаоле, новеньком, просмоленном и лакированном. Его мастерил корабельный плотник, полагавший, что делает лодку, которая не должна протекать. Гроб был весь деревянный, и только над лицом Кахекили оставалось тонкое стекло. Вожди не привинтили наружной доски, чтобы закрыть это стекло. Может быть, они не знали устройств гробов хаоле; во всяком случае, как ты увидишь, мне оказалось на руку то, что они этого не знали.
«Тут только один моэпуу», — проговорил жрец Эоппо, глядя на меня, когда я сел на гроб на дне пироги. Вожди уже гребли, выплывая за рифы.
«Другой убежал и спрятался! — ответил Аимок. — Это единственный, которого нам удалось поймать».
И тогда я понял. Я понял все! Меня должны были принести в жертву! Второй жертвой был избран Анапуни! Вот о чем шепнула Малиа Анапуни на попойке. И ее утащили, прежде чем она успела предупредить меня. А он, с его злым сердцем, не сказал мне этого.
«Их должно быть два! — отвечал Эоппо. — Таков закон!»
Аимоку перестал грести и поглядел на берег, словно хотел вернуться и найти другую жертву. Но некоторые вожди стали возражать, доказывали, что все простолюдины ушли в горы или лежат табу в своих домах и что могут пройти дни, прежде чем найдут второго. В конце концов Эоппо сдался, хотя время от времени продолжал ворчать, что закон требует двух моэпуу.
Они гребли. Проехали Алмазный Мыс, поравнялись с Мысом Коко, пока не выплыли на середину пролива Молокаи. Здесь разгулялась волна, хотя пассатный ветер дул очень слабо. Вожди перестали грести, и только рулевые держали челны носами к ветру и к волне. И прежде чем двинуться дальше, они снова вскрыли несколько кокосов и принялись пить.
«Не беда, что я выбран в моэпуу, — обратился я к Хумухуму, — но я хотел бы напиться перед тем, как меня убьют!»
Я не получил питья. Но я говорил правду! Я слишком много выпил виски и рому, чтобы бояться смерти. По крайней мере у меня исчез бы отвратительный привкус во рту, перестала бы болеть голова, перестали бы гореть, как раскаленный песок, внутренности! И, кажется, больше всего я страдал от мысли о языке гарпунщика, вывалившемся на песок и покрытом песком. О, Канака Оолеа, какие скоты молодые люди, когда пьют! Только состарившись, подобно мне и тебе, обуздывают они свою жажду и пьют умеренно, как ты и я.
— Так уж нам приходится! — возразил Хардмэн Пул. — Старые желудки изнеживаются, становятся тонки и слабы. И мы пьем умеренно, ибо не смеем пить больше. Мы мудры, но горька эта мудрость!
— Жрец Эоппо спел длинную меле о матери Кахекили и родительнице этой матери и обо всех матерях до самого начала времен, — продолжал Кумухана. — И мне казалось, что я умру от пожирающего меня жара, прежде чем он окончит. Он стал взывать ко всем богам нижней вселенной, и средней вселенной, и верхней вселенной, умоляя их холить и лелеять покойного алии и исполнить заклятия — и страшные же были заклятия! — которые он наложил на всех людей в будущем, вздумавших бы дотронуться до костей Кахекили и забавляться, убивая при их помощи гадов.
Знаешь, Канака Оолеа, жрец говорил совсем на другом языке, и я узнал этот язык — язык жрецов, древний язык. Мауи он называл не Мауи, но Мауи-Тики-Тики и Мауи-По-Тики. А Хину, божественную мать Мауи, он называл Ина. А божественного отца Мауи он называл то Акалана, а то Каналоа.
Странно, как умирающий от жажды человек мог запомнить все эти вещи! И помню я, что жрец называл Гавайи — Вайи, а Ланан — Нгангаи.
— Это маорийские названия[3], — пояснил Хардмэн Пул, — слова Самоа и Тонга, которые жрецы привезли с собой с юга в стародавние времена, когда они открыли Гавайские острова и поселились на них.
— Велика твоя мудрость, о Канака Оолеа! — торжественно возгласил старик. — Ку, который держит на себе небеса, жрец именовал Ту, а также Ру; а Ла, бога солнца, он называл Ра…
— А ведь в Египте был бог солнца Ра в древние времена! — перебил рассказчика Пул, внезапно оживившись. — Да, вы, полинезийцы, много прошли времени и пространства! Это отклики Древнего Египта, когда Атлантида[4] еще была над водой в молодых Гавайях в северной части Тихого океана. Но продолжай, Кумухана, не вспомнишь ли ты еще чего-нибудь из древней песни Эоппо?
— В самом конце его песни, — кивнул рассказчик, — хотя я был уже наполовину мертвец и скоро должен был совсем скончаться под ножом жреца, я крепко запомнил каждое ее слово. Слушай, вот она!
И старик запел дрожащим фальцетом.
— Без сомнения, смертная песнь маорийцев! — воскликнул Пул. — И поет ее гаваец с татуированным языком! Повтори-ка, и я переведу ее тебе по-английски.
И когда старик повторил песню, Хардмэн Пул медленно произнес по-английски:
Но в смерти нет ничего нового.
Смерть есть и всегда была с кончины старого Мауи.
В ту пору Пата-таи громко засмеялся
И разбудил домового — бога, Который разрубил его надвое;
И так пришел вечерний сумрак!
— А в конце-то концов, — возобновил свой рассказ Кумухана, — меня не убили! Эоппо, уже державший нож в руке и готовый поднять руку для смертоносного удара, не поднял ее. А я? Как я чувствовал себя? Что я думал? Часто смеялся я впоследствии, вспоминая об этом, Канака Оолеа! Я чувствовал только одно: жажду! Мне не хотелось умирать. Но хотелось глотнуть воды. Я знал, что умру, и мне вспоминались тысячи водопадов, свергающихся в пропасть с наветренных гор Коолау. Я не думал об Анапуни. Меня мучила жажда! Я не думал и о Малиа, — меня мучила жажда! И перед собой я все время видел язык гарпунщика, пересохший и покрытый песком, как видел его в последний раз. У меня был теперь такой же язык. А на дне каноэ перекатывалось много питьевых кокосов. Но я и не пытался тронуть их, ибо кругом были вожди, а я был простолюдин.
«Нет, — проговорил Эоппо, приказав вождям бросить за борт гроб, — двух моэпуу нет, так пусть же не будет ни одного!»
«Убей этого одного!» — возопили вожди.
Но Эоппо покачал головой и промолвил:
«Мы не можем отправить Кахекили на тот свет с одной лишь половинкой таро!»
«Полрыбы на человека лучше, чем ничего!» — ответил Аимоку старинной поговоркой.
«Но только не на похоронах алии! — быстро возразил жрец. — Таков закон! Мы не можем жадничать для Кахекили и урезывать наполовину подобающую ему жертву!»
Итак, гроб был брошен в воду, и я не был убит. Но странное дело: на мгновение я обрадовался тому, что остался в живых! И сейчас же вспомнил Малиа и начал замышлять месть Анапуни. И когда закипела во мне кровь жизни, жажда моя увеличилась десятикратно: казалось, язык мой, и рот, и глотка наполнились сухим песком, как язык гарпунщика. Когда гроб полетел за борт, я сел на дно лодки. Между моими ногами катался питьевой кокосовый орех, и я схватил его. Но когда я взял его в руку, Аимоку ударил меня по руке краем весла. Смотри!
Кумухана вытянул руку, показав два скрюченных пальца, очевидно, вывихнутых и невправленных.
— У меня не было времени злиться из-за боли: на меня свалились новые беды. Все вожди заревели в ужасе; гроб, ставший торчком, не тонул, он подпрыгивал и покачивался в воде за нашей кормой. А каноэ, повернутую к волнам и к ветру, несло волнами и ветром прямо на гроб. Стекло гроба было обращено к нам, так что мы видели лицо и голову Кахекили; он скалился на нас из-за стекла, и, казалось, уже жил на том, другом свете, и гневался на нас, и собирался излить этот гнев при помощи нездешних сил! Он подпрыгивал вверх и вниз, а лодку все ближе толкало к нему.
«Убей его! Пусти ему кровь! Ударь его в сердце! — вот что перепуганные вожди кричали Эоппо. — Бросай таро! Пусть алии получит полрыбы!»
Эоппо, хоть и был жрец, также испугался и помутился в рассудке при виде Кахекили в гробу хаоле, который ни за что не хотел тонуть. Он схватил меня за волосы, поднял на ноги и занес нож, чтобы вонзить его в мое сердце, и я не оказал сопротивления. Я только вновь ощутил великую жажду, и перед моими отуманенными глазами в воздухе, у самого носа, болтался облепленный песком язык гарпунщика!
Но прежде чем нож упал и вонзился в меня, случилось нечто, спасшее мне жизнь. Акаи, сводный брат правителя Боки, если ты помнишь, был в каноэ рулевым на корме; он сидел ближе всех к гробу с покойником, не желавшим тонуть. Он обезумел от страха и протянул вперед весло, чтобы оттолкнуть заключенного в гробу алии, собиравшегося, казалось, вскочить в каноэ. Конец весла попал в стекло, стекло разбилось…
— И гроб тотчас затонул! — подхватил Хардмэн Пул. — Воздух, благодаря которому он держался на воде, вышел в разбитое стекло!
— Гроб тотчас затонул, потому что корабельный плотник строил его наподобие лодки, — подтвердил Кумухана. — И я, за минуту до того бывший моэпуу, опять стал человеком. И я остался в живых, хотя умер тысячью смертей от жажды, пока мы добрались до берегов Вайкики.
Так вот, о Канака Оолеа, кости Кахекили не покоятся в Королевском Мавзолее. Они лежат на дне пролива Молокаи, если только давно уже не превратились в плавающую слизь или не сделались телом кораллов, образовавших коралловый риф. Один я из всех живущих ныне видел, как кости Кахекили потонули в проливе Молокаи!
Наступила пауза. Хардмэн Пул сидел в глубоком раздумье. Кумухана облизывал сухие губы. Наконец он нарушил молчание:
— А двенадцать долларов, Канака Оолеа, на осла и на подержанное седло с уздечкой?
— Ты получил бы двенадцать долларов, — ответил Пул, вручая старику шесть долларов с половиной, — но у меня на конюшне, в сундуке, лежат подходящие для тебя уздечка и седло, которые ты и получишь; а за шесть с половиною долларов ты купишь вполне подходящего осла у паке (китайца) в Кокако, который только вчера предлагал мне его за эту цену!
Они продолжали сидеть. Пул безмолвствовал, твердя про себя только что услышанную маорийскую смертную песню, в особенности слова: «И так пришел вечерний сумрак». Он находил их прекрасными. Кумухана облизывал губы, явно давая понять, что он ждет еще чего-то. Наконец он нарушил молчание:
— Я долго говорил, о Канака Оолеа! Нет уже в устах моих постоянной влаги, как в дни моей молодости. Мне кажется, опять мною овладела жажда, терзавшая меня при виде гарпунщика. Для языка, засохшего, как у гарпунщика, весьма хорош джин с молоком, о Канака Оолеа!
Улыбка мелькнула на лице Пула. Он хлопнул в ладоши, и тотчас же прибежала девчонка.
— Стакан джина с молоком старому Кумухана! — приказал Хардмэн Пул.
Вайкики, Гонолулу, 28 июня 1916.
Исповедь Элис
То, что мы здесь рассказываем об Элис Акана, случилось на Гавайях, хоть и не в наше время, но сравнительно недавно, когда Эйбл А-Йо проповедовал в Гонолулу свою знаменитую «религию возрождения» и убеждал Элис Акана очистить исповедью душу. Самая же исповедь Элис касается более старинных времен.
Элис Акана (ей было в ту пору пятьдесят лет) рано познала жизнь и всегда жила широко. То, что она знала, касалось самых корней и нитей, затрагивало секреты целых семейств, деловых предприятий и многочисленных плантаций округи. Она была как бы живым архивом точных фактов, которые очень интересовали адвокатов независимо от того, касались ли эти данные границ земельных участков, дарственных записей на землю или браков, рождений, завещаний и скандалов. Крепко держа язык за зубами, она очень редко делилась с людьми тем, что им было нужно; а если делала это, то только во имя справедливости, никого не обижая.
Ибо Элис с первых дней своего девичества привыкла жить среди цветов, песен, вина и плясок, а войдя в лета, она, будучи владелицей увеселительного заведения с плясуньями, специалистками танца хула, сделалась хозяйкой и присутствовала на пиршествах по обязанности.
В атмосфере этого дома, где забывались заповеди «божеские и человеческие» и всякая осторожность и где пьяные языки свободно болтались во рту, она черпала исторические данные о таких вещах, о которых в другой обстановке мало кто позволял себе заикаться или догадываться. И то, что она умела держать язык за зубами, сослужило ей хорошую службу; хотя старожилы отлично знали, что ей было известно все, но никто из них не слыхал, чтобы она когда-нибудь сплетничала о кутежах в лодочном сарае Калакауа, о шумных наездах офицеров с военных кораблей или о тайнах дипломатов и министров чужих стран.
За полстолетие она зарядилась таким количеством исторического динамита, что, если бы он взорвался, это потрясло бы всю общественную и торговую жизнь Гавайских островов; она была хозяйкой дома для танцев хула, импресарио туземных балерин, плясавших для особ царствующего дома на званых вечерах в частных домах, на ужинах, на которых подавался пои, и для любознательных туристов. Все это не мешало ей крепко держать язык за зубами. В пятьдесят лет это была веселая, тучная, приземистая полинезийка крестьянского типа, очень крепкого телосложения и без каких бы то ни было немощей, что обещало ей долгую-долгую жизнь. И на пятидесятом году случилось, что она, влекомая любопытством, попала на собрание, на котором Эйбл А-Йо проповедовал свое «возрождение».
Эйбл А-Йо был столь же разносторонней личностью, как знаменитый Билл Сандэй. Родословная его отличалась даже большей пестротой, ибо он был на четверть португалец, на четверть шотландец, на четверть гаваец и на четверть китаец. В нем сочетались лукавство и хитрость, ум и рассудочность, грубость и утонченность, страстность и философское спокойствие, неугомонное «богоискательство» и умение погружаться по самую шею в навоз действительности — словом, все элементы четырех, коренным образом отличных друг от друга рас, сумма которых дала эту личность. Вдобавок он в высокой степени владел искусством самообмана.
По части ораторского дара он далеко обогнал Билла Сандэя, известного мастера простонародного жаргона. Ибо в речи Эйбла А-Йо трепетали красочные глаголы, местоимения, наречия и метафоры четырех живых языков! В этих языках он черпал неизмеримое множество выражений, в которых потонули бы мириады словечек Билла Сандэя. Как хамелеон, колебался он между различными элементами своего существа и умел приспосабливаться к безыскусной свежести простых душ, которых он «обращал» своими речами.
Эйбл А-Йо так же верил в себя и в многообразие своей натуры, как он верил, что бог похож на него и на всякого человека и что этот бог не какой-нибудь племенной бог, но бог мировой, нелицеприятным оком взирающий на расы всего мира. И его теория имела успех. Китайцы, корейцы, японцы, гавайцы, пуэрториканцы, русские, англичане, французы — словом, представители всех народов без колебаний, бок о бок преклоняли колени и приступали к пересмотру собственных богов.
Сам он еще в ранней молодости отошел от англиканской церкви и много лет чувствовал себя каким-то Иудой. Иуда был проклят, — стало быть, и он, Эйбл А-Йо, проклят; а ему не хотелось оставаться проклятым навеки! Вот почему он всячески норовил увильнуть от проклятия. И наступил день, когда он обрел спасение. Он рассудил так: учить, будто Иуда проклят, — значит превратно толковать бога, который наипаче всего есть справедливость. Иуда был слугой божьим, особо избранным для выполнения самого грязного дела. Стало быть, Иуда, преданный Иисусу и предавший его лишь по божественному велению, свят! Стало быть, и он, Эйбл А-Йо, свят уже в силу своего отступничества, и, стало быть, он с чистой совестью может предстать перед богом!
Эта теория стала одним из главных догматов его вероучения; она оказалась весьма на руку другим отступникам от своих религий, втайне чувствовавшим себя Иудами. А Эйблу А-Йо пути божьи были так же ясны, как и те, которые он, Эйбл А-Йо, начертал себе. Все спасутся в конце концов, хотя у одних это отнимет больше времени, чем у других, и они получат места подальше от благодати. Место человека в вечно меняющемся мировом хаосе предопределено, ибо не существует никакого мирового хаоса. Это лишь порождение путаной фантазии человека. С помощью невиданно смелых приемов мысли и речи, с помощью живых, доходчивых слов ему удавалось заставить своих слушателей забыть об этом хаосе, убедить их в ясности намерений всевышнего и таким образом вселить в них духовное спокойствие и безмятежность.
И как могла Элис Акана — чистокровная гавайянка — устоять против тонкой, окрашенной демократизмом и закаленной в тигле четырех рас логики неотразимо красноречивого проповедника? На собственном опыте он познал не меньше, чем она, все жизненные грехи: недаром же он был певчим на пассажирских пароходах, крейсирующих между Гавайями и Калифорнией, а после этого — буфетчиком на море и на суше, от Барбарийского берега в Сан-Франциско до таверны Хэйни в Вайкики. По правде сказать, он перед вступлением на великий путь проповеди «возрождения» оставил свой пост первого официанта в Университетском клубе в Гонолулу.
И стоило Элис Акана попасть на проповедь Эйбла А-Йо, как она начала поклоняться его богу; трезвому уму этой женщины он показался самым толковым из всех богов, о каких ей только приходилось слышать! Она жертвовала деньги в кружку Эйбла А-Йо, закрыла свой танцевальный дом и распустила танцовщиц, которым предоставила добывать пропитание более легким способом, а с себя сорвала яркие платья, ленты и букеты цветов и купила библию.
Это была пора религиозного шока в Гонолулу, своеобразная демократическая тяга к богу. Буржуа получали приглашения на собрания, но не являлись. И только глупые, смиренные простолюдины отправлялись исповедоваться, на коленях признавались во всех смертных грехах, очищались и выходили на солнце чистенькими, как невинный ребенок. Религия «возрождения», которую проповедовал Эйбл А-Йо, была своеобразным отпущением совершенных грехов и восстановлением духа. Грешники сбрасывали с себя тяжесть грехов и духовно выздоравливали.
Но Элис не чувствовала себя счастливой; она еще не очистилась. Она покупала и раздавала библии, все больше жертвовала в кружку, подпевала своим контральто священным песнопениям, но не решалась очистить покаянием душу свою. И тщетно боролся с нею Эйбл А-Йо! Она не хотела опуститься на колени перед амвоном кающихся и в слезах высказать все, что омрачало ее душу, все дурное, что было в ее прошлом.
— Ты не можешь служить двум господам! — говорил ей Эйбл А-Йо. — Ад кишит людьми, пытавшимися это сделать! С чистым и простодушным сердцем должна ты помириться с богом. Ты не будешь готова к искуплению, пока не исповедуешь душу свою на собрании. Пока ты этого не сделаешь, ты будешь носить в себе язву греха!
С научной точки зрения, хотя он, конечно, и не подозревал об этом, ибо постоянно глумился над наукой, Эйбл А-Йо был прав. Она не могла вновь по-детски радоваться милостям всевышнего до тех пор, пока не исповедует свою душу, рассказав обо всех своих секретах и о тех тайнах, что делила с другими людьми. У протестантов исповедь происходит в собрании, у католиков
— в присутствии только духовника. Считается, что в результате подобного обнажения души человек обретает единение, спокойствие, счастье, очищение духа, искупление и бессмертие.
— Решайся! — гремел Эйбл А-Йо. — Либо верность человеку, либо верность богу!
Но Элис не могла решиться. Слишком долго ее уста оставались запечатанными честным словом человека.
— Я исповедаюсь перед собой! — возражала она. — Бог видит, как моя душа устала от греха и как мне хочется быть чистой и светлой, такой, какой я была маленькой девочкой в Канеохе…
— Но ведь грехи твоей души скованы грехами других душ! — неизменно отвечал Эйбл А-Йо. — Если у тебя есть на душе бремя, сбрось его! Ты не можешь носить бремя и в то же время быть чистой…
— Я буду молиться богу ежедневно по нескольку раз в день! — ответила она. — Со смирением, со вздохами и слезами буду я приближаться к господу. Я буду часто жертвовать в кружку и без счета буду покупать библии, библии, библии…
— И не узреть тебе улыбки божьей! — отвечал проповедник. — Ты будешь по-прежнему отягчена грехами, ибо ты не поведала своих грехов, и не избавишься от них, пока не исповедуешься!
— Ах, как трудно возрождение! — вздыхала Элис.
— Возрождение труднее даже рождения! — Эйбл А-Йо не считал нужным утешать ее. — Только, когда ты уподобишься младенцу…
— Уж если я начну говорить, так разговор будет долгий! — призналась Элис.
— Тем больше причин исповедаться!
Таким образом, дело оставалось на мертвой точке: Эйбл А-Йо требовал безусловной приверженности господу, а Элис Акана продолжала порхать у опушки рая.
— Длинный будет разговор, можно побиться об заклад, если только Элис начнет! — весело говорили друг другу гуляки из камааинасов (старожилов), потягивая пальмовую водку.
В клубах предстоящая исповедь Элис была предметом более серьезных забот. Представители молодого поколения хвастались, что приобрели уже места в первых рядах на будущем собрании, а старики кисло острили насчет обращения Элис. Элис стала необычайно популярной среди друзей, которые лет двадцать не вспоминали о ее существовании!
Однажды, когда Элис с библией в руках ждала на перекрестке трамвай, некий Сайрус Ходж, сахарозаводчик и местный магнат, приказал своему шоферу остановить автомобиль. Волей-неволей, покоренная его любезностью, Элис вынуждена была сесть рядом с ним в его лимузин, и он потерял три четверти часа, забыв о своих делах, только для того, чтобы лично отвезти ее, куда ей было нужно.
— Глазам отрадно видеть вас! — бормотал он. — Как годы-то летят! Какой у вас чудесный вид — вы владеете секретом молодости!
Элис улыбалась и отвечала ему пышными комплиментами на полинезийский дружелюбный манер.
— Боже! Боже! — предавался воспоминаниям Сайрус Ходж. — Какой я был мальчик тогда!
— Хорош мальчик! — засмеялась она.
— Но ведь я знал не больше, чем мальчик, в те далекие дни.
— А помните ночь, когда ваш извозчик напился и сбросил вас?..
— Тсс! — остановил он ее. — Мой японец-шофер окончил высшую школу и знает по-английски лучше нас с вами! Я даже думаю, что он шпион на службе японского правительства. Зачем нам говорить при нем? К тому же я был тогда так молод! Вы помните?
— У вас щеки были, как персики, которые зрели у нас в саду, пока их не поточил жучок, — говорила Элис. — Мне помнится, вы тогда брились не чаще одного раза в неделю. Вы были красивый мальчик. Помните, какую хула мы закатили в вашу честь?
— Тсс!.. — опять остановил он ее. — Все это забыто и похоронено; предадим же прошлое забвению!
Элис отметила про себя, что в его глазах уже нет того простодушия юности, которое ей хорошо помнилось. Теперь его глаза проницательно-испытующе смотрели на нее, ожидая уверений, что она не станет воскрешать далекого прошлого.
— Религия — хорошее дело, когда мы становимся пожилыми, — говорил ей другой старинный приятель. Он строил себе великолепный дом на Тихоокеанских высотах, недавно женился вторым браком и как раз ждал пароход, чтобы встретить двух своих дочерей, окончивших учение в Вассаре и возвращавшихся домой. — И в старости нам очень нужна религия! Она смягчает душу, делает нас более терпимыми и снисходительными к слабостям ближних, особенно к грехам молодости, когда люди безумствуют и сами не ведают, что творят.
И он с тревогой ждал ответа Элис.
— Да, — отвечала она, — все мы родились во грехах, и очень трудно вырасти из греха! Но я расту, расту…
— Не забывай, Элис, что в ту пору я всегда честно поступал с тобой. Мы с тобой никогда не ссорились!
— Даже в ту ночь, когда ты устроил нам луау по случаю своего совершеннолетия и непременно требовал, чтобы после каждого тоста били посуду! Разумеется, ты за нее заплатил.
— Щедро! — чуть не с мольбой уверял он.
— Щедро, — согласилась она. — На те деньги, которые ты мне заплатил, я купила почти вдвое посуды, так что на следующем луау я поставила сто двадцать приборов, не взяв взаймы ни единого блюдца или стакана. Этот луау задавал тогда лорд Мэйнуезер, помнишь его?
— Я вместе с ним охотился на кабанов в Мана, — кивнул собеседник. — Мы приехали туда покутить на две недельки, но знаешь, Элис… Религия очень, очень хорошая вещь, не следует только увлекаться ею. И не исповедуй своей души обо мне! Что подумают мои дочери об этой разбитой посуде?
— Я всегда питал к тебе алоха (теплые чувства), Элис! — уверял ее член сената, тучный, плешивый человек.
А другой, адвокат и уже дедушка, говорил ей:
— Мы всегда были друзьями, Элис. Знайте, если вам понадобится юридический совет или провести дело, я с радостью устрою вам все и не возьму гонорара — я помню нашу старинную дружбу!
В сочельник к ней явился банкир с большим конвертом делового формата.
— Совершенно случайно, — объяснил он, — когда мои клерки рылись в земельных архивах долины Иапио, я нашел вашу закладную в две тысячи долларов на рисовое поле, сданное А-Чину. Невольно я задумался над прошлым, когда мы были молоды, ветрены и немножко необузданны… у меня как-то потеплело на сердце, когда я вспомнил вас; и вот ваш должок теперь ликвидирован — так просто, из алоха…
Вспомнили Элис и ее одноплеменники. Ее дом сделался Меккой для туземцев и туземок, совершавших свое паломничество секретным образом, с наступлением темноты, и всегда приносивших подарки — свежую каракатицу с рифов, опихи, лиму, корзинки с редкостными грушами, зерна самого свежего сбора, плоды мангового дерева и златолистника, отборнейший розовый пышный таро, молочных поросят, бананы, плоды хлебного дерева и свежих крабов, пойманных в тот же день в Пирл-Харбор. Мэри Мендана, жена португальского консула, преподнесла ей ящик конфет ценою в пять долларов и пальто оранжевого цвета, которое на распродаже нельзя было купить дешевле, чем за семьдесят пять долларов. А жена богатого китайского торговца Ин-Чепа, Эльвира Мияхара Макаэна-Ин-Чеп, лично принесла Элис два куска знаменитого сукна пинья с Филиппинских островов и дюжину пар шелковых чулок!
Время шло. Эйбл А-Йо продолжал бороться с Элис, уговаривая ее покаяться, Элис боролась за свою душу, и добрая половина населения Гонолулу ехидно или со страхом ждала исхода этой борьбы. Прошла масленичная неделя, наступила и прошла неделя игры в поло и скачек, приближался торжественный день Четвертого июля[5], когда Эйбл А-Йо решил наконец сломить метким психологическим ударом твердыню ее сопротивления. Он произнес свою знаменитую речь, которая содержала в себе определение вечности «по Эйблу А-Йо». Разумеется, как и Билл Сандэй, Эйбл А-Йо крал свои определения. Но из жителей Гавайских островов никто этого не знал, и его оценка как искусного проповедника поднялась на сто процентов.
Он так успешно проповедовал в этот вечер, что обратил очень многих адептов, которые со стонами упали у покаянной трибуны в толпе других обращенных, горевших религиозным огнем, включая и полроты солдат-негров расквартированного в городе двадцать пятого полка, дюжину кавалеристов четвертого кавалерийского эскадрона, застрявшего здесь по дороге на Филиппины, множество пьяных матросов с военных судов, подозрительных дам из Ивилеи и добрую половину портовых бродяг.
Эйбл А-Йо, читавший в душе человека, как по книге, а Элис Акана понимавший еще лучше, знал, что делал, когда в эту приснопамятную ночь проповедовал о боге, преисподней и вечности в словах, доступных пониманию Элис Акана. Случайно он открыл ее уязвимое место. Будучи, как все полинезийцы, великим любителем природы, он первым делом угадал, что землетрясения и извержения вулканов ужасают Элис. Ей уже пришлось на Большом Острове пережить катастрофы, от которых провалилась соломенная хижина, где она спала; она видела, как госпожа Пеле (богиня огня и вулканов) извергла красную расплавленную лаву на отлогие склоны горы Мауна-Лоа, и лава уничтожила рыбные садки на берегу моря, слизнув на своем пути стада скота, деревни и людей.
За день до памятного собрания легкое землетрясение потрясло Гонолулу, и у Элис Акана появилась бессонница. Утренние газеты сообщили, что на Мауна-Кеа началось извержение и что лава быстро поднимается в огромном кратере Каилу. На молитвенном собрании, колеблясь между страхами сущего мира и вечным блаженством грядущего, Элис сидела на передней скамье в состоянии, близком к истерике.
Эйбл А-Йо встал и вложил персты в самую чувствительную часть ее души. Описав всемогущество господа на обычный лад, Эйбл А-Йо заговорил о том дне, когда даже бесконечное терпение бога лопнет, и он прикажет святому Петру закрыть свой журнал и гроссбухи, повелит архангелу Гавриилу созвать души на страшный суд и возопиет страшным голосом: «Велакахао!»
«Велакахао» на туземном язык означает «железо горячо». Это выражение, которое является одним из примеров англо-гавайского жаргона и весьма излюбленным тропом в речах местных проповедников, пришло из чугуноплавильных мастерских Гонолулу, где его употребляли сотни гавайцев, когда следовало сказать, что пора спешить с ковкой.
— И возгласит бог «Велакахао», и начнется страшный суд, и быстро свершится он; ибо Петр куда лучший бухгалтер, чем счетовод какого-нибудь треста, а кроме того, у Петра книга правильнее!
Эйбл А-Йо быстро отделил овец от козлищ и вверг последних в геенну огненную.
— А на что похожа геенна огненная? — спросил он. — О друзья мои! Позвольте описать вам вкратце ту геенну, тот ад, который я видел собственными глазами на нашей земле! В ту пору я был молод, совсем мальчик, и жил в Хило. Утро началось землетрясением. Целые сутки огромный край сотрясался и дрожал, так что самые крепкие мужчины заболели морской болезнью, женщины хватались за стволы деревьев, чтобы не упасть, а скот валился с ног. Я сам видел теленка, который упал от сотрясения. Вслед за этим наступила ночь неописуемых ужасов. Почва тряслась, как каноэ в бурю. Одна мать, выбегая из рухнувшего дома, насмерть растоптала собственного ребенка.
Небеса горели пламенем. Мы читали наши библии при свете этого пламени, а между тем печать была мелкая и трудная даже для молодых глаз. В сорока милях от нас преисподняя вырвалась из высоких гор и изливала в море красную, как кровь, расплавленную породу. Это зрелище горящих пожаром небес и беснующейся под ногами земли было слишком величественно и слишком ужасно, чтобы им можно было любоваться. Мы думали только о том, какой мыльный пузырь представляет земля, о вечном озере огня и серы и о боге, которому мы молились о спасении. Среди нас нашлось немало благочестивых душ, давших своим пастырям обет уделить церкви не жалкую десятину, но пять десятых своего имущества, если только господь дарует им жизнь!
О друзья мои! Господь спас нас! Но он дал нам почувствовать, что такое ад, который разверзнется в судный день, когда он громовым голосом воскликнет: «Велакахао! Железо горячо!» Подумайте об этом! Подумайте о горячем железе для грешников!
На третий день стало спокойнее; мой друг-проповедник и я поднялись на Мауна-Лоа и заглянули в страшный кратер Каилу. Мы увидели бездонную пучину огненного озера, которое ревело и плескалось, выбрасывая волны и пламенную пену на сотни футов, как фейерверк в вечер Четвертого июля, который вы видели. Мы задыхались, голова кружилась от огромных облаков дыма и серы, поднимавшихся вверх.
И говорю я вам: ни один богобоязненный человек не мог бы взглянуть на эту картину, не вспомнив библейской картины преисподней! Поверьте, люди, писавшие Новый завет, видели не больше нашего! Что касается меня, то я не отрывал глаз от страшной картины. Я стоял немой и трепещущий, и никогда еще не постигал я с такой ясностью величия и всемогущества бога — всех размеров его гнева и несказанных ужасов, которые ожидают нераскаявшихся грешников, не исповедавшихся и не примирившихся со своим творцом.[6]
Но, друзья мои, вы думаете, что наши проводники-туземцы, глубоко погрязшие в язычестве, были тронуты этой сценой? Нет! Рука дьявола крепко схватила их! Совершенно равнодушные, они помнили только о своем ужине, судачили о сырой рыбе и располагались на циновках для сна. Это были исчадия сатаны, нечувствительные к величию, красоте и ужасам дел господних. Вы, к которым я теперь обращаюсь, не язычники. Что такое язычник? Это человек, обнаруживающий тупое безразличие ко всем высоким понятиям и возвышенным чувствам. Если вы хотите привлечь его внимание, не просите его заглянуть в преисподнюю! Нет, вы подарите ему горшок пои, сырую рыбу или пригласите его участвовать в низком чувственном удовольствии. О дети мои, насколько глухи они ко всему, что возвышает бессмертную душу! Мы с проповедником скорбели о них, когда глядели в преисподнюю. О друзья мои! Это был ад, тот самый ад, о котором говорится в писании, ад вечной муки для недостойных!
Элис Акана находилась в экстазе страха, близком к истерике.
— О господи! — бессвязно бормотала она. — Я отдам девять десятых моего имущества! Я отдам все! Я отдам даже два куска сукна пинья, оранжевое пальто и всю дюжину шелковых чулок!
Когда она успокоилась настолько, что могла опять слушать, Эйбл А-Йо приступил к своему знаменитому определению вечности.
— Вечность — великий срок, друзья мои! Бог живет, и, стало быть, он живет в вечности! Бог очень древен! Огонь преисподней столь же древен и столь же вечен, как бог. Иначе как могла бы существовать вечная пытка для грешников, ввергаемых господом в преисподнюю в день страшного суда, чтобы гореть там во веки веков? О друзья мои, ваш ум слаб, слишком слаб, чтобы понять вечность. Но мне по милости божьей дано внушить вам представление о крохотной частице вечности!
На взморье Вайкики песка столько же, сколько звезд на небе, и даже больше; никто не может сосчитать песчинок. Если бы человеку дано было прожить миллион лет, чтобы сосчитать эти песчинки, он потребовал бы себе отсрочку. Теперь представим себе маленькую птичку со сломанным крылом, которая поэтому не может летать. Представим себе, что в Вайкики эта птичка, лишенная возможности летать, берет песчинку в клюв и прыгает весь день и в течение многих лет продвигается к Пирл-Харбор, где и бросает эту песчинку в воду. Потом она прыгает опять целый день, и этак в течение многих дней назад, в Вайкики, за другой песчинкой. Опять она скачет всю дорогу обратно, к Пирл-Харбор. Представьте себе, что она это проделывает в течение целых годов, и столетий, и тысяч столетий, пока наконец в Вайкики не останется ни одной песчинки, а Пирл-Харбор не окажется засыпанной доверху и не превратится в сушу, на которой растут красивые деревья и ананасы. И тогда, о друзья мои, — даже тогда! — в преисподней не начнется еще восхода солнца!
Элис Акана не выдержала столь неудержимого натиска, столь простого и убедительного образа вечности. Она встала, зашаталась и пала на колени у покаянной трибуны. Эйбл А-Йо еще не кончил своей проповеди, но он знал психологию толпы. Он пригласил свою паству запеть псалом и начал протискиваться между неграми, во всю мочь оравшими «аллилуйя», к Элис Акана. И прежде чем возбуждение улеглось, девять десятых его паствы и все вновь обращенные уже стояли на коленях и с громкими воплями и мольбами исповедовались во всех своих бесчисленных грехах и проступках!
Почти одновременно по телефону дали знать и в Тихоокеанский клуб и в Университетский клуб, что Элис наконец исповедует душу в публичном собрании; и в первый раз за все время проповеднической деятельности Эйбла А-Йо его храм наполнился массой публики, приехавшей на собственных машинах и в таксомоторах. Прибывшие первыми созерцали любопытное зрелище: гавайцы, китайцы и другие представители разношерстных рас плавильного тигля Гавайев крались вон, спеша улизнуть из молельни Эйбла А-Йо. Но удирали большей частью мужчины; женщины остались, жадно прислушиваясь к исповеди Элис.
Никогда еще на всем Тихом океане, на севере и на юге, не бывало такой изумительной исповеди, как публичное покаяние Элис Акана, кающейся Фрины[7] Гонолулу!
— Ха! — услышали первые из прибывших, когда она очистила свою душу от главной массы мелких грехов, своих и чужих. — Вы думаете, что Стефен Макекау — сын Моисея Макекау и Минни А-Линг? Вы думаете, он имеет законное право на двести восемь долларов, которые каждый год получает от компании Парк-Ричардс за аренду рыбного пруда, сданного Биллу Конгу в Амане? Как бы не так! Стефен Макекау — не сын Моисея! Он сын Аарона Кама и Тилли Наоне! Его еще грудным младенцем Аарон и Тилли подарили Моисею и Минни. Я это знаю! Моисей, Минни, Аарон и Тилли теперь в могиле. Но я знаю правду и могу доказать! Старая миссис Поэпоэ еще жива! Я присутствовала при рождении Стефена, и ночью, когда ему было два месяца, собственноручно отнесла его к Моисею и Минин, а старая миссис Поэпоэ несла фонарь. Эта тайна — один из моих грехов! Она отвращала меня от господа! Теперь я освободилась от нее. Молодой Арчи Макекау, который собирает долги по счетам Газовой Компании, а после обеда играет в бейсбол и пьет страшно много виски, должен получать эти двести восемь долларов первого числа каждого месяца от компании Парк-Ричардс. Он протранжирит эти деньги на водку и на фордовский автомобиль. Стефен — хороший человек, а Арчи — дурной человек. К тому же он лгун и отслужил два срока каторжных работ на рифах, а до этого находился в исправительном заведении. Но бог требует правды — и Арчи будет получать эти деньги, хотя они пойдут у него прахом.
Таким образом Элис перебирала воспоминания своей молодости и обильной событиями жизни. Женщины забыли, что они находятся в молельне, да и мужчины тоже, и на их лицах пылали разнообразные страсти, когда они впервые узнавали долгоскрываемые секреты своих дражайших половин.
— Завтра в конторах адвокатов будет давка! — пробормотал на ухо полковнику Стилтону Мак-Илуэйн, начальник сыскного отделения, добросовестно запоминавший сообщаемые кающейся грешницей факты.
Полковник Стилтон улыбнулся в ответ, хотя начальник сыщиков не мог не заметить насильственности этой улыбки.
— В Гонулулу есть банкир, — продолжала Элис. — Вы все знаете, как его зовут. Он пошел в гору и попал в важные господа по милости своей жены. Ему принадлежит много акций Общих Плантаций и Междуостровной Компании…
Мак-Илуэйн узнал «портрет» и перестал хихикать.
— Его зовут полковником Стилтоном. В прошлый сочельник он пришел ко мне с великой алоха и отдал мне закладную на мою землю в долине Иапио на две тысячи долларов. Отчего это явилась у него ко мне такая большая алоха? Я вам расскажу…
И она действительно рассказала, бросив яркий, как от прожектора, свет на разные деловые и политические махинации, долго таившиеся под спудом.
— Этот грех давно на моей совести, — заключила Элис, — он отвращал мое сердце от господа! В ту пору Харолд Майлс был президентом сената; спустя неделю он купил три участка в Пирл-Харбор, заново покрасил свой дом в Гонолулу и заплатил все свои долги в клубах. Дом Рэмси в Гонолулу был завещан народу, в случае, если государство пожелает содержать его. Но если государство в течение двух лет не возьмет дома на свое содержание, он должен перейти к наследникам Рэмси, которых старый Рэмси смертельно ненавидел! Что ж, дом честь честью перешел к наследникам! Их адвокатом был Чарли Мидлтон, и он заставил меня помочь ему состряпать это дельце с членами правительства. Вот их имена… — Назвав шесть имен из обеих палат законодательного собрания, Элис прибавила: — Вероятно, после этого все они покрасили свои дома. Впервые признаюсь в этих делишках. На душе стало легче и светлее! Душа моя была до сих пор забаррикадирована от господа толстым слоем масляной краски. А Гарри Уэрзер! В то время он был членом сената. О нем рассказывали дурные вещи, и он не был переизбран. Но его дом остался без покраски. Он был честный человек. До сих пор его дом стоит некрашеным, и все это знают…
…А вот еще Джимми Локендампер. Злое у него сердце! Всего лишь неделя прошла, как он перед всеми вами исповедал душу. Не всю душу обнажил он, солгал своему господу! А я не лгу господу; разговор у меня будет долгий, но я расскажу все! Вон там, направо, сидит Азалеа Акау. Венчанная же его жена — Лиззи Локендампер. Много лет тому назад он питал к Азалеа великую алоха. Вы думаете, что действительно ее дядя, уехавший в Калифорнию и там скончавшийся, оставил ей по завещанию две тысячи пятьсот долларов, которые она получила? Не дядя сделал это, я знаю! Дядя ее умер нищим в Калифорнии, и Джимми Локендампер послал в Калифорнию восемьдесят долларов похоронить старика. У Джимми Локендампера был клочок земли в Кохала, который он получил от тетки своей матери. Его венчанная жена Лиззи не знает этого. Он продал этот участок Кохальской водопроводной компании и дал две с половиной тысячи долларов Азалеа Акау…
Лиззи, венчанная жена, встала, как разъяренная фурия, и вместо своего супруга, который успел убежать, вцепилась зубами и когтями в Азалеа.
— Постой, Лиззи Локендампер! — воскликнула Элис. — У меня на сердце греховное бремя по твоей милости. Да и масляной краски немало!.. — И когда она кончила рассказывать, как Лиззи красила свой дом, с места вскочила в безумной ярости Азалеа.
— Постой, Азалеа Акау! Теперь я хочу облегчить свою душу на твой счет, и тут не масляной краской пахнет! За покраску всегда платил Джимми. Дело касается твоей новой ванны и усовершенствованного водопровода, которые тяготят мою душу…
Много, много пришлось Элис Акана рассказать о своих ближних! Она вторгалась в деловые и финансовые сферы, в жизнь знати и плебса. Никому не удалось увернуться от нее, как бы высоко или низко на общественной лестнице он ни стоял. И только в два часа утра перед зачарованной аудиторией, битком набившей молельню до самых дверей, она закончила свое повествование о темных делишках, свершавшихся в общине, с которой она так интимно срослась. И, уже кончая, опять что-то вспомнила.
— Ха! — фыркнула она. — На прошлой неделе я отдала Эйблу А-Йо на покрытие текущих расходов и на пополнение бухгалтерской книги святого Петра в небесах участок, стоящий восемьсот долларов. Где же я взяла этот участок? Все вы считаете мистера Флеминга порядочным человеком. А между тем душа его более крива и уклончива, чем был вход в Пирл-Харбор перед тем, как правительство Соединенных Штатов выпрямило канал! У него сейчас болит печень, но его болезнь — кара божья, и он умрет скрюченным. Этот участок дал мне Флеминг двадцать два года тому назад, когда рыночная цена участка равнялась тридцати пяти долларам. Вы думаете, он дал его потому, что его алоха ко мне была велика? Нет! Никогда у него в душе не было никакой алоха, разве что к долларам!
…Теперь слушайте. Великий грех возложил на меня Флеминг! Когда Франк Ломилоли находился в моем доме пьяный, причем за водку мне авансом заплатил ровно впятеро мистер Флеминг, я убедила Франка Ломилоли подписать бумагу, согласно которой он уступал свой городской участок за сто долларов. В ту пору этот участок стоил шестьсот долларов, а сейчас ему цена двадцать тысяч. Может быть, вы хотите знать, где находится этот участок? Я скажу вам это и сниму бремя со своей души! Он находится на Королевской улице, где теперь помещается кабачок «Милости просим», гараж Японской Таксомоторной Компании, магазин водопроводных принадлежностей Смита и Уилсона и кондитерская «Амброзия», а двумя этажами выше расположены меблированные комнаты Эдисона. Все эти постройки из дерева, и всегда их хорошо красили. Вчера их опять начали красить. Но я не позволю этой краске стать между мной и господом! Между мной и дорогой на небо не будет больше горшков с краской!..
На следующий день все утренние и вечерние газеты бессовестно молчали об этом величайшем за последние годы скандале; население же Гонолулу наполовину хихикало, наполовину трепетало от ужаса, по мере того как распространялись шепотком рассказы, не всегда преувеличенные и слышавшиеся повсюду, где только встречались двое жителей Гонолулу.
— Наша ошибка, — говорил полковник Стилтон в клубе, — заключалась в том, что мы с самого начала не назначили комитета безопасности, который бы следил за душой Элис!
Боб Кристи, один из молодых островитян, залился смехом, таким ядовитым и громким, что от него тотчас же потребовали объяснений.
— О, ничего особенного! — ответил он. — Но на пути сюда я слышал, что старого Джона Уорда только что заперли в каталажку за пьянство, безобразное поведение и за сопротивление полиции. Вы знаете, Эйбл А-Йо постоянно околачивается в полицейских участках. Ничего он так не любит, как спасти грешную душу какого-нибудь пьяницы.
Полковник Стилтон посмотрел на Лэска Финнестона, и оба посмотрели на Гарри Уилкинсона. Он ответил им таким же взглядом.
— Старый забулдыга! — воскликнул Лэск Финнестон. — Нечестивый пропойца! Я и забыл, что он еще жив! Изумительные способности! Никогда он не бывал трезвым, разве что во время кораблекрушения, и, насколько помню, всегда был готов пуститься во все тяжкие. А ему, наверное, под восемьдесят!
— Около этого, — подтвердил Боб Кристи. — Он все еще всюду шатается, пьет, когда есть деньги, и всегда бодр, хотя не так уж силен физически и для чтения пользуется очками. Память у него изумительная. Если Эйбл А-Йо подцепит его…
Гарри Уилкинсон крякнул, приготовляясь к речи.
— Вот замечательный старик! — начал он. — Какой-то забытый осколок прошлых веков! Мало теперь людей этого типа! Он пионер. Он настоящий «камааина». И в таком преклонном возрасте беспомощно бьется в лапах полиции. Мы должны что-нибудь сделать для него в признание его тяжких трудов на Гавайях! Случайно мне стало известно, что его родина в порту Сэг. Он не видал родных мест свыше полувека! Устроим ему назавтра сюрприз: заплатим за него штраф, презентуем ему билет в порт Сэг и оплатим расходы, скажем, на годичную поездку. Я составлю комитет. Назначаю полковника Стилтона, Лэска Финнестона и себя! Что касается председателя, то кто же годится для этого больше Лэска Финнестона, который так хорошо знал Уорда в старину? Итак, возражений нет? Я назначаю Лэска Финнестона председателем комитета по сбору денег на уплату полицейского штрафа и покрытие расходов для годичного путешествия благородного пионера Джона Уорда в признание его энергии и трудов по строительству Гавайев.
Возражений не последовало.
— Комитет открывает секретное заседание! — возгласил Лэск Финнестон, встав и направляясь к дверям библиотеки.
Глен Эллен, Калифорния, 30 августа 1916 года.
Берцовые кости
«Они сошли в преисподнюю с воинскими доспехами и положили мечи свои под голову».
— Очень было грустно видеть обращение старухи! — Принц Акули бросил боязливый взгляд в сторону дерева кукуи, под сенью которого только что уселась с работой старая вахине. — Да, — продолжал он, почти уныло кивнув мне, — в последние годы Хивилани вернулась к старым обычаям и старым верованиям, разумеется, тайно; и, верьте мне, она была настоящим коллекционером! Вы посмотрели бы ее коллекцию костей! Они у нее стояли по всей комнате в огромных сосудах; это были кости почти всех ее родственников, не считая какого-нибудь полудесятка, который Капау выхватил у нее из-под носа, первым добравшись до них. Страшно было слушать их ссоры из-за костей! У меня мурашки бегали по спине, когда я мальчиком заходил в ее огромную комнату, где царил вечный полумрак; ведь я знал хорошо, что вот в этом сосуде находится все, что осталось от моей внучатой тетки с материнской стороны, а вот в этом кувшине — мой прадед, что во всех этих сосудах хранятся останки моих предков, семя которых прошло века и воплотилось во мне, живом, полном дыхания существе! Хивилани в конце концов превратилась в подлинную туземку и спала на циновке на твердом полу: она изгнала из своей спальни огромную великолепную кровать под балдахином, подаренную ее бабушке лордом Байроном, кузеном автора «Дон Жуана», прибывшим сюда на фрегате «Блонд» в 1826 году.
Она вернулась ко всем туземным обычаям; я видел, как она откусывала кусок от сырой рыбы перед тем, как бросить ее своим слугам, она давала им доедать свою пои, вообще все, что не могла сама доесть…
Принц Акули вдруг оборвал повествование, и по тому, как расширились его ноздри и как изменилось выражение его подвижных черт, я понял, что он почуял что-то в воздухе и определяет запах, оскорбивший его.
— Чтоб его черт побрал! — крикнул он мне. — Вонь до небес! И мне придется держать его на себе, пока нас не выручат!
Насчет предмета его отвращения не могло быть ошибки: старая ведьма плела превосходнейший леи (венок) из плодов хала. Она разрезала многочисленные доли ореховидной оболочки плода на колокольчатые части, которые нанизывала на тугую крученую заболонь дерева хау. Без сомнения, запах стоял до небес, но мне, малахини, этот винный и пряный запах плода не был неприятен.
Дело в том, что лимузин принца Акули сломался на расстоянии четверти мили отсюда, и нам пришлось искать приюта от солнца в этом горном жилье — настоящей беседке. Хижина была убогая, под соломенной кровлей, но зато стояла среди редких бегоний, распустивших свои нежные цветы футах в двадцати над нашей головою; бегонии походили на деревья: стебли у них были, как ствол ивы, толщиной в человеческую руку. Здесь мы освежились кокосами и послали ковбоя за несколько миль на ближайшую телефонную станцию вызвать из города машину. Нам даже виден был этот город — Олокона, столица Лаканайи, рисовавшийся за полями сахарного тростника дымкой на береговой линии, окаймленной венцом пены у рифов и голубой дымкой океана на горизонте, где остров Оаху мерцал тусклым опалом.
Мауи — Долина Гавайев, а Кауаи — Садовый остров; но Каканайи, лежащий рядом с Оаху, и в прошлом, и ныне, и присно считается Жемчужным островом этой группы. Это не самый крупный, но и не самый мелкий остров; все согласны с тем, что Лаканайи — самый дикий, и самый прекрасный в своей дикости, и самый благородный из всех островов. Он дает лучшие урожаи сахара, прекрасный жирный горный скот. Дожди на нем падают в изобилии, не причиняя, однако, вреда. На Кауаи он похож тем, что это остров первозданный и потому древнейший; его лава имела достаточно времени превратиться в богатейший чернозем, а ущелья между древними кратерами размылись до того, что стали похожи на большие каньоны реки Колорадо с бесчисленными водопадами, низвергающимися с высоты в тысячи футов; они рассыпаются пеленой пара и исчезают на полпути, спускаясь миражами радуги, как роса или частый дождик, падающий над пропастью.
Впрочем, Лаканайи легко описать. Но как описать принца Акули? Чтобы узнать его, нужно изучить всю подноготную Лаканайи. А кроме того, в совершенстве узнать и остальную часть земного шара. Во-первых, принц Акули не имел ни признанного, ни законного права именоваться «принцем». Во-вторых, «Акули» — значит каракатица; так что «Принц Каракатица» — едва ли достойный титул для прямого потомка древнейших и самых высоких алии Гавайев: род древний и исключительный, в котором, по обычаю египетских фараонов, братья и сестры вынуждены были сочетаться браком по той причине, что не могли вступать в родственные отношения ни с кем ниже себя по рангу,
— во всем известном им мире не было равного или более высокого рода, а династия, во всяком случае, должна была продолжаться.
Я слышал певцов принца Акули (он их унаследовал от своего отца), которые рассказывали нескончаемые родословные, доказывавшие, что он — знатнейший алии во всем мире! Начиная с Вакеа (их Адам) и Папа (их Ева), они проследили генеалогию через столько поколений, сколько букв в алфавите, до Нанакаоко, первого предка, родившегося на Гавайях, жену которого звали Кахихиокалани. Еще раньше, сохраняя свой ранг, их род откололся от рода Аа, основателя двух королевских линий: Кауаи и Оахау.
В одиннадцатом веке нашей эры, по свидетельству историков Лаканайи, в ту пору, когда братья женились на сестрах за неимением достойных супруг, их род получил примесь новой крови от рода, восходившего чуть ли не до неба. Некий Хоикемаха приплыл с острова Самоа на огромной двойной каноэ. Он женился на одной лаканайской алии и, когда его три сына выросли, отправился с ними на Самоа, чтобы привезти своего младшего брата. Но привез он Куми, сына Туи Мануа, род которого считался высочайшим во всей Полинезии и только на одну ступень был ниже богов и полубогов. Таким образом драгоценное семя Куми за восемь столетий до этого вошло в кровь лаканайских алии и через них по прямой линии воплотилось в принце Акули!
Его я впервые встретил в офицерской столовой Черной гвардии[8] в Южной Африке; говорил он с оксфордским акцентом. Это случилось как раз перед тем, как знаменитый полк был изрублен в кашу при Маггерсфонтейне. Принц Акули имел такое же право на эту столовую, как и на свой акцент, ибо воспитывался в Оксфорде и находился на королевской военной службе. С ним в качестве его гостя, приехавшего «посмотреть войну», был принц Купидон. Это было его прозвище, но он настоящий принц всех Гавайев, включая и Лаканайи, а подлинный и законный титул его — Принц Иона Кухио Каланианаоле. Он стал бы королем Гавайев, если бы не произошла «революция хаоле» — аннексия. То обстоятельство, что родословная принца Купидона была ниже принца Акули, происходившего от неба, не имело значения, ибо принц Акули мог бы быть королем Лаканайи и всех Гавайев, если бы его деда в прах не расколотил первый и величайший из всех Камехамеха.
Это событие произошло в 1810 году, когда процветала торговля сандаловым деревом. Тогда же смирился король Кауаи и подчинился Камехамехе. Дед принца Акули получил свою трепку и успокоился, ибо он был человек старой школы и не умел утверждать островной власти языком пороха и артиллеристов хаоле. Камехамеха, более дальновидный, уже брал к себе на службу хаоле, в том числе таких людей, как Айзек Дэвис, штурман и единственный оставшийся в живых из перебитого экипажа шхуны «Прекрасная Американка», и Джон Юнг, пленный боцман шхуны «Элинор». Айзек Дэвис с Джоном Юнгом и другими авантюристами при помощи шестифутовых медных каронад[9] с захваченных «Ифигении» и «Прекрасной Американки» уничтожили военные каноэ и привели в смятение сухопутных бойцов короля Лаканайи и в награду получили от Камехамехи согласно условию, Айзек Дэвис — шестьсот зрелых, жирных свиней, а Джон Юнг — пятьсот таких же парнокопытных.
Итак, в результате всех этих бурных страстей, падения первобытных культур, кровожадных убийств, яростных сражений и браков с младшими братьями полубогов появился лощеный, с оксфордским акцентом, современный до кончика ногтей принц Акули, принц Каракатица, чистокровный полинезиец, живой мост через тысячу веков, мой товарищ, приятель и спутник по сломавшемуся лимузину ценой в семь тысяч долларов, застрявший вместе со мной в раю бегоний на высоте полутора тысяч футов над уровнем моря и столицы его острова Олоконы. От скуки он стал рассказывать мне о своей матери, которая на старости лет вернулась к древней религии и древнему идолопоклонству, занялась коллекционированием и окружила себя костями тех, кто был ее предками во тьме веков.
— Мании коллекционирования положил начало король Калакауа на острове Оаху, — говорил принц Акули. — А его жена, королева Капиолани, заразилась от него этой страстью. Они собирали все решительно. Старые циновки макалоа, старые тапа, старые тыквенные бутылки, древние двойные каноэ и идолов, которых жрецам удалось спасти от всеобщего истребления в 1819 году[10]. Я давно не видал рыболовных крючков из перламутра, но могу поклясться, что Калакауа набрал их несколько тысяч, не говоря уже о крючках из человеческих челюстей, о плащах из перьев, о шлемах, каменных шильях и пестах для толчения пои. Когда он и Капиолани как короли объезжали острова, жителям приходилось прятать свои личные реликвии. Королю в теории принадлежит все имущество подданных; а у Калакауа, когда дело касалось старинных вещей, теория превращалась в практику.
От них мой отец Канау заразился страстью к коллекционированию, заразилась и Хивилани. Но отец был человек современный. Он не верил ни в богов, ни в кахуна (жрецов), ни в миссионеров. Он не признавал ничего, кроме сахарных акций и породистых коней, и считал своего деда дураком за то, что тот не догадался набрать коллекцию Айзеков Дэвисов, Джонов Юнгов и медных каронад перед тем, как начать борьбу с Камехамехой. Итак, он собирал редкости, как истый коллекционер; но мать относилась к этому делу серьезно. Вот почему она остановилась на костях. Помню также: был у нее безобразный древний каменный идол, перед которым она с воем ползала по полу. Теперь он находится в музее. Я отправил его туда после ее смерти, а ее коллекцию костей — в Королевский Мавзолей в Олоконе.
Не знаю, помните ли вы, что отцом ее был Кааукуу. Это был гигант. Когда построили Мавзолей, его кости, прекрасно сохранившиеся и чистые, были взяты из тайника и перенесены в Мавзолей. У Хивилани был старый слуга Ахуна. Однажды ночью она украла у Канау ключи и заставила Ахуну выкрасть кости ее отца из Мавзолея. Я это знаю наверное. Он, без сомнения, был гигант! Она хранила его кости в одном из больших сосудов. Однажды, когда я был уже довольно большим мальчиком и горел любопытством узнать, действительно ли Кааукуу был так огромен, как рассказывали легенды, я вытащил из сосуда его нижнюю челюсть я примерил на себе. Я вдел в челюсть свою голову, и она окружила мою шею и плечи, как хомут! Все зубы сохранились в челюсти, белые, как фарфор, без единой дырочки, с нисколько не потемневшей и не потрескавшейся эмалью! За это святотатство мне задали хорошую порку, хотя матери пришлось призвать на помощь старого Ахуну. Но инцидент пошел мне на пользу. Он дал матери уверенность, что я не боюсь мертвецов, и обеспечил мне курс в Оксфорде. Вы это узнаете, если автомобиль задержится.
Старый Ахуна был подлинно старозаветный слуга, верный и преданный, как раб. Он больше мог порассказать о предках моей матери и отца, чем оба они вместе. И он знал то, чего не знал ни один живой человек: вековое кладбище, где спрятаны были кости большей части предков матери и предков Канау! Канау никак не мог выудить этого секрета у старика, который видел в Канау вероотступника.
Долгие годы Хивилани боролась со старым лукавцем Ахуной. Как ей наконец удалось настоять на своем, мне неизвестно. Разумеется, она была верна своей вере. Это могло способствовать тому, что Ахуна немножко размяк. А может быть, она его запугала; она знала немало древних заклятий и умела издавать звуки, показывавшие ее близкое знакомство с Ули — самым главным богом колдунов Гавайев. Она могла перещеголять любого обыкновенного кахуна-лапаау (знахаря) на молитве Лонопуха и Колеамоку; толковала сны и видения, предзнаменования и болезни желудка; выводила на чистую воду жрецов лекарского бога Майола; заводила такие причитания пуле-хее, что у тех голова начинала кружиться; и утверждала, что знает кахуна хоэнохо — современный спиритизм! Я сам видел, как она «пила ветер», «наводила порчу» и прорицала. Она была в самых коротких отношениях с аумакуа, которым приносила жертвы на алтарях разрушенных хеиау, бормоча при этом молитвы, столь же жуткие, сколь и непонятные для меня. А старого Ахуну она заставляла бросаться на пол, завывать и кусать самого себя!..
Впрочем, я убежден, что она получила над ним власть благодаря так называемой анаана. Ножницами для маникюра она отрезала прядь его волос. Мы называем это мауну, что означает — наживка. И она дала ему понять, что этот клок волос у нее. Она намекнула старику, что зарыла волосы в землю и каждую ночь приносит жертвы и заклинает Ули.
— Это и есть замаливать до смерти? — спросил я принца Акули, воспользовавшись минутой, когда он закуривал папиросу.
— Вот именно! — кивнул он. — И Ахуна не устоял. Сперва он пытался найти место, где были спрятаны его волосы. Не успев в этом, он нанял для того же знахаря пахиухну. Но Хивилани пригрозила знахарю сделать над ним апо-лео — это способ лишить человека речи, не причиняя ему другого вреда.
Ахуна зачах и с каждым днем все более становился похож на покойника. В отчаянии он обратился к Канау. Случайно я при этом присутствовал. Вы уже слышали, что за человек был мой отец.
— Свинья! — говорил он Ахуне. — Свиные мозги! Вонючая рыба! Умирай, и пусть это кончится. Ты дурак! Все это вздор! Ровно ничего страшного! Пьяный хаоле Говард может доказать, что миссионеры неправы. Джин доказывает, что Говард неправ. Доктора говорят, что он не проживет и шести месяцев. Даже джин лжет! Жизнь также лжет. Пришли тяжелые времена, цены на сахар упали. Среди моих племенных кобыл падеж! Как бы я хотел заснуть лет на сто и, проснувшись, узнать, что цена на сахар поднялась вдвое.
Отец был философ; у него был желчный ум и манера выбрасывать отрывистые афоризмы. Он хлопнул в ладоши. «Принеси большой стакан! — скомандовал он. — Нет, принеси два стакана!» Потом повернулся к Ахуне. «Ступай и подыхай, старый язычник, исчадие тьмы, язва преисподней! Но не умирай в нашем доме! Я хочу веселья и смеха, сладкого щекотания музыки и красоты молодых движений, а не карканья больных жаб и пучеглазых покойников, еще держащихся на своих дрожащих ногах! Я сам стану таким, если буду долго жить! И всегда буду жалеть, если проживу долго! За каким чертом я вложил последние две тысячи долларов в плантации Кертиса! Говард предупреждал меня, что цены упадут, а я думал, что он врет спьяна. Кертис размозжил себе голову, его главный „луна“ бежал с его дочерью, химик сахарного завода заболел тифом, все пошло к черту!»
Отец захлопал в ладоши, вызывая слуг, и скомандовал: «Приведите певцов! И танцовщиц хула, да побольше! И пошлите за старым Говардом. Кому-нибудь надо же расплачиваться, и я хочу сократить на месяц оставшиеся ему полгода жизни. Но главное — музыка! Пусть будет музыка! Она крепче хмеля и быстрей опиума!»
О, эта врачующая музыка! Его отца, старого дикаря, однажды угощали на борту французского фрегата, и там он в первый раз в жизни услышал оркестр. Когда маленький концерт кончился, капитан спросил любезно гостя, что ему понравилось больше всего. Деду пришлось «описать» эту музыку, и как вы думаете, что ему понравилось?
Я отказался угадывать; принц закурил новую папироску.
— Разумеется, первое, но не музыкальное произведение, а настраивание инструментов.
Я кивнул, изобразив в глазах и на лице улыбку, а принц Акули, снова бросив опасливый взгляд на старую вахине и на ее халалеи, который она успела наполовину сплести, вернулся к повествованию о костях своих предков.
— Так вот, в этой стадии игры старый Ахуна уступил Хивилани. Нельзя сказать, чтобы он окончательно сдался. Но он пошел на компромисс. Если он доставит ей кости ее деда (отца Кааукуу, бывшего, по преданиям, еще рослее своего сына-гиганта), она вернет Ахуне его прядь волос, при помощи которой начала «замаливать его до смерти». Ахуна, со своей стороны, поставил условием, что его не заставят выдать тайну всего кладбища с прахом всех лаканайских алии до седой древности. Но так как он был слишком дряхл, чтобы в одиночку пуститься в столь рискованную экспедицию, то ему должен был помочь кто-нибудь, кому поневоле пришлось бы узнать тайну. И выбор пал на меня! Я был самый высокий алии после моих отца и матери, и они были отнюдь не выше меня рангом!
Так я появился на сцене; меня вызвали в сумрачную комнату, где я застал двух старых людей, якшавшихся с мертвецами. Замечательная была парочка: мать — растолстевшая до безобразия, и Ахуна — тощий, как скелет. Мать производила впечатление, что если положить ее на спину, то она не сможет повернуться без помощи блоков и веревок; Ахуна же наводил на мысль, что если эту зубочистку ткнуть, то она расколется на тонкие щепочки.
Когда они объяснили мне, в чем дело, пришла новая пиликиа (беда). Отец заразил меня своим неверием. Я отказался отправиться на похищение костей! Я заявил, что мне плевать на кости всех алии моего рода! Видите ли, я незадолго перед тем открыл Жюля Верна, которого мне дал старый Говард, и зачитывался им до одурения. Кости? На что мне кости, когда существуют северные полюсы, центры земли и хвостатые кометы, на которых можно путешествовать среди звезд! Разумеется, я не желаю отправляться ни в какую экспедицию за костями. Я сказал, что отец еще здоровый человек и может отправиться куда надо, поделив с матерью кости, какие добудет. Но мать ответила, что он только жалкий коллекционер, что-то в этом роде, лишь в более сильных выражениях.
«Я знаю его! — уверяла она меня. — Он готов прозакладывать кости родной матери на бегах или проиграть в карты».
Я стоял за отца, когда дело касалось современного скептицизма, и объявил матери, что все это вздор. «Кости? — сказал я. — Что такое кости? Даже у белых мышей, у крыс и у тараканов есть кости, хотя тараканы носят свои кости поверх мяса, а не внутри его. Разница между человеком и другими животными, — объяснил я матери, — не в костях, а в мозгах. Помилуй, у быков кости куда крупнее, чем у человека, и сколько я съел рыб, у которых куда больше костей! А за китом — так и всем не угнаться по части костей!»
Выражался я весьма откровенно: такова уж наша гавайская манера, если вы знаете. В ответ на это с такой же откровенностью мать пожалела, что не вышвырнула меня вон грудным младенцем, сейчас же после моего появления на свет. Потом стала оплакивать час моего рождения. Отсюда оставался только шаг до анаана — до того, чтобы проклясть меня. Она пригрозила мне этим, и тогда я совершил величайший подвиг мужества в своей жизни! Старый Говард подарил мне нож со множеством лезвий, со штопором, с отвертками и всякими штуками, включая маленькие ножницы. Я начал подстригать себе ногти.
— Вот! — сказал я, выложив ей на руку обрезки. — Смотри, что я думаю об этом! Вот тебе сколько угодно, иди и наводи на меня порчу анаана, если можешь!
Я сказал, что это был мужественный поступок. Несомненно так. Мне было всего пятнадцать лет, всю свою жизнь я провел в окружении таинственных предметов, тогда как мой скептицизм совсем недавнего происхождения покрывал меня весьма тонким слоем. Я мог быть скептиком на дворе, под лучами солнца. Но я боялся потемок. И в этой сумрачной комнате, с костями покойников, повсюду лежавшими в огромных сосудах, старуха пугала меня. Но я не сдавался, и моя бравада оказалась сильнее: мать бросила обрезки ногтей мне в лицо и залилась слезами. Слезы пожилой женщины, весящей триста двадцать фунтов, маловнушительны, и я закоснел в своей гордыне!
Тогда она переменила тактику и принялась беседовать с мертвецами. Мало того, она их вызывала в комнату! Я ничего не видел, Ахуна же умудрился заметить отца Кааукуу в углу комнаты, упал на пол и взвыл. Стало и мне казаться, что я почти видел старого исполина, только не мог как следует разглядеть его.
«Пусть он сам за себя говорит!» — сказал я. Но Хивилаии продолжала говорить за покойника и передала мне торжественное повеление отправиться с Ахуной на кладбище и привезти кости, нужные ей. На это я ответил, что если мертвецов можно убедить изводить живых людей изнурительными болезнями и если мертвецы могут переноситься из места своего погребения в угол комнаты, то я не понимаю, почему бы им, прощаясь с нами для возвращения в среднюю вселенную, верхнюю вселенную, нижнюю вселенную или вообще туда, где они живут, когда не ходят в гости, не оставить своих костей в комнате, где их так удобно положить в сосуды.
После этого мать взялась за бедного старика Ахуну. Она напустила на него дух отца Кааукуу, который будто бы прикорнул в углу и приказывал Ахуне открыть ей тайну кладбища. Я пытался ободрить Ахуну, советовал предложить покойнику самому открыть этот секрет: ведь он знает его лучше кого бы то ни было, раз живет там уже больше ста лет. Но Ахуна был человек старой школы. Скептицизма в нем не было ни на йоту! Чем больше стращала его Хивилани, тем больше катался он по полу и тем громче хныкал.
Но когда он начал кусать себя, я сдался. Мне стало жаль старика, да и залюбовался я им. Это был изумительно твердый человек, несмотря на всю духовную темноту! Обуянный страхом тайны, тяготевшей над ним, простодушно веря в заклинания Хивилани, он был раздираем внутренними противоречиями. Мать была его живая алии, его алии капо (священная предводительница). Он должен был хранить верность ей, но еще больше обязан был верностью всем мертвым и исчезнувшим алии, которые полагались на него, уповая, что он не даст потревожить их кости.
Я сдался. Но и я выставил свои условия! Отец мой, человек новой школы, не пускал меня в Англию учиться; падение цен на сахар было для него достаточной причиной. Моя мать, человек старой школы, также отказывала мне в этом: своей темной душой она мало ценила образование, но понимала, что образование ведет к неверию, к неуважению старины. А я хотел учиться, хотел изучать искусства, науки, философию, знать все, что знает старый Говард, все, что позволяло ему, стоя одной ногой в могиле, бесстрашно насмехаться над суевериями и давать мне читать Жюля Верна. Он в свое время учился в Оксфордском университете и заразил меня тягой к Оксфорду.
Кончилось тем, что Ахуна и я, старая школа и новая школа, заключили между собой союз и победили. Мать обещала заставить отца послать меня в Англию, хотя бы даже пришлось напоить его. Говард будет сопровождать меня, дабы я мог пристойно похоронить его в Англии. Чудак он был, этот старый Говард! Позвольте рассказать вам о нем маленький анекдот. Это было в ту пору, когда Калакауа отправился в свое кругосветное путешествие — помните, еще Армстронг, Джад и пьяный лакей немецкого барона сопровождали его. Калакауа предложил Говарду…
Но тут на принца Акули свалилась беда, которой он давно опасался. Старая вахине окончила свой халалеи! Босоногая, без всяких женских украшений, одетая в рубаху из полинялой бумазеи, с увядшим, старым лицом и изуродованными работою руками, она пала перед ним ниц и затянула в его честь меле, предварительно надев ему на шею леи. Правда, хала одуряюще пахла, но поступок старухи был прекрасен, и сама старуха показалась мне прекрасной — под свежим впечатлением рассказа я невольно представил себе, что она похожа на Ахуну.
О, действительно, быть алии на Гавайях, даже во вторую декаду двадцатого века, — вещь нелегкая! Алии при всей своей современности должен быть снисходителен и величественно внимателен к старым людям, целиком принадлежащим прошлому. И этот принц без королевства — его возлюбленный остров давно уже был аннексирован Соединенными Штатами, присоединен к их территории вместе с остальными Гавайскими островами, — этот принц ничем не выдал своего отвращения к запаху хала! Он наклонил голову, и его приветливые слова, произнесенные на чистом гавайском языке, без сомнения, остались в сердце старухи счастливым воспоминанием до конца ее дней. Гримаса, которую он украдкой сделал в мою сторону, не появилась бы на его лице, если бы оставалась хоть малейшая вероятность, что старуха заметит ее.
— Итак, — начал принц Акули после того, как вахине удалилась, — мы с Ахуной отправились на нашу авантюру. Вы слыхали о Железном Береге?
Я кивнул; мне очень хорошо знакома картина этих берегов, образованных застывшей лавой и как бы окованных железом; ни для высадки, ни для якоря там совершенно нет места; видны только страшные, отвесные стены утесов высотою в тысячи футов; вершины их уходят в облака и исчезают в дождевых шквалах, а основания омываются огромными волнами, разлетающимися мириадами брызг; и днем и ночью от облаков до моря здесь стоит пелена пара от скачущих водопадов и непрестанно играют лунные и солнечные радуги. Так называемые долины, а в действительности трещины прорезывают кое-где циклопические стены, открывая путь к безумно высоким и отвесно обрывистым плоскогорьям, почти недоступным ноге человека, и только дикие козы отваживаются туда забираться.
— Очень мало вы знаете о нем! — возразил принц Акули. — Вы видели этот берег с палубы парохода. А ведь там есть обитаемые долины, из которых нет выхода сушей! Туда можно проникнуть только в каноэ в определенные дни двух месяцев в году. Когда мне было лет двадцать восемь, я забрался однажды в одну такую долину охотиться. Налетевшее ненастье приковало нас там на три недели. Тогда пятеро из моей компании, и я в том числе, решили выбраться вплавь через буруны. Трое действительно добрались до каноэ, ожидавших нас. Двое других были отброшены на берег, каждый со сломанной рукой. А вся остальная компания осталась там до следующего года, выбравшись лишь через десять месяцев! В их числе был Уилсон. Он был помолвлен и собирался жениться.
Я видел однажды, как коза, подстреленная охотником с плоскогорья, упала у моих ног, слетев с высоты в тысячу ярдов! Поверите ли, в течение десяти минут с плоскогорья, казалось, сыпался дождь из коз и камней! Один из моих людей с каноэ сорвался с тропинки между двумя крохотными долинами Аипио и Луно. Он сперва ударился о камень, торчавший на полторы тысячи футов ниже нас, а затем отлетел на скалистый выступ еще футов на триста. Мы не хоронили его. Мы не могли до него добраться. Там и лежат его кости и, если не случится землетрясения или извержения вулкана, будут лежать до судного дня.
Бог мой! На днях только, когда наш комитет, конкурирующий с Гонолулу по части привлечения туристов, созвал инженеров выяснить, что стоило бы провести живописную дорогу по Железному Берегу, оказалось, что она обойдется никак не меньше четверти миллиона долларов за милю!
И вот мы с Ахуной, старик и мальчишка, отправились на этот негостеприимный берег в каноэ, в котором гребли старики! Самому молодому из них, рулевому, было за шестьдесят, остальным же никак не меньше семидесяти каждому. Их было восемь человек, и вышли мы в море в ночное время, так что никто не видал нашего отхода. И даже эти старики, пользовавшиеся доверием всю свою жизнь, знали тайну только краешком уха! И только до края этой тайны они могли довезти нас!
А на этом краю — теперь я могу вам сказать — лежала долина Понулоо. Мы добрались туда на третий день перед вечером. Дряхлые гребцы выбивались из сил. Потешная была экспедиция! В бурных волнах время от времени кто-нибудь из престарелых матросов лишался сил и падал без чувств! Один даже умер на второе утро! Мы похоронили его, выбросив за борт. Как страшны языческие церемонии, с которыми седые старцы хоронили своего собрата! А мне было всего пятнадцать лет; по крови и по языческому наследственному праву я был над ними алии капо, это я-то, начитавшийся Жюля Верна и собиравшийся вскоре уехать в Англию учиться! Отец мой был философом, который в собственной жизни прошел всю историю человека, от человеческих жертвоприношений и поклонения идолам до самого бесшабашного атеизма! Не удивительно, что и он, подобно древнему Экклезиасту, видел во всем суету, а отдых находил в сахарных акциях, певцах и танцовщицах хула!
Принц Акули умолк и задумался.
— Ну что же, — вздохнул он, — и я проделал длинный жизненный путь. — И он с отвращением втянул в себя запах халалеи, душивший его. — Смердит стариной! — засвидетельствовал он. — А я?.. Я воняю современностью! Отец мой был прав. Приятней всего — это когда цена на сахар поднимается на сто процентов или четыре туза выпадают в игре в покер. Если великая война продлится еще год, я наживу чистых три четверти миллиона на каждый миллион! Если завтра будет заключен мир и упадут цены, то я назову вам сотни людей, которые перестанут получать от меня пенсии и вернутся в старые туземные домишки, которые мы с отцом давно им подарили.
Принц хлопнул в ладоши, и старая вахине приплелась к нему со всей торопливой услужливостью, на какую была способна. Она раболепно простерлась перед ним, а он вытащил записную книжку и карандаш из внутреннего кармана.
— Каждый месяц, о старая женщина нашего древнего рода, — обратился он к ней, — ты будешь получать по сельской почте клочок писаной бумаги, который сможешь обменять у любого лавочника и в любом месте на десять долларов золотом. Это тебе на все время твоей жизни! Смотри! Вот я записываю это на память вот этим карандашом на этой бумаге. Это потому, что ты моего рода и моей службы. Потому, что в сей день ты почтила меня своими циновками и трижды благословенным и трижды восхитительным халалеи!
А ко мне он обратил усталый взор скептика, прибавив:
— А если я завтра умру, то адвокаты станут оспаривать не только мое завещание, но даже мои благодеяния и назначенные мною пенсии; они поставят даже под сомнение ясность моего рассудка!
Так вот то была подходящая пора года; но с нашими старцами на веслах мы не решились высадиться, пока не собрали на крутом берегу половины населения долины Понулоо. Затем мы сосчитали волны, выбрали наилучшую и доверились ей. Разумеется, каноэ опрокинуло, разнесло вдребезги, но собравшиеся на берегу извлекли нас на сушу невредимыми.
Ахуна стал распоряжаться. С наступлением ночи всем следует оставаться в своих домах, собаки должны быть привязаны и морды их обвязаны так, чтобы лая не было слышно! И вот в ночную пору мы с Ахуной отправились в экспедицию, и никто не знал, пошли ли мы вправо, влево или вверх по долине. Мы несли с собой вяленые ломтики мяса, твердую кашу пои и сушеный аку, и по количеству провизии я понял, что мы будем отсутствовать несколько дней. О, какая дорога! Подлинная лестница Иакова на небо, так как первая же пали почти отвесно ниспадала с высоты трех тысяч футов. И весь этот путь мы проделали впотьмах!
На вершине, абсолютно невидимые из долины, которую мы покинули, мы спали до рассвета на твердом камне во впадине, знакомой Ахуне. В ней было так тесно, что мы еле втиснулись. Старик, боясь, как бы я не стал ворочаться в беспокойном юношеском сне, лежал с наружной стороны, обхватив меня руками. На рассвете я понял почему: между мною и обрывом едва было три фута пространства! Я подполз к обрыву, заглянул вниз — и вид этой бездны в сером рассвете заставил меня содрогнуться! Еле-еле я разглядел море прямо под собой на расстоянии полумили. И на такую высь мы поднялись в темноте!
В следующей долине, совсем крохотной, мы нашли следы древнего поселения, но ни одной живой души. Путь был такой же, головокружительные тропки вверх и вниз по отвесным стенам долины, и так из долины в долину. Старый, изможденный Ахуна, казалось, таил в себе неисчерпаемые силы! Во второй долине жил в одиночестве старый прокаженный. Он не знал меня, и, когда Ахуна сказал ему, кто я такой, он стал пресмыкаться у моих ног, чуть не обнимая их и своим безгубым ртом бормоча меле в честь моего рода.
Следующая долина оказалась той, которая нам была нужна. Она была длинная и настолько узкая, что на дне ее негде было сажать таро даже для одного человека. Она не имела и берега, ибо поток, размывший в пали эту долину, низвергался водопадом с высоты нескольких сот футов. Это был голый пласт размытой лавы, на котором только кое-где могла укрепиться корнями горная растительность. Много миль прошли мы по этой извилистой трещине между отвесными стенами и забрались в горный хаос, лежащий далеко за Железным Берегом. На какое расстояние мы углубились в эту долину, я не знаю, но, судя по количеству воды в реке, очень далеко. Мы не добрались до конца долины. Я видел, что Ахуна окидывает взглядом встречающиеся вершины, и понял, что он определяет место одному ему известным способом. Когда мы наконец остановились, то это произошло для меня как-то вдруг, совершенно неожиданно. Очевидно, линии, которые он мысленно проводил, здесь скрещивались. Он сбросил часть провизии и снаряжение, которое нес на себе. Здесь было место, которое мы искали. Я оглядывался во все стороны на жесткие неумолимые стены, лишенные растительности, и не мог себе представить, какое возможно кладбище в этом твердом камне.
Мы поели, потом разделись для работы. Ахуна позволил мне оставить на себе только рубашку. Он стоял возле меня на краю глубокого пруда, тоже раздетый и страшно костлявый.
«Спустись в пруд в этом месте, — сказал он. — Спускаясь, ощупывай камень рукой, и на глубине десяти футов нащупаешь яму, пещеру. Войди в нее головою вперед, но войди медленно — края лавы остры и могут рассечь тебе голову и тело».
«А потом?» — спросил я. «Ты увидишь, что ход расширяется, — был ответ. — Когда пройдешь по этому коридору шестьдесят футов, потихоньку начни подниматься, и голова твоя выйдет из воды в темноте. Там жди меня! Вода очень холодная!»
Мне это не понравилось; я ожидал не холодной воды и не потемок, а костей. «Иди первым!» — сказал я. Старик стал уверять, что не может. «Ты алии, мой принц! — ответил он. — Нельзя, чтобы я вперед тебя вошел в священное хранилище костей твоих царственных предков!»
Но путешествие не улыбалось мне. «Брось эту болтовню о принце! — ответил я ему. — Это все вздор! Иди первым, я никому не расскажу об этом!» «Мы должны угождать не только живым вождям, — настаивал он, — но еще более того мертвецам. Мы не можем лгать усопшим!»
Мы начали спорить, и с полчаса дело стояло на мертвой точке. Я не хотел, а он не мог. Он попробовал наконец задеть мою гордость. Он стал воспевать геройские подвиги моих предков; особенно мне запомнилась песнь о Мокомоку, моем прадеде и гиганте — отце гиганта Кааукуу, в которой говорилось, что во время сражения Мокомоку трижды бросался на своих врагов, хватал рукой за шею по воину и стукал их головами, пока они не умирали. Но не это меня убедило. Мне просто стало жаль старого Ахуну. Он был положительно вне себя от страха, что экспедиция может сорваться! А я восхищался стариком, вспоминая, как он спал между мною и бездной, оберегая мою жизнь.
Итак, повелительным тоном, как настоящий алии, я промолвил: «Ты тотчас же последуешь за мной!» — и нырнул. Все, что он сказал, оказалось правдой. Я нашел вход в подземный коридор, осторожно проплыл его, порезав плечо об острый выступ лавы, и вынырнул в потемках из воды. Не успел я сосчитать и трех десятков, как он вынырнул рядом, положил на меня руку, чтобы удостовериться, я ли это, и приказал мне проплыть впереди его сотню футов. Тут мы нащупали дно и влезли на камни. А света все не было, и я, помню, радовался тому, что сюда не могут забраться многоножки!
Ахуна имел при себе нечто вроде бутылки из кокосового ореха, плотно закупоренной; в ней был китовый жир, вероятно, попавший на берег Лаканайи лет за тридцать до этого. Изо рта он вынул непромокаемую спичечную коробку, составленную из двух пустых ружейных патронов. Он зажег фитиль, плававший в масле. Я осмотрелся — и меня постигло разочарование. Это был не погребальный склеп, а просто труба из лавы, какие встречаются на всех здешних островах.
Сунув мне в руку светильник, Ахуна предложил идти вперед, предупредив, что путь будет длинный, но не очень. Путь оказался длиной по крайней мере в милю, по моим соображениям, а иногда мне казалось — миль в пять; дорога шла в гору. Когда наконец Ахуна остановил меня, я понял, что мы близки к цели. Он стал тощими коленями на остроконечные глыбы лавы и обхватил мои колени костлявыми руками. Свободную мою руку он положил себе на голову и принялся воспевать дрожащим, надтреснутым голосом всех моих предков и их высокие достоинства. Окончив, он промолвил:
«О том, что ты здесь увидишь, не рассказывай никому, ни Канау, ни Хивилани. В Канау нет ни калли святости. Душа его полна сахаром и конскими заводами. Я знаю, он продал плащ из перьев, который носил его дед, английскому коллекционеру за восемь тысяч долларов и на другой же день проиграл деньги на игре в поло между Мауи и Аахау. Хивилани, мать твоя, полна святости. В ней слишком много святости. Она стареет, слабеет головою и не в меру якшается с колдунами…»
«Хорошо, — ответил я. — Я никому не скажу. Если бы я рассказал, мне пришлось бы еще раз поехать сюда. А я не хочу повторять путешествие. Найду какую-нибудь другую прогулку. Этого я не стану больше проделывать!»
«Хорошо, — проговорил он и поднялся, отступив, чтобы я вошел первым. И прибавил: — Твоя мать стара; я, как обещал, принесу ей кости ее матери и ее деда. Довольно ей до самой смерти; если же я умру раньше ее, так ты позаботься, чтобы все кости ее семьи были помещены в Королевский Мавзолей».
Я осмотрел музеи на всех островах, — продолжал принц Акули, — и должен сказать, что все их коллекции, собранные вместе, не могут сравниться с тем, что я видел в погребальной пещере Лаканайи. Подумайте! У нас недаром самая высокая и древняя родословная на островах. Здесь было все, о чем я слыхал или мечтал, и многое, о чем я не имел представления. Пещера была изумительная! Ахуна бормотал молитвы и меле, расхаживал кругом, зажигал лампады с китовым жиром. Здесь лежали все наши гавайские предки от начала гавайских времен, связки костей, бережно завернутые в тапа; ну, точь-в-точь посылочное отделение почтовой конторы!
А какие предметы! Кахили от небольших кисточек, которыми отгоняют мух, до царственных регалий, огромных, как похоронные плюмажи, с ручками от полутора до пятнадцати футов длины. И какие ручки! Из дерева кауила, инкрустированные перламутром или слоновой костью с искусством, вымершим среди наших мастеров более ста лет назад! Это было королевское фамильное хранилище. Впервые я тут увидел вещи, о которых раньше только слыхал, как, например, пахоа, сделанные из китового уса, подвешиваемые за косички из человеческих волос и носимые на груди только самыми высокими вождями!
Сколько тут было тапа и циновок самых редких и древних сортов, плащей, леи, шлемов, совершенно бесценных, кроме совсем обветшавших, из перьев самых редкостных птиц — мамо, иви, акакапе, иоо! Один плащ из перьев мамо был лучше самого дорогого плаща в Египетском музее Гонолулу, а ведь те ценятся от полумиллиона до миллиона долларов. Я невольно подумал: «Какое счастье, что Канау ничего об этом не знает!»
Какая масса предметов! Резные тыквы и кубышки, скребки из раковин, сети из волокон олона, джонка из йе-йе, рыболовные крючки из всякого рода костей, ложки из раковин. Музыкальные инструменты давно забытых веков — укуке и носовые флейты — киокио, на которых играют ноздрей, заткнув другую. Табу — чаши для пои, для мытья пальцев, шилья божков-леворучек, резанные из лавы плошки, каменные ступки и песты. И тесла, целые груды их, от маленьких, в унцию весом, для тонкого ваяния идолов и до пятнадцатифунтовых для рубки деревьев, и все это с чудесными рукоятками.
Были тут каэкееке — эти наши древние барабаны: куски выдолбленного кокосового ствола, на одном конце обтянутые кожей акулы. Ахуна показал мне первый каэкееке на всех Гавайях и рассказал его историю. Невероятно древняя вещь! Он даже боялся прикасаться к ней, чтобы она не рассыпалась прахом; обрывки кожи еще висели на барабане.
«Это самый древний каэкееке, отец всех наших каэкееке! — говорил Ахуна. — Кила, сын Моикехи, привез его из далекой Райатеа на Южном океане. Сын Килы, Кохаи, приплыл оттуда же; его не было десять лет, и он привез с собой с Таити первые плоды хлебного дерева, которые пустили ростки и размножились на гавайской земле».
А кости, кости! Рядом с маленькими связками лежали целые скелеты, завернутые в тапа и положенные в каноэ для одного, двух и трех гребцов из драгоценного дерева коа с резными украшениями из дерева виливили. Возле безжизненных костей лежали воинские доспехи — старые, заржавленные пистолеты, пищали и пятиствольные пистоли, длинные кентукийские винтовки, мушкеты, которыми торговала еще Компания Гудзонова залива,* кинжалы из зубов акулы, деревянные кортики, стрелы и копья с деревянными наконечниками, обугленными на огне, что придает им железную твердость.
Ахуна сунул мне в руку копье с наконечником из заостренной, длинной берцовой кости человека и поведал историю копья. Предварительно, однако, он развернул длинные кости, плечевые кости и кости ног из двух связок; точь-в-точь вязанки хвороста! «Это, — объявил Ахуна, показывая содержимое одной из связок, — Лаулани; она была женой Акаико, кости которого (ты их держишь теперь в руке, они, заметь, много крупнее) были облечены плотью рослого семифутового мужчины, весившего триста фунтов триста лет тому назад. А этот наконечник копья сделан из берцовой кости Кеолы, могучего борца и скорохода своего времени. Он полюбил Лаулани, и она бежала с ним. И в давно забытой схватке на песках Калини Акаико прорвал фронт врага, схватил Кеолу, любовника своей жены, бросил его наземь и перепилил ему шею ножом из акульей челюсти. Встарь, как и всегда, мужчина бился с мужчиной из-за женщины. А Лаулани была прекрасна; подумай, Кеола из-за нее превратился в наконечник копья! Она сложена была, как богиня, тело ее было, как полная чаша восторгов, а пальцы, с раннего детства ломи (массированные), были крохотные и тонкие. Десять поколений помнили ее красоту! Певчие твоего отца и сейчас воспевают ее прелести в хула, названной по ее имени. Вот какова была Лаулани, которую ты держишь в своих руках!»
Ахуна смолк, а я, обуреваемый мыслями, все смотрел и смотрел на кости. Старый пьяница Говард давал мне читать Теннисона, и я часто уносился мечтой в «Королевские идиллии»[11]. «Вот, было таких же трое, — размышлял я, — Артур, Ланселот и Джиневра. И вот чем все это кончилось, вся жизнь, борьба, устремления и любовь! Усталые души давно погибших людей заклинают теперь толстые старухи и шелудивые колдуны, а кости их оценивают коллекционеры, проигрывают в карты и на конских скачках или продают за наличные деньги, помещают их в сахарные акции…»
Меня точно озарило. В этом погребальном склепе я получил великий урок. И я сказал Ахуне: «Копье с наконечником из берцовой кости Кеолы я возьму себе. Я его никогда не продам, оно всегда будет со мной».
«А для чего?» — спросил он. И я ответил: «Для того, чтобы созерцание его укрепляло меня в резвости рук и в твердости ног на земле; я буду знать, что мало кому на земле достается счастье оставить памятку о своем „я“ хотя бы в виде наконечника для копья через три столетия после кончины…»
И Ахуна, склонив голову, превознес мою мудрость. Но в этот момент давно сгнившая веревка из волокон олоны порвалась, скорбные кости Лаулани вырвались из моих рук и рассыпались по каменистому полу. Одна берцовая кость, отскочив, упала в тень лодочного носа, и я решил взять ее с собой. Я стал помогать Ахуне собирать и связывать кости, чтобы он не заметил похищенной мною.
«А вот, — говорил Ахуна, представляя меня другому моему предку, — твой прадед Мокомоку, отец Кааукуу. Смотри, какие огромные кости: он был великан! Я понесу его, ибо тебе трудно будет нести тяжелое копье Кеолы. А вот Лелемахоа, твоя бабушка, мать твоей матери; ее понесешь ты. День теперь короток, а мы должны проплыть под водой прежде, чем тьма сокроет солнце от мира».
Туша лампады погружением фитиля в масло, Ахуна не заметил, как я подложил берцовую кость Лаулани к костям моей бабушки.
Рев автомобиля, присланного наконец из Олоконы нам на выручку, прервал рассказ принца. Мы попрощались с древней вахине. Когда мы отъехали с полмили, принц Акули возобновил повествование.
— Итак, мы с Ахуной вернулись к Хивилани, и, к ее счастью, которое длилось до самой ее смерти, — а умерла она в следующем году — в сосудах ее сумеречной комнаты покоилось еще двое из ее предков. Она сдержала свое обещание и уговорила отца отправить меня в Англию. Я взял с собой старого Говарда; он воспрянул духом и опроверг докторов — только через три года я похоронил его в недрах семейного склепа! Иногда мне кажется, что это был самый умный человек, которого я когда-либо знал! Ахуна же умер только после моего возвращения из Англии, умер последним хранителем наших тайн алии. И на смертном одре снова взял с меня клятву: никогда не открывать места нахождения безымянной долины и никогда туда не возвращаться!
Я забыл вам рассказать о многом, что я видел в пещере в тот единственный раз. Там были кости Куми, почти полубога, сына Туи Тануа из Самоа, который взял жену из моего рода, чем приобщил мою родословную к небесам. Там же были и кости моей прабабушки, той, что спала на кровати, преподнесенной ей лордом Байроном. Ахуна намекнул на легенду, объяснявшую причины этого дара, а также упомянул об исторически удостоверенном факте продолжительной стоянки «Блонда» в Олоконе. И я держал в руках эти бедные кости, кости, некогда облаченные плотью красавицы, кипевшей умом и жизнью, горевшей любовью, обнимавшей любимого руками, ласкавшей его глазами и губами и зачавшей меня в глубине поколений. Это были прекрасные переживания! Правда, я человек современный. Я не верю ни в старинную дребедень, ни в кахуна. А все же в этой пещере я видел такие вещи, о которых не смею сказать вам и которые после смерти Ахуны знаю только я один! У меня нет детей. Со мной прекращается мой древний род. У нас теперь двадцатый век, и мы пахнем бензином.
все же эти невысказанные тайны умрут со мной! Я никогда не возвращусь в древний склеп. И в будущем ни один человеческий глаз не увидит его никогда до той минуты, когда землетрясения раздерут грудь земли и вышвырнут тайны, зарытые в сердце гор!
Принц Акули умолк. С явным облегчением он снял с шеи халалеи, фыркнул и, вздохнув, украдкой швырнул венок в кусты.
— Ну, а что же сталось с берцовой костью Лаулани? — тихонько спросил я.
Он молчал, пока мы не пролетели добрую милю лугов, сменившихся плантациями сахарного тростника.
— Она теперь у меня, — ответил он наконец. — И возле нее лежит Кеола, убитый прежде времени и превращенный в наконечник копья за любовь к женщине, кость которой покоится возле его кости. Этим бедным трогательным костям я обязан в жизни больше, чем всему остальному! Они попали в мои руки в период возмужания. Они совершенно изменили весь уклон моей жизни и направление моего ума! Они научили меня скромности и смирению, поколебать которые не удалось даже состоянию моего отца! Как часто, когда женщина готова была завладеть моей душой, я шел смотреть на берцовую кость Лаулани. И как часто, в минуты гордой самоуверенности, беседовал я с останками Кеолы на конце копья — Кеолы, быстрого бегуна, могучего борца и любовника, похитителя жены своего короля! Созерцание их всегда успокаивает меня, и могу даже сказать, что я построил на них свою веру и практику жизни!
Вайкики, Гонолулу, Гавайские острова, 16 июля 1916.
Дитя воды
Я лениво слушал бесконечные песни Кохокуму о подвигах и приключениях полубога Мауи, полинезийского Прометея, выудившего сушу из пучин океана прикрепленной к небу удочкой, поднявшего небо, под которым раньше люди ходили на четвереньках, не имея возможности выпрямиться, остановившего солнце с его шестнадцатью перепутанными ногами и заставившего его медленнее двигаться по небу; очевидно, солнце было членом профессионального союза и признавало шестичасовой рабочий день, тогда как Мауи стоял за открытый цех, за двенадцатичасовой рабочий день.
— А вот это, — говорил Кохокуму, — из семейной меле королевы Лилиукалани[12]:
Мауи расшевелился и стал сражаться с солнцем
При помощи силка, который он расставил.
И солнце было побеждено зимою,
А лето победил Мауи…
Будучи сам уроженцем Гавайских островов, я лучше знал местные мифы, чем этот старый рыбак, хотя и пользовался его памятью, дававшей ему возможность воспроизводить их часами без перерыва.
— И ты веришь в это? — спросил я на мягком гавайском языке.
— Это было очень, очень давно! — задумчиво ответил он. — Своими глазами я не видел Мауи. Но все наши старики с глубочайшей древности рассказывают нам об этом, как я, старик, рассказываю моим сыновьям и внукам, и так до скончания веков.
— И ты веришь, — настаивал я, — что фокусник Мауи заарканил солнце, как дикого быка, и поднял небо над землею?
— Я человек маленький и не мудрый, о Лакана, — ответил мне рыбак. — Но я читал библию, которую миссионеры перевели для нас по-гавайски, и там сказано, что ваш Великий Изначальный Муж создал землю, и солнце, и луну, и звезды, и всяких тварей от лошади до таракана, и от многоножки и москита до морской блохи и медузы, и мужчину и женщину — все решительно, и все это в шесть дней! Ну что ж, Мауи столько не сделал. Он не сотворил ничего. Он привел вещи в порядок, и только — и на это у него ушло много-много времени. Во всяком случае, легче и проще поверить в маленького фокусника, чем в большого фокусника!
Что мог я на это ответить? Это была сама логика! Кроме того, у меня болела голова. И ведь вот что любопытно, я должен признать: теория эволюции учит нас, что человек действительно бегал на четвереньках, прежде чем начал ходить на двух ногах; астрономия определенно утверждает, что скорость вращения земли по ее оси непременно уменьшается, и, стало быть, увеличивается долгота дня; а сейсмологи допускают, что все Гавайские острова были подняты со дна океана вулканическими силами!
К счастью, я увидел, что бамбуковый шест, плававший на поверхности моря в нескольких сотнях футов от нас, вдруг стал торчком и заплясал, как бешеный. Это отвлекло нас от бесполезных споров; мы с Кохокуму схватили весла и направили наше маленькое каноэ к танцующему шесту. Кохокуму поймал лесу, привязанную к концу шеста, и вытащил из воды двухфутовую рыбу укикики, отчаянно бившуюся и сверкавшую серебром на солнце; брошенная на дно лодки, она продолжала отбивать барабанную дробь. Кохокуму взял слизистую каракатицу, откусил зубами трепетный кусок наживки, нацепил его на крюк и бросил за борт лесу и грузило. Шест лег плашмя на воду, и палка медленно поплыла прочь. Оглядев десятка два таких шестов, расположенных полукругом, Кохокуму вытер руки о голые бедра и затянул скучную и древнюю, как сам мир, песнь о Куали:
О великий рыболовный крюк Мауи!
Манаи-и-ка-ланин («к небесам прикрепленный»)!
Витая из земли леса держит крючок,
Спущенный с высокой Кауики!
Его наживка — красноклювый Алаа,
Птица, посвященная Хиве.
Он погружается до Гавайев,
Трепеща и в муках умирая!
Поймана суша под водою,
И всплыла на поверхность,
Но Хина спрятала крыло птицы
И разбила сушу под водою!
Внизу наживка была сорвана,
И тотчас же сожрана рыбами
Улуа глубоких тинистых заводей!
Голос у Кохокуму хриплый и какой-то скрежещущий — накануне, на поминках, он слишком много выпил, и все это не могло смягчить моего раздражения. Голова болела, глаза с болью жмурились от ярких отблесков солнца; тошнило от пляски на волнующемся море. Воздух душный, застоявшийся. На подветренной стороне Ваихее, между белым взморьем и гребнем горы, ни малейшего ветерка, удушливый зной. Я так отвратительно чувствовал себя, что уже решил отказаться от ловли и направиться к берегу.
Лежа на спине и закрыв глаза, я потерял счет времени. Я даже забыл, что Кохокуму поет, пока он, умолкнув, не напомнил о себе. Раздавшееся восклицание заставило меня открыть глаза, несмотря на яркий блеск солнца. Старик смотрел в воду через водяную трубку.
— Огромный! — сказал он, передавая мне прибор и прыгая в воду.
Он погрузился без всплеска, не оставив даже ряби, перевернулся вниз головой и пошел на дно. Я следил за его движениями через водяную трубку, представлявшую на деле продолговатый ящик фута в два длиной, открытый на одном конце, а с другого конца заделанный куском обыкновенного стекла.
Кохокуму был скучный человек и выводил меня из терпения своей болтливостью; но я невольно залюбовался им теперь. Наверное, старше семидесяти лет, тощий, как копье, и сморщенный, как мумия, он проделывал то, чего не могли бы и не захотели проделать многие молодые атлеты моей расы! До дна было по крайней мере сорок футов. И на дне я увидел заинтересовавший его предмет, то прятавшийся, то высовывавшийся из-за глыбы коралла. Острый взгляд Кохокуму подметил выдававшиеся щупальца спрута. Когда он бросился в воду, щупальца лениво спрятались. Достаточно было мельком увидеть хоть одно из них, чтобы догадаться об огромных размерах чудовища.
Давление воды на глубине сорока футов не шутка даже для молодого человека, между тем оно, по-видимому, не причиняло ни малейшего неудобства этому старику. Я убежден, что он даже не замечал его! Ничем не вооруженный, совершенно голый, если не считать короткого мало — лоскута материи вокруг бедер, — он не смущался размерами чудовища, которое считал своей добычей. Я видел, как он ухватился правой рукой за выступ коралла, а левую руку до плеча сунул в пещеру. Прошло полминуты; он копался там и ощупывал что-то левой рукой. Покрытые мириадами присосок, показались из-под коралла щупальца. Ухватив его руку, они обвили ее, как змеи. Наконец, дернувшись, показался и спрут — настоящий дьявол-осьминог.
Между тем старик как будто не торопился вернуться в родную стихию, на воздух. На глубине сорока футов под водою, обернутый спрутом по крайней мере в девять футов ширины между кончиками щупальцев, он холодно и даже небрежно сделал единственное движение, отдававшее в его власть чудовище: он сунул худощавое, ястребиное лицо в центр слизистой, извивающейся массы и уцелевшими старыми клыками прокусил сердце чудовища. Сделав это, он стал подниматься вверх, медленно, как должен делать пловец, когда меняется давление при переходе из глубины на поверхность. Выплыв возле каноэ, не вылезая еще из воды и стряхивая с себя присосавшееся к нему чудовище, неисправимый греховодник затянул торжественное пуле, которое распевали бесчисленные поколения ловцов осьминогов:
О Каналоа запретных ночей!
Стань прямо на твердой земле!
Стань на дне, где лежит осьминог!
Стань и возьми осьминога из моря глубокого!
Поднимись, поднимись, о Каналоа!
Шевелись! Шевелись! Разбуди осьминога!
Разбуди лежащего плашмя осьминога! Разбуди
распростертого осьминога…
Я закрыл глаза и уши, не протянув ему даже руки, ибо совершенно был уверен, что он и без посторонней помощи взберется в нашу неустойчивую скорлупку, нисколько не рискуя опрокинуть ее.
— Замечательный спрут! — говорил он. — Это вахине (самка). А теперь я спою тебе песнь о ракушке каури, о красной ракушке каури, которой мы пользовались, как наживкой для спрутов…
— Ты возмутительно вел себя ночью на поминках! — отпарировал я. — Я все знаю! Ты здорово шумел! Ты так пел, что всех оглушил! Ты оскорбил сына вдовы. Ты пил, как свинья; нехорошо в твоем возрасте глотать целыми кружками; когда-нибудь ты проснешься мертвецом. Тебе пора быть развалиной…
— Ха! — хихикнул он. — А ты, который не пил и еще не родился, когда я уже был стариком, ты, улегшийся вчера с солнцем и курами, ты сейчас развалина! Вот объясни мне это! Мои уши так же жаждут услышать тебя, как моя глотка жаждала пива этой ночью. И вот, смотри, нынче я, как выразился англичанин, приехавший сюда на своей яхте, в наилучшем виде, в чертовски хорошем виде!
— Что с тобой спорить! — возразил я, пожав плечами. — Только одно ясно: ты даже черту не нужен! Молва о твоих безобразиях опередила тебя.
— Нет, — задумчиво ответил он, — не в этом дело. Может быть, черт и рад бы моему приходу — у меня припасено для него несколько славных песенок, старых скандалов и сплетен о высоких алии; он будет от них хвататься за бока! Позволь, я тебе объясню тайну моего рождения. Море — моя мать! Я родился в двойном каноэ во время шторма, дувшего с Коны в проливе Кахоолава. От этой матери моей, от моря, я получил свою силу! И когда я возвращаюсь в ее объятия, как бы припадая к ее груди, как вот было сейчас, я становлюсь сильным! Для меня она кормилица, источник жизни…
«Тени Антея!» — подумал я.
— Когда-нибудь, — продолжал старый Кохокуму, — когда я в самом деле состарюсь, люди скажут, что я утонул в море. Но это будет неправда! В действительности я вернусь в объятия моей матери, чтобы покоиться на ее груди, под ее сердцем, до второго рождения, когда выплыву на солнце, сверкая молодостью и силой, как сам Мауи в золотую пору его юности.
— Странная вера! — заметил я.
— Когда я был моложе, я ломал свою бедную голову над верами, куда более странными! — возразил старый Кохокуму. — Но послушай, о юный мудрец, мою старую мудрость. А знаю я вот что: чем старше я становлюсь, тем меньше ищу истину вне себя и тем больше нахожу истину внутри себя. Почему пришла мне в голову вот эта мысль о возвращении к моей матери и о возрождении из моей матери? Ты не знаешь? И я не знаю. Но без участия человеческого голоса или печатного слова, без побуждения откуда бы то ни было эта мысль возникла внутри меня, из моих собственных недр, которые так же глубоки, как море! Я не бог! Я ничего не творю! Стало быть, я не сотворил и этой мысли. Человек не творит истины. Человек, если он не слеп, только познает истину, когда видит ее… Или эта мысль, что мне пришла в голову, — сон?
— А может быть, ты сам сон? — засмеялся я. — И я, и небо, и море, и твердая, как камень, земля — все это сон.
— Я часто сам так думаю! — серьезно ответил он. — Очень возможно, что это так. Этой ночью мне казалось, что я птица, жаворонок, красивый небесный жаворонок, подобный жаворонку горных пастбищ Халеакала. И вот я полетел вверх, вверх, к солнцу, и пою, и пою, как старый Кохокуму не пел никогда. Теперь я тебе рассказываю, как мне показалось, приснилось, будто я жаворонок в небесах. Но, может быть, я, настоящий я, и есть эта птица жаворонок? И, может быть, то, что я тебе рассказываю, и есть сон, который снится мне, птице жаворонку? Кто ты такой, чтобы ответить мне на это да или нет? Посмеешь ли ты сказать мне, что я не жаворонок, который спит и грезит, будто он старый Кохокуму?
Я пожал плечами, а он с торжеством продолжал:
— И почем ты знаешь, что ты не старый Мауи, который спит и видит во сне, будто он Джон Лакана, разговаривающий со мной в каноэ? Кто знает, не проснешься ли ты, старый Мауи, и не почешешь ли себе бока, и не скажешь ли, что тебе приснился забавный сон, будто ты хаоле?
— Не знаю, — согласился я. — Да ты и не поверил бы мне!
— В снах много больше того, что нам известно! — говорил он с большой важностью. — Сны уходят вглубь, назад, может быть, до самого начала начал! Кто знает, не приснилось ли только старому Мауи, что он вытащил Гавайи со дна морского? В таком случае и Гавайи, и сон, и ты, и я, и вот этот спрут — только части сна Мауи, да к птица жаворонок тоже!
Он вздохнул и уронил голову на грудь.
— А я ломаю свою старую голову над неисповедимыми таинствами, — продолжал он, — пока не устану и не захочу забвения; тогда я начинаю пить пиво, хожу на рыбную ловлю, пою старые песни и вижу себя во сне птицей жаворонком, распевающим в небесах. Это я люблю больше всего, и чаше всего об этом я грежу, когда выпью много кружек…
И он с унынием посмотрел на дно лагуны через водяную трубку.
— Теперь долго не будет клева! — объявил он. — Поблизости шатаются акулы, и нам придется подождать, пока они уплывут. А чтобы ожидание не показалось тебе скучным, я спою песню Лоно, которая поется, когда каноэ вытаскивают на берег. Ты помнишь?
Отдай мне ствол дерева, о Лоно!
Отдай мне главный корень дерева, о Лоно!
Отдай мне ухо дерева, о Лоно!
— Будь милостив, Кохокуму, не пой! — оборвал я его. — У меня голова трещит, и от твоего пения делается еще хуже. Может быть, ты и очень в ударе нынче, но голос твой ни к черту не годится. Лучше уж рассказывай сны или какие-нибудь небылицы!
— Плохо, что ты болен, а такой молодой! — весело согласился он. — Ну, я не буду петь больше! Я расскажу тебе одну вещь, которую ты не знаешь и о которой никогда не слыхал; это уже не сон и не небылица, а то, что действительно случилось. Некогда, давно, жил здесь, у этого взморья, у этой самой лагуны, мальчик по имени Кеикиваи, что означает, как тебе известно, Дитя Воды. Богами его были море и рыбные боги, и родился он со знанием языка рыб; сами рыбы не знали этого языка, пока акулы не выдумали его в один прекрасный день, а рыбы подслушали.
Случилось это вот как. Быстрые гонцы разнесли повсюду весть и приказы, что король объезжает остров и что на следующий день жители должны устроить ему луау. Жителям маленьких местечек было очень трудно наполнять множество знатных желудков едою, когда король совершал свой объезд. Ведь он приезжал всегда со своею женою, ее служанками, со своими жрецами, и колдунами, танцовщицами, и флейтистами, и певцами хула, воинами, и слугами, и высокими вождями с их женами, их колдунами, их бойцами и их слугами.
Иногда в местечках, как Ваихи, путь такого короля отмечался после продолжительными бедностью и голодом. Но короля надо кормить, и нехорошо гневить короля! И вот, когда в Ваихи пришла весть о приближающемся бедствии, все, кто занимался добыванием еды и пищи с полей, и с прудов, и с гор, и из моря, занялись заготовлением запасов для празднества. И сумели все достать: от самого отборного королевского таро до сладких междоузлий сахарного тростника, от опихи до лиму, от кур до диких свиней и щенков, откормленных пои, и все, кроме одного, — рыбаки не достали омаров!
Надобно тебе знать, что омары были любимым королевским блюдом. Он любил их больше всякой другой кау-кау, и гонцы нарочно упомянули об омарах. И вот омаров не оказалось, а нехорошо гневить королевское чрево! За рифы забралось много акул — вот почему пришла беда! Они съели молодую девушку и старика. А из молодых людей, решившихся полезть в воду за омарами, один был съеден, другой лишился руки, а третий руки и ноги.
Но здесь находился Кеикиваи, Дитя Воды, мальчик всего одиннадцати лет, зато наполовину рыба и говоривший на языке рыб. И вот пошли старейшины к его отцу и стали просить Дитя Воды нырнуть за омарами, чтобы было чем наполнить королевское чрево и отвести гнев короля.
То, что случилось тогда, всем известно, и все это видели. Рыбаки, и их жены, и те, кто сажал таро, и птицеловы, и старейшины, и все Ваихи собрались и глядели на скалу, на краю которой стоял Дитя Воды, глядя на омаров, видневшихся на дне.
Одна из акул, взглянув вверх своими кошачьими глазами, заметила мальчика и кликнула акулий клич о «свежем мясе», созывая всех акул в лагуну. Акулы всегда действуют дружно: вот почему они так сильны. И акулы отозвались на клич: сорок штук собралось их, коротких и длинных, тонких, тощих и откормленных, сорок ровным счетом; и стали они переговариваться между собою: «Поглядите на лакомую пищу, на этого мальчика, на сладкий кусочек человеческого мяса, без морской соли, которая нам надоела; вкусный и нежный, он так и растает под сердцем, когда брюхо наше проглотит его и станет высасывать из него сладость».
И еще говорили они: «Он пришел за омарами. Когда он нырнет, он кому-нибудь из нас достанется. Это не старик, которого мы съели вчера, сухой и жесткий от старости, и не юноша, члены которого тверды и мускулисты; он нежный, такой нежный и мягкий, что растает в глотке, прежде чем брюхо проглотит его. Вот когда он нырнет, мы все бросимся к нему, и одной из нас, счастливице, достанется он: хап — и нет его! Один укус, один глоток — и войдет он в брюхо счастливейшей из нас!»
А Кеикиваи, Дитя Воды, подслушал этот разговор, ибо он знал акулий язык и взмолился он на языке акул акульему богу Моку-Халии, а акулы услышали это, замахали друг другу хвостами, стали подмигивать друг дружке кошачьими глазами в знак того, что они понимают его речь.
И промолвил он: «Теперь я нырну за омарами для короля. И не случится со мною беды, ибо акула с самым коротким хвостом мне друг, и она защитит меня».
С этими словами он поднял глыбу застывшей лавы и бросил ее в воду; с громким всплеском она упала в двадцати футах от берега. Все сорок акул кинулись к месту всплеска, а он нырнул, и пока они разобрали, что промахнулись, он успел опуститься на дно, вернуться назад и вылезть на берег, и в его руке был большой омар, омар вахине, полный яиц для короля.
«Ха! — в великом гневе говорили акулы. — Среди нас есть предатель! Этот лакомый ребенок, этот сладкий кусочек изобличил одну из нас, которая спасла его. Давайте меряться хвостами!»
Так они и сделали; они выстроились длинным рядом бок о бок, причем короткохвостые старались надуть других и вытягивались, чтобы казаться длиннее, а длиннохвостые также тянулись и обманывали друг друга, чтобы их кто-нибудь не перехитрил и не перетянул. Они сильно обозлились на самую короткохвостую, кинулись на нее со всех сторон и сожрали, так что от нее ничего не осталось.
И опять они стали ждать, когда нырнет Дитя Воды, и прислушиваться, и опять Дитя Воды взмолился на акульем языке богу Моку-Халии и промолвил: «Акула с самым коротким хвостом мне друг, она защитит меня!» И опять Дитя Воды бросил глыбу лавы, на этот раз в двадцати футах от берега по другую сторону. Акулы кинулись туда, где плеснул камень, второпях затолкались и так вспенили хвостами воду, что ничего нельзя было видеть: каждая думала, что кто-нибудь другой глотает лакомый кусочек. А Дитя Воды опять вылез с омаром для короля.
Оставшиеся тридцать девять акул померялись хвостами и слопали акулу с самым коротким хвостом, так что всего осталось тридцать восемь акул. И Дитя Воды продолжал поступать так и дальше, а акулы продолжали делать то, что я уже говорил тебе; и за каждую акулу, съеденную ее собратьями, на скале появлялся новый жирный омар для короля. Разумеется, акулы ссорились, спорили и шумели, когда дело доходило до хвостов; но виновница всегда отыскивалась, и в конце концов остались две акулы, две самые большие акулы из всех сорока.
И опять Дитя Воды объявил, что акула с самым коротким хвостом — его друг, и обманул обеих акул глыбой лавы, и вынес еще одного омара. Каждая из акул настаивала, что у другой хвост короче, и они стали драться, и акула с длинным хвостом победила…
— Замолчи, о Кохокуму! — прервал я его. — Не забудь, что эта акула уже…
— Я знаю, что ты хочешь сказать, — быстро ответил он мне, — и ты прав: ей долго пришлось есть тридцать девятую акулу, ибо в тридцать девятой акуле уже находилось девятнадцать других акул, которых она съела, а в сороковой акуле было также девятнадцать акул, которых она съела, и у нее уже не было того аппетита, с которым она начинала дело. Но ты не забывай, что ведь акула-то была очень большая!
Так вот, столь долго пришлось ей есть другую акулу и всех девятнадцать акул, сидевших внутри той, что она продолжала еще есть, когда пали сумерки и народ Ваихи пошел по домам с омарами для короля. И что же ты думаешь, разве они не нашли на другое утро на взморье последнюю акулу? Она лопнула от всего, что съела!
Кохокуму сделал паузу и лукаво посмотрел мне в глаза.
— Молчи, о Лакана! — остановил он слова, готовые сорваться с моих уст. — Я знаю, что ты теперь скажешь: ты скажешь, что своими глазами я этого не видел и, стало быть, не знаю того, что тебе рассказываю. Но я знаю и могу доказать. Отец моего отца знал внука дяди отца того мальчика. Кроме того, вот на этом утесе, на который я сейчас указываю пальцем, стоял и с него нырял Дитя Воды. Я сам здесь нырял за омарами. Тут для них самое подходящее место! И часто я видел там акул. Там, на дне, я видел и считал — лежат тридцать девять кусков лавы, брошенных мальчиком, как я рассказывал!
— Но… — начал было я.
— Ха! — оборвал он меня. — Смотри, покуда мы с тобой разговаривали, рыба опять начала клевать!
И он указал на три бамбуковых шеста, поднявших бешеную пляску в знак того, что рыба попалась на крючок и тянет лесу. Нагибаясь за своим веслом, он продолжал бормотать:
— Разумеется, я знаю. Тридцать девять глыб лавы так и лежат там! Ты в любой день можешь сам сосчитать их. Понятно, я знаю и знаю, что это правда…
Глен Эллен,
2 октября 1916
Слезы А Кима
Шум и крики, впрочем, отнюдь не носившие характера скандала, стояли в китайском квартале Гонолулу. Те, до чьих ушей этот шум доносился, только пожимали плечами и добродушно улыбались такому нарушению общественной тишины, как чему-то весьма и весьма привычному.
— В чем там дело? — спросил свою жену Чин Мо. Он был прикован к постели острым плевритом, она в это время как раз проходила мимо окна и остановилась, прислушиваясь.
— Да всего только А Ким, — отвечала жена. — Мать снова бьет его.
Крики раздавались из сада, который примыкал к жилому помещению магазина, украшенного горделивой надписью: «А Ким и Компания. Универсальный магазин». Этот сад, шириною в двадцать футов, был целым поместьем в миниатюре и хитроумным образом обманывал глаз, создавая впечатление беспредельной шири. Здесь были заросли карликовых дубов и елей — столетних, но всего в два или три фута высотою, — которые ввозились с величайшими предосторожностями и за очень дорогую цену. Крохотный мостик изгибался над такой же крохотной речкой, а она стремнинами низвергалась из миниатюрного озера, кишевшего многоперыми ярко-оранжевыми рыбками, которые в этих водах и среди этого пейзажа казались китами. В озерцо с обеих сторон гляделись окна легких многоэтажных зданий. В центре сада, на узкой, усыпанной гравием дорожке, А Ким с воплями принимал наносимые ему побои.
А Ким не был китайским подростком в том нежном возрасте, который нуждается в побоях. Универсальный магазин «А Ким и К°» принадлежал ему, и его заслугой было создание этого магазина на капитал, выросший из сбережений законтрактованного кули и впоследствии округлившийся до четырехзначного текущего счета в банке и солидного кредита.
Полсотни лет и зим уже протекли над головою А Кима, и в своем течении сделали его пухлым и дородным. Низкорослый и тучный, он походил на арбузное семечко. Лицо у него было круглое, как луна. Его шелковое одеяние было исполнено достоинства, а черная шапочка с красной пуговкой на макушке — в эту минуту, увы, валявшаяся на земле, — являлась принадлежностью зажиточных и преуспевающих купцов из его одноплеменников.
Но в данный момент достоинства меньше всего было в его облике. Согнувшись в три погибели, он извивался и корчился под градом ударов бамбуковой палки. Когда же удары приходились по рукам, которыми А Ким пытался защитить лицо и голову, тело его начинало судорожно и непроизвольно дергаться. Соседи в окнах с безмятежным удовольствием наблюдали эту сцену.
А та, которая благодаря многолетней практике так ловко орудовала палкой! Семидесяти четырех лет от роду, она ни на день не выглядела моложе. Ее тонкие ноги были облачены в штаны из топорщившейся глянцевито-черной ткани, жидкие седые волосы, туго затянутые, открывали плоский лоб. Бровей у нее вовсе не было, они вылезли еще в незапамятные времена, а глаза величиной с булавочную головку казались чернее черного. Она до ужаса походила на труп. Широкие рукава обнажали ее иссохшие руки, на которых вместо мускулов под желтой пергаментной кожей натягивались узловатые жилы. Нефритовые браслеты на руках этой мумии при каждом взмахе прыгали вверх и вниз и стучали.
— Ах! — пронзительно вскрикивала она, ритмически акцентируя удары, которые наносила по три кряду. — Я запрещаю тебе разговаривать с Ли Фаа. Сегодня ты остановился с ней на улице. Какой-нибудь час назад. Вы беседовали тридцать минут по часам. На что это похоже?
— Все этот трижды проклятый телефон, — пробормотал А Ким, а она остановила в воздухе палку, стараясь уловить то, что он говорит. — Вам это сообщила миссис Чанг Люси, знаю, что она. Я видел, что она видит меня. Я велю убрать телефон. Это выдумка дьявола.
— Это выдумка всех дьяволов, вместе взятых, — согласилась миссис Тай Фу, перехватывая палку поудобнее. — Однако телефон останется. Я люблю беседовать по телефону с миссис Чанг Люси.
— У нее глаза десяти тысяч кошек, — простонал А Ким, сгибаясь от удара, пришедшегося ему по рукам, — и язык десяти тысяч жаб, — добавил он, в ожидании следующего.
— Это невоспитанная и наглая шлюха, — заявила миссис Тай Фу.
— Миссис Чанг Люси всегда была такова, — подтвердил А Ким, как подобало почтительному сыну.
— Я говорю о Ли Фаа, — оборвала его мать, палкой подкрепляя свое мнение. — Она только наполовину китаянка, как тебе известно. Ее мать бесстыжая каначка. Она носит юбки, как эти развратные женщины — хаоле, — а также корсет, я своими глазами видела. Где, спрашивается, ее дети? А ведь она схоронила двух мужей.
— Один утонул, а другого насмерть лягнула лошадь, — пояснил А Ким.
— Поживи ты с нею год, недостойный сын благородного отца, и ты будешь рад-радешенек утонуть или быть убитым лошадью.
Приглушенный смех в окнах послужил оценкой ее находчивости.
— Вы сами схоронили двух мужей, досточтимая матушка, — осмелился вставить А Ким.
— У меня хватило ума не выйти за третьего. Кроме того, оба мои супруга почтенно скончались в своих постелях. Их не лягали лошади, и они не тонули в море. И какое дело до этого нашим соседям. Почему ты должен осведомлять их, было у меня два мужа, десять мужей или ни одного? Ты осрамил меня перед всеми соседями, и за это я, теперь уж по-настоящему, изобью тебя.
А Ким выдержал целый град ударов, посыпавшихся на него, и когда миссис Тай Фу, задохнувшись, остановилась, проговорил:
— Досточтимая матушка, я всегда настаивал и просил, чтобы вы били меня в доме при плотно закрытых окнах и дверях, а не на улице и не в саду позади дома.
— Ты назвал эту отвратительную Ли Фаа Серебристым Цветком Луны, — возразила миссис Тай Фу с чисто женской непоследовательностью, впрочем, заставившей сына прервать его тираду.
— Это миссис Чанг Люси вам сказала, — настаивал он.
— Мне это сказали по телефену, — уклончиво ответила она. — Я не могу узнавать все голоса, которые говорят со мной через эту трубку дьявола.
Как ни странно, но А Ким даже не пытался удрать от матери, что ему было бы очень легко сделать. Она же находила все новые и новые предлоги для следующих ударов.
— А! Упрямый человек! Почему ты не плачешь? Ублюдок, позорящий своих предков! Ни разу я не могла заставить тебя плакать. С малолетства не могла. Отвечай мне! Почему ты не плачешь?
Ослабев и задохшись от потраченных ею усилий, она опустила палку и затряслась, словно в нервном припадке.
— Не знаю. Вероятно, так уж я создан, — отвечал А Ким, озабоченно глядя на мать. — Сейчас я принесу вам стул, вы присядете, отдохнете и почувствуете себя лучше.
Но она, злобно фыркнув, отошла от него и по-старушечьи заковыляла к дому. А Ким в это время надевал шапочку, приглаживал пришедшую в беспорядок одежду, потирал ушибленные места и преданными глазами следил за матерью. Он даже улыбался, так что можно было предположить, что побои доставили ему некоторое удовольствие.
Точно так же А Кима били в детстве, когда он еще жил на высоком берегу у одиннадцатого порога реки Янцзы. Здесь родился его отец и здесь же с юных дней работал в качестве речного кули. Когда он умер, А Ким, сам уже достигнув зрелости, занялся той же почтенной профессией. Во времена еще более давние, чем те, что сохранялись в семейных преданиях, все мужчины их рода были кули на реке Янцзы. Во времена Христа его прямые предки занимались тем же делом. У входа в ущелье они встречали джонки, похожие одна на другую, как две капли воды, к каждой из них привязывали канат в полмили длиной и, в зависимости от размера джонки, впрягались в нее от ста до двухсот человек, — великая двуногая сила, — и волочили по воде к выходу ущелья, сгибаясь так, что руки их касались земли, а лица были на фут от нее.
По-видимому, во все прошедшие столетия плата за эту работу оставалась неизменной. Его отец, отец его отца и сам он, А Ким, получали все то же вознаграждение — одну четырнадцатую цента с джонки, как он высчитал позднее, уже будучи в Гавайе. В счастливое летнее время, когда воды были спокойны, джонок — множество и день длился шестнадцать часов, за шестнадцать часов этого героического труда А Ким зарабатывал немногим больше цента. Но за весь год кули с реки Янцзы не мог заработать больше полутора долларов. Люди умели жить и жили на эти доходы. Были среди них женщины-служанки, чье годовое жалованье составляло доллар. Плетельщики сетей из Ти Ви в год зарабатывали от одного до двух долларов. Они жили на эти деньги, вернее — не умирали. Но кули с реки Янцзы имели еще приработок, который и делал эту профессию почетной, а цех речных кули — закрытой и наследственной корпорацией, чем-то вроде рабочего союза. Одна джонка из пяти, проходя через пороги, получала повреждения. Одна джонка из десяти неизбежно погибала. Кули с реки Янцзы знали все причуды и капризы течения и тянули, выгребали, вылавливали сетями мокрый урожай реки. Люди этого цеха вызывали зависть других, менее преуспевающих кули, ибо они могли позволить себе пить кирпичный чай и каждый день есть четвертый сорт риса.
И А Ким тоже был доволен и горд своей работой, пока в один злополучный и слякотный весенний день не вытащил из воды тонувшего кантонского моряка. Вот этот-то странник, обогревшийся у его огня, и был тем, кто впервые произнес перед ним волшебное имя — Гавайя. Сам он, добавил моряк, никогда не бывал в этом рабочем раю, но множество китайцев уехало туда из Кантона и он слышал разговоры об их письмах к родным. В Гавайе не знают ни морозов, ни голода. Свиньи, кормежкой которых там никто не занимается, жиреют от обильных объедков, остающихся после людей. Кантонская и янцзейская семья могла бы прокормиться остатками от стола гавайского кули. А жалованье! Десять золотых долларов ежемесячно, или двадцать колониальных, вот что получает законтрактованный китайский кули от белых дьяволов — сахарных королей. За год кули зарабатывают огромную сумму в двести сорок колониальных долларов, то есть в сто раз больше, чем в десять раз тяжелее работающий кули с одиннадцатого порога Янцзы. Короче говоря, гавайский кули живет в сто раз лучше, а если его работой довольны, то и в тысячу. К тому же там замечательный климат.
Двадцати четырех лет от роду, несмотря на мольбы и побои матери, А Ким вышел из древней и почетной корпорации речных кули одиннадцатого порога, определил мать служанкой в дом хозяина артели кули, где она должна была получать в год один доллар, а также платье ценой не дешевле тридцати центов, и отправился вниз по Янцзы к Великому морю. Много приключений, тяжелого труда и мытарств выпало на долю А Кима, прежде чем он в качестве матроса на морской джонке прибыл в Кантон. Двадцати шести лет он запродал пять лет своей жизни и работы гавайским сахарным королям и в числе восьмисот других законтрактованных кули отбыл в Гавайю на вычеркнутом из списков компании Ллойда вонючем пароходе, который вели полоумный капитан и пьяные офицеры.
Почетным считалось на родине положение А Кима, речного кули. В Гавайе, получая в сто раз больше, он обнаружил, что на него смотрят, как на нижайшего из низших, ибо что может быть ниже кули, работающего на плантации? Но кули, чьи предки еще до рождества Христова волочили джонки через одиннадцатый порог реки Янцзы, неминуемо наследуют основную черту их характера, и черта эта — терпение. Поистине А Ким обладал терпением. Через пять лет рабского труда у А Кима, такого же сухопарого, как прежде, на текущем счету имелось без малого тысяча долларов.
На эти деньги он мог бы отправиться обратно на реку Янцзы и до конца своих дней прожить там богатым человеком. Он, пожалуй, скопил бы и большую сумму, если бы при случае осторожно не поигрывал в че фа и фан тан и не проработал бы целый год в постоянном чаду опиума на кишевших сколопендрами и скорпионами плантациях сахарного тростника. То, что он не проработал все пять лет, опьяняясь опиумом, объяснялось единственно дороговизной этой привычки. Сомнений морального характера А Ким не знал. Просто опиум требовал больших расходов.
Но А Ким не уехал обратно в Китай. Он присмотрелся к деловой жизни Гавайи и преисполнился неистового честолюбия. Стремясь основательно изучить коммерцию и английский язык, он в продолжение шести месяцев служил продавцом в магазине при плантации. К концу полугодия он больше знал об этом магазине, чем любой управляющий плантации о любом подведомственном ему предприятии. Перед тем как оставить это место, он уже получал сорок золотых долларов в месяц, или восемьдесят колониальных, и начал входить в тело. Манера его обращения с законтрактованными кули стала нескрываемо надменной. Управляющий предложил ему повышение — шестьдесят золотых долларов. За год это составило бы фантастическую сумму — тысячу четыреста сорок колониальных долларов, то есть в семьсот раз больше его годового заработка на Янцзы в качестве двуногой лошади.
Вместо того чтобы согласиться, А Ким поехал в Гонолулу и начал все сначала в большом универсальном магазине Фонг и Чоу Фонг за пятнадцать долларов в месяц. Он проработал год и, когда ему стукнуло тридцать три, ушел оттуда, несмотря на жалованье в семьдесят пять долларов. Тогда-то он и вывел на фасаде свою собственную надпись: «А Ким и К°. Универсальный магазин». Питался он теперь лучше, и в его пополневшей фигуре начало уже появляться что-то от арбузной круглости будущих лет.
С каждым годом А Ким преуспевал все больше, и когда ему минуло тридцать шесть, надежды, подаваемые его фигурой, были близки к осуществлению, сам же он состоял членом избранного и могущественного Хай Гум-Тонга, а также объединения китайских купцов, и уже привык в качестве хозяина председательствовать на обедах, стоивших больше, чем он мог бы заработать в течение тридцати лет, будучи речным кули на одиннадцатом пороге. Двух вещей ему недоставало: жены и матери, которая колотила бы его, как в былые времена.
Тридцати семи лет от роду А Ким проверил свой банковский счет. Три тысячи золотых долларов числились на нем. За две тысячи пятьсот наличными и с помощью небольшой закладной он мог купить трехэтажное здание и наследственное владение землей, на которой оно стояло. Но тогда на жену оставалось всего пятьсот долларов. У господина Фу Йи-Пу была на выданье дочка с очень маленькими ножками; отец готов был привезти ее из Китая и продать А Киму за восемьсот золотых долларов плюс расходы по перевозке. Более того — Фу Йи-Пу соглашался на пятьсот наличными, а остальные под шестипроцентный вексель.
А Ким, тридцатисемилетний откормленный и холостой мужчина, действительно очень хотел иметь жену, а о жене с маленькими ножками уж и говорить не приходится; он родился и вырос в Китае, и вечный образ женщины с маленькими ножками глубоко врезался в его сердце. Но больше, куда больше, чем жену с маленькими ножками, хотелось ему иметь при себе свою мать и снова ощутить сладость ее побоев. Потому-то он и не согласился на весьма льготные условия Фу Йи-Пу, а со значительно меньшими издержками привез свою мать и из служанки у кули, получавшей в год один доллар и тридцатицентовое платье, сделал ее хозяйкой трехэтажного магазина с двумя женщинами для услуг, тремя приказчиками и привратником, не говоря уж о богатом ассортименте товаров на полках, стоивших десять тысяч долларов, так как здесь было все, начиная от дешевенького ситца и кончая дорогими шелками с ручной вышивкой. Нельзя не отметить, что даже в ту раннюю пору магазин А Кима уже обслуживал американских туристов.
Тринадцать лет А Ким сравнительно счастливо прожил со своей матерью, систематически подвергаясь побоям по любому поводу, справедливому и несправедливому, существующему или воображаемому. Но к исходу этого срока он, сильнее чем когда-либо, сердцем и мозгом ощутил тоску по жене, чреслами — по сыну, который будет жить после него и продолжать династию «А Ким и К°» — мечта, волновавшая мужчин, начиная с тех давних пор, когда они впервые стали присваивать себе право охоты, монополизировать песчаные отмели для рыбной ловли и совершать набеги на чужие деревни, принуждая тамошних жителей браться за мечи. Эта мечта одинаково свойственна королям, миллионерам и китайским купцам из Гонолулу, хотя все они и возносят хвалы господу за то, что он сотворил их, пусть по своему подобию, но непохожими друг на друга.
Идеал женщины, томивший А Кима в пятьдесят лет, был не схож с его идеалом в тридцать семь. Теперь он желал жену не с маленькими ножками, но свободную, вольно ступающую нормальными ногами женщину, которая почему-то являлась ему в дневных и ночных грезах в образе Ли Фаа, Серебристого Цветка Луны. Что с того, что она родилась от матери-каначки и дважды овдовела, что с того, что она носит платья белых дьяволов, корсет и туфли на высоких каблуках. Он желал ее. Казалось, сама судьба предназначала их стать родоначальниками ветви, которая во многих поколениях будет владеть и управлять фирмой «А Ким и К°. Универсальный магазин».
— Я не хочу иметь невестку нечистокровную пакэ, — частенько говорила мать А Киму («пакэ» по-гавайски называются китайцы), — моя невестка должна быть чистокровной, как ты, мой сын, как я, твоя мать. И она должна носить штаны, мой сын, как все женщины в нашей семье до нее. Женщина в юбке белой дьяволицы и в корсете не может воздавать должного почитания нашим предкам. Корсеты и почитание предков не вяжутся друг с другом. Так вот и эта бесстыжая Ли Фаа. Она наглая, независимая и никогда не будет повиноваться ни мужу, ни матери мужа. Эта нахалка вообразит себя источником жизни и родоначальницей; она не признает предков, бывших до нее. Она насмехается над нашими жертвенниками, молитвами и домашними богами, как я узнала из достоверных источников.
— От миссис Чанг Люси, — простонал А Ким.
— Не от одной миссис Чанг Люси, о сын мой. Я всех расспрашивала. По крайней мере десять человек слышали, что она называет наши кумирни обезьянниками. Подлинные слова той, которая ест сырую рыбу, сырых каракатиц и печеных собак. Это наши-то кумирни обезьянники! Однако она непрочь выйти замуж за тебя, за обезьяну, потому что твой магазин настоящий дворец, а богатство сделало тебя великим человеком. Она покроет позором меня и твоего отца, давно почившего достойной смертью.
Вопрос этот более не обсуждался. А Ким знал, что, в общем, мать его права. Недаром Ли Фаа сорок лет назад родилась от китайца-отца, изменившего всем традициям, и матери-каначки, чьи предки нарушили табу, свергли своих собственных полинезийских богов и стали малодушно внимать проповедям христианских миссионеров о далеком и невидном боге. Ли Фаа, образованная женщина, умевшая читать и писать по-английски, по-гавайски и немного по-китайски, делала вид, что ни во что не верит, хотя в глубине души и побаивалась гавайских колдунов, которые своими заклинаниями могут отогнать беду или, напротив, призвать к человеку смерть. А Ким отлично понимал, что Ли Фаа никогда не войдет в его дом для того, чтобы воздавать почести его матери и быть ее рабой, как это испокон веков велось в китайских семьях. Ли Фаа, с китайской точки зрения, была новой женщиной, феминисткой; она скакала верхом на лошади, в нескромном наряде красовалась на пляже Ваикики и на празднествах не раз отплясывала хула с самыми недостойными людьми, к вящему удовольствию сплетников.
Сам А Ким, на поколение моложе своей матери, тоже был отравлен ядом современности. Старый порядок существовал, поскольку в тайниках души он чувствовал, как касается его, А Кима, запыленная рука прошлого. Однако он страховал свою жизнь и свое имущество, собирал деньги в пользу местных китайских революционеров, намеревавшихся превратить Небесную империю в республику, вносил пожертвования в кружок китайских бейзболистов, побивших в этой американской игре самих американцев, беседовал о теософии с японским буддистом и шелкоторговцем Катсо Сугури, потакал полиции во взяточничестве, вносил свою долю денег и участия в демократическую политику аннексированной Гавайи и подумывал о покупке автомобиля. А Ким никогда не решался обнажать перед самим собой свою душу и устанавливать, чем он поступился из старого. Его мать принадлежала старине, а он ведь почитал ее и был счастлив под ее бамбуковой палкой. Ли Фаа, Серебристый Цветок Луны, принадлежала новому времени, а он никогда не мог быть вполне счастлив без нее.
Потому что он любил Ли Фаа. С лицом, как луна, круглый, как арбузное семечко, ловкий делец, умудренный опытом полувековой жизни, А Ким становился поэтом, мечтая о Ли Фаа. Для нее он придумывал целые поэмы наименований, женщину он превращал в цветок, в философские абстракции совершенства и красоты. Для него одного из всех мужчин на свете она была Цветком Сливы, Тишиной Женственности, Цветком Блаженства, Лилией Луны, Совершенным Покоем. Бормоча эти сладостные имена любви, он слышал в них плеск ручейков, звон серебряных колокольчиков, благоухание олеандров и жасмина. Она была его поэмой о женщине, его поэтическим восторгом, духом о трех измерениях, его судьбой и счастьем, предначертанным ему еще до создания богами первого мужчины и первой женщины — богами, прихотью которых было создать всех мужчин и всех женщин для радости и горя.
Однажды мать сунула ему в руки тушь, кисточку и положила на стол табличку для письма.
— Нарисуй, — сказала она, — идеограмму «жениться».
Он повиновался, почти не удивившись, и с артистичностью, присущей его расе, столь опытной в этом искусстве, вывел символический иероглиф.
— Прочти его, — приказала она.
А Ким взглянул на мать с любопытством, желая угодить ей, но в то же время не понимая ее намерения.
— Из чего он составлен? — упорно добивалась она. — Что означают три слагаемых, сумма которых составляет: жениться, соединение, бракосочетание мужчины и женщины? Нарисуй, нарисуй каждое из них отдельно, не связано, чтобы мы поняли, как проникновенно построили древние мудрецы идеограмму «жениться».
А Ким повиновался и, рисуя, увидел: то, что чертила его кисточка, было три знака — знак руки, уха и женщины.
— Назови их, — приказала мать; и он назвал.
— Верно, — произнесла она. — Это великий замысел! Такова сущность брака. Таким некогда и был брак; и таким он всегда будет в моем доме. Рука мужчины берет за ухо женщину и вводит ее в дом, где она обязана повиноваться ему и его матери. Так вот и меня взял за ухо твой давно и почтенно скончавшийся отец. Я присмотрелась к твоей руке. Она не похожа на его руку. Я присмотрелась и к уху Ли Фаа. Тебе никогда не удастся повести ее за ухо. Не такие у нее уши. Я проживу еще долго и до самой смерти буду госпожой в доме моего сына, как это велит старинный обычай.
— Но ведь она моя почитаемая родительница, — объяснял А Ким Ли Фаа.
Ему было не по себе, ибо Ли Фаа, убедившись, что миссис Тай Фу пошла в храм китайского эскулапа, чтобы принести в жертву сушеную утку и помолиться о своем слабеющем здоровье, воспользовалась случаем и навестила А Кима в его магазине.
Ли Фаа, сложив свои дерзкие ненакрашенные губы в виде полураскрытого розового бутона, отвечала:
— Для Китая это еще куда ни шло. Я не знаю Китая. Но здесь Гавайские острова, а в Гавайе иностранцы меняют свои обычаи.
— Но так или иначе она моя родительница, — возражал А Ким, — мать, давшая мне жизнь, независимо от того, где я нахожусь, в Китае или в Гавайе, о Серебристый Цветок Луны, который я хочу назвать своей женой.
— У меня было два мужа, — спокойно констатировала Ли Фаа, — один пакэ, другой португалец. Я многому научилась от обоих. Кроме того, я образованная женщина, я училась в колледже и играла на рояле перед публикой. А от своих мужей я научилась еще большему. Я поняла, что китайцы самые лучшие мужья. Никогда я не выйду больше замуж не за китайца. Но ему не придется брать меня за ухо.
— Откуда вы все это знаете? — подозрительно прервал ее А Ким.
— От миссис Чанг Люси, — последовал ответ. — Миссис Чанг Люси сообщает мне все, что ей говорит ваша мать, а она говорит ей немало. Поэтому я позволю себе предупредить вас, что ухо у меня для этого не приспособлено.
— Это же говорила мне моя досточтимая матушка, — простонал А Ким.
— Это же ваша досточтимая матушка говорила миссис Чанг Люси, а миссис Чанг Люси мне, — дополнила Ли Фаа. — А я теперь говорю вам, о мой будущий третий супруг, что еще не родился человек, который поведет меня за ухо. В Гавайе это не принято. Я пойду со своим мужем только рука об руку, бок о бок, нога в ногу, как говорят хаоли. Мой португальский муж думал иначе. Он пробовал бить меня. Я три раза отводила его в полицию, и он всякий раз отбывал наказание на рифах. Кончилось тем, что он утонул.
— Моя мать была мне матерью в продолжение пятидесяти лет, — набравшись храбрости, вставил А Ким.
— И в продолжение пятидесяти лет она била вас, — захихикала Ли Фаа. — Как мой отец всегда смеялся над Ян Тен-Шином! Ян Тен-Шин, как и вы, родился в Китае и вывез оттуда китайские обычаи. Старик-отец постоянно колотил его палкой. Он любил отца. Но отец стал бить его еще сильней, когда миссионеры обратили Ян Тен-Шина в христианство. Как только он отправлялся на проповедь, отец его бил. И миссионер корил Ян Тен-Шина за то, что тот позволяет себя бить. А мой отец знай себе смеялся, потому что он был свободомыслящий китаец и отказался от своих обычаев быстрее, чем большинство других иностранцев. Вся беда заключалась в том, что у Ян Тен-Шина было любящее сердце. Он любил своего досточтимого отца. Он любил бога любви христианских миссионеров. Но под конец во мне он нашел величайшую любовь, то есть любовь к женщине. Со мной он забыл свою любовь к отцу и любовь к любвеобильному Христу.
Он предложил моему отцу за меня шестьсот долларов. Цена невысокая, потому что ноги у меня не были сделаны маленькими. Но я ведь наполовину каначка. Я объявила, что я не рабыня и не допущу, чтобы меня продавали мужчине. Моя учительница в колледже была старая дева хаоли, она всегда говорила, что женская любовь неоценима, что ее нельзя продавать за деньги. Может быть, поэтому она и осталась старой девой. Она была некрасивая и не нашла себе мужа. Моя мать утверждала, что продавать дочерей не канакский обычай. У канаков их отдают за любовь, и она согласна внять просьбе Ян Тен-Шина, если он устроит целый ряд больших и роскошных празднеств. Мой отец, как я уже говорила, был человек либеральный. Он спросил, хочу ли я иметь мужем Ян Тен-Шина. Я отвечала: да, и сама, по собственной воле пошла к нему. Это он погиб от лошади, но до того, как она его лягнула, он был прекрасным мужем.
Что же касается вас, А Ким, то я всегда буду вас любить и уважать, и в один прекрасный день, когда вам не будет надобности брать меня за ухо, я выйду за вас замуж, приду сюда и навеки останусь с вами, а вы станете счастливейшим пакэ во всей Гавайе, потому что у меня уже было два мужа, я училась в колледже и очень преуспела в искусстве делать мужа счастливым. Но это будет тогда, когда ваша мать перестанет бить вас. Миссис Чанг Люси уверяет, что она бьет вас очень сильно.
— Да, — согласился А Ким. — Смотрите. — Он откинул широкие рукава, обнажив до локтя свои гладкие, пухлые руки. Они были покрыты синяками и кровоподтеками, свидетельствовавшими о количестве и силе ударов.
— Но она ни разу не заставила меня плакать, — поспешил добавить А Ким. — Ни разу, даже когда я был еще маленьким мальчиком.
— То же самое говорит и миссис Чанг Люси, — подтвердила Ли Фаа. — Она говорит, что ваша досточтимая матушка часто жалуется ей на то, что ни разу не заставила вас плакать.
Предостерегающий свист одного из продавцов раздался слишком поздно. Вошедшая в дом с черного хода миссис Тай Фу возникла перед ними в дверях жилого помещения. Никогда еще А Ким не видал у матери столь грозных глаз. Не обращая внимания на Ли Фаа, она закричала:
— Ну, теперь-то уж ты у меня заплачешь! Я буду колотить тебя, пока слезы сами не польются у тебя из глаз.
— Тогда пройдемте в задние комнаты, досточтимая матушка, — предложил А Ким. — Закроем окна и двери, и там вы будете бить меня.
— Нет! Я буду бить тебя здесь, перед всем светом и перед этой бесстыдной женщиной, которая норовит взять тебя за ухо и такое кощунство называет браком! Останьтесь, бесстыдница!
— Я и без того намерена остаться, — отвечала Ли Фаа, смерив продавцов уничтожающим взглядом. — И посмотрим, кто, кроме полиции, посмеет удалить меня отсюда.
— Вы никогда не будете моей невесткой, — отрезала миссис Тай Фу.
Ли Фаа подтверждающе кивнула и добавила:
— Но все же ваш сын будет моим третьим мужем.
— Вы хотите сказать: когда я умру? — взвизгнула старуха.
— Солнце восходит каждое утро, — загадочно произнесла Ли Фаа. — Я наблюдала это всю жизнь.
— Вам сорок лет, и вы носите корсеты.
— Но я еще не крашу волос, это придет позднее, — невозмутимо отвечала Ли Фаа. — Что касается моего возраста, то вы правы. В день Камеамеа мне стукнет сорок один. Сорок лет я видела, как восходит солнце. Мой отец умер стариком. Перед смертью он сказал мне, что не замечает никакого различия между солнечным восходом теперь и в дни, когда он был еще мальчиком. Земля кругла. Конфуций этого не знал, но вы можете это найти в любом учебнике географии. Земля кругла. Она вращается вокруг своей оси, круг за кругом. Времена года и жизнь вращаются вместе с ней. То, что есть сейчас, уже было раньше. То, что было, будет опять. Время сбора хлебных плодов и манго всегда возвращается вновь, а мужчины и женщины возрождаются в своих детях. Малиновки вьют гнезда, а кулики весною прилетают с севера. За каждой весною следует другая весна. Кокосовые пальмы тянутся ввысь, приносят плоды и погибают. Но меньше их не становится. Это не только мои слова. Многое я слышала от своего отца. Приступайте к делу, досточтимая миссис Тай Фу, и поколотите вашего сына и моего будущего третьего мужа. А я посмеюсь. Предупреждаю вас: я буду смеяться.
А Ким опустился на колени, чтобы матери было удобнее. Она осыпала его градом ударов, а Ли Фаа улыбалась, фыркала и, наконец, разразилась хохотом.
— Крепче, крепче, почтенная миссис Тай Фу! — поощряла она старуху в перерыве между взрывами смеха.
Миссис Тай Фу старалась что было сил, но сил-то было немного, и вдруг она заметила то, что заставило ее от удивления выронить палку. А Ким плакал. По его щекам лились крупные круглые слезы. Ли Фаа была поражена, так же как и глазеющие продавцы. Больше всех, правда, был поражен сам А Ким, но ничего не мог с собой поделать, и хотя удары уже прекратились, он все продолжал плакать.
— Почему вы плакали? — часто спрашивала потом Ли Фаа. — Это уж было до того глупо… Она не могла причинить вам никакой боли.
— Подождите, пока мы поженимся, — неизменно отвечал А Ким. — И тогда, о Лилия Луны, я скажу вам.
Однажды, два года спустя, А Ким, более чем когда-либо напоминающий очертаниями арбузное семечко, вернулся домой с собрания китайской торговой ассоциации и нашел свою мать мертвой на постели. Еще уже выглядел ее лоб и суровее зачесанные назад волосы. Но на ее сморщенном лице застыла сухонькая улыбка. Боги были милостивы. Она отошла без страданий.
Прежде всего А Ким вызвал по телефону номер Ли Фаа, но нашел ее не раньше, чем позвонил к миссис Чанг Люси. Сообщив новость, он назначил день свадьбы в срок в десять раз более короткий, чем того требовали старинные китайские обычаи. И если бы в китайском обряде венчания существовало нечто вроде подружки, то именно эту роль выполняла бы на свадьбе миссис Чанг Люси.
— Почему, — спросила Ли Фаа А Кима, оставшись с ним наедине в брачную ночь, — почему вы заплакали, когда мать била вас тогда в магазине? Это было так глупо. Она даже не причиняла вам боли.
— Вот потому-то я и плакал, — отвечал А Ким.
Ли Фаа недоумевающе взглянула на него.
— Я плакал, — пояснил он, — потому, что вдруг понял, что моя мать приближается к концу. Ее удары были невесомы, я их не чувствовал. И я плакал, поняв, что у нее уже нет сил причинить мне боль. Вот почему я плакал, мой Цветок Безмятежности, мой Совершенный Покой. Это единственная причина, по которой я плакал.
Прибой Канака
Когда Ли Бартон и его жена Ида вышли из купальни, американки, расположившиеся в тени деревьев хау, что окаймляют пляж отеля Моана, тихо ахнули. И продолжали ахать все время, пока те двое шли мимо них, к морю. Ли Бартон едва ли мог произвести на них столь сильное впечатление. Американки были не из таких, чтобы ахать при виде мужчины в купальном костюме, даже если судьба наделила его великолепной атлетической фигурой. Правда, у любого тренера такое физическое совершенство исторгло бы вздох глубокого удовлетворения, но он не стал бы ахать, как американки на пляже, — те были оскорблены в своих лучших чувствах.
Ида Бартон — вот кто вызывал их осуждение и беспокойство. Они осудили ее, и притом бесповоротно, с первого же взгляда. Сами они — мастерицы себя обманывать — воображали, что их шокирует ее купальный костюм. Но Фрейд недаром утверждает, что там, где затронуты вопросы пола, люди бессознательно склонны подменять действительность вымыслом и мучиться по поводу собственного вымысла не меньше, чем если бы он был реальностью.
Купальный костюм Иды Бартон был очень миленький — из тончайшей черной шерсти самой плотной вязки, с белой каймой и белым пояском, с небольшим вырезом, короткими рукавами и очень короткой юбочкой. Как ни коротка была юбочка, трико под ней было еще короче. Однако на соседнем пляже яхт-клуба и у кромки воды можно было увидеть десятка два женщин, не привлекавших к себе настороженного внимания, хоть и одетых более смело. Их костюмы, такие же короткие и облегающие, были совсем без рукавов, как мужские, а глубокий вырез на спине и подмышками указывал на то, что обладательницы их освоились с модами 1916 года.
Таким образом, не купальный костюм Иды Бартон смущал женщин, хотя они и убеждали себя, что дело именно в нем. Смущали их, скажем, ее ноги, или, вернее, вся она, нестерпимый блеск ее очаровательной, вызывающей женственности. Этот вызов безошибочно чувствовали и пожилые матроны, и дамы средних лет, и молодые девушки, оберегавшие от солнца свои слабенькие, затянутые жирком мышцы и тепличный цвет лица. Да, в ней был вызов, и угроза, и оскорбительное превосходство над всеми партнершами в той маленькой жизненной игре, которую они сами выдумали и вели с переменным успехом.
Но они этого не высказывали. Они не позволяли себе даже мысленно это признать. Они воображали, что все зло в купальном костюме, и осуждали его, словно не видя двух десятков женщин, одетых более смело, но не столь катастрофически красивых.
Если б можно было просеять психологию этих блюстительниц нравов сквозь мелкое сито, на дне его осталась бы завистливая, чисто женская мысль: «Нельзя допускать, чтобы такая красивая женщина выставляла напоказ свою красоту». Они ощущали это как несправедливость. Много ли у них остается шансов в борьбе за мужчин с появлением такой опасной соперницы?
И они были правы, ибо вот что сказал по этому поводу Стэнли Паттерсон своей жене, когда они, выкупавшись, лежали на песке у ручья, который Бартоны в эту минуту переходили вброд, чтобы попасть на пляж яхт-клуба.
— Господи боже, покровитель искусств и натурщиц! Нет, ты только посмотри, видала ты когда-нибудь женщину с такими изумительными ногами! До чего стройны и пропорциональны! Это ноги юноши. Я видел на ринге боксеров в легком весе с такими ногами. А вместе с тем это чисто женские ноги. Их всегда отличишь. Вон как выгнута передняя линия бедра. И сзади круглится ровно настолько, насколько нужно. А как эти две линии сходятся к колену, и какое колено! Просто руки чешутся, жалко глины нет.
— Колено просто замечательное, — подхватила его жена, не менее его увлеченная, ибо она тоже была скульптором. — Ты погляди, как суставы ходят под кожей. Просто счастье, что все это не залито жиром. — Она вздохнула, вспомнив о собственных коленях. — Вот где и пропорции, и красота, и грация. Тут действительно можно говорить об очаровании плоти. Интересно, кто она такая.
Стэнли Паттерсон, не сводя глаз с незнакомки, с жаром вел свою партию в семейном дуэте:
— Ты заметила, что у нее совсем нет мускульных подушек на внутренней стороне колена, от которых почти все женщины кажутся колченогими? Это ноги юноши, крепкие, уверенные…
— И в то же время ноги женщины, округлые и нежные, — поспешила дополнить его жена. — А взгляни, как она идет, Стэнли! Она ступает на носок и от этого кажется легкой, как перышко. С каждым шагом она чуть отделяется от земли, и кажется, что она поднимается все выше и выше и летит, либо сейчас взлетит…
Так восторгались Стэнли Паттерсон и его жена. Но они были люди искусства, а потому и глаза у них были непохожи на ту батарею глаз, под огонь которых Ида Бартон попала в следующую минуту, — глаз, нацеленных на нее с веранд яхт-клуба и из-под деревьев хау, осенявших соседний Приморский отель. В яхт-клубе собрались главным образом не приезжие туристы, а спортсмены и гавайские старожилы. Но даже старожилки — и те ахнули.
— Это просто неприлично, — заявила своему мужу миссис Хенли Блек, расползшаяся сорокалетняя красавица, которая родилась на Гавайях и даже не слыхала об Остенде.
Хенли Блек окинул задумчивым, уничтожающим взором недопустимо бесформенную фигуру жены и ее допотопный купальный костюм, к которому не придрался бы даже пуританин из Новой Англии. Они были женаты так давно, что он уже мог высказываться откровенно.
— Сравнить вас, так это не ее, а твой костюм выглядит неприлично. Точно ты кутаешься в эти нелепые тряпки, чтобы скрыть какой-нибудь позорный изъян.
— Она несет свое тело, как испанская танцовщица, — сказала миссис Паттерсон мужу; в погоне за ускользающим видением они тоже перешли вброд через ручей.
— Верно, черт возьми, — подтвердил Стэнли Паттерсон. — Мне тоже вспомнилась Эстреллита. Грудь полная, но не слишком, тонкая талия, живот не чересчур тощий и защищен мускулами, как у мальчишки-боксера. Без этого она не могла бы так держаться, а к тому же они соответствуют мускулам спины. Ты видишь, какой у нее изгиб спины. Совсем как у Эстреллиты.
— Как по-твоему, какой у нее рост? — спросила жена.
— Он обманчив, — последовал осторожный ответ. — Может быть, пять футов один дюйм, а может, и все четыре дюйма. Сбивает ее походка, вот именно то, что ты сказала, что она как будто летит.
— Да, да, — согласилась миссис Паттерсон. — Ее точно все время подымает на цыпочки, так много в ней жизненной энергии.
Стэнли Паттерсон отозвался не сразу.
— Ты права, — заключил он наконец. — Она — маленькая. От силы пять футов два дюйма. А вес ее, я считаю, сто десять или восемь, и уж никак не больше ста пятнадцати фунтов.
— Ста десяти она не весит, — убежденно возразила его жена.
— Но когда она одета, — продолжал Стэнли Паттерсон, — да с ее манерой держаться (результат жизненной энергии и сильной воли), я уверен, что она вовсе не кажется маленькой.
— Я знаю этот тип, — кивнула его жена. — Смотришь на нее, и создается впечатление, что она не то чтобы особенно крупная женщина, но во всяком случае выше среднего роста. Ну, а сколько ей лет?
— Это уж тебе виднее, — уклонился он.
— Может, двадцать пять, а может, и тридцать восемь…
Но Стэнли Паттерсон, забыв о вежливости, не слушал ее.
— Да не только ноги! — воскликнул он упоенно. — Она вся хороша. Ты смотри, какая рука, до локтя тонкая, а к плечу округляется. А бицепсы! Красота! Пари держу, что, когда она их напрягает, они здорово вздуваются…
Любая женщина, а тем более Ида Бартон, неминуемо должна была заметить, какую сенсацию она произвела на пляже Ваикики. Но это не льстило ее тщеславию, а раздражало ее.
— Вот мерзавки! — смеясь, сказала она мужу. — И подумать только, что я здесь родилась, да еще чуть ли не треть века назад. Тогда люди были не такие противные. Может быть, потому, что тогда здесь не было туристов. Ведь я и плавать-то научилась как раз здесь, перед яхт-клубом. Мы приезжали сюда с отцом на каникулы и на воскресенье и жили в травяной хижине, — она стояла на том самом месте, где сейчас яхт-клубные дамы распивают чай. По ночам на нас падали с крыши сороконожки, мы ели пои, моллюсков и сырую рыбу, купались и рыбачили без всяких костюмов, а в город и дороги-то приличной не было. В большие дожди ее так размывало, что приходилось возвращаться на лодках — выгребать за отмель и входить в гавань в самом Гонолулу.
— Не забывай, — подхватил Ли Бартон, — что как раз в это время тот юнец, из которого получился я, прожил здесь несколько недель во время своего кругосветного путешествия. Я, наверно, видел тебя среди ребят, которые тут плавали, как рыбы. Я помню, здесь женщины ездили верхом по-мужски, а ведь это было задолго до того, как женская половина рода человеческого в других странах отбросила скромность и решилась свесить ноги по обе стороны лошади. Я тоже выучился плавать на этом самом месте. Вполне возможно, что мы пробовали качаться на одних и тех же волнах, и может я когда-нибудь плеснул тебе в лицо водой, а ты в благодарность показала мне язык…
Тут его прервало довольно громкое негодующее «ах» из уст некой костлявой особы, загоравшей на песке в уродливом купальном костюме — скорее всего старой девы, и Ли Бартон почувствовал, как его жена невольно вся сжалась.
— Я очень доволен, — сказал он. — Ты у меня и так молодец, а тут совсем бесстрашная станешь. Пусть это тебя немножко стесняет, но зато и уверенности придает — только держись!
Ибо, да будет вам известно. Ли Бартон был сверхчеловек, и Ида Бартон
— тоже, во всяком случае в эту категорию их зачисляли начинающие репортеры, паркетные шаркуны и ученые критики-кастраты, неспособные разглядеть на горизонте, за однообразной равниной собственного существования, людей белее совершенных, чем они сами. Эти унылые создания, отголоски мертвого прошлого и самозванные могильщики настоящего и будущего, живущие чужой жизнью и, подобно евнухам, состоящие при чужой чувственности, утверждают — поскольку сами они, их среда и их мелкие треволнения убоги и пошлы, — что ни один мужчина, ни одна женщина не может подняться над убожеством и пошлостью.
В них самих нет красоты и размаха, и они отказывают в этих достоинствах всем; слишком трусливые, чтобы дерзать, они уверяют, что дерзание умерло еще в средние века, если не раньше; сами они — лишь мигающие свечки, и слабые их глаза не видят яркого пламени других душ, что озаряют их небосклон. Сил у них примерно столько, сколько у пигмеев, а что у других может быть больше сил, это им невдомек. Да, в прежние времена бывали на свете великаны; но в старых книгах написано, что великанов давно уже нет, от них остались одни кости. Эти люди никогда не видели гор, значит — гор не существует.
Зарывшись в тину своей непросыхающей лужи, они уверяют, что славные витязи с высоким челом и в блестящих доспехах возможны только в сказках, в древней истории да в народных поверьях. Они никогда не видели звезд и отрицают звезды. От их взора скрыты славные пути и те смертные, что идут этими путями, поэтому они отрицают существование и славных путей и отважных смертных. Считая собственные тусклые зрачки центром вселенной, они воображают, что вселенная создана по их подобию, и собственной жалкой личностью меряют отважные души, приговаривая: «Вот такой величины и все души, не больше. Не может быть, чтобы существовали души крупнее наших, а нашим богам известно, что мы — огромные».
Но когда Ида Бартон входила в воду, все, или почти все, кто был на берегу, прощали ей и ее костюм и ее прекрасное тело. В ее глазах веселый вызов, она чуть коснулась пальцами руки мужа, и вот они бегут несколько шагов в ногу и, разом оттолкнувшись от твердого морского песка, описывают в воздухе невысокую дугу и погружаются в воду.
В Ваикики бывает два прибоя: большой, бородатый Канака, ревущий далеко за молом; и меньший, прибой Вахине, то есть женщина, — тот, что разбивается о берег. Вдоль берега тянется широкая полоса мелководья, здесь можно пройти по дну и сто и двести футов не захлебнувшись. Все же, если дальний прибой разбушуется, прибой Вахине тоже достигает трех-четырех футов, так что у самого берега твердое песчаное дно может оказаться и в трех дюймах и в трех футах от кипящей на поверхности пены. Чтобы нырнуть в эту пену — с разбега оторваться от земли, повернуться в воздухе пятками вверх и разрезать воду головой, — требуется хорошее знание волн и умение приспособляться к ним, годами выработанное искусство погружаться в эту непостоянную стихию изящным, решительным броском, да еще не уходя глубоко в воду.
Это красивый, грациозный и смелый номер, который дается не сразу, — им не овладеть без долгой тренировки, сопряженной не только с множеством легких ушибов о морское дно, но и с риском раздробить себе череп или сломать шею. На том самом месте, где Бартоны нырнули так благополучно, за два дня до того сломал себе шею известный американский атлет. Он не сумел рассчитать подъем и спад прибоя Вахине.
— Профессионалка, — фыркнула миссис Хенли Блек, наблюдавшая за Идой Бартон.
— Наверное, какая-нибудь циркачка. — Такими и подобными замечаниями успокаивали друг друга женщины, сидевшие в тени; прибегая к нехитрому методу самообмана, они утешались сознанием великой разницы между теми, кто работает, чтобы есть, и их собственным кругом, где едят не работая.
В тот день прибой в Ваикики был особенно сильный. Даже волны Вахине вполне удовлетворяли хороших пловцов. Дальше, в прибой Канака, не заплывал никто. И не потому, что молодые спортсмены, собравшиеся на пляже, боялись заплыть так далеко, — просто они знали, что гигантские гремящие валы, обрываясь вниз, неизбежно затопят даже самый большой из их челнов и перевернут любую доску[13]. Большинство из них могли бы, правда, пуститься вплавь, потому что человек проплывет и сквозь такую волну, на какие не взобраться челнам и доскам; но не это привлекало сюда молодых людей из Гонолулу: они больше всего любили, раскачавшись на волне, на минуту подняться во весь рост в воздухе, а потом стрелою лететь вместе с волной к берегу.
Капитан челна номер девять, один из основателей яхт-клуба и сам неоднократный чемпион по плаванию на большую дистанцию, пропустил тот момент, когда Бартоны бросились в воду, и впервые увидел их уже за канатом, намного дальше последней группы купающихся. После этого он, стоя на верхней веранде клуба, уже не спускал с них глаз. Когда они миновали стальной мол, возле которого резвились в воде несколько самых отчаянных ныряльщиков, он с досадой пробормотал: «Вот чертовы малахини!»
«Малахини» по-гавайски значит новичок, неженка; а капитан челна номер девять, хоть и видел, как хорошо они плывут, знал, что только малахини отважится выплыть в стремительное и страшно глубокое течение за молом. Это-то и вызвало его досаду. Он спустился на берег, вполголоса дал указания кое-кому из самых сильных своих гребцов и вернулся на веранду, прихватив с собой бинокль. Шестеро гребцов, стараясь не обращать на себя внимания, снесли челн номер девять к самой воде, проверили весла и уключины, а затем небрежно развалились на песке. Глядя на них, никто бы не заподозрил, что творится что-то неладное, но сами они то и дело поглядывали вверх на своего капитана, а он не отнимал от глаз бинокля.
Страшная глубина за молом объяснялась тем, что в море вливался ручей,
— кораллы не живут в пресной воде. А стремительность течения объяснялась силой рвущегося к берегу прибоя. Вода, которую снова и снова гнал к берегу грозный прибой Канака, спадая, уходила обратно в море с этим течением и вниз, под большие валы. Даже здесь, где было течение, волны вздымались высоко, но все же не на такую великолепную и устрашающую высоту, как справа и слева от него. Таким образом, в самом течении челну или сильному пловцу особая опасность не грозила. Но нужно было быть поистине сильным пловцом, чтобы устоять против его силы. Вот почему капитан номера девятого не покидал своего наблюдательного поста и не переставал бормотать проклятия, уверенный в том, что эти малахини вынудят его спустить челн и отправиться им на подмогу, когда они выбьются из сил. Сам он на их месте повернул бы налево, к мысу Даймонд, и дал бы прибою Канака вынести себя на сушу. Но ведь он — это он, двадцатидвухлетний бронзовый Геркулес, белый человек, обожженный субтропическим солнцем до цвета красного дерева и очень напоминающий фигурой и силой мускулов Дьюка Каханомоку. В заплыве на сто ярдов чемпион мира всегда опережал его на целую секунду, зато на дальних дистанциях он оставлял чемпиона далеко позади.
Из сотен людей, находившихся на пляже, никто, кроме капитана и его гребцов, не знал, что Бартоны уплыли за мол. Все, кто видел, как они отплывали от берега, были уверены, что они вместе с другими прыгают с мола.
Внезапно капитан вскочил на перила веранды и, держась одной рукой за столбик, снова навел бинокль на две темные точки вдали. Догадка его подтвердилась. Эти дураки, выбравшись из течения, повернули к мысу Даймонд, отгороженные от берега прибоем Канака. Хуже того, они, видимо, решили пересечь прибой.
Он быстро глянул вниз, но когда в ответ на его взгляд притворно дремавшие гребцы не спеша поднялись и заняли свои места, чтобы спустить челн на воду, он передумал. Мужчина и женщина погибнут раньше, чем челн успеет с ними поровняться. А если даже он с ними поровняется, его затопит в ту же секунду, как он свернет из течения в прибой, и даже лучшие пловцы из команды девятого едва ли спасут человека, которого швыряет о дно безжалостными ударами бородатых валов.
Капитан увидел, как далеко в море, позади двух крошечных точек — пловцов, поднялась первая волна Канака, большая, «о еще не из самых больших. Потом он увидел, что они плывут кролем, бок о бок, погрузив лицо в воду, вытянувшись во всю длину, работая ногами, как пропеллером, и быстро выбрасывая вперед руки, в попытке набрать ту же скорость, что у настигающей их волны, чтобы, когда она их настигнет, не отстать от нее, а дать ей себя подхватить. Тогда, если у них достанет духа и сноровки, чтобы удержаться на гребне и не упасть с него, — иначе их тут же разобьет или утащит вниз головою на дно, — они понесутся к берегу уже не собственными усилиями, а увлекаемые волной, с которой они слились воедино.
И это им удалось. «Пловцы хоть куда!» — вполголоса доложил сам себе капитан девятого. Он все не отнимал от глаз бинокля. Лучшие пловцы могут проплыть на такой волне несколько сот футов. А эти? Если они не сдадут, треть опаснейшего пути, который они сами выбрали, останется позади. Но, как он и предвидел, первой сплоховала женщина — ведь поверхность ее тела меньше. Через каких-нибудь семьдесят футов она не выдержала и скрылась из глаз под многотонной массой воды, перекатившейся через нее. Потом исчез под водой мужчина, и оба снова появились на поверхности далеко позади волны, которую они потеряли.
Следующую волну капитан увидел раньше их. «Если они попробуют поймать эту, тогда прощай», — проговорил он сквозь зубы — он знал, что всякий пловец, который решится на такое дело, обречен. Этот вал, в милю длиной, еще без гребня, но страшнее всех своих бородатых собратьев, подымался далеко за ними, все выше и выше, пока не закрыл горизонта плотной стеной, и только тогда на его истонченном, загнутом гребне, наконец, забелела пена.
Но мужчина и женщина, видимо, хорошо знали море. Вместо того чтобы убегать от волны, они повернулись к ней лицом и стали ее ждать. Мысленно капитан похвалил их. Он один видел эту картину удивительно ярко и четко благодаря биноклю. Водяная стена все росла и росла, и далеко вверху, где она была тоньше, сине-зеленую воду пронизывали краски заката. Зеленый тон все светлел у него на глазах и переходил в голубой. Но голубизна эта сверкала на солнце бесчисленными искрами, розовыми и золотыми. Выше и выше, до растущего белого гребня, разливалась оргия красок, пока вся волна не стала сплошным калейдоскопом переливающихся радуг.
На фоне волны две головы, мужчины и женщины, казались черными точками. Это и были точки, затерявшиеся в слепой стихии, бросавшие вызов титанической силе океана. Тяжесть нависшего над ними высоченного вала могла, обрушившись, насмерть оглушить мужчину, переломать хрупкие кости женщины. Капитан девятого, сам того не замечая, затаил дыхание. О мужчине он забыл. Он видел только женщину. Стоит ей растеряться, или оробеть, или сделать одно неверное движение, и страшной силы удар отшвырнет ее на сто футов, размозжит, беспомощную и бездыханную, о коралловое дно, и глубинное течение потащит ее в открытое море к прожорливым мелким акулам, слишком трусливым, чтобы напасть на живого человека.
Почему, спрашивал себя капитан, почему они заранее не нырнут поглубже, а дожидаются, пока последний безопасный миг не превратится в первый миг смертельной опасности? Он увидел, как женщина, смеясь, повернула голову к мужчине, и тот засмеялся в ответ. Волна уже поднимала их, а высоко над ними из мелочно-белого гребня брызнули клочья пены, горящей рубинами и золотом. Свежий пассатный ветер, дувший от берега, подхватил эти клочья и понес их назад и вверх. И вот тут-то, держась в шести футах друг от друга, они разом нырнули прямо под волну, и в то же мгновение волна рассыпалась и упала. Как насекомые исчезают в завитках причудливой гигантской орхидеи, так исчезли они, а гребень, и пена, и многоцветные брызги с грохотом обвалились на то самое место, где они только что ушли под воду.
Наконец, пловцы показались снова, позади волны, по-прежнему в шести футах друг от друга, — они ровными взмахами плыли к берегу, готовые либо поймать следующую волну, либо повернуться ей навстречу и нырнуть под нее. Капитан девятого помахал своим гребцам в знак того, что они могут разойтись, а сам присел на перила веранды, чувствуя непонятную усталость и все продолжая следить в бинокль за плывущими.
— Кто они, не знаю, — пробормотал он, — но только не малахини. За это я ручаюсь.
Прибой у Ваикики достигает большой силы далеко не всегда, вернее очень редко; и хотя Бартоны и в последующие дни возбуждали любопытство и негодование путешествующих дам, капитаны из яхт-клуба больше о них не тревожились. Они видели, как муж и жена, отплыв от берега, растворялись в синей дали, а через несколько часов либо видели, либо не видели, как они приплывали обратно. Капитаны о них не тревожились, они знали, что эти двое вернутся.
А все потому, что они оказались не малахини. Они были свои. Другими словами — или, вернее, одним выразительным гавайским словом, — это были камааина. Сорокалетние старожилы помнили Ли Бартона с детства, с тех пор, когда он действительно был малахини, хотя и очень юным. А за это время, приезжая сюда часто и надолго, он успел заслужить почетное звание камааина.
Что касается Иды Бартон, то местные дамы одного с ней возраста встречали ее объятиями и сердечными гавайскими поцелуями (втайне удивляясь, как она умудрилась сохранить свою фигуру). Бабушки приглашали ее выпить чаю и поболтать о прошлом в садиках забытых домов, которых не видит ни один турист. Меньше чем через неделю после ее приезда престарелая королева Лилиукалани[14] послала за ней и пожурила за невнимание. А беззубые старики, сидя на прохладных душистых циновках, толковали ей про ее деда, капитана Уилтона, — сами они его уже не застали, но любили воскрешать в памяти его разгульную жизнь и сумасбродные выходки, о которых знали по рассказам отцов. Это был тот самый дед-капитан Уилтон, он же Дэвид Уилтон, он же «на все руки», как любовно окрестили его гавайцы в те далекие дни: сначала — торговец на диком Северо-Западе, потом — беспутный бродяга, капитан без корабля, тот самый, что в 1820 году, стоя на берегу в Каилуа, приветствовал первых миссионеров, прибывших сюда на бриге «Тадеуш», а через несколько лет сманил дочку одного из этих миссионеров, женился на ней, остепенился и долго служил верой и правдой королям Камехамеха в должности министра финансов и начальника таможни, в то же время выступая посредником и миротворцем между миссионерами, с одной стороны, и пестрой, вечно сменяющейся толпой бродяг, торговцев и гавайских вождей — с другой.
Ли Бартон тоже не мог пожаловаться на недостаток внимания. Когда в их честь устраивали игры в море и танцы, обеды и завтраки и национальные пиршества «луау», его тащили в свою компанию старые друзья; некогда веселые прожигатели жизни, теперь они обнаружили, что на свете есть пищеварение и прочие функции организма, и соответственно угомонились, меньше кутили, больше играли в бридж и часто ходили на бейсбольные матчи. Такую же эволюцию претерпели и прежние партнеры Ли Бартона по игре в покер — они теперь сильно снизили свои ставки и лимиты, пили минеральную воду и апельсиновый сок, а последнюю партию кончали не позднее полуночи.
В самый разгар этих развлечений появился на сцене Санни Грэндисон, уроженец и герой Гавайских островов, уже успевший в свои сорок один год отклонить предложенный ему пост губернатора территории[15]. Четверть века назад он швырял Иду Бартон в прибой у берега Ваикики, а еще раньше, проводя каникулы на огромном скотоводческом ранчо своего отца на острове Лаканаии, торжественно принял ее и нескольких других малышей в возрасте от пяти до семи лет в свою шайку под названием «Охотники за головами», или «Гроза Лаканаии». А еще до этого его дед Грэндисон и ее дед Уилтон вместе орудовали в деловых и политических сферах.
По окончании Гарвардского университета он много странствовал, продолжая заниматься наукой и везде приобретая друзей. Служил на Филиппинах, участвовал как энтомолог в ряде научных экспедиций на Малайский архипелаг, в Африку и в Южную Америку. В сорок один год он все еще числился в штатах Смитсоновского института, и приятели его уверяли, что он понимает в сахарном жучке больше, чем специалисты-энтомологи экспериментальной станции, учрежденной им вместе с другими сахарными плантаторами. Он был видной фигурой у себя на родине и самым популярным представителем Гавайев за границей. Гавайцы-путешественники в один голос утверждали, что в каком бы уголке земного шара им ни пришлось упомянуть, откуда они родом, их первым делом спрашивали: «А Санни Грэндисона вы знаете?»
Короче говоря, это был сын богача, достигший блестящего успеха. Миллион долларов, полученный в наследство от отца, он превратил в десять миллионов, в то же время не свернув благотворительную деятельность, начатую отцом, а расширив ее.
Но это еще не все, что можно о нем сказать. Десять лет назад он потерял жену, детей не имел, и на всех Гавайях не было человека, за которого столько женщин мечтало бы выйти замуж. Высокий, тонкий, с втянутым животом гимнаста, всегда в форме, брюнет с резкими чертами лица и сединой на висках, эффектно оттенявшей молодую кожу и живые, блестящие глаза, он выделялся в любой компании. Казалось бы, все его время без остатка должны были поглощать светские развлечения, заседания комитетов и правлений и политические совещания; между тем он еще состоял капитаном команды поло, одержавшей немало побед, и на принадлежащем ему острове Лаканаии разводил лошадей для игры в поло не менее успешно, чем Болдуины на острове Мауи.
Когда при наличии двух сильных и самобытных натур — мужчины и женщины — на сцене появляется второй, столь же сильный и самобытный мужчина, почти неизбежно возникновение трагического треугольника. Выражаясь языком паркетных шаркунов, такой треугольник можно назвать «сверхтрагическим» или «потрясающим». Первый, должно быть, уяснил себе положение Санни Грэндисон, поскольку с его дерзкого желания все и началось; вряд ли, впрочем, даже его быстрый ум обогнал интуицию такой женщины, как Ида Бартон. Несомненно одно: Ли Бартон прозрел последним и попробовал обратить в шутку то, что отнюдь не было шуткой.
Он быстро убедился, что прозрел с большим запозданием, то есть уже после того, как все стало ясно доброй половине людей, у которых он бывал в гостях. Оглянувшись назад, он сообразил, что уже довольно давно на все светские сборища, куда приглашали его с женой, оказывался приглашенным и Санни Грэндисон. Где бы ни бывали они вдвоем, бывал и он, третий. Куда бы ни отправлялось веселое общество — в Кахуку, Халейва, Ахуиману, или в коралловые сады Канеохе, или купаться на мыс Коко, — неизменно получалось так, что Ида ехала в автомобиле Санни или оба они ехали еще в чьем-нибудь автомобиле. Они встречались на балах, обедах, экскурсиях, «луау» — словом, всюду.
Раз прозрев, Ли Бартон уже не мог не заметить, что в присутствии Санни Грэндисона Ида особенно оживлялась, что она охотно ездила с ним в машине, танцевала с ним или пропускала танец, чтобы посидеть с ним. Но убедительнее всего был вид самого Санни Грэндисона. Несмотря на возраст, выдержку и жизненный опыт, его лицо выдавало его чувства так же явно, как лицо двадцатилетнего юноши. В сорок один год, сильный, опытный мужчина, он не научился скрывать свою душу за бесстрастной маской, так что Ли Бартону, его ровеснику, не стоило труда разглядеть ее сквозь такую прозрачную оболочку. И не раз, когда Ида болтала с другими женщинами и речь заходила о Санни, Ли Бартон слышал, как тепло она о нем отзывалась, как красноречиво расписывала его стиль игры в поло, его общественную деятельность и все его многообразные достоинства.
Итак, душевное состояние Санни не представляло загадки для Ли Бартона — оно было видно любому. Но Ида, его жена, с которой он двенадцать лет прожил в безоблачно счастливом союзе, что сказать о ней? Он знал, что женщины — этот загадочный пол — многое умеют хранить в тайне. Означают ли ее откровенно дружеские отношения с Грэндисоном всего только возобновление детской дружбы? Или они служат ширмой для тайного сердечного жара, для ответного чувства, быть может даже более сильного, чем то, что так ясно написано на лице Санни?
Ли Бартону было невесело. Двенадцать лет безраздельного и узаконенного обладания собственной женой убедили его в том, что она — единственная женщина, которая ему нужна, что нет на свете женщины, которая могла бы посягнуть на ее место в его сердце и сознании. Он не мог себе представить, чтобы какая-нибудь женщина могла отвлечь его от Иды, а тем более превзойти ее в умении всегда и во всем ему нравиться.
Так неужели же, в ужасе спрашивал он себя, уподобляясь всем влюбленным Бенедиктам[16], это будет ее первый «роман»? Вопрос этот мучил его непрестанно, и, к удивлению остепенившихся пожилых юнцов — своих партнеров в покер, а также к великому удовольствию дам, наблюдавших за ним на званых обедах, он стал пить вместо апельсинового сока коньяк, громко ратовать за повышение лимита в покере, вечерами с сумасшедшей скоростью гонять свою машину по дорогам на мыс Даймонд и к пропасти Пали и потреблять — либо до, либо после обеда — больше коктейлей и шотландского виски, чем положено нормальному человеку.
Ида всегда относилась к его увлечению картами очень снисходительно. За годы их брака он к этому привык. Но теперь, когда возникло сомнение, ему чудилось, что она только и ждет, чтобы он засел за карты. Кроме того, он заметил, что Санни Грэндисон перестал появляться там, где играли в покер и в бридж. Говорили, что он очень занят. Где же проводит время Санни, когда он, Ли Бартон, играет в карты? Не всегда же на заседаниях комитетов и правлений. Ли Бартон решил это проверить. Он без труда установил, что, как правило, Санни проводит это время там же, где Ида Бартон, — на балах, обедах или на купаньях при луне; а в тот день, когда Санни, сославшись на неотложные дела, отказался составить с Ли, Лэнгхорном Джонсом и Джеком Холстейном партию в бридж в клубе «Пасифик», — в тот самый день он играл в бридж у Доры Найлз с тремя женщинами, и одной из них была Ида.
Однажды Ли Бартон, возвращаясь из Пирл-Харбора, где он осматривал строительство сухого дока, и включив третью скорость, чтобы успеть переодеться к обеду, обогнал машину Санни; единственным пассажиром в этой машине была Ида. Спустя неделю, в течение которой Ли ни разу не играл в карты, он в одиннадцать часов вечера вернулся домой с холостого обеда в Университетском клубе, а следом за ним вернулась Ида — с ужина и танцев у Алстонов. И домой ее привез Санни Грэндисон. Они упомянули, что сначала отвезли майора Фрэнклина с женой в Форт Шафтер, по ту сторону города, за много миль от Ваикики.
Ли Бартон был всего лишь человек и втайне жестоко страдал, хотя на людях отношения его с Санни были самые дружеские. Даже Иде было невдомек, что он страдает, и она жила по-прежнему беззаботно и весело, ничего не подозревая и разве что слегка удивляясь количеству коктейлей, которые ее муж поглощал перед обедом.
Казалось, что он, как и прежде, открыт для нее весь, до последних глубин; на самом же деле он скрывал от нее свои муки, так же как и ту бухгалтерскую книгу, которую он мысленно вел, каждую минуту, днем и ночью, пытаясь подвести в ней итог. В одну колонку заносились несомненно искренние проявления ее обычной любви и заботы о нем, многочисленные случаи, когда она успокаивала его, спрашивала или слушалась его совета. В другую — где записи делались все чаще — собирались слова и поступки, которые он волей-неволей относил в разряд подозрительных. Искренни ли они? Или в них таится обман, пусть даже непреднамеренный? Третья колонка, самая длинная и самая важная с точки зрения человеческого сердца, содержала записи, прямо или косвенно касающиеся его жены и Санни Грэндисона. Ли Бартон вел эту бухгалтерию без всякого умысла. Он просто не мог иначе. Он с радостью бросил бы это занятие. Но ум его требовал порядка, и записи сами собой, помимо его воли, располагались каждая в своей колонке.
Все теперь представлялось ему в искаженном виде, он из каждой мухи делал слона, хотя часто сам сознавал, что перед ним муха. Наконец, он обратился к Мак-Илвейну, которому когда-то оказал весьма существенную услугу. Мак-Илвейн был начальником сыскной полиции. «Большую ли роль в жизни Санни Грэндисона играют женщины?» — спросил его Бартон. Мак-Илвейн ничего не ответил. «Значит, большую», — заключил Бартон. Начальник полиции опять промолчал.
Вскоре после этого Ли Бартон прочел секретную записку за подписью Мак-Илвейна и тут же уничтожил ее, как ядовитую гадину. Общий вывод был: Санни вел себя неплохо, но и не слишком хорошо после того, как десять лет назад у него погибла жена. Их брак был притчей во языцех в высшем обществе Гонолулу, так они были влюблены не только до свадьбы, но и после, вплоть до ее трагической гибели — она вместе с лошадью свалилась с тропы Нахику в бездонную пропасть. И еще долго после этого, утверждал Мак-Илвейн, женщины для Грэндисона словно не существовали. А потом если что и бывало, то все оставалось в рамках приличий. Никаких сплетен, никакой огласки, так что в обществе сложилось мнение, что он — однолюб и никогда больше не женится.
Что касается нескольких мимолетных связей, которые Мак-Илвейн перечислил в своем докладе, то, по его словам, Грэндисону и в голову не могло прийти, что о них известно кому-либо, кроме самих участников.
Бартон наскоро, словно стыдясь, проглядел короткий список имен и дат и успел искренне удивиться, прежде чем предать бумагу огню. Да, чего другого, а осторожности у Санни хватало. Глядя на пепел, Бартон задумался о том, много ли эпизодов из его собственной молодости хранится в архивах старика Мак-Илвейна. И вдруг почувствовал, что краснеет. Какой же он дурак! Раз Мак-Илвейну столько известно о частной жизни любого члена их общества, не ясно ли, что он сам, муж, защитник и покровитель Иды, дал Мак-Илвейну повод заподозрить ее?
— Ничего не случилось? — спросил он жену в тот же вечер, когда она кончала одеваться, а он стоял возле, держа наготове ее пальто.
Это вполне соответствовало их давнишнему уговору о взаимной откровенности, и в ожидании ее ответа он даже упрекал себя за то, что не спросил ее много раньше.
— Нет, — улыбнулась она. — Ничего особенного… Может быть, после…
Она загляделась на себя в зеркало, попудрила нос и снова смахнула пудру пуховкой. Потом добавила:
— Ты ведь знаешь меня, Ли. Мне нужно время, чтобы во всем разобраться… если есть, в чем разбираться; а после этого я тебе всегда все говорю. Только часто оказывается, что говорить-то не о чем, так что нечего тебя и беспокоить.
Она протянула назад руки, чтобы он подал ей пальто, — храбрые, умные руки, крепкие, как сталь, когда она борется с волнами, и в то же время такие чудесные женские руки, круглые, теплые, белые, — как и должны быть у женщины, — с тонкой, гладкой кожей, скрывающей отличные мускулы, покорные ее воле.
Он смотрел на нее с восхищением, с тоской и болью, — она казалась такой тоненькой, такой хрупкой, что сильный мужчина мог бы одной рукой переломить ее пополам.
— Едем скорее! — воскликнула она, заметив, что он не сразу накинул легкое пальто на ее прелестное, сверхлегкое платье. — Мы опоздаем. Если на Нууану польет дождь, придется поднимать верх, и мы не поспеем ко второму танцу.
Он решил непременно посмотреть, с кем она будет танцевать второй танец, и пошел следом за нею к двери, любуясь ее походкой, в которой, как он часто сам себе говорил, горделиво проявлялась вся ее сущность, и духовная и физическая.
— Ты не против того, что я так много играю в покер и оставляю тебя одну? — Это была новая уловка.
— Да бог с тобой! Ты же знаешь, я приветствую твои картежные оргии. Они тебя так подбадривают. И ты, когда играешь, делаешься такой симпатичный, такой солидный. Я уж не помню, когда ты засиживался за картами позже, чем до часу.
На улице Нууану дождь не полил, небо, начисто выметенное пассатом, было усеяно звездами. Они поспели ко второму танцу, и Ли Бартон увидел, как его жена пошла танцевать с Грэндисоном. В этом не было ничего удивительного, однако он не преминул отметить это в своей мысленной бухгалтерии.
Час спустя, терзаемый тоскливым беспокойством, он отказался от партии в бридж и, улизнув от нескольких молодых дам, вышел побродить по огромному саду. Вдоль дальнего края лужайки тянулась изгородь из ночного цереуса. Каждому цветку суждена была всего одна ночь жизни, — распустившись в сумерках, он к рассвету свернется и погибнет. Огромные — до фута в диаметре — чуть желтоватые цветы, похожие на восковые лилии, мерцая, словно маяки, во мраке, допьяна напоенном их ароматом, торопились насладиться своей прекрасной короткой жизнью.
Но на дорожке, бегущей вдоль изгороди, было людно. Гости парами гуляли здесь в перерывах между танцами, или во время танцев, и тихо переговаривались, жадно наблюдая это чудо — любовную жизнь цветов. С веранды, где расположился хор мальчиков, доносилась ласкающая мелодия «Ханалеи». Ли Бартону смутно вспомнился рассказ — кажется, Мопассана — про аббата, который свято верил, что все на свете сотворено богом для одному ему ведомых целей, но, затруднившись осмыслить с этой точки зрения ночь, понял в конце концов, что ночь создана для любви.
Оттого, что цветы и люди в один голос славили ночь, Бартону стало больно. Он повернул обратно к дому по дорожке, вьющейся в тени акаций и пальм. С того места, где она снова выходила из зарослей, он увидел в нескольких шагах от себя, на другой дорожке, мужчину и женщину, которые стояли в темноте обнявшись. Он обнаружил их, потому что услышал страстный шепот мужчины, но в ту же минуту и его заметили: шепот смолк, и пара замерла в полной неподвижности.
Он побрел дальше, удрученный мыслью, что густая тень деревьев — это следующий этап для тех, кто под широким небом восторгается ночными цветами. О, он хорошо помнил то время, когда ради минуты любви он готов был на любой обман, на любую хитрость, и чем гуще была тень, тем лучше. Что люди, что цветы — одно и то же, подумал он. Прежде чем снова включиться в привычную, но сейчас нестерпимую жизнь, он еще немного постоял в саду, рассеянно глядя на куст густо алых махровых мальв в ярком кругу света, падавшего с веранды. И внезапно все, что он выстрадал, все, что он только что видел и слышал, — ночные цветы, и приглушенные голоса влюбленных, и те двое, что обнимались украдкой, как воры, — все слилось в притчу о жизни, воплощенную в цветах мальвы, на которые он глядел. Ему казалось, что жизнь и страсть человека — это те же цветы: они распускаются на рассвете белыми как снег, розовеют под лучами солнца, а к вечеру становятся густо алыми и уже не доживают до нового рассвета.
Какие еще аналогии могли прийти ему в голову, неизвестно, потому что за ним, там, где росли акации и пальмы, послышался знакомый смех — веселый и безмятежный смех Иды. Не оглядываясь, страшась того, что должен был увидеть, он торопливо, чуть не спотыкаясь, поднялся на веранду. Но хотя он знал, что его ждет, все же, когда он, наконец, оглянулся и увидел свою жену и Санни, только что украдкой обнимавшихся в темноте, — у него закружилась голова и он постоял, держась за перила и с тупой улыбкой устремив глаза на группу мальчиков, выводивших в сладострастной ночи свои сладострастный припев «Хони кауа вики-вики».
Через секунду он облизал губы, справился с дрожью и успел бросить какую-то шутку хозяйке дома миссис Инчкип. Но нельзя было терять время — те двое уже поднимались по ступенькам веранды.
— Пить хочется, будто я пересек пустыню Гоби, — сказал он, — я чувствую, что только коктейль может спасти меня.
Миссис Инчкип улыбнулась и жестом направила его на курительную веранду, где его и нашли, когда начался разъезд: он оживленно обсуждал со старичками положение в сахарной промышленности.
В Ваикики уехало сразу несколько машин, и на его долю выпало отвезти домой Бернстонов и чету Лесли. Ида, как он успел заметить, села в машину Санни, рядом с ним. Она вернулась домой первая — когда он приехал, она уже причесывалась на ночь. Они простились и легли — так же, как обычно, но попытка казаться естественным, помня, чьи губы так недавно прижимались к ее губам, стоила ему такого труда, что он едва не потерял сознание.
«Неужто женщина и вправду совершенно аморальное существо, как утверждают немецкие пессимисты?» — спрашивал он себя, ворочаясь с боку на бок, и не мог ни уснуть, ни взяться за книгу. Через час он встал и нашел в аптечке сильно действующий снотворный порошок. Еще через час, опасаясь провести бессонную ночь наедине со своими мыслями, он принял второй порошок. Он проделал это еще два раза, с часовыми перерывами. Но снотворное действовало так медленно, что когда он, наконец, уснул, уже светало.
В семь часов он опять проснулся. Во рту было сухо, хотелось спать, однако он не мог забыться больше, чем на несколько минут кряду. Решив, что уже не заснет, он позавтракал в постели и занялся утренними газетами. Но порошки продолжали действовать, и он то и дело засыпал над газетой. Так же было, пока он принимал душ и одевался, и его радовало, что хотя ночью порошки почти не принесли ему облегчения, они помогли ему провести утро в каком-то полузабытьи.
И только когда жена его встала и пришла к нему в очаровательном халатике, с лукавой улыбкой на губах, как всегда веселая и безмятежная, его охватило порожденное опиумом безумие. Просто и ясно она дала понять, что, несмотря на давнишний уговор, ей нечего сказать ему, и тут, послушный голосу опиума, он начал лгать. На вопрос, хорошо ли он спал, он ответил:
— Отвратительно! Я два раза просыпался от судороги в ноге. Даже страшно было снова засыпать. Но больше она не повторилась, хотя ноги болят ужасно.
— У тебя это и в прошлом году было, — напомнила она.
— Сезонная болезнь, — улыбнулся он. — Это нестрашно, только очень противно, когда просыпаешься со сведенной ногой. Теперь до вечера ничего не будет, но ощущение такое, точно меня избили палками.
В тот же день, попозже, Ли и Ида Бартон нырнули в мелкую воду у пляжа яхт-клуба и, быстро миновав мол, уплыли вдаль, за прибой Канака. Море было такое тихое, что, когда они, часа через два, повернули обратно к берегу и не спеша стали пересекать прибой, они были совершенно одни. Слишком маленькие волны не представляли интереса для любителей качаться в челнах и на досках, так что все они уже давно вернулись на берег.
Вдруг Ли перевернулся на спину.
— Что случилось? — окликнула Ида, плывшая футах в двадцати от него.
— Нога… судорога, — ответил он негромко, весь сжавшись от страшного напряжения.
Опиум продолжал действовать, и он был словно в полусне. Глядя, как она подплывает к нему ровными, ритмичными взмахами, он полюбовался ее спокойствием, но его тут же кольнуло подозрение, что она спокойна потому, что мало его любит, или, вернее, любит гораздо меньше, чем Грэндисона.
— В какой ноге? — спросила она, принимая в воде вертикальное положение.
— В левой… ой! А теперь в обеих.
Он, словно непроизвольно, подогнул колени, высунул из воды голову и грудь и тут же скрылся из глаз под совсем небольшой волной. Через несколько секунд он всплыл и, отплевываясь, снова лег на спину.
Он чуть не улыбнулся, но улыбка превратилась в болезненную гримасу: ему действительно свело ногу, во всяком случае одну, и он почувствовал настоящую боль.
— Сейчас больнее в правой, — процедил он, увидев, что она хочет растереть ему ногу. — Но ты лучше держись подальше. У меня это бывало. Если станет хуже, я, чего доброго, могу вцепиться в тебя.
Она нашла руками затвердевшие мускулы и стала растирать и разминать их.
— Очень прошу тебя, держись подальше, — выдавил он сквозь стиснутые зубы. — Дай мне отлежаться. Я поработаю суставами, и все пройдет. Я знаю, что нужно делать.
Она отпустила его, но осталась рядом, по-прежнему держась в воде стоя и стараясь понять по его лицу, помогает ли ему эта гимнастика. Он же нарочно стал сгибать суставы и напрягать мускулы так, чтобы усилить судорогу. Когда это с ним случилось в прошлом году, он научился, лежа в постели с книгой, расслаблять мускулы и успокаивать судорогу, даже не отрываясь от чтения. Теперь он проделывал как раз обратные движения и со страхом и радостью почувствовал, что судорога, усилившись, перекинулась в правую икру. Он громко вскрикнул, сделал вид, что растерялся, попробовал высунуться из воды и исчез под набежавшей волной.
Он всплыл, отфыркался и лег на спину, раскинув руки, и тут сильные маленькие пальцы Иды крепко взялись за его икру.
— Не беда, — сказала она, энергично работая. — Такие судороги никогда не длятся очень долго.
— Я и не знал, что они бывают такие сильные, — простонал он. — Только бы не поднялись выше! Чувствуешь себя таким беспомощным.
Вдруг он вцепился ей руками в плечи, как утопающий вцепляется в весло, пытаясь на него взобраться, и под его тяжестью она погрузилась в воду. За то время, что он не давал ей вырваться, с нее смыло резиновый чепчик, шпильки выпали, и когда она, тяжело дыша, всплыла, наконец, на поверхность, мокрые распустившиеся волосы облепили ей все лицо. Он был уверен, что от неожиданности она порядком хлебнула морской воды.
— Уходи! — предостерег он ее и снова раскинул руки в притворном отчаянии.
Но пальцы ее уже снова нащупали больную икру, и не видно было, чтобы она испытывала колебания или страх.
— Выше пошло, — проговорил он с усилием, едва сдерживая стон.
Он напряг всю правую ногу, и настоящая судорога в икре усилилась, а мышцы бедра послушно затвердели, как будто их тоже свело.
Мозг его еще не освободился от действия опиума, так что он мог одновременно вести свою жестокую игру и с восторгом отмечать и силу воли, написанную на ее сразу осунувшемся лице, и смертельный ужас, затаившийся в глазах, и за всем этим — ее непоколебимый дух и твердую решимость.
Она явно не собиралась сдаваться, прячась за дешевую формулу: «Я умру с тобой вместе». Нет, к его великому восхищению, она спокойно приговаривала:
— Ничего. Погрузись поглубже, оставь над водой только рот. Голову я тебе поддержу. Это же не может продолжаться без конца. На суше никто еще не умирал от судорог. Значит, и в воде хороший пловец не может от них умереть. Дойдет до высшей точки и отпустит. Мы оба прекрасно плаваем и не из пугливых…
Он зажмурился, точно от страшной боли, и утянул ее под воду. Но когда они всплыли, она была по-прежнему рядом с ним и по-прежнему, стоя в воде, поддерживала его голову и твердила:
— Успокойся. Расслабь мускулы. Голову я тебе держу. Потерпи. Сейчас пройдет. Не борись. Не напрягай сознание, тогда и тело не будет напряжено. Вспомни, как ты учил меня отдаваться течению.
Новая волна, исключительно высокая для такого слабого прибоя, нависла над ними, и Ли Бартон опять схватил жену за плечи и утянул под воду в ту минуту, как гребень волны закудрявился и рухнул.
— Прости, — пробормотал он сдавленным от боли голосом, едва сделав первый вдох. — И оставь меня. — Он говорил отрывисто, с мучительными паузами. — Не к чему нам обоим погибать. Мое дело дрянь. Сейчас боль пойдет еще выше, тогда уж у меня не хватит сил тебя отпустить. Прошу тебя, дорогая, оставь меня. Пусть уж я один умру. Тебе есть для чего жить.
Она поглядела на него с таким упреком, что в глазах ее не осталось и следа смертельного ужаса. Слова и те не могли бы яснее выразить ее ответ: «Зачем же мне жить, если не для тебя».
Так, значит, он ей дороже, чем Санни! Бартон возликовал, но тут же вспомнил, как она обнималась с Санни в тени акаций, и решил, что еще мало помучил ее. Может быть, это выпитый опиум подстрекал его к такой жестокости. Раз уж он затеял это испытание, нашептывал маковый сок, пусть доводит его до конца.
Он подтянул колени, ушел под воду, всплыл и сделал вид, что отчаянно старается вытянуть ноги. Она все время держалась с ним рядом.
— Нет, не могу! — громко простонал он. — Дело дрянь. Ничего не выйдет. Тебе меня не спасти. Спасайся сама, пока не поздно.
Но она не отставала, она поворачивала его голову, чтобы вода не попала в рот, и приговаривала:
— Ничего, ничего. Хуже не будет. Потерпи еще чуточку, сейчас начнет проходить.
Он вскрикнул, скорчился, схватил ее и увлек под воду. На этот раз он чуть не утопил ее, так хорошо ему удалось разыграть эту сцену. Но она ни на секунду не растерялась, не поддалась страху неминуемой смерти. Едва высунув голову из воды, она старалась поддержать его и, задыхаясь, все шептала ему слова ободрения:
— Успокойся… успокойся… расслабь мускулы… Вот увидишь… сейчас станет лучше… Пусть больно… ничего… сейчас пройдет… уже проходит, да?
А он снова и снова тянул ее ко дну, все грубее хватал ее, заставляя еще и еще глотать соленую воду, в глубине души уверенный, что это не может серьезно ей повредить. На короткие мгновения они всплывали на залитую солнцем поверхность океана и снова скрывались, и кудрявые гребни волн перекатывались через них.
Она упорно боролась, вырываясь из его цепких пальцев но, когда он отпускал ее, не делала попыток отплыть подальше: силы ее убывали, сознание мутилось, но всякий раз она снова старалась спасти его. Наконец, рассудив, что пора кончать, он стал спокойнее, разжал руки и растянулся на воде.
Он испустил долгий блаженный вздох и заговорил, то и дело останавливаясь, чтобы перевести дыхание:
— Проходит. Какое счастье! Ох, дорогая, я здорово наглотался воды, но сейчас, когда нет этой ужасной боли, я чувствую себя, как в раю.
Она попыталась ответить, но не могла.
— Теперь мне хорошо, — повторил он. — Давай отдохнем. Ты тоже ляг, чтобы отдышаться.
И, лежа рядом на спине, они полчаса отдыхали на волнах кроткого прибоя Канака. Первой, оправившись, заговорила Ида Бартон.
— Ну как ты себя чувствуешь, мой дорогой? — спросила она.
— Так, как будто по мне прошел паровой каток, — отвечал он. — А ты, моя бедняжка?
— А я чувствую, что я самая счастливая женщина на свете. Я так счастлива, что готова плакать, только не хочется. Ты меня ужасно напугал. Одно время мне казалось, что я могу тебя потерять.
У Ли Бартона радостно забилось сердце. Ни слова о том, что она сама могла погибнуть! Так вот она, подлинная, испытанная любовь, великая любовь, когда забываешь себя, помня только о любимом.
— А я — самый гордый человек на свете, — сказал он, — потому что моя жена — самая храбрая женщина на свете.
— Храбрая! — возмутилась она. — Я же тебя люблю. Я и не знала, как я тебя люблю, пока мне не показалось, что я тебя теряю. А теперь давай двинемся к берегу. Я хочу побыть с тобой вдвоем, чтобы ты обнял меня, а я тебе рассказала, как ты мне дорог и всегда будешь дорог.
Еще через полчаса они без единой передышки доплыли до берега и пошли к купальне по твердому мокрому песку, среди публики, бездельничающей на пляже.
— Что это вы там делали? — окликнул их один из капитанов яхт-клуба. — Просто дурачились?
— Вот именно, — с улыбкой отвечала Ида Бартон.
— Вы же знаете, мы — типичные деревенские дурачки, — подтвердил ее муж.
А вечером, отказавшись от очередного приглашения, они сидели, обнявшись, в большом кресле у себя на балконе.
— Санни уезжает завтра в двенадцать часов, — сказала Ида, словно бы без всякой связи с предыдущим разговором. — Он едет в Малайю, посмотреть, как там поживает его Каучуковая и Леоная компания.
— А я и не слышал, что он покидает нас, — едва выговорил от удивления Ли.
— Я первая об этом узнала, — объяснила Ида. — Он сказал мне только вчера вечером.
— На балу?
Ида кивнула.
— Немножко неожиданно это получилось?
— Очень неожиданно. — Ида отодвинулась от мужа и выпрямилась в кресле. — Я хочу рассказать тебе про Санни. У меня никогда не было от тебя настоящих тайн. Я не хотела тебе рассказывать. Но сегодня, в прибое Канака, я подумала, что, если мы погибнем, между нами останется что-то недосказанное.
Она замолчала, и Ли, предчувствуя, что последует дальше, не стал ей помогать, а только сжал ее пальцы.
— Санни… ну, он увлекся мной. — Голос ее дрогнул. — Ты, конечно, это заметил. И… и вчера вечером он просил меня уехать с ним. Но я совсем не в этом хотела покаяться…
Ли Бартон молча ждал.
— Я хотела покаяться в том, — продолжала она, — что я совсем на него не рассердилась. Мне было только очень грустно и очень жаль его. Все дело в том, что я и сама немножко… вернее, совсем не немножко, увлеклась им. Потому я вчера вечером и была к нему так снисходительна. Я ведь не дура. Я знала, что это случится. И мне — знаю, знаю, я слабая, тщеславная женщина,
— мне было приятно, что такой человек из-за меня потерял голову. Я его поощряла. Мне нет оправдания. Если б я его не поощряла, того, что было вчера, не случилось бы. Это не он, а я виновата, что он звал меня уехать. А я сказала — нет, это невозможно, а почему — ты сам понимаешь, я и повторять не буду. Я обошлась с ним ласково, очень ласково. Я позволила ему обнять меня, не ушла от него и первый раз — потому что это был и самый, самый последний раз, — позволила ему поцеловать меня, а себе — ответить на его поцелуй. Я знаю, ты поймешь — это было прощание. Я ведь не любила Санни. И не люблю. Я всегда любила тебя, только тебя.
Она умолкла и в ту же минуту почувствовала, что рука мужа обхватила ее плечи и мягко притянула ее ближе.
— Да, ты доставила мне много тревожных минут, — признался он. — Я уже подумал было, что ты от меня уйдешь. И я… — Он запнулся, явно смущенный, потом, собравшись с духом, закончил: — Ты же знаешь, что ты для меня — единственная женщина. Ну и довольно.
Она нащупала у него в кармане спички и дала ему огня — закурить давно потухшую сигару.
— Да, — проговорил он сквозь окутавшее их облачко дыма, — зная тебя так, как я тебя знаю — всю до конца, — могу только сказать, что мне жаль Санни, очень жаль, он много потерял, но за себя я рад. И… еще одна вещь: через пять лет я что-то расскажу тебе, что-то очень интересное и смешное, про меня и про то, на какие глупости я способен из-за тебя. Через пять лет. Подождешь?
— Подожду и пятьдесят лет, — вздохнула она и крепче прижалась к нему.
1917 г.
Примечания
1
Нью‑Бедфорд — город и гавань в штате Массачусетс.
(обратно)2
Сьеста — послеполуденный отдых в часы наибольшей жары.
(обратно)3
Это маорийские названия… — Лондон придерживался теории, согласно которой заселение Гавайских о‑вов было совершено маори — народностью, которая и сейчас существует на о‑ве Новая Зеландия.
(обратно)4
Атлантида — по древнегреческим преданиям, материк, затонувший вследствие геологической катастрофы и некогда заселенный народом, обладавшим высокой культурой. Существует много теорий относительно тех географических зон, где могла бы произойти такая гигантская геологическая катастрофа. Лондон, видимо, полагал, что Атлантида могла находиться в Тихом океане.
(обратно)5
…Четвертое июля — национальный праздник США.
(обратно)6
Смотрите «Историю Сэндвичевых островов» Диббла. (Прим. автора).
(обратно)7
Фрина — по преданию, красавица‑гетера; была якобы моделью для некоторых скульптур Праксителя (IV в. до н. э.).
(обратно)8
Черная гвардия — один из привилегированных полков британской армии; здесь речь идет об англо‑бурской войне 1899 — 1902 годов.
(обратно)9
Каронада — корабельная пушка XVIII века.
(обратно)10
…жрецам удалось спасти от всеобщего истребления в 1819 году… — Под натиском христианских миссионеров население Гавайских о‑вов подвергалось насильственному крещению. Дохристианские святыни гавайцев были разрушены.
(обратно)11
«Королевские идиллии» — цикл поэм английского поэта Альфреда Теннисона (1808 — 1892), написанных на сюжеты средневековых рыцарских романов о сказочном британском короле Артуре и его воинах — рыцарях Круглого Стола. Джиневра — жена Артура; Ланселот дю Лак, вассал и друг Артура, был обвинен в связи с Джиневрой.
(обратно)12
Королева Лилиукалани — последняя королева (1881 — 1893) Гавайских о‑вов.
(обратно)13
Национальный вид спорта на Гавайских островах — носиться по волнам лежа или стоя на широких овальных полированных досках.
(обратно)14
Последняя королева Гавайских островов, которую американцы в 1893 году заставили отказаться от престола, после чего была провозглашена «республика».
(обратно)15
С 1900 года Гавайские острова именуются «территорией» США, фактически являясь их колонией.
(обратно)16
Персонаж из комедии Шекспира «Много шуму из ничего».
(обратно)



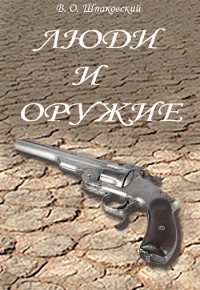
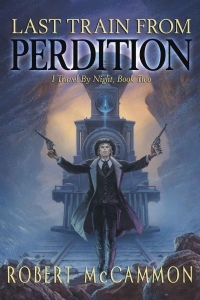


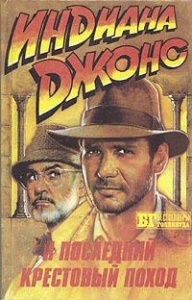

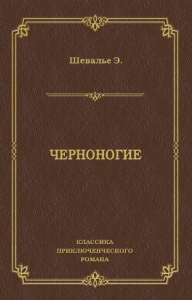

Комментарии к книге «На циновке Макалоа (Сборник рассказов)», Джек Лондон
Всего 0 комментариев