Хан Тенгри с севера. Негероические записки
Тому, кто не совершил ничего героического
остается только быть честным.
Ян Рыбак. Мысль первая и последняя
Гора
У каждого нормального человека наступает в жизни период, когда он должен взойти на свой семитысячник. С некоторых пор в душе моей поселилось беспокойство. Цифра 7000 манила меня. Я стал задумчив и рассеян. Я взвешивал свои силы и набирался храбрости. Я примерял себя к моей непальской любви с первого взгляда – Пумори, периодически отвлекаясь на мимолетные романы с другими, вполне привлекательными вершинами: Барунтзе, Тиличо, пиком Корженевской. Зуд становился всё сильнее, и наконец я почувствовал, что момент истины наступил – семья отпускает, работа не возражает, компания есть. В этом году я иду на семитысячник! Была также и причина иррационального характера, которой я ввиду важности намеченного мероприятия, не рискнул пренебречь. Я заметил, что в круглые, юбилейные даты моей жизни происходят события, определяющие её, мою жизнь, на долгие годы. Самые большие мои удачи, начала и прорывы выпадали на эти годы. Так было в 20 лет, так было в 30 лет, и теперь, в сорок, приятно было сознавать, что в предстоящем восхождении непознаваемое будет на моей стороне...
Внимательный читатель может заметить, что в некоротком списке единственных и желанных Хан Тенгри отсутствует. Всё верно, дальше него в моём списке стояла, пожалуй, только непобедимая Победа, и это вовсе не потому, что Хан – плохая гора. Наоборот, Хан – потрясающая гора. Слишком хорошая для меня – слишком крутая, слишком холодная, со слишком большим перепадом высот между базовым лагерем и вершиной. Слишком многие любят его, слишком просто к нему добраться и поэтому – слишком много людей, слишком много перил. Слишком много «слишком». Я хотел чего-то потише, поспокойнее, чего-то поинтимнее, я бы сказал. Но человек предполагает, а располагает – известно кто. Как виртуозный биллиардист, в несколько рассчитанных ударов посылающий шар в лузу, Он (ну тот, кто располагает...) загнал меня на Хан Тенгри. В какой-то момент мне даже было предложено отправиться на Победу, но это было уже слишком, я пригрозил выйти из игры, и мы сошлись с Ним на Хане. Понятное дело, что биллиард лишь метафора, и рычагом для подвижки моих планов послужили финансовые трудности, мои и моей команды. По мере того, как мы умеряли свои аппетиты, список вершин сокращался за счёт самых перспективных и лакомых, и в итоге остались лишь Хан Тенгри да пик Ленина. Две вершины, противоположные по всем своим свойствам и параметрам. Мы, не сговариваясь, выбрали Хан за стремительность очертаний, строптивый характер и красивое имя (да простит меня вождь мирового пролетариата). Как говорится, если уж падать с коня, так с хорошего... И вот, за пару месяцев до поездки, как раз, когда подходил сладкий миг покупки билетов, мою команду постигла очередная непредвиденная финансовая катастрофа. Такое бывает. Это случается с целыми странами, и даже с виду вполне благополучными. Мои друзья позвонили мне тёплым майским вечером и официально объявили о своём банкротстве. Я понял, что остался с Хан Тенгри один на один. В былые времена я бы устало пожал плечами и перенес несложившееся восхождение на год-два, но в этот раз мною владело бесшабашное «сейчас или никогда», и я решил осуществить свою мечту во что бы то ни стало. Сейчас и только сейчас!
Партнеры
Сперва у меня была надежда, что в широком кругу моих знакомых найдутся желающие разделить со мной восхождение на такую примечательную гору, но довольно скоро я обнаружил себя одиноко стоящим на интернетном перекрестке в поисках кого угодно: «Эй, хоть кто-нибудь!..» Можно сказать, я просто пошел на панель. И вот, в момент, когда я стал готовить свою неустойчивую психику к соло восхождению, я обнаружил на альпинистском форуме одинокую душу, мучимую теми же проблемами. Некий Володя из Латвии, у которого распалась его постоянная команда, ищет желающих пойти на Хан. Мы обменялись письмами. К богатой исходной информации мой потенциальный партнер по восхождению добавил лишь, что ему 39, и что в прошлом году он взошёл на пик Ленина. Природный такт и ничтожное предложение на рынке партнеров не позволили мне продолжить расспросы. Спустя примерно неделю, ещё одна рыба попалась в широко раскинутый невод. Позвонил Мишель, которому я предлагал присоединиться к поездке или хотя бы найти кого-то подходящего в кругу его многочисленных приятелей. Он сообщил мне, что его друг Эяль просто мечтает поучаствовать в экспедиции на Хан Тенгри и даже года три-четыре назад пытался это сделать. Он упрашивал каких-то израильских альпинистов принять его в команду, но эти снобы отказали ему, сославшись на его молодость и полное отсутствие альпинистского опыта. «Их можно понять...» подумал я и спросил: «А сколько ему сейчас, и что он умеет?» «Ему где-то 22-23, и он хорошо лазит по скалам. Но, если ты не возражаешь, он тебе позвонит, и ты сам с ним поговоришь» – ответил Мишель и добавил – «В плане физподготовки он – зверь. Мне за ним не угнаться». Нет, я не возражаю. Почему же не поговорить с человеком, особенно если он – зверь. В плане физподготовки.
Разговор с Эялем оставил меня в растрепанных чувствах. Подсознательно я был настроен отказать ему, но не находил разумного повода. Парень молодой и спортивный, лазил мультипичи в Йосемите, то есть с веревками на скалах обращаться умеет. Хотя, кому это нужно на Хане, где всё провешено перилами. Не умеет страховать на снегу и на льду? Плохо. Но ведь и это не нужно на Хане по той же причине... Не имеет альпинистского опыта, но в 15 лет поднялся на Килиманджаро, в 17 в одиночку ходил треки в Гималаях, поднимаясь выше 5000 метров, и утверждает, что никаких проблем с акклиматизацией не испытывал. Правда, всё это с его слов, а я уже видел в жизни всякое. Мне не хватает личного контакта – увидеть человека, поговорить с ним, почувствовать, чем он дышит. Мы договариваемся встретиться на скалах в Бэйт Орэне, полазить вместе и обсудить все аспекты нашего возможного, так сказать, сотрудничества. Я не говорю ни «да», ни «нет», оставляя себе путь к отступлению.
Наступает пятница. Жаркое послеобеденное время. В три пополудни, когда первая тень уже легла на раскаленные бэйторэнские маршруты, из заметно потёртого жизнью автомобиля ко мне вышел Иисус Христос собственной персоной. «Вот с кем я ещё не ходил в горы...» – подумал я, глядя на долговязого молодого человека со строгим библейским лицом. Босые пыльные ступни (как он вёл машину?!), рыжеватая, чуть раздвоеная к низу борода и пышная, волнистая шевелюра не оставляли места для сомнений: передо мной Сын Божий. Или скажем так: он мог быть кем угодно – йогом, битником, рок гитаристом или самим Иисусом, но меньше всего он был похож на альпиниста, каким вы его себе представляли, просмотрев фильмы «Вертикаль» или «Вертикальный предел»...
Я присматривался. Парень был спокоен и интеллигентен, бред не нёс, и ничего из себя не строил. Страховал он прекрасно – почти не глядя вверх, он отслеживал каждое мое движение. Верёвку выдавал без провисов, но и не потянул ни разу. Лазил он не слишком круто для человека мотающегося по йосемитам, но ссылка на «выброшенные армии три года» (его выражение) звучала логично. Впрочем, все маршруты, которые пролез я, он пролез тоже, с той только разницей, что он их видел в первый раз, а для меня Бэйт Орэн – дом родной. Собственно, мне было наплевать, как он лазит. Мне важно было убедиться, что он тот, за кого себя выдаёт, поскольку совсем недавно я пережил тяжёлую душевную травму: я познакомился с человеком, рассказ которого о нём самом, якобы замечательном и перспективном альпинисте, так же соотносился с действительностью, как реклама батончика «Баунти» с жизнью помирающих от голода папуасов на острове, где сгнила последняя кокосовая пальма.
Тем же вечером я позвонил ему. «Эяль» – сказал я – «я не против, чтобы ты ко мне присоединился, но я хочу, чтобы ты сам ещё раз всё обдумал. Я, конечно, рискую, идя на такую гору с человеком, которого я не знаю и у которого нет опыта, но это мой выбор и моя проблема. Я хочу, чтобы ты понял, что ты сам рискуешь вдвойне – во-первых потому, что у тебя нет опыта, а во-вторых потому, что у меня его недостаточно на двоих. Я не гид и отнюдь не супермен. Для меня эта гора – мой маленький Эверест, на который я, быть может, смогу взойти, а быть может и нет. Поэтому – не спеши, подумай ещё раз». «Да, я подумаю...» – сказал он, и по его голосу я почувствовал, что он колеблется ничуть не меньше меня. Когда он позвонил в следующий раз в его голосе уже не было сомнений. «Я записался на двухнедельный курс в Безенги. Во второй половине июля, как раз перед НАШЕЙ ПОЕЗДКОЙ НА ХАН ТЕНГРИ» – сообщил он мне бодрым тоном.
***
Интересно, всё же, как мы будем там общаться: Володя говорит по-русски и по-латышски, Эяль – на иврите и на английском, а я – по-русски, на иврите и, прихрамывая, на английском. Подмножества языков, которыми мы владеем, не имеют общего пересечения. Я буду переводчиком, и всякую шутку мне придётся рассказывать дважды... Впрочем, обладая определенным запасом здорового цинизма, можно представить себе и кое-какие замечательные преимущества, подаренные мне этим моим выделенным положением. Возьмём, к примеру, процедуру принятия общих решений. Я, скажем, считаю, что нужно пойти налево (в прямом, в прямом смысле...), а мои сотоварищи – направо. Ну что ж: Эялю я говорю на иврите, что мы с Володей решили в пользу левого варианта, а Володе по-русски – что мы решили это вместе с Эялем. В итоге, простым большинством группа решает идти налево...
Крик души
И вот, наступил август. Время, когда беспощадное солнце испепеляет Землю Израиля. Время, когда редкая птица долетает до середины Мёртвого Моря, а если какая и долетает, то там и падает обгорелой тушкой в его пересоленные воды. Время, когда хочется снять с себя последнюю рубаху и отдать кому угодно, а лучше – врагу. Вездесущие евреи отступают в это время с расплавленных улиц под прикрытие кондиционеров, до изобретения которых жизнь на планете Израиль была невозможна. По выходным дням они дружным усилием вытесняют из берегов Средиземное Море, совсем пожелтевшее от жары и мочевины. Страна выгорает на солнце, как обивка дивана, выброшенного на свалку. Прогноз погоды записан на закольцованную магнитофонную ленту, а новостей нет и, собственно говоря, на них наплевать, потому что ОЧЕНЬ ЖАРКО. Всё ещё постреливают арабы в Газе, но как-то вяло, без азарта и всё чаще – по своим. Мёртвое, безнадёжное это время – август в Израиле.
А теперь, представьте: в это гиблое время, когда мои несчастные коллеги дожёвывают аппетитный, как ноги покойника проект, я поднимаюсь на борт белокрылого лайнера и уношусь туда, где всё – прямая противоположность покидаемому мной дряхлому миру. Где всё – по краю и до предела. Мороз – так такой, что плоть превращается в камень. Солнце – так такое, что рожа сходит клочьями. Пахота – такая, что забываешь, как тебя зовут. Если страх – так не меньше, чем за саму жизнь. А если победа, то такая, которую другой не купит за деньги. Здесь всё – от края до края по горизонтали и от земли до неба по вертикали. Нет переходов и полутонов – жизнь на всю катушку.
Вы, которые спрашивают меня зачем мне всё «это», понимаете ли вы какое непередаваемое чувство освобождения охватывает меня, когда я поднимаюсь на борт этого лайнера? Какое количество первобытных поколений, отшлифованных природой для борьбы и смерти, ликуют во мне? Какой это «гибельный восторг» – решиться сделать то, на что почти наверняка не хватит сил, но о чём мечтал всю жизнь? Не говорите мне, что вы не понимаете этого, не огорчайте меня. Человек не может так безнадежно отдалиться от своих истоков.
Отцы и дети
Терпеть не могу, когда спекулируют детьми!
«Как вы можете так рисковать – у вас же дети!» – эту песню я слышал не раз и не два, и если раньше она вызывала у меня глухое раздражение, то теперь, всё чаще и чаще, – зевоту.
А как вы, уважаемые, можете измерить риск, который я на себя принимаю? Как можете вы его сравнить с риском помереть от инфаркта, гипертонии и сахарного диабета? Почему вы сами не отдаёте всё лучшее – ваши драгоценные тела – детям? Не занимаетесь во имя их безоблачного детства спортом, нервничаете до сердечного приступа на утренних совещаниях, переедаете и перепиваете? Разве смерть родителя, прокопченного сигаретами, пропитанного спиртным или страдающего от ожирения, осиротит детей в меньшей степени, чем смерть родителя-альпиниста, парашютиста или подводника? Вы говорите, что время, проведенное в горах, украдено у детей? Полноте! Можно подумать, что если вы пролёживаете его на пляже или диване, то это их необычайно обогащает...
А знаете ли вы, как гордится сын тем, что его отец – альпинист? Знаете ли вы, что это значит для парня в 10-13 лет? Уверены ли вы, что ваше присутствие в поле его зрения в течение дополнительных трёх недель в году может заменить ему это? И не имеет абсолютно никакого значения, какой именно его папа альпинист – крутой первопроходец гималайских стен или покоритель высоких сугробов в низких горах. Главную азбуку он изучит: что быть мужественным – это хорошо, что страх и слабость надо преодолевать, что Земля прекрасна и оставить её непознанной – непростительные лень и глупость.
***
Вечером, накануне отъезда, я поднялся к сыну и сел у его постели. Обычная традиция, заведенная у нас в семье много лет назад, и которая, по-правде говоря, большей частью ложится на плечи моей жены, но в последний месяц перед поездкой я стараюсь наверстать упущенное. Мы тихо беседуем, и я в десятый раз рассказываю ему про гору и про маршрут, а он пытается в своей детской голове, всё ещё лишенной большого количества базовой иформации, выстроить систему координат, в которую он поместит и эту гору, и меня самого.
– Папа – спрашивает он меня – а на сколько эта гора ниже Эвереста? На километр?.
– Почти на два.
– Так это не очень высокая гора?
– Нет, это очень высокая гора.
– Ты уверен, что сможешь подняться на неё?
– Нет, я совсем не уверен. Я никогда ещё не был на таких высоких вершинах. Но ведь в этом и весь интерес – попробовать сделать что-то новое, такое что не знаешь сможешь или нет. Это, как игра. Что за интерес играть с кем-то, у кого всё время выигрываешь?
– А много людей могут подняться на эту гору?
Хороший вопрос... Подтекст его ясен: «Папа, в конце концов, ты крутой альпинист или каждый дохляк может сделать то же, что и ты?..».
– Не так уж мало альпинистов может подняться на эту гору, но, вообще-то, это гора для опытных альпинистов. Короткое молчание.
– Папа ХХХ (называется имя школьного друга) мог бы подняться на эту гору?
Конкретный вопрос, призванный устранить все неясности и расставить всё по местам! Я смеюсь.
– Нет, папа ХХХ точно не смог бы на неё подняться. Он ведь не альпинист и вообще спортом не занимается. Да и вообще, во всём Израиле есть всего человек 15-20, которые поднимались на вершины выше 7000 метров.
– Во всём Израиле?!! Ого...
Я чувствую, что он сражен наповал – во всей его «необьятной родине» есть так мало людей, которые могут сравниться с его отцом... Вот они – недостававшие ему коодинаты. Ещё не поднявшись на гору, я уже заметно вырос в его глазах! Я чувствую себя шулером.
– А там очень опасно, на этой горе?
Я задумываюсь о том, что такое «очень опасно». Не пускаться же в статистические выкладки.
– Эта гора не из самых опасных гор, хотя всё зависит от того, по какому маршруту ты идёшь – уклончиво отвечаю я – мы специально выбрали маршрут, который тяжелее, но безопаснее. Понимаешь? Мы специально уменьшили свои шансы подняться на вершину, чтобы уменьшить и риск.
– Пора спать, Томка – говорю я, и какое-то время мы сидим молча.
– Папа, ты не думай, что мне так уж важно поднимешься ты на гору или нет. Я вообще хочу, чтобы ты никуда не уезжал...
Я чувствую, что вся моя тщательно выстроенная теория мироздания закачалась и рухнула. Я чувствую себя опустошенным.
***
Всё, что можно и нужно было обсудить, мы уже обсудили и теперь молча летим по скоростному шоссе под песни «Ночных Снайперов». Запертые в крошечной капсуле, мы несёмся сквозь созвездия придорожных фонарей, и я чувствую, как с каждым оставленным позади километром моя обычная, каждодневная, уютная, как потёртая пижама жизнь отпускает меня. Я сжимаю крепче руль, чтобы почувствовать связь с пошатнувшейся реальностью и произношу в уме фразу, от которой сладкая немота пробегает по всему телу: «Я иду на Хан Тенгри!». Таня молча смотрит в тёмное окно и думает о чём-то своём. Мы сидим в полуметре друг от друга, но я просто физически ощущаю, как растёт разделившая нас пропасть.
В аэропорту мы стоим напротив входа номер три, и людские потоки огибают нас, обдавая обрывками фраз, смеха и шуршанием влекомых по надраенному полу тележек. Мы ждём Эяля.
Наконец, он появляется: долговязый, худой, косматый, в честно заработанной футболке с надписью «Безенги» и тащит меня знакомиться со своим отцом, который, по непонятной мне причине остался ждать нас на улице. Я нехотя подчиняюсь. Последнее, что мне нужно, это знакомиться с отцом своего напарника по восхождению, который на добрых 17 лет младше меня. После этого я уже не смогу строить с ним отношения, как равный с равным, и груз ответственности, никак не уравновешенный возможностью влиять на его поступки, будет давить мне плечи в течение всей нашей экпедиции.
На улице, у припаркованного автомобиля нас ждали двое мужчин, один из которых бысто шагнул мне навстречу и пожал руку. Он был высок, но сутул и некрепок, и, робко улыбаясь, бубнил мне что-то по-профессорски невнятным голосом. Как позже оказалось, он и был профессором, и преподавал какие-то компьютерные премудрости в американских университетах. Он был настолько непринципиально старше меня, что я почувствовал себя детоубийцей, эдаким торговцем наркотиками, пристрастившим его сына к проклятому зелью. Ускользая взглядом то вправо, то влево, я промямлил что-то жизнеутверждающее, на что он, видимо почувствовав неловкость моего положения, ответил, что полагается на здравый смысл Эяля, который уже не ребёнок, и вправе сам выбирать, чем ему заниматься в жизни. При этом глаза его были тревожны, а улыбка – чуть виноватой. Мы попрощались, они сели в машину и уехали, а у меня осталось ощущение, что меня бросили с ребёнком на руках... Я подумал о том, что если на горе что-нибудь случится со мной, то для Эяля это останется всего лишь очень тяжёлым переживанием, если же что-то случится с ним, то никакая логика и здравый смысл не избавят меня от угрызений совести на всю оставшуюся жизнь.
Впрочем, очень быстро я убедился в том, что Эяль отнюдь не ребенок, а вполне самостоятельная и сильная личность, и дурацкие эти комплексы были благополучно мной забыты.
Узбекские авиалинии
Предубеждения владеют нами. Я не был безмятежен, отдавая себя во власть «Узбекских Авиалиний», они же, эти линии, проявили себя с самой лучшей стороны. Всё было на уровне – и новенький А-300 со всеми полагающимися удобствами, и еда с намёком на национальный колорит, и миниатюрные, улыбчивые, милые узбечки–стюардессы. Взлёты и посадки происходили вовремя и заканчивались успешно. Мы провели пятичасовый рейс Тель Авив – Ташкент во взаимообогащающих беседах на всевозможные темы, включая наши собственные биографии, все 150 лет развития мирового альпинизма и прогноз на последующие 150, а так же перспективы нашего восхождения, которые Эялю казались столь неоспоримо прекрасными, что он говорил о нём уже, как бы в прошедшем времени. Ну и, конечно, (как же без неё!) мы много говорили о политике. Наконец, я получил некоторое представление о человеке, с которым летел покорять самую высокую и суровую вершину в своей жизни. Это был молодой человек из хорошей профессорской семьи, умудрившийся к своим 23 годам – минус 3 года армии – побывать, и зачастую неоднократно, на всех континентах, кроме Антарктиды. Он был гуманитарно образован, начитан и безгранично либерален, как и положено хорошему мальчику из интеллигентной еврейской семьи, проживающей значительную часть времени в Соединенных Штатах. Я говорю это хоть и с иронией, но с доброжелательным пониманием. Я сочувственно отношусь к молодым либералам с горячим сердцем и честным умом, потому что к 40 годам из них получаются прекрасные, трезвомыслящие консерваторы, без людоедских наклонностей. 40 летних же либералов со всё ещё горячим сердцем я на дух не переношу и считаю их существами крайне вредной породы.
Транзитный зал ташкентского аэропорта поразил меня своим несуразным великолепием. Пройдя регистрацию и паспортный контроль, обустроенные по выморочным советским образцам, мы вышли в просторную галерею. Стены, облицованные благородным серым мрамором и оживлённые бегущим поверху золотым узором, лишили меня дара речи. Дворцовых пропорций лестница была окаймлена неприлично великолепными балюстрадами. У её подножия в центре зала зиял пересохший в незапамятные времена фонтан, всё ещё красивый посмертной археологической красотой.
И всё это милое донкихотство от авиаперевозок было грубо осквернено длинными рядами человеконенавистнических металлических скамеек. Транзитные пассажиры были призваны долгими часами умерщвлять свою плоть, одновременно созерцая прекрасное. Это ли не путь к высшему совершенству?! Когда я уже был на полпути к нирване, нас пригласили на рейс Ташкент – Алматы.
На рейсах, которые узбекская авиакомпания по старой привычке считает внутренними, она всё ещё позволяет себе в отношении пассажиров некоторую интимную фамильярность. Всё здесь по-проще, всё по-свойски. И маленький беспородный самолёт, и сухонький паёк, и по-девичьи неумелые стюардессы. Они были очень разными, эти девушки: одна была скромна и старательна, а вторая – вызывающе стервозна. Я наслаждался, глядя, как она обслуживает «товарищей пассажиров», добрая половина которых были иностранцами. Заметив призывные жесты очередного избалованного индивида, она неторопливо плыла в его сторону, при этом её милый носик плавно забирал вверх, словно фюзеляж идущего на взлёт самолёта. Приблизившись на расстояние, на котором изъявление вежливости становилось неизбежным, она выдавливала из себя улыбку – точь-в-точь, как зубную пасту из засохшего тюбика. При этом глаза её, как бы говорили: «Дать бы тебе по башке, козёл несчастный...»
Исполнив глубоко ненавистное ей пассажирское желание и протяжно прошипев «Пли-и-и-з...» она так же неторопливо отплывала.
А в это же самое время, на этом же самом самолёте, перед пассажирами, летящими бизнес-классом, дефилировала умопомрачительная казашка. Настоящая манекенщица со струящейся, как восточный шелк, фигурой и умиротворённым лицом человека, которому жизнь пообещала всё и уже начала выполнять свои обещания.
Извечная классовая ненависть туристского класса к бизнес-классу заструилась по моим жилам!
Ода Казахстану
Казахстан покорил наши сердца ещё на трапе самолёта. Сердца эти были подготовлены и размягчены образом небесной, в прямом и переносном смысле, казашки-стюардессы, и мы приняли её страну легко и безоглядно. Нам нравилось всё – и современный, с иголочки, аэропорт, и круглолицые солдатки в миниюбочках, и неожиданно пофигистская таможня, и даже суровый, но справедливый паспортный контроль, оборудованный компьютерами и видеокамерами с таким размахом, на который способно лишь богатое восточное воображение. Нам понравилось, что нас ждал на входе сдержанно улыбчивый молодой человек с двумя аккуратными табличками, на которых были написаны наши имена – моё по-русски, а Эяля – на английском. Ну и, конечно, нам понравилась Алматы – зелёная, искрящаяся фонтанами, летняя, жизнерадостная. По тенистым улицам прогуливались спокойные, со вкусом одетые молодые пары. Поток импортных автомобилей, дорогие магазины одежды, почти стерильная по азиатским меркам чистота. Если я был приятно удивлён, то Эяль – просто сражён наповал. «Нет, это не Азия, не Азия...» – причитал он, изумлённо глядя в окно джипа, на котором нас везли из аэропорта. «Обрати внимание» – сказал я ему, с непонятно откуда взявшейся гордостью – «это ведь, в принципе, страна с мусульманским населением. А посмотри, как они одеты. Видишь? Ни тебе паранджи, ни платков. Нормальные современные люди.» Я говорил это таким тоном, словно взрастил население страны Казахстан собственными руками. «Вот!» – говорю я – «если можно сказать что-то хорошее о бывшей советской власти, так это то, что она уберегла свои несчастные народы от религиозного фанатизма». «Но это – всё, что можно сказать о ней хорошего...» – помолчав добавил я, чтобы не быть неправильно понятым. Эяль согласно кивал головой.
В тени Казбека
Чтобы покончить с хвалебными песнями, которые, хоть и претят моему характеру, но абсолютно неминуемы в этом рассказе по причине необычно большого количества хороших людей, встреченных мной в этой поездке, я расскажу о принимавшей нас стороне. Речь идёт о целой организации, состоящей из приятных людей, и это при том, что обычная организация способна самый лучший человеческий материал переработать известно во что. В Казахстане нас принимала фирма Казбека Валиева. Причин, заставивших нас обратиться именно к этой фирме было всего две, но обе были вполне убедительны: самая низкая цена из всех предложенных нам за примерно равнозначные услуги и относительная безопасность обслуживаемого Валиевской фирмой северного маршрута.
Просто сказать, что я остался доволен уровнем обслуживания, выглядело бы чёрной неблагодарностью. Все работники этой фирмы, с которыми нам выпала удача столкнуться в Алматы, по дороге к Базовому Лагерю и в нём самом, были настолько симпатичны, доброжелательны и услужливы (в лучшем смысле этого слова), что я так и не понял, подбирает ли их Казбек Валиев по этому принципу, или выращивает собственноручно на своём приусадебном участке. Сам он, кстати, отнюдь не выглядит ласковым плюшевым мишкой.
Не знаю какие травмы исковеркали мою психику в раннем детстве, но к субьектам, с которыми я вступаю в деловые отношения, я отношусь с подозрительностью. Если же речь идёт о незнакомых мне фирмах, да ещё таких, которым все услуги проплачены наперед, подозрительность эта принимает формы, близкие к маниакальным, и только фаталистичность моего мировосприятия и чувство юмора помогают мне пережить период зависимости от предполагаемо враждебной организации. Представьте же себе моё восхищение, когда всё, что полагалось мне по договору, я получал в обещанных количествах и в срок: еда была отличной, палатки просторными, матрасы мягкими, рации работали, вертолёты летали. И совсем уже невероятное: меня нигде ни разу не забыли! Фирма работала, как хорошо смазанный механизм. Но, пожалуй, самым приятным было то, что в Базовом Лагере я чувствовал себя не столько клиентом, сколько желанным гостем, и мне абсолютно наплевать насколько это чувство оправданно. Мне улыбались, мне помогали, меня провожали на гору добрым словом и встречали с неё горячим чаем. Моё огромное спасибо – всем этим людям!
Каркара
Наше пребывание в Алматы напоминало стремительное скольжение по бобслейному жёлобу – всё было накатано, продумано, организовано. Прямо из аэропорта нас привезли в офис, где, наконец, мой долгий эпистолярный роман с девушкой по имени Юлия пришёл к логическому завершению – мы встретились лицом к лицу. Виртуальная личность представлялась мне классической суровой секретаршей. Я уже много лет живу в стране, где люди настолько горячи, а дистанция между ними так коротка, что любое общение похоже на маленькое извержение вулкана. Здесь приходят на работу в помятой футболке и хлопают босса по плечу. При самом чопорном обмене мэйлами уже второе – третье послание начинается с «Хай!» и заканчивается «Бай!» Поэтому интенсивная месячная переписка, пусть и деловая, казалась мне достаточным поводом для того, чтобы, выражаясь фигурально, слегка «распустить галстук». Куда там! Ледяные треугольнички писем продолжали со звоном выпадать из папки Inbox моего Outlook-а. Поэтому, когда передо мной оказалась симпатичная блондинистая девушка с чуть застенчивой улыбкой, я был приятно удивлён.
Нас провели через обшитые деревом и увешаные горными пейзажами просторы на третий этаж и там, в Юлином кабинете, нам было подробно и заботливо описано наше ближайшее будущее. Сперва беседа была затеяна на английском языке, но Юля и Эяль стрекотали на нём так, что я стал терять нить разговора и быстро прекратил это безобразие. Обсуждение наших дел теперь происходило на русском, а для Эяля все существенные моменты я переводил на иврит. При этом, у меня всё время происходило запаздывание на полфазы: выслушав Юлю, я обращался к Эялю на чистом русском языке, затем спохватывался и переходил на иврит. Закончив переводить, я обращался к Юле на иврите, и лишь уловив в её взгляде робкое «не понимаю» переходил на русский.
Юля забрала наши паспорта на оформление Киргизской визы (о эти визы! Я ещё расскажу о них в другом месте и в другое время...), а мы вернулись в свой джип и помчались в супермаркет с честным советским именем «Юбилейный», где, как заверила нас та же Юлия, можно было найти все мыслимые и немыслимые продукты альпинисткого питания. В набеге на супермаркет нас сопровождал тот же молодой казахский юноша, который так удачно встретил нас в аэропорту. Два небольших разочарования постигли меня в этом продуктовом храме – там не было растворимых соков и специальных сублимированых продуктов. То, что Юля гордо именовала «высотной пищей» оказалось обычными кашами Бистров, бульонами Галина Бланка и растворимыми вторыми блюдами. Блюда эти хороши для выезда «на природу», но на высоте 5-6 тыс. метров, где вода закипает задолго до желанных 100 градусов, их необходимо варить. Короче говоря, супермаркет этот очень даже неплох, но ничего специфически горного в нём не продаётся.
Гора продуктов в нашей тележке росла, как подоспевшее тесто. Всё штучное мы брали десятками, всё развесное – килограммами. Фирма Бистров должна нам проценты с продаж. А теперь ещё и за рекламу... Скрупулёзно и экономно рассчитанная раскладка, занимавшая так мало места на бумаге, материализовывалась в нечто неподъёмное. Время шло, список продуктов всё не кончался, а между тем, нам нужно было ещё успеть пересечь Казахско – Киргизскую границу, которую закрывают на пресловутый замок в 10 часов вечера. Наш сопровождающий, теряя свою восточную невозмутимость и не решаясь подгонять нас, дорогих клиентов, стал подгонять продавщиц, которые в ответ с независимым видом дёргали плечиком. Я метался по суперу, как заяц в свете прожектора, продукты уже не считались, а хватались горстями и сгребались с полок обеими руками.
Наконец, потные и взъерошенные мы выкатили продуктовую тележку из дверей супермаркета. Буквально на минуту мы заскочили в офис, где нас уже ждали наши паспорта, облагороженные Киргизскими визами. Заботливая Юлия проводила нас «до крыльца» и пожелала удачного восхождения. И вот мы уже покидаем Алматы по залитой медовым солнцем автотрассе, по обеим сторонам которой тянутся бесконечные арбузные и дынные рынки.
Несмотря на бессонную ночь, я упорно пялюсь в окно на бархатные ряды тополей вдоль дороги, на далёкую дымчатую цепь гор на горизонте, на небольшие посёлки, где нет-нет да промелькнёт отсталый сельский житель в национальных одеждах, на Среднюю Азию, где не довелось мне побывать в своей первой жизни. И только, когда наш джип застыл посреди бесконечной казахской степи, накрытый синей пиалой неба, я позволил себе расслабиться. Проснулся я, когда мы петляли меж невысоких цветных гор, пустынных и безжизненных, лишь кое-где поросших пучками сухой травы. Затем мы пересекли широкую плоскую долину и въехали во влажные предгорья Тянь-Шаня с пышными травами, островками елового леса и торопливыми речками с всклокоченной серой водой. Пару раз мы проехали мимо молодых джигитов, гарцевавших на сухих, жилистых лошадках. Они подавали нам понятные только им самим знаки и весело смеялись, сверкая белыми и серебрянными зубами на спечённых солнцем лицах.
Через 3.5 часа, преодолев 270 км, мы проехали посёлок Каркара, и вместе с ним у нас за спиной остался такой важный аттрибут цивилизации, как асфальтовая дорога. Оставшиеся 12 км до казахско-киргизской границы мы тянулись более получаса, по разбомбленной грунтовке. Впервые в жизни я увидел, как водитель объезжает дорогу по «чисту полю», которое было более пригодно для езды, чем эта, с позволения сказать, «автострада». Теперь, пожалуй, пришло время сказать пару слов о границах и визах – двух вещах, которые сопровождают путешественника, как зубная боль сластёну. Как я уже упоминал, к Хан Тенгри можно подобраться с двух сторон – с севера и с юга. Северная его сторона находится на территории Казахстана, а южная – Кыргызстана. Таким образом, если вы избрали своей отправной точкой Алматы, логично предположить, что для прибытия в северный базовый лагерь Хан Тенгри вам потребуется только казахская виза. Это немаловажно, во-первых потому, что каждая виза стоит порядка 100$, а во-вторых, потому что пересечение границ стран бывшей советской империи – удовольствие ниже среднего. Я знал, что из Алматы мы поедем на машине в базовый лагерь Каркара, расположенный в предгорьях Тянь Шаня на высоте 2250м, проведём там день в акклиматизационных прогулках и затем будем заброшены вертолётом на ледник Северный Иныльчек, к подножию великой и ужасной горы Хан Тенгри... Чего я не знал, так это то, что несколько километров дороги перед самым лагерем Каркара проходят по территории суверенного Кыргызстана. То ли советский картограф был пьян и у него дрогнула рука, то ли (что гораздо вероятнее) дороги в бывшем Союзе прокладывали без учёта будущего права наций на самоопределение, но этот неприятный факт всплыл на поверхность в самый последний момент, когда наши казахские визы были уже заказаны и находились в процессе оформления. До последнего времени, на этом курьёзном участке границы существовал негласный уговор, согласно которому киргизы не требовали с проезжавших в Каркару отдельной визы, но именно в этом году они решили навести порядок в своём пограничном хозяйстве, а наведение порядка в азиатских странах неизбежно связано с возведением новых неожиданных препятствий для доверчивых пришельцев. И только с течением времени всё устаканивается, и стихийная система взяток и протекций налаживает удобные обходные тропки через минное поле идиотских законов.
Как бы там нибыло, за пару недель до отъезда я получил от Юлии мэйл, написанный языком столь официальным, что в нём явственно просвечивало опасение моей неадекватной реакции на содержавшуюся в нём информацию. Мы с Эялем извещались о том, что по независящим от фирмы причинам, визовый порядок на злополучном участке границы изменился не в нашу пользу, и это обойдётся нам в дополнительные 80$ с человека. Все бюрократические заботы фирма берёт на себя. Чтобы не потерять лицо уважающего себя клиента, я сдержанно возмутился в ответном послании, хотя мне было абсолютно ясно, что насилие над моим карманом неизбежно. Не ясно было только, какое такое удовольствие можно из этого извлечь... Из-за нескольких километров дурацкой пыльной грунтовки мы должны были иметь при себе полноценную киргизскую визу, а наша обычная казахская виза должна была пройти «апгрейд» и превратиться в двойную. Зато само пересечение границы доставило мне то самое удовольствие, которое отчасти оправдало насилие над карманом.
Итак, пересечение границы!
С казахской стороны пограничный пункт находился в процессе достройки или перестройки, что вообще характерно для этой бурно развивающейся страны. Что меня бесконечно поразило, так это компьютерное оснащение этого пункта, которое ничуть не уступало столичному аэропорту. Нас засняли на видеокамеру и внесли в бездонные компьютерные сети казахской пограничной службы. Всё это происходило, между прочим, на краю света, в чистом поле, в овечьей глухомани. Я охотно верю, что через такой навороченный погранпункт и муха не пролетит, но, поскольку по обе стороны от него и до самого горизонта никаких пограничных заграждений видно не было, целые стаи этих мух могли бы летать туда-сюда через границу, перенося всё, что душе угодно.
В общем, с казахской стороны всё было тихо и пристойно, то есть – скучно. Солдаты одеты по форме, офицер не пристаёт с дурацкими разговорами, никто не хамит и не попрошайничает. Просто не о чем рассказать. Зато с киргизской стороны нас ожидал праздник жизни. Мы пересекли линию шлагбаума и остановились. Из замызганного вагончика, который являлся, как бы форпостом и символом государства Кыргызстан, на дорогу вразвалочку выкатились три полуодетых басмача и с радостным оживлением стали нас разглядывать. Я не уверен, что из того, что было напялено на всех троих, можно было составить один полный комплект амуниции киргизского пограничника. В дублёных физиономиях стражей границы читался простодушный бандитизм в трогательном сочетании с детским любопытством. Затем, соблюдя паузу, как бы подчёркивающую важность его персоны, из вагончика хозяйской походкой вышел товарищ офицер. От своей команды он отличался славянским лицом, относительно комплектным, хотя и не первой свежести обмундированием и осмысленным выражением хитрющих глаз старого служаки и пройдохи. Он игриво осмотрел нашу компанию, как бы примериваясь, что бы такое с нами учудить. Или, скорее, оценивая, что он может позволить себе с нами учудить. Наш водитель вышел из джипа и протянул ему накладные документы на перевозимый груз, то есть на нас с Эялем. «Хозяин тайги» задавал водителю вопросы, исполненные слегка шутовской подозрительности, а тот отвечал ему с напускной уверенностью, но как-то немного нервно.
И тут, Эялю наскучило сидеть в джипе, в то время, когда происходит такое замечательное соприкосновение с представителями неведомой ему страны. Дверца распахнулась, и он предстал перед «командиром заставы». Только служивший в Советской Армии человек может представить себе впечатление, которое производит подобная личность на старого офицера советского розлива: долговязый патлатый иудей с заспанным безмятежным лицом и с демонстративно расшнурованными ботинками на босу ногу. Я застыл в сладостном предвкушении. Лицо мужика окаменело от изумления. Он открыл рот, затем закрыл его. Желваки заиграли на дублёных скулах, и глаза собрались в щёлки. Я почувствовал, что Эяль будет отправлен «драить очко» до конца месяца... «Шнурки бы завязал!» – процедил он, глядя на Эяля снизу вверх, но необычайно надменно. Только, что не сплюнул... «Что он сказал?» – добродушно поинтересовался Эяль. «Добро пожаловать...» – иронически пояснил я. Хорошее настроение служивого человека было заметно испорчено. Нас попросили показать паспорта.
И тут Эяль совершил ещё одну простодушную ошибку. Задрав помятую футболку с боевой надписью «Безенги», он снял с себя увесистый нательный пояс-кошелёк. Военный радостно осклабился. Ухмылка, как бы сама выпала из него, вопреки его желанию и предыдущему настрою. «Ого!» – сказал он – «Ого-го!... Какой хороший кошелёк! Наверно в нём много денег?» Хорошее настроение вновь вернулось к нему.
«Что он говорит?» – спросил Эяль. «Ему понравился твой кошелёк. Спрячь его подальше...» – ответил я, и Эяль со спокойным достоинством заправил свою казну внутрь широких походных брюк. Забрав наши документы, Али Баба удалился в свой вагончик в сопровождении водителя, а мы с Эялем остались в компании разбойников. Эяль был настроен на общение и решительно двинулся к разбитной троице, которая весело переглянулась и засверкала серебряными зубами. «Ты откуда, а?» – спросил один из них Эяля. «Из какой страны, а? Страна, а? Э-э-э... Где, а?» – по мере осознания лингвистической пропасти разделяющей их, речь пограничника становилась всё бессвязнее. Он беспомощно махал руками, в поисках поясняющего его вопрос жеста. «Что он спрашивает?» – обернулся ко меня Эяль. «Он спрашивает, откуда ты» – пояснил я. «Исраэль. Ай эм фром Исраэль» – сказал Эяль тыча себя пальцем в грудь, чтобы устранить любые сомнения. «Еврей, што ли?!» – изумлённо переспросил киргизский воин. Эяль не знал, что означает слово «еврей», поэтому он снова ткнул себя пальцем в грудь и повторил: «Исраэль. Ай эм джу». «Ну, Израиль – значит еврей!» – утвердительно произнёс киргиз. Его товарищи выглядели озабоченными. Перед ними стоял живой агент мирового сионизма, и они мучительно соображали, какое именно поведение будет сочтено достойным перед лицом такого необычного гостя.
«А мы – мусульмане!» – вдруг гордо сказал один из них, подбоченясь и отставив ногу в пыльном сапоге. «О! Мослем!» – возликовал Эяль. «Ай эм джу энд ю ар мослем!» – он был в восторге от такого замечательного диалога двух братских народов – еврейского и мусульманского... Я молча наслаждался этой иронической сценой и не вмешивался. Встреча двух цивилизаций во всей красе!..
В Каркаре нас встретил Казбек Валиев. Похоже, лично встречать своих клиентов – его стиль, и это приятно. Особенно мне, для которого, в отличие от Эяля, он – человек из легенды. Он подошёл, пожал нам руку и, задав пару дежурных вопросов, обьяснил где мы тут будем жить, есть и спать. Несмотря на грозный вид – суровый медведь с непроницаемым лицом – говорил он тихо и раздумчиво. Впрочем, и скрытая властность, и сила характера были вполне заметны.
Набежавшие со всех сторон лагерные мальчики похватали наши рюкзаки и потащили их в сторону палаток. Я не люблю этого. Я воспитан на мачоистских принципах, и когда кто-то пытается поднести мне рюкзак, чувствую себя опущенным. Даже холёные гориллы – портье дорогих швейцарских отелей не рискуют трогать мой походный рюкзак своими чисто вымытыми лапами...
Базовый лагерь Каркара нам понравился. Да и кому могут не понравиться эти стройные фаланги палаток – словно гвардейцы в бело-красных мундирах, выстроившиеся на зелёном лугу перед решительной атакой. Кого могут оставить равнодушным эти мягкие, поросшие тёмной тянь-шаньской елью горы, этот приглашающий в полёт воздух, это небо, безмятежное, как сон пионера. Чья душа не растает от тепла жирных хрустких палочек, запиваемых душистым чаем из белой, как зефир пиалы, по округлому боку которой порхает трепетная тень летней занавески, колеблемой прохладным дуновением.
Палатки были двухместными, с просторным тамбуром, в котором мы свалили свои полуразобранные рюкзаки. Спальное пространство было застелено двумя синими поролоновыми матрасами буржуйской толщины. Никогда в жизни я не располагался в горах с таким неприличным комфортом. Единственное, что слегка отравляло мне жизнь, это полчища маленьких «щипалок» – противных мокрицеподобных созданий с раздвоеным хвостиком. Они быстро и по-свойски оприходовали наши вещи, после чего я уже не мог без содрогания запускать руку в собственный рюкзак. Сладкий момент отмщения наступил лишь по прилету в базовый лагерь Хан Тенгри. В течение ещё целых двух дней мерзкие твари выползали из моего рюкзака на морозные просторы Северного Иныльчека. Они вымерзли все до последнего, как мамонты в ледниковый период.
Наступившее утро было солнечным и прохладным. Равномерно и без перерывов дул ветер. Было просторно и чуть тревожно, как и должно быть в первое утро нового приключения. Всякое путешествие подобно жизни: оно знает подъёмы и спады, победы и поражения. Иногда оно бывает, как непрерывный лёгкий праздник, иногда – доходит до своей высшей точки и обрывается, а иногда превращается в опостылевшую ношу и тихо загнивает. Но начало путешествия всегда прекрасно, как может быть прекрасно только детство, которое мы себе придумываем, становясь взрослыми.
Я неторопясь встал, посетил гремящее железом отхожее место и умылся ледяной, пробирающей до костей водой. На завтрак нам подали овсяную кашу, такую сытную, что ложка не только стояла в ней, но и звенела, если её отогнуть и отпустить. Сыр, колбаса, вкусные сырные булочки, джем и много горячего чая. Я привык к анемичным завтракам инженерно-технического работника и тяжёлая мужицкая пайка сломала меня довольно быстро. «Что ж вы не кушаете?» – участливо спросила официантка, хрупкая серьёзная девушка с глазами цвета тяньшаньских озёр. «А мы не работаем, потому и не едим...» – виновато ответил я за нас двоих. После завтрака мы упаковали в лёгкие штурмовые рюкзаки выданные нам на кухне «сухпайки» и пошли гулять по окресностям. Мы планировали набрать километр высоты, что поможет нам легче пережить завтрашнюю посадку на четырех тысячах метров.
Никаких особых приключений у нас не было, свой план по акклиматизации мы выполнили, поднявшись, примерно, до 3300 метров и намотав приличный километраж по лугам, перелескам и каменистым склонам. Сперва я ещё пытался угнаться за Эялем, но на затяжном подьёме сдох и долго отходил сидя на большом валуне, не в силах отогнать от себя мух, слетевшихся со всех сторон, словно стервятники на падаль. Эяль поджидал меня на пологом перевальчике, с которого открывался вид на просторную долину и первые снежные вершины. «Тебе понадобится много терпения» – сказал я ему, отдышавшись – «ты там напрыгался в Безенги по четырехтысячникам, а я – прямо от компьютера. Целый год сидишь – F1, F2..., а тут, трах – и на три тысячи». Эяль с пониманием качал головой, но я подумал, что такая разница в акклиматизации, конечно же, станет на горе проблемой.
Мы вернулись в лагерь в пол шестого вечера, расстелили перед палаткой карематы и провалялись оставшиеся до ужина часы в блаженном ничегонеделании. Перед ужином прибыл микроавтобус из Алматы и привёз очередную партию свежих клиентов. Этим автобусом должен был приехать наш виртуальный латвийский компаньон Володя со своей подругой. Я без труда «вычислил» их среди новоприбывших, и мы познакомились. Компаньон нам понравился – спокойный спортивный мужик без видимых недостатков. Мы обсудили кое-какие детали, связанные с продуктами и общим снаряжением, и хорошее первое впечатление сменилось вторым – ещё лучшим. У парня был опыт и трезвый логичный подход к делу. К тому же, он обладал таким чудесным качеством, как способность к компромиссу.
Архипелаг Базлаг
Наш вертолёт мы заприметили ещё накануне, на подъезде к лагерю. Сам лагерь находится на правом, казахском берегу шумной, но безвредной речушки, а на её левом берегу раскинулся невзрачный киргизский посёлок. То ли вертолётчик нашёл себе в посёлке милую вдовушку, то ли просто стал на постой в одном из домов, но только вертолёт его был припаркован у дома на окраине, как простой автомобиль. Выглядело это довольно забавно.
Ветренным утром он поднялся в серое с прожилками небо, перелетел на нашу сторону и, грохоча винтами и жутковато покачиваясь, приземлился на специальной площадке позади столовой. Серьёзный, заслуженный МИ-8, выкрашенный в цвета израильского флага, что сразу же внушило к нему доверие. Те же расторопные мальчики, которые вчера так бесцеремонно унизили меня своей опекой, быстро загрузили в вертолёт невероятное количество всяких полезных вещей. Я никогда ещё не летал на вертолёте и не представлял себе, что в него можно столько всего запихнуть. Не говоря уже о том, что он, по идее, должен после этого подняться в воздух. Наконец, на борт поднялись уважаемые клиенты, взревел мотор, железная стрекоза поднатужилась, затем поднатужилась ещё сильнее и, как будто передумав, плавно затихла. Циничные иностранцы отпустили пару нервных шуточек, а я подумал, что наш перелёт откладывается на завтра. Открылась дверь и в вертолётное чрево заглянул Казбек Валиев, загадочно улыбась. Выдержав театральную паузу, он извинился и сообщил, что ребята забыли загрузить матрасы, которые будут нам нелишними на Северном Иныльчеке. Народ облегченно зашелестел. Матрасы были загружены через задний багажный люк, удачно заполнив последние кубические сантиметры свободного пространства. Вновь взревел мотор, вертолёт немного потрясся, как бы чуть попрыгал на месте и, наконец, покачиваясь поднялся в воздух, как осенний лист падающий вверх. Затем он наклонил лоб, перешёл в горизонтальный полёт, и мы понеслись вверх по зелёной долине навстречу неприветливым серым истуканам в белоснежных манишках.
Тянь-Шань поразил меня. Я был наслышан о его суровой природе, но то, что я увидел превзошло все ожидания: первозданное нагромождение исполинских пиков, увитых бугристыми ледяными змеями. Ни единый цветной мазок не смягчал это чёрно-белое полотно. Серое плоское небо укрыло землю, как саван покойника. Под нами простирался вселенский рефрижератор. Мы не летели над ним, мы летели сквозь него, плавно лавируя меж гигантскими скальными пирамидами, укутанными в тяжёлые снежные манто. Ледовые купола под нами были растресканы, как лопающиеся от мороза фрукты на столе у Снежной Королевы.
Мягкая лапа сдавила мне затылок, а дыхание стало лёгким и частым, словно я вдыхал не воздух, а мифический эфир. Мы пролетели над перевалом так низко, что кажется можно было спрыгнуть вниз на пухлые валы снега, нетронутые ни человеком, ни зверем. Эяль нагнулся ко мне и перекричал гул винтов: «Четыре восемьсот!..» Я чувствовал высоту, как пьянящее лёгкое головокружение и, как пульсирующий обруч, сжимавший мне виски с пока ещё мягкой настойчивостью. Натужно перевалив через седловину, вертолёт с видимым облегчением нырнул в открывшуюся под нами широкую долину Северного Иныльчека. Мы летели над серым, как полярное море ледником, а я выворачивал шею и расплющивал нос на иллюминаторе, пытаясь не упустить тот миг, когда перед нами появится гора, вполне заслуживающая эпитетов «легендарная» и «великая».
Вертолёт заложил вираж, и по правому борту наплыл, закрывая небо, контур столь же узнаваемый, как Большая Пирамида Гизы. «Хан Тенгри!» – заорал я Эялю, пытаясь проткнуть пальцем иллюминатор. Вертолёт завис, покачался и сел. Мы попрыгали на грязный ледниковый панцирь, а набежавшие со всех сторон молодые и крайне энергичные люди с прошмаленными солнцем физиономиями в считаные минуты выпотрошили вертолёт и перетащили всё его содержимое на близлежащую морену. Они перенесли и наши рюкзаки, и баул с продуктами, но на этот раз я не сопротивлялся, предпочитая не перенапрягаться сразу по прибытии на эту вполне приличную высоту. Альтиметр Эяля показывал практически точно 4000 метров. Во время всей этой суматохи, что бы я ни делал и с кем бы не говорил, голова моя выворачивалась в сторону Хан Тенгри, словно стрелка компаса. Я не мог оторвать глаз от спокойной мощи его линий, от каскадов льда и камня, сбегавших к подножию его неимоверной трёхкилометровой Северной Стены. Он был огромен и самодостаточен. Он никого не приглашал и, определённо, не приглашал меня, бросающего на него восторженные взоры со своей муравьиной позиции. Нет ничего нелепее термина «покорение» применительно к этому гиганту. С тем же успехом, муравей, вскарабкавшийся на слона, может утверждать, что «покорил» его...
К нам подошла казахского вида девушка, и на вполне приличном английском сказала, что её зовут Надия и, что она – наш переводчик. Её карие глаза рассматривали нас с вниманием и спокойным достоинством, она показалась мне человеком живым и умным, в то же время не дающим себя в обиду, что сразу расположило меня к ней. Не будучи большим спецом в казахских именах я решил, что Надия, это – имя Надя предусмотрительно препарированое для восприятия иноземным ухом. Так, во многих странах мира Таня становится Танией, а Маня – Манией... Я заговорил по-русски и, с некоторой снисходительностью, дал понять, что не нуждаюсь в адаптированных именах. Девушка улыбнулась и сказала, что её всё-таки зовут Надия, но если мне, дорогому гостю, так удобно, я могу называть её Надей. Она сказала, что сейчас нас проводят к нашей палатке и, что по всем вопросам, которые у нас возникнут, мы можем обращаться к ней.
Базовый лагерь и вправду напоминал архипелаг. Он был расположен на морене прямо напротив северной стены Хан Тенгри, но отделён от неё широким ложем ледника. Десятки палаток (я насчитал около сорока) были разбросаны по волнистым просторам морены словно маленькие острова. Протяжённая широкая трещина рассекала весь лагерь на две части и через неё был наведен деревянный мост.
По одну сторону трещины располагались все «официальные учреждения»: кухня, столовая, «поликлиника», «узел связи» и даже интернет-кафе.
Тут же обитал весь обслуживающий персонал и немногочисленные клиенты, которым досталась, так сказать, «квартира в центре города». Подавляющее же большинство клиентов селились по другую сторону трещины в «жилых кварталах». Нас с Эялем поселили на самом краю лагеря, в палатке, сиротливо спрятавшейся от посторонних глаз за большим ледниковым холмом. Единственным очевидным преимуществом этого места была близость к туалету, что могло облегчить нам возможные ночные рейды.
Это важное сооружение, грубо сколоченное из неструганых досок, нависало над ледниковой трещиной, словно орлиное гнездо над пропастью.
Палатки были точь-в точь, как в Каркаре – двойные с тамбуром. Они были установлены на деревянных платформах и застелены внутри двумя толстыми синими матрасами.
До обеда мы валяемся у входа в палатку. Греемся на солнце и наблюдаем Хан Тенгри. Я осваиваю его, впитываю, пытаюсь слиться с этой могучей горой. Вид её распирает лёгкие и кружит голову. Мне странно и приятно думать, что целый месяц я буду просыпаться и видеть перед собой ЭТО. Мы обсуждаем с Эялем наш маршрут, который просматривается отсюда весь, как на ладони. Крутой снежный гребень, видимый нами почти анфас, взлетает к пику Чапаева. Его белизна разорвана нескольками скальными поясами. Верхний из них, тот что лежит под самой вершиной, кажется мне непроходимым. «Крутёхонько...» – говорю я – «эти скалы, вон там, под вершиной, как мы там лезть будем?»
«Жуть» – подтверждает Эяль, но в глазах его искры азарта – «хотя, скалы меня не пугают. Скалы – это моё. Но, когда я увидел этот гребень, я подумал: Господи, что я тут делаю...»
Звон колокола созывает обитателей лагеря на обед. Я карабкаюсь вверх к столовой, периодически останавливаясь, чтобы отдышаться. Каменная крошка скользит под ногами, и мутные ручейки смывают её вниз по склону. У тропы, перед входом в столовую установлена стойка с пионерлагерными рукомойниками из моего детства – чугунные горшочки с длинными «пипками» свисающими книзу, словно соски под брюхом Римской Волчицы. Я подставляю руки и, к моему изумлению, их касается не леденящая струя, а тёплая, почти горячая. Постепенно я начинаю осознавать куда я попал.
Столовая представляет из себя огромную военного вида палатку без пола, но с окнами, забранными полиэтиленовой плёнкой. Сооружение это работает, как усилитель климата – когда светит солнце, в палатке царит духота и брезентовые стены источают жар, но как только солнце прячется за тучу, в столовой наступает ледниковый период и мороз, словно колючий вьюнок, начинает ползти вверх по твоим ногам. В этой палатке почти никогда не бывает пусто. Она служит и кают-кампанией, и читальным залом, и местом тусовки, где альпинисты со всех концов Земного Шара показывают себя и смотрят других. Своего пика оживление достигает три раза в день – во время завтрака, обеда и ужина. Наш первый обед поразил меня нежданным цивильным великолепием – яичный суп, картошка с мясом и свежими овощами. На десерт – арбуз. То, как был сервирован наш грубо струганый и покрытый непритязательной клеёнкой стол, просто-таки ввело меня в ступор. Перед каждым из нас стояла тарелка на салфетке, с правой стороны лежал нож, с левой – вилка, а между ними, завершая букву "П" располагалась столовая ложка. Просто таки, как в лучших ресторанах Парижа, о которых я видел в кино...
Не успевал голодный клиент опустошить тарелку с первым блюдом, как тарелка эта тут же уносилась, и перед ним появлялась другая – со вторым блюдом. Когда на столе иссякали запасы салатов и хлеба, то они тут же пополнялись заботливым и расторопным кухонным персоналом. Добавка, если просилась, то приносилась, а если то, что просилось уже закончилось, то взамен приносилось что-то другое. В течение всей трапезы по центральному проходу курсировала девушка с усталыми русскими глазами и неизменной доброй улыбкой. В одной руке у неё был чайничек с заваркой, а в другой – большой пузатый чайник с кипятком. «Чай? Чай? Чай-чай?» – щебетала она подходя по очереди к каждому столу. И мы пили этот горячий напиток чашка за чашкой, восполняя высосанную высокогорьем жидкость. Первым русским словом, которое выучивали иностранцы прибывающие в лагерь, несомненно было слово чай, и, когда в столовой появлялась «чайная Таня», как я её прозвал про себя, по столовой весёлым шелестом проносилось «чай-чай-чай», произносимое со всеми возможными акцентами. На мой взгляд, не мы, альпинисты, были тут истинными героями, а те неунывающие и никогда не отдыхающие ребята, которые вдыхали жизнь в этот оазис посреди ледниковой пустыни. Ледяная вода, холод и тяжёлая беспрерывная работа были их уделом на протяжение двухмесячного альпинистского сезона.
Одним с нами рейсом прилетели трое канадцев (из которых один оказался русским), несколько англоязычных человеков («англосаксов», как теперь принято говорить), которых я в дальнейшем для простоты буду называть британцами, и двое русских мужиков из Москвы, в которых Эяль наотрез отказался признавать альпинистов. «Эти двое из Москвы не похожи на альпинистов» – категорически заявил он мне на иврите, когда мы обсуждали окружающий нас народ, пользуясь своим изолированным лингвистическим положением. «Ерунда!» – говорю я – «просто ты не знаешь, как выглядят русские альпинисты. Русские альпинисты, это особая ветвь эволюции, продукт изоляционизма, как сумчатые животные Австралии. Они не лучше и не хуже западных альпинистов, просто они – другие, и выглядят по другому». Эяль с сомнением покачал головой: «Они забавные и не похожи на альпинистов...» Я подумал, что сам Эяль ещё меньше похож на классического альпиниста в его глянцево-журнальной ипостаси, но промолчал.
В разноязыком гвалте столовой Эяль чувствовал себя, как рыба в воде. Будучи коренным израильтянином, то есть человеком немолчаливым и не склонным к комплексам, он пересаживался от компании к компании и уже на второй день был своим в доску и у британцев, и у канадцев. Это не было столь уж удивительно, поскольку он шпарил по-английски, как на своём родном, но он умудрился также подружиться и с четвёркой испанцев, которые знали на английском лишь «фак» да «шит». Сам же он языком Сервантеса не владел. В его присутствии меня разбивал полный лингвистический паралич, и когда он, к примеру, вёл непринуждённую беседу с британцами, я стоял рядом и пытался придать своему лицу максимально умное выражение, чтобы сгладить впечатление от корявых, как карельская берёза фраз, изредка выпадавших из моего рта. Человек, который плохо говорит на твоём родном языке, всегда выглядит куда глупее, чем есть на самом деле. С канадцами мы сидели за одним столом, и Эяль быстро нашёл с ними общий язык (точнее с теми двумя, которые были коренными канадцами). Я прислушивался к их болтовне, иногда теряя нить разговора. Тогда я дожидался удобного момента и просил Эяля пересказать мне ключевые места. Вся троица была крутой – они ходили много и плодотворно у себя в Канаде, в Скалистых Горах. Русский канадец имел, естественно, и свой сугубо советский альпинистский опыт. «Они – классные» – сказал Эяль, кивая головой на канадцев и затем, уже имея в виду русского канадца: «но вот тот – какой-то странный. Тебе не кажется?». Он явно обращался ко мне, как к эксперту по загадочной русской душе. Я понимал, что он имеет в виду. В парне чувствовалась какая-то злая энергия, которая резко контрастировала с открытым добродушием его компаньонов. Нас же он вообще игнорировал, а если отвечал на вопрос, то как-то сквозь зубы и старательно не глядя в глаза. Решив удовлетворить Эялево любопытство, я довольно настырно вовлёк этого парня в разговор и тот, с плохо скрытым раздражением, разъяснил нам, что прибыл в Канаду после нескольких лет жизни в Израиле, в котором его оскорбило по «пятому пункту» какое-то официальное лицо. В подтверждение этого он воспроизвёл пару дежурных выражений на иврите, и я тут же начал прокручивать в уме реплики, которыми мы с Эялем обменивались по поводу окружающих людей и конкретно – его. Определённо, мы не сказали ничего оскорбительного, да к тому же парень утверждал, что иврит не учил, а что знал – забыл.
Я никак не чувствовал себя ответственным за дурацкую реплику какого-то третьестепенного чиновника, поэтому вяло возразил ему в том ключе, что, мол, козлы есть везде.
Пожалуй, единственной компанией, в которую Эяль не попытался вступить на правах почетного члена, были корейцы. Корейцев было много. Они были везде. Как капельки жира в воде они плавали сами по себе, не смешиваясь и практически не общаясь с прочими членами альпинистского сообщества. Как со вздохом ответил на вопрос о маршруте один из британцев, вернувшись с первого выхода: «Технических проблем нет, но очень много корейцев...». У корейцев был свой отдельный стол, своя отдельная переводчица и даже свой отдельный повар, привезенный ими из самой Кореи. Когда все два десятка корейцев чинно усаживались вкруг стола, происходило торжественное внесение большого котла и многочисленных мисочек, в которых пучились всякие неопознанные кулинарные изыски. Как просветил меня Эяль, который (кто бы сомневался!) бывал в Южной Корее, коренным лакомством корейского стола является гнилая капуста. Я ответил ему фразой, которая по-русски звучала бы так: «Ну, Эяль, ты гонишь! В натуре! Для этого не выписывают повара из самой Кореи...». Эяль посмеялся и обьяснил, что капусту эту гноят специальным древним корейским способом, недоступным рядовому европейскому повару. Мне ничего не оставалось, как поверить ему на слово. По уровню подготовки большинство корейцев были практически новичками, но были и поопытнее, и даже, по слухам, пара зубров – покорителей Эвереста. Как бы там ни было, у них были заказаны русские гиды, которые и водили их вверх-вниз по горе, как, впрочем, и британцев. Судя по всему, в их группе царила старорежимная дисциплина, которой позавидовали бы даже «полувоенные» альпинистские формирования советских времён. В последние дни перед отлётом из лагеря я наблюдал удивительную сцену. Во внеобеденное время, когда в столовой находились лишь несколько отходящих после горы бездельников, включая меня, в «корейском секторе» состоялся товарищеский суд. Два матёрых пожилых корейца, со строгими лицами авторитетов якудзы, заседали по одну сторону стола. Против них, с другой стороны стола, тяжёло опустив руки на стол и понурив голову, сидел «обвиняемый». Авторитеты по очереди произносили резкие реплики с осуждающими интонациями, при этом лица их оставались холодными и суровыми, как обратная сторона Луны. Несчастный не поднимал глаз, ни разу не посмел возразить, и уголки его узких губ были загнуты книзу. Я постарался представить себе их разговор: «Альпинист Чо Тво Риш, кто позволил тебе обрезать верёвку со своим товарищем по восхождению, альпинистом Чан Об Лёд?!» – спрашивает первый авторитет. «Чо Тво Риш, за грубое нарушение восходительской дисциплины мы вычёркиваем тебя из списка живых альпинистов Корейской Республики!» – оглашает приговор второй. Так это выглядело, и я никак не смог бы вообразить эту сцену в исполнении западных альпинистов. Сидевший рядом со мной круглолицый, поросший рыжей щетиной британец с насмешливым интересом наблюдал этот «разбор полётов». Вполне возможно, они были отличными ребятами, эти корейцы, но очень уж с другой планеты.
Самыми же колоритными обитателями лагеря были те, кого я обозвал «испанцами». Именно обозвал, поскольку двое из них были басками, а двое других – каталонцами, и они жутко оскорбились бы услышав, что кто-то называет их испанцами. Но эту историю я приберегу на потом, поскольку в первые дни своего пребывания в базлаге я с ними практически не пересекался. Слышал только, что они круты и безбашенны, как и подобает смуглым пиренейским мачо.
После обеда Тянь Шань показал нам своё истинное лицо. Всё небо затянуло тучами, и с него повалили тяжёлые мокрые хлопья. К вечеру похолодало, и хлопья сменились мелким секущим снежком. На ужин все явились голодными, смололи картошку с мясом и запросили добавку. Я добираю хлебом с вишнёвым вареньем и заливаюсь чаем.
Сон в первую ночь напоминал старую чёрно-белую киноленту, которая раз тридцать рвалась на склейках. Я ворочался, смотрел на часы, думал полубредовые мысли и периодически незаметно отключался. Под утро я проснулся от холода, натянул на себя флисовый костюм, шерстяные носки и выполз наружу по делам. Под ногой скрипнул снег, свежий и сухой, как крахмал. Весь лагерь тихо флуоресцировал в ночи, укрытый белым покрывалом. Высоко над головой повисли колючие гнёзда созвездий. Вдали за ледником вздымалась бледная громада Хан Тенгри.
***
Наступившее утро было фантастическим: всё вокруг было покрыто белым пушистым покровом – ледник, палатки, вывешенное на просушку бельё, превратившееся за ночь в гирлянду мороженых тушек. Глубокое синее небо добавляло теням голубизны, а горы были так белоснежно чисты, что казалось, издавали тихий звон. Я носился с фотоаппаратам по лагерю, замирал перед особо прекрасными видами, и, сдерживая рвущееся, как из парового котла дыхание, снимал и снимал, пока не кончилась плёнка.
После завтрака мы с Эялем занялись разными хозяйственными делами, готовясь к завтрашнему выходу. Я внимательно прислушивался к тому, как мой организм реагирует на свершенное над ним насилие – заброску вертолётом на четырёхтысячную высоту. Когда я резко вставал на ноги, я чувствовал лёгкое головокружение и толпы мурашек бегали вверх-вниз по моим конечностям. Любая, самая незначительная прогулка сопровождалась чудовищной одышкой, и я совсем не был уверен, что буду готов завтра выйти на гору. Накануне мы, вместе с Володей, обсудили наши планы. Эяль рвался в бой, и готов был пойти на гору на следующий же день после прилёта, Володя хотел посидеть в лагере один день для акклиматизации, а я посидел бы и целых два дня. Мы решили действовать по погоде, но быть готовыми выйти на второй день. В глубине души я надеялся, что погода задержит нас в лагере ещё на денёк и даст мне возможность как следует прийти в себя.
Перед обедом мы разузнали, где находится палатка начальника лагеря и отправились к нему за бензином для нашего примуса и за газовыми баллонами. Только в это утро я осознал, что начальник нашего лагеря, это – Юрий Моисеев. Тот самый! В 1988 году тройка Казбек Валиев, Юрий Моисеев и Золтан Демиан совершили одно из самых красивых восхождений на гималайский восьмитысячник: первопрохождение Юго-Западного контрфорса Западной стены Дхаулагири (8167м). За 9 дней, в альпийском стиле и без кислорода. Если вам это ничего не говорит, то вряд ли вы поймёте и тот интерес, который вызывал у меня этот человек. Я объяснил Эялю причину своего волнения. Как и всякий «западный» молодой человек, интересующийся альпинизмом, он знал из русских альпинистов только Букреева и то, лишь благодаря скандальным отголоскам трагедии 1996 года.
В палатке, на которую нам указала Надия, и которая служила одновременно и узлом связи и складом сдаваемого напрокат снаряжения, мы обнаружили немолодого седовласого мужчину с мягким, почти извиняющимся выражением лица и живыми карими глазами. Я поинтересовался, на всякий случай, действительно ли перед нами Юрий Моисеев, причём меня привёл в замешательство тот факт, что я не знаю, как адекватно обратиться к этому человеку. С одной стороны, уже тринадцать лет, как я не обращаюсь ни к кому по отчеству, и такое обращение кажется мне столь же несуразным и неудобным, как носка камзола позапрошлого века, с другой стороны я понимаю, что моё ощущение – порождение абсолютно иной реальности, а здесь и сейчас обращение по имени к уважаемому человеку, который значительно старше меня, прозвучит неуместной фамильярностью. Ох уж эти условности!
Должен сказать, что мы были просто очарованы Моисеевым. Никакой, даже малейшей «звёздности» не было в этом человеке. Он разговаривал с нами просто и доброжелательно, и говорил с нами о маршруте так, как будто и для нас, и для него он представлял одинаковую сложность. А ведь у него за спиной была и северная стена Хан Тенгри, и зимние восхождения на семитысячники, и Канченжанга.
Он не советовал нам идти на седловину во время акклиматизационного выхода, а ограничиться лишь восхождением на пик Чапаева. Здесь, похоже, мне придётся сделать небольшое, но вынужденное отступление, и рассказать о маршруте. Как я уже говорил, на Хан Тенгри существуют два относительно несложных «классических» маршрута. Более простой из них находится с южной стороны горы. Он поднимается по снежно-ледовому кулуару между Хан Тенгри и пиком Чапаева (6370м) и выводит на седловину между этими двумя вершинами. Высота седловины – примерно 5900м. До седловины этот маршрут не имеет никаких технических трудностей, т.е. «ходится ногами», но довольно лавиноопасен. Нижняя часть его простреливается лавинами и ледовыми обвалами, сходящими с пика Чапаева, и народ проскакивает его рано утром и как можно быстрее.
С севера маршрут поднимается по крутому ребру прямо на северную вершину пика Чапаева (6150м) и уже оттуда спускается на седловину. На седловине оба маршрута соединяются в один, который выводит на вершину Хан Тенгри по скальному Западному Гребню.
северный маршрут (он называется маршрутом Саламатова) гораздо безопаснее южного, но в такой же мере тяжелее физически и технически. Крутой снежно-ледовый гребень разорван в двух местах (между 1м и 2м лагерями и под пиком Чапаева) ещё более крутыми скальными поясами, прохождение которых на этих высотах, да, зачастую, с тяжелым рюкзаком представляет изрядную проблему. К тому же, хождение туда-сюда через пик Чапаева тоже здоровья не прибавляет. Когда-то этот маршрут получил категорию 5Б, но эта оценка, естественно, не подразумевала, что вся гора от подножия и до вершины заранее провешена перильными верёвками, как это происходит сейчас.
Когда я собирался на Хан Тенгри, меня здорово смущал этот вопрос. Я имею в виду перильные верёвки. Абсолютно очевидно, что не будь Хан Тенгри провешен перилами, я никак не смог бы собрать себе команду, у которой был бы шанс на него взойти. Поколебавшись, я убедил себя в том, что, собственно, в мои планы входило восхождение на семитысячник, а перильные верёвки не сделали гору ниже, чем она была. Я понимаю, что иду на эдакий «адаптированный» Хан Тенгри, но я и отношусь к нему соответственно. Того, старого Хан Тенгри всё равно уже нет и не будет, да он мне и не по зубам. Просто это, новая ТАКАЯ гора, и на ней есть новый ТАКОЙ маршрут. Так я решил для себя, хотя всё это довольно печально.
Перед обедом я сижу в столовой и наблюдаю, как две девочки и парень из кухонного персонала накрывают столы. Они обсуждают свои «кухонные» проблемы, скрытые обычно от глаз клиентов, и я чувствую себя за кулисами театра.
«Поставь ножи туда и туда» – кивком головы девочка указывает парню на «недоработанные» столы. «Зачем они нужны» – вяло отмахивается парнишка – «всё равно резать нечего...».
«Ставь, ставь, не рассуждай. Положено так. Не покладём – меня уволят...». «А ножей опять не хватает» – говорит вторая. «А ты возьми со стола у наших (имеются в виду гиды), наши обойдутся...»
Выход в первый лагерь
Кто выходит рано на маршрут, тот договаривается с кухонными ребятами с вечера, и те кормят их утром чем нибудь незамысловатым прямо на кухне. Мы договорились с кухней на 6 утра, но наш будильник не прозвенел. Но не прозвенел он и у кухонных. Вместе с нами должны были прийти на ранний завтрак канадцы и москвичи, но и они проспали. Мистика какая-то! Я проснулся в 5.55, растолкал Эяля и оделся со стремительностью, не замечавшейся за мной со времён службы в армии. Напялил «пластики», схватил собранный с вечера рюкзак и помчался на кухню, периодически сгибаясь пополам на крутом подъёме от нехватки воздуха. В промороженной кухонной палатке меня встретил осоловелый спросонья персонал. Чуть позже подвалили канадцы, москвичи и Эяль. Нас накормили яичницей-глазуньей и напоили чаем. В 6:45, в серых предрассветных сумерках мы спустились на ледник. 40 минут заняло у нас пересечь его и подойти под чапаевское ребро. Ледник был простым. Собственно говоря, я редко видел столь простые для хождения ледники. Никаких трещин мы не встретили, только в 2-3х местах пришлось перепрыгнуть через пересохшие за ночь, отполированные водой желоба, напоминавшие лоток по которому выкатываются шары из барабана спортлото. Мне было хреновато, и я с трудом поспевал за Володей, а Эяль сразу же ускакал далеко вперёд. Живенько так, как выпущенный на волю козлик. Впрочем, он честно подождал нас в широкой ложбине между моренным валом и пологим снежным склоном, с которого начинался подьём по ребру. Здесь мы надели кошки.
К моему удивлению, на подъёме я довольно легко вошёл в ритм, и мы с Володей неторопливо нарезали широкие серпантины по смерзшемуся за ночь фирновому склону. Сто метров некрутого подъёма привели нас к оконечности старого лавинного выноса, и здесь мы сели передохнуть. Слева от нас бугрились припорошенные и смерзшиеся завалы, образованные остановившейся лавиной. Эти завалы мне не понравились, но состояние снега в данный момент было отличным. К тому же, все мы внушаемы: если серпантин маршрута протоптан опытными людьми прямо вверх по лавинному выносу, то очевидно ничего лучшего тут не придумаешь...
От места нашего привала склон стал круче, а задерживаться тут не хотелось, и я выжимал из себя всё, что мог. Эялю я сказал, чтобы он не ждал нас, а двигался со всей возможной скоростью до большого бергшрунда, к которому вели следы наших предшественников, и который пересекал склон в стороне от пути схода лавин.
По мере того, как набирающее силу солнце нагревало склон, снег становился липким, повисал комьями на ногах и тормозил и без того нестремительное продвижение. Наконец, тропа, до того струившаяся широким, крутым серпантином, стала положе и решительно ушла влево. Мы вышли к большому бергшрунду, где Эяль давно поджидал нас, потихоньку коченея.
Можно расслабиться.
Чувствовал я себя хорошо, держал вполне приличный темп и настроение моё взлетело до небес. Сидя на рюкзаке, жуя сухой кисловатый абрикос, я пялился на искрящиеся в утренних лучах снежные откосы, сбегающие далёко вниз к тёмному ложу ледника, на вызываювающие тошное кружение головы гиганские ледовые нашлёпки Северной Стены и думал простые мысли, о том, что вот я здесь, лезу на самого Хан Тенгри, и, несмотря на это, я – это всё тот же я... Что-то в этом роде.
Я достал фотоаппарат, неловко снял крышку, и отчаянным взглядом проследил её стремительное падение. Проскользив метров 20 вниз по склону и перепрыгнув через полузасыпанную трещину, она остановилась призывно чернея на снегу, чистом, как непорочное зачатие. Было ясно, как день, что прямо вниз мне тут никак не спуститься. Можно было лишь вернуться обратно по тропе, спустившись ниже закрытой трещины, через которую крышка перескочила, а оттуда уже пройти траверсом под то самое место, над которым мы сейчас сидели. Я с укоризной посмотрел на вершину Хан Тенгри. Возвращаться не хотелось. «Куда ты спешишь?» – сказал Володя – «будем возвращаться в базовый, тогда и подберёшь». Я нехотя согласился, хотя и подумал, что за день солнце вплавит чёрную крышку в снег, и не факт, что я смогу её найти.
Эяль, тем временем, решил, что пора двигаться. Вдоль бегшрунда были протянуты горизонтальные перила, а от его дальнего края вверх уходила протоптанная в глубоком снегу траншея. Склон в этом месте был довольно крутым, и вдоль траншеи тоже висели перила. Собственно говоря, всё ребро, от этого бегшрунда и до самой вершины пика Чапаева было полностью провешено перилами.
Эяль дошёл до края бергшрунда и какое-то время постоял там что-то недоуменно разглядывая. Затем он пристегнулся жумаром к перилам и крикнул мне: «такой верёвкой только верблюдов привязывать!..» Когда я, в свою очередь, подошёл к перилам, я понял, что он имел ввиду. Верёвка, которой мне предстояло доверить свою жизнь представляла из себя на вид простецкую черную капроновую бечёвку. Такой верёвкой хорошо связывать в тюк свои невзрачные пожитки, уходя навсегда из отчего дома. Если бы у меня был хороший крепкий верблюд, я предпочел бы привязать его статической «десяткой», а не этим несчастьем. Так я думал, карабкаясь вверх по крутому склону и с опаской нагружая жумар. Однако, как выяснилось позже, мы напрасно беспокоились. Как объяснил мне Моисеев, верёвками этими провешивают сегодня все гималайские восьмитысячники.
Сто метров крутого подьёма закончились на просторном плече, покрытом, в основном, снегом, но с большим скальным участком, на котором расположилось с десяток палаток. Это, так называемый, нижний (он же основной) первый лагерь. Его высота – 4500м.
На 100 метров выше расположен верхний первый лагерь. Мест под палатку там гораздо меньше и нет текущей воды, но, остановившись в нём, сокращаешь себе переход во второй лагерь, который намного тяжелее перехода из базлага в первый лагерь. Посовещавшись, мы довольно единодушно решили идти дальше, в верхний лагерь.
Посидели, отдохнули, перекинулись парой реплик с народом и полезли дальше. И вот тут, что-то во мне кончилось. Высота, наконец, дала о себе знать. Темп резко упал и, буквально «на зубах», я выполз в верхний лагерь. Ребята уже ставили принесенную с собой палатку. Скальное плечико, на котором мы расположились, могло приютить не больше пяти палаток, но в данный момент тут стояла только одна, хотя в нижнем лагере было полно народу.
Закончив обустраивать своё жильё и накипятив себе воды, мы растянулись на полуденном солнце, прикрыв физиономии панамами.
Солнце жарило немилосердно, Северная Стена дрожала в зыбких потоках воздуха, а в синем, как гавайская лагуна небе рождались клубящиеся облачка, словно пар над закипевшим гигантским котлом. Какое блаженство! Что за погода! Мне даже неловко за «суровую природу гор»: где леденящий ветер, сбрасывающий дерзкого пришельца в пропасть с крутого гребня? Где мороз, от которого вырастают на усах метровые сосульки? Где пурга, заметающая следы раньше, чем нога человека успевает их оставить?
В левой части исполинской Северной Стены родилось какое-то тревожное движение. Снежный поток, неотвратимый и неостановимый, непостижимо медленно и в жутковатом безмолвии двинулся вниз по скальному кулуару. Мощной дугой перетекая через прогибы стены, он падал на скальные уступы, взрывался на них и продолжал своё плавное падение, постепенно укутываемый пеленой снежной пыли. Тяжёлый рокочущий грохот ударил по ушам и проник до самой селезёнки...
Я провалялся часа три, не меньше. Это важно для акклиматизации – проторчать подольше на этой высоте. Эяль же, поёрзав нетерпеливо и заявив, что не хочет упускать обед, убежал вниз. Наконец, я решил, что и мне пора. Оставив Володю, который хотел ещё немного поакклиматизироваться, я спустился в нижний лагерь, а оттуда – к бергшрунду, причём оказалось, что спускаться по натянутым «верблюжьим» перилам крайне неудобно. На первой веревке я кое-как ещё сумел стать на дюльфер, а вторая была натянута так, что пришлось просто прищёлкнуться скользящим карабином и аккуратно спускаться, придерживаясь за перила.
У бергшрунда я вспомнил об улетевшей крышке. Я тщательно вглядывался в волнистый снежный склон ниже бергшрунда, но крышку – как корова слизнула. Я прошёлся туда-сюда, удостоверился, что стою над тем самым местом, где я видел её в последний раз, но подо мной простиралось белое безмолвие в чистом виде. Пытаясь подавить досаду, царапающуюся где-то под ложечкой, я говорю себе – ну и черт с ней! Пусть это будет самой большой потерей в этом восхождении. И в тот самый момент, когда я нехотя решаю плюнуть и уйти, я замечаю тонкую чёрную чёрточку примерно в том месте, куда улетела крышка. Есть! Я сразу догадался, что нагревшись на солнце она вплавилась в снег, но как-то боком. Стала на ребро. Запомнив небогатые ориентиры, я спустился от бергшрунда по тропе до того места, откуда можно было траверсом и с небольшим спуском пройти к нужному месту. Мимо меня вниз прошлёпала дружная группа корейцев, и я подумал, что было бы неплохо иметь на себе пару чужих глаз, выходя в одиночестве на закрытый ледник.
Я шагнул с тропы и сразу провалился в снег по колено. Вот она разница между восхождением по подготовленному, натоптанному маршруту и хождением по целине! Во-первых – тяжко, а во-вторых – думать приходится и смотреть куда ноги ставишь. Увязая в снегу и с опаской экстраполируя границы большой трещины, местами проглядывающей выше по склону, я преодолеваю полсотни метров, отделяющие меня от места падения крышки. Затем, в растерянности и злом бессилии я стою над переливчатым перепончатокрылым созданием, неведомо как залетевшем в эти безжалостные пространства и тихо умершем на пушистой, но мертвяще холодой перине. Его-то я и принял издалека за крышку фотоаппарата. Я гляжу то на стеклянную стрекозку, то на вершину Хан Тенгри, подрагивающую в фиолетовом небе, и вся эта сцена кажется мне исполненной какого-то неясного, но зловещего смысла. Как будто Гора недобро пошутила со мной. Когда вы находитесь на теле каменного исполина, одно лишь ничтожное шевеление которого способно изъять вас из этого мира без следа, смахнуть, как жалкую тёплую пылинку, ваш материализм подвергается суровому испытанию.
«Вот так и ты, ляжешь где-нибудь на снег и сдохнешь...» – сказал я себе, повернулся и побрёл обратно, но не по своим следам, а забирая чуть вниз, чтоб было полегче. Я сделал пару шагов, и физиономия моя расплылась в улыбке. У моих ног, на дне глубоко проплавленной лунки лежала моя злосчастная крышка. Ну, не мистика?
Если бы не стрекоза, я ни за что не смог бы разглядеть её сверху, и конечно не пошёл бы искать наобум. Гора определённо играет со мной!
Выход во второй лагерь
Уже на следующее утро мы выходим в главный акклиматизационный выход. Наша программа минимум – дооборудовать первый лагерь всем необходимым и установить второй лагерь на высоте 5500м. Если позволят погода и здоровье, то мы ещё и поднимемся налегке на пик Чапаева для акклиматизации.
Я иду на это дело нехотя и с опаской. Слишком быстро мы бежим. По крайней мере, для меня слишком быстро. Но погода подгоняет нас в спину, ребята рвутся на гору и, в итоге, я тоже выхожу, решив, что после ночевки в первом лагере решу по самочувствию, идти ли мне выше.
Итак, мы встаём в 5.30 и выходим с первыми лучами солнца на окаймляющих Иныльчек вершинах.
Рюкзаки тяжелые. Мы тащим палатку, всё спальное, всю тёплую одежду, кучу продуктов и бензин.
Продвигаемся, однако, довольно быстро и (спасибо морозной ночи и раннему подъёму!) по идеальному фирну. Погода стоит просто фантастическая – ни единого облачка, ни ветерка. Идеальный вершинный день, но никто ещё не взошёл, поскольку многодневная непогода, стоявшая до нашего приезда, задержала все группы. Сейчас же, в обоих базовых лагерях с напряжением ждут новостей с горы от ринувшихся в бой восходителей. Погода балует нас, но у меня нет ощущения, что Гора благоволит ко мне. Потреплет по загривку, поиграется, как хулиган с котёнком, а потом как даст пинка с размаху...
3 часа и 40 минут заняло у меня добраться до нижнего первого лагеря. Здесь я сделал привал, поскольку уже изрядно вымотался. В этом лагере расположились и канадцы, и москвичи. Москвичей зовут Витя и Игорь, и я с интересом к ним присматриваюсь. Мужики делают всё неспеша и обстоятельно, придерживаясь неукоснительного плана, автором которого, очевидно, является Витя. Они всё делают вместе и даже ждут друг друга на подъёме, что давно уже вышло из практики сегодняшнего альпинизма. Я прикидываю, что по своим темпам, обстоятельности и прочим качествам, они гораздо больше подходят мне, чем мои резвые напарники. Чем дольше я наблюдаю за ними, тем больше интересных особенностей замечаю.
Во-первых, они по характеру – полная противоположность друг другу. Виктор, который постарше, – спокойный и углублённый доктор наук. Он отнюдь не молчалив, но не балагур. Любит читать пространные лекции в основном на политико-экономические темы, но знания его широки и простираются в самые разнообразные области. В одной из наших первых бесед он затронул какую-то экономическую тему, и слова его упали в мою соскучившуюся по интеллектуальной беседе душу, как искра на сухую солому. Я долго распинался, наворачивая один на другой доморощенные аргументы и банальные факты, а он молча внимательно слушал, лишь изредко задавая уточняющие вопросы. Позже, когда я узнал, что он – доктор экономических наук, я понял, каким дурнем я выглядел и постиг всю меру его такта.
Затем, я с изумлением наблюдал, как он непринуждённо переключается с беглого английского на столь же свободный испанский, а в довершение обнаружил, что он побывал во множестве стран. Своими рассказами об Индии он и Эяль полностью изменили моё отношение к этой стране, которая возможно станет теперь целью следующей моей «Большой Прогулки».
Игорь же – личность бурливая и неспокойная. Неугасимый огонь сжигает его душу каждую минуту, бросая в ожесточенные споры, из которых измотанные противники разбегаются, как тараканы. Он шутит, каламбурит и подначивает девушек. Глаза его сверкают на сгоревшей вклочья физиономии. Волны его беспорядочно бьющей энергии разбиваются об холодный волнорез Витиного академического спокойствия, но не раз и не два я замечаю на Витином лице след обреченной усталости... Короче говоря – чудесная пара, эти москвичи!
Тяжело, с остановками, я выкарабкиваюсь к верхнему лагерю. Навстречу мне спускается Эяль. Оказывается, он обеспокоился моим долгим отсутствием и спрашивает не нужна ли мне помощь. Пытается отнять у меня рюкзак. Что же это он меня уже совсем человеком не считает?! На самом деле, я расстроган. Я всё больше убеждаюсь, что он отличный парень, и мне здорово повезло с ним.
Остаток дня мы проводим «загорая» на солнышке и впитывая в себя ту самую космическую энергию, о которой так любят рассуждать современные шарлатаны.
На этот раз мы не одиноки, и рядом с нами остались на ночёвку несколько молодых русских портеров. Совсем пацаны ещё. Я с интересом наблюдаю за их хозяйственным копошением и прислушиваюсь к их своеобразному говору. Кажется половину из них зовут Сашами. Вообще, весь базовый лагерь переполнен молодыми Сашами всех мастей. Какое-то нашествие Саш. Некоторые из них, к тому же, Сан Санычи, то есть, как бы Саши в квадрате. Я пытаюсь понять, какого рода естестественный отбор мог привести к такому очевидному доминированию популяции Саш, но ничего научно обоснованного мне в голову не приходит.
***
Первая ночь на 4600 была прерывистой, как пунктир, чуть бредовой, но очень тёплой. Палатка фирмы Баск с тремя человеками внутри превращается в хорошую теплицу. Утром я вышел «за околицу» по важному делу и обнаружил, что хождение по таким делам в этом лагере представляет собой неуютную и где-то даже опасную процедуру. Сразу за последней площадкой, пригодной для палатки, скальное плечо начинает заваливаться вниз и затем обрывается в километровую пропасть. Вышедший по делу человек, (я имею в виду дело серьёзное, конечно) разрывается между двумя противоречивыми желаниями – с одной стороны не осквернить своим соседством близлежащую палатку, а с другой – не улететь вниз, извиняюсь за натурализм, прямо так – с голой задницей.
Накануне мы поняли одну простую вещь – мы не в состоянии идти вместе одним темпом, а поскольку всё ребро провешено, то в смысле безопасности тут вполне можно ходить поодиночке. Первым вышел Эяль, за ним Володя и затем уже я. Я выложил из рюкзака всё, что только мог. Выложил даже (впервые в жизни!) фотоаппарат, решив, что всё равно пройду этот участок на следующих выходах и, возможно, не раз. Уже совсем было собравшись выходить, вдруг выложил из рюкзака и оставил в палатке блокнот и ручку. Полнейшая шиза, конечно, но там мне это было не так очевидно. В рюкзаке осталось всё спальное и всё тёплое, плюс 6 кг продуктов. Всего килограммов 14, я думаю. Ледоруб я тоже оставил, о чём потом не раз пожалел. Погода стояла прекрасная, а снег на этой высоте уже практически не размокает даже в солнечный день, поэтому шлось мне хорошо. Нижняя часть гребня представляла из себя снежный склон крутизной градусов 40-45, в среднем. Никаких особенностей или препятствий. Жумаришь себе потихоньку вверх, через каждые 20-30 метров останавливаясь перевести дыхание и, заодно, полюбоваться пейзажем.
Так оно шло метров 500 по высоте. Затем я подошёл под тот самый первый скальный пояс, про который я читал на ночь в страшных книжках про Хан Тенгри. На глаз – метров восемь слоистых скал припорошенных снегом и, опять же на глаз, несложных. Хотя с рюкзаком да на пяти тысячах не очень-то разгонишься. Скалы провешены двумя верёвками: одна натянутая – для подъёма, а другая прослабленная – для спуска. Спортивного интереса ради лезу, используя жумар только для страховки. Пальцы в шестяных перчатках нащупывают промороженные зацепы. Нагрузка чудовищная и дыхания хватает на два-три движения, после чего долго отхожу, готовясь к следующему рывку. Но это куда интересней, чем жумарить верёвку, и я пролажу первый участок даже с каким-то мазохистским наслаждением. Эдакая счастливая улыбка с перекошенным ртом. Затем, короткий снежный траверс вправо, и ещё одна скальная ступень, покруче, но совсем невысокая, всего метра три. Пытаюсь лезть «элегантно», но пальцы соскальзывают на ледяной корочке, покрывающей скалы, и я тяжело заваливаюсь на бок и нагружаю жумар. Жалею, что не взял ледоруб – с ним здесь было бы куда проще.
Экшн закончился, и потянулись суровые будни. Чуть выше скального пояса делаю привал и жую сухофрукты. Чувствую, как набранная высота давит затылок. Надо идти. Продолжаю жумарить вверх по снежному гребню, лишь изредка оживляемому короткими и простыми скальными участками. Лезу уже четыре часа, и постепенно наваливается усталость, помноженная на высоту. Внезапно гребень выполаживается и становится шире настолько, что посреди этого выполаживания кто-то вытоптал площадку под палатку. Далее передо мной возвышается огромный снежно-скальный купол, высотой метров 300. Там, наверху, находится Лагерь-2.
Отдыхаю перед последним броском, сидя на рюкзаке на вытоптаной площадке. Нормальным временем для подъёма из первого лагеря во второй считается 6-8 часов. Я с удовольствием констатирую, что не выхожу, так сказать, за рамки приличий, и это несмотря на то, что речь идёт о первом выходе на эту высоту, да ещё о тяжёлом, «грузовом» выходе. Однако, всё только начиналось. Купол оказался крутым и каким-то абсолютно бесконечным, и с каждым шагом вверх силы уходили из меня, как вода в песок. Солнце повисло прямо над куполом и беспощадно слепило, буквально лупило по голове. Хотелось отвернуться и лезть вперед спиной... Под его жесткими лучами я чувствовал себя, как на допросе с пристрастием, тем более, что продвижение вверх и без того всё больше напоминало пытку. Сначала я останавливался отдышаться каждые 10-15 шагов, затем каждые 5-6, а под конец – каждые 2-3 шага. Абсолютно вымотанный, подползаю под последний скальный пояс. Ну Васенька, ну капельку, говорю я сам себе.
Передо мной открывается широкое снежное пространство и впереди, в сотне метров от меня, как брошенная на снег горсть драже – палатки второго лагеря. Сразу за ними начинается неширокий снежный гребень, словно мост, перекинутый к подножию массивных тёмных скал под пиком Чапаева. От пика Чапаева влево гигантской дугой, провисшей под тяжестью многометровых снежных карнизов простирается пресловутая Седловина. Вершина Хан Тенгри возвышается над всем этим величественным пейзажем, словно массивная голова восточного владыки. Его лицо – тёмная недвижимая маска, не обещающая нам смертным ничего хорошего. Слово Хан прекрасно подходит к его холодному и безжалостному облику. При всём своём подавляющем величии, вершина Хан Тенгри не кажется отсюда крутой, и, пока кровь возвращается в мои онемевшие от последнего рывка конечности, я скольжу взглядом по его суровым граням и кулуарам в поисках пути к вершине.
Я добредаю до палаток и нахожу своих друзей валяющимися на расстеленных на снегу ковриках возле моей, уже установленной, палатки. Прохрипев «сионисты не сдаются!..» я, как подкошенный, падаю в снег. Володя смеётся.
Итак, на всё про всё – 7 часов, из которых 3 часа ушло на преодоление последних трёхсот метров подъёма. В принципе, я мог бы быть доволен собой, если бы не поразительная прыть моих товарищей. На тот же переход Эяль потратил 5 часов, а Володя и вовсе – 4.5 (!!!). Мне это развитие событий показалось очень поучительным. На самом первом выходе мы с Володей, оба без акклиматизации, шли примерно в одном темпе и намного медленнее Эяля, который после Кавказа чувствовал себя на высотах до 4500м, как рыба в воде. Вчера, на подъёме в первый лагерь, Володя шёл уже значительно быстрее меня, но всё ещё уступал Эялю, а сегодня, когда мы поднялись с 4600 на 5600 метров, Володя обогнал Эяля и пришёл в лагерь-2 первым. Эяль же впервые пожаловался, что чувствует высоту. Можно только поражаться той скорости, с которой наш латвийский друг адаптируется к высоте! Прирождённый высотник.
В этот день во второй лагерь, кроме нас, поднялись канадцы и Витя с Игорем. Все пришедшие были одинаково серолицы и немногословны, и только Игорь громко шутил, опасно покачиваясь.
Большую часть своего досуга в тот вечер мы потратили на борьбу с примусом. Повторилась боливийская история в смягчённом варианте. Примус разжегся без проблем и даже чего-то там для нас накипятил, но при попытке повторить это достижение, наш «огненный цветок» стал чахнуть и, несмотря на все усилия, вскоре увял окончательно. Меня это дело просто-таки повергло в депрессию. Я вообще ненавижу всякие «железяки», предпочитая свободный полёт мысли и духа грубым материальным сущностям, которые ломаются, текут, воняют всякой дрянью, и всё это в самый неподходящий момент. От одной мысли, что я, полуживой от усталости, негнущимися пальцами должен буду разобрать эту тварь на мелкие части, а затем напрячь свою пустую голову, в которой перекатывается маленький шарик тупой боли, в попытке понять, что же хочет от нас эта сволочь, от одной этой мысли мутное отчаяние подкатывает к моему горлу. И тут я обнаруживаю, что наш Эяль – это не только здоровые лёгкие и сильные ноги, но и трудолюбивые, умелые руки. С терпением египетского раба он прочищает все отверстия, какие только есть у этой проклятой железки. Нам удаётся вскипятить целый котелок воды, прежде чем вся история повторяется...
Постепенно до нас доходит, что мы обречены прочищать примус после каждой готовки, а может быть и чаще. Это изнеженное создание не может работать на грубом казахском или там боливийском топливе, а только на тонких сортах европейского производства. К тому же, при первом же прикосновении у него отвалилась ручка насоса, прямо как нос у сифилитика в последней стадии.
Ненавижу!!!
Я поклялся, что это последний раз, когда я пользуюсь в горах бензином. Газ, только газ!
Вечером, чувствуя, что разваливаюсь на части, я измеряю себе температуру: 37.4 по Цельсию. Ем таблетки: акамоль, диамокс и что-то ещё. Володя уходит спать в палатку к русскому гиду, вместе с которым собирается идти завтра на седловину. Что ж, большому кораблю – большое плавание. Эяль чувствует себя неважно, и мы с ним планируем завтра никуда не рыпаться, а просто посидеть в лагере для акклиматизации.
***
Спал я неожиданно хорошо, и эта неожиданность оказалась для Эяля неприятной. Утром он заявил, что я храпел всю ночь, как биндюжник. Столкнувшись с циничным равнодушием с моей стороны, он пообещал уйти ночевать в следующий раз в палатку канадцев, которые сегодня собираются свалить вниз.
Первым делом я выглянул из палатки. Утро не просто наступило, оно распустилось, как бутон прекрасного холодного цветка. Благословен тот, кого оно застало на пути к вершине!
Первую половину дня мы проводим, то воюя с примусом, то валяясь на ковриках у палатки и наблюдая за бесконечно медленным продвижением двух крохотных фигурок вверх по ребру пика Чапаева. Движение их незаметно, как движение часовой стрелки. Не понимаю, как это они надеются успеть сегодня сходить на седловину и вернуться обратно.
Ближе к полудню жара становится невыносимой. Внутри палатки тоже пекло, хотя и другого рода. Я пытаюсь спрятаться в ней от прямых солнечных лучей, но не выдерживаю и пяти минут. Это всё равно, как уйти со сковородки в духовку. Наконец, меня осенило, и я накрыл палатку спальником. Теперь можно жить, плюс – спальник подсохнет. Жизнь в лагере течёт вяло, и лёгкое оживление наступает лишь тогда, когда кто-то новый поднимается к нам из первого лагеря или спускается с седловины. Вот, поднялись два британца, ведомые Моисеевым. Почему так мало? Произошёл естественный отбор, и часть британцев до второго лагеря не добрались. Затем, во второй половине дня, спустился с пика Чапаева какой-то мужик, не молодой, но крепкий, и народ бросился его поздравлять. Оказалось – это тот самый Иван Иваныч, который сегодня, первым в этом сезоне, взошёл на вершину. Его обступают со всех сторон, а он стоит и покачивается. Спросили, сколько часов он сегодня на ногах. Он попытался ответить, но слова застряли в горле, и он только безнадёжно махнул рукой. У нас с Эялем как раз поспел чай, и я налил пришедшему полную кружку, которую он выпил одним длинным глотком. Потом он вытер рот обратной стороной перчатки и посмотрел на нас уже осмысленно, явно приходя в себя.
– Откуда вы, ребята? – спросил он меня.
– Из Израиля.
– Да?! – его брови взлетели вверх от удивления. – Всю жизнь хожу в горы, а евреев-альпинистов ещё не видел!
Сказать, что я не обиделся за еврейский альпинизм, будет неправдой. Видно же по мужику, что человек он бывалый, много походил и всякое повидал. А вот, поди ж ты, – ни одного еврея... Я лишь молча пожал плечами.
Спустились и Володя с гидом, абсолютно выжатые. До седловины они не дошли, только выгребли на пик Чапаева и повернули обратно. Гид перегрузился, а Володю высота задавила. Он пьёт чай, наскоро собирается и уходит в первый лагерь.
Тягучий и бессмысленный день закончился феерическим закатом. Эяль ушёл спать в палатку канадцев, а я два часа воюю с примусом, пытаясь натопить воду на ужин. Примус воняет невыносимо, несмотря на то, что я распахнул настежь оба тамбура. Ложусь спать в обнимку с честно заработанной бутылкой тёплого чая и с неистребимым вкусом бензина во рту.
***
Вчера я чувствовал себя настолько прилично, что мы договорились с Эялем встать пораньше и сходить на Чапаева, но утром следующего дня я уже был, как труп. Всю ночь у меня раскалывалась голова, и я почти не спал, слушая, как порывы ветра бросают на мою палатку заряды сухого снега. Погода испортилась, и я тоже. Похоже, я таки наглотался вчера паров бензина. В 6 утра, по плану я должен был начать готовить завтрак, но это оказалось выше моих сил. Я понимал, что подвожу Эяля, но продолжал валяться в полной неподвижности, бездумно выдыхая столбики пара в морозный воздух палатки сквозь крохотное отверстие в затянутом капюшоне спальника. Спустя какое-то время послышалась неуклюжая возня в тамбуре, и Эяль ввалился в палатку. Он выглядел озадаченным и озабоченным.
«Эяль»– сказал я голосом умирающего лебедя – «я отравился бензином. Я не пойду на Чапаева, а буду сваливать вниз». Эяль поинтересовался, в какой именно степени я отравился, и я убедил его, что помирать не собираюсь. «Там не очень хорошая погода» – сказал он – «и ночью намело свежего снега. Не знаю, стоит ли мне идти наверх». Он говорил это слегка вопросительным тоном, как бы спрашивая совета. «Не знаю, не знаю» – ответил я – «на мой взгляд, мы выполнили свою программу, и не стоит тебе лезть туда в одиночку, но если ты решишь идти, я могу подождать тебя здесь». «А ты вообще можешь сам спускаться?» – оживился Эяль. «Без проблем!» – я безжалостно лишил его прекрасного повода не идти на гору.
В течение всей этой беседы я продолжал лежать, спелёнутый, как мумия, а Эяль раскочегарил примус и приготовил завтрак. Погода же словно издевалась над Эялем, резко меняясь чуть ли не каждую минуту. Тяжкие колебания омрачали его чело, пока мы вяло пропихивали в себя здоровую и полезную овсяную кашу. Наконец он решился и пошёл собирать рюкзак, а я остался кипятить ему воду на выход. Когда я разливал её по бутылкам, он вернулся и сказал, что погода ухудшилась, намело 20см снега, и он передумал. «Ну и прекрасно» – бодро отреагировал я на эту новость, и мы стали паковаться на спуск. Эялю пришла в голову замечательная мысль – оставить свой тяжёлый рюкзак здесь, в лагере, а вниз взять мой, который полегче, загрузив в него и свои и мои вещи. Собственно, вниз нам почти нечего было нести.
Я натянул на себя всю одежду, кроме пуховой, которая должна была остаться во втором лагере, и в 9.20 вышел вслед за Эялем, даже не пытаясь за ним угнаться. Было довольно прохладно, сеял снежок, и иногда набегали полосы тумана. Везде, где позволяло натяжение перил, я спускался дюльфером, а где не позволяло – просто шёл вниз спиной к склону, пристегнувшись к верёвке скользящим карабином. Снова пожалел, что нет ледоруба – если полечу, то лететь буду пару десятков метров до ближайшей станции или узла, а если станция или самостраховка не выдержат рывка, то гораздо дальше... Можно, конечно, навязать прусик, но это теоретически. На практике, когда верёвки часто связаны и нужно проходить узлы иногда по нескольку штук подряд, да всё это – деревянными пальцами в перчатках.. Будешь спускаться таким образом до второго пришествия. На скальном поясе, на перестёжке, я умудряюсь выщелкнуть «восьмёрку» из карабина, и чуть не теряю её. Подхватил в последний момент. Перед верхним первым лагерем встречаю идущих вверх корейцев и британцев. Целая колонна – человек 10, в сопровождении гидов. Приходится отстегнуться от верёвки и стать в стороне, пропуская этот хрипящий, сипящий и хекающий караван. Снова (в который раз!) ругаю себя за оставленный в первом лагере ледоруб.
В 11.30 я спустился к нашей палатке в первом лагере. Нашёл в ней свой рюкзак, оставленный Эялем, свой фотоаппарат и ледоруб. Немного посидел, отдыхая, и пожевал сухофруктов. Когда я уже совсем было собрался уходить, в лагерь спустился герой вчерашнего дня – Иван Иваныч. Спускался он довольно живо, несмотря на большой и, явно, очень тяжёлый рюкзак, но, когда он приблизился ко мне, стало заметно, насколько он вымотан. Он попросил меня подождать его, чтобы продолжить спуск вместе, и я подождал, и мы действительно какое-то время шли вместе, но затем на спуске к бергшрунду я завозился и отстал, а он продолжил бежать вниз в своём темпе. Погода заметно улучшилась, стало тепло, и ниже первого лагеря выпавший за ночь снег с каждой минутой превращался в кашу. Иваныч Иваныч был озабочен. Он печально покачал головой: «плохое время для спуска, того и гляди сыпанёт откуда-нибудь».
Посидев немного в нижнем Лагере-1, мы начали спуск к бергшрунду. Я пристегнулся скользящим карабином и начал спуск спиной к склону, но кошки тут же забились снегом, я поскользнулся и полетел вниз. Тут же зарубился и встал, тяжело дыша. Попробовал вщёлкнуть перила в «восьмёрку», и, после некоторых усилий, мне это удалось. Спускаться пришлось, почти проталкивая верёвку сквозь «восьмёрку», но это компенсировалось возможностью расслабиться и «повиснуть» на перилах. Спускаюсь к нижней станции у бергшрунда, пытаюсь отстегнуться от перил, и тут меня ждёт неприятный сюрприз: перила натянуты настолько, что я не в состоянии выщелкнуть их из «восьмёрки»!.. Какое-то время я сосредоточено и безрезультатно тружусь, затем устало повисаю на верёвке и смотрю на чёртову железку со злым отчаянием. Какой позор! Какая идиотская ситуация! Представляю себе, как я буду выглядеть со стороны, когда очередные восходители поднимутся или спустятся к этому месту. Как дохлая рыба на крючке... Злость придаёт мне силы, я отчаянно борюсь с «восьмёркой» и, наконец, – я свободен! Быстро сваливаю с этого места, чувствуя себя так, словно сам Хан Тенгри насмешливо смотрит мне в спину. Иван Иваныча уже и след простыл, и я начинаю спуск от бергшрунда в гордом одиночестве.
Первый участок тропы, спускающейся от бергшрунда, проходит под большими ледово-снежными нависами, а середина дня – самое неудачное время для прогулок под такими вещами. Я успеваю спуститься лишь метров десять, как слышу над головой зловещий шелест и вижу, как сверху, чуть впереди меня, широкий снежный ручей заструился через один из этих нависов в сторону тропы. Не теряя ни секунды, разворачиваюсь и бегу обратно под прикрытие бергшрунда. Откуда только силы взялись?! Со склона неспешно стекло пол самосвала снега, но до тропы не дотянуло. Стою, тяжело дыша. Руки чуть подрагивают. Жду дальнейшего развития событий. Всё затихло, и я заставляю себя снова выйти на тропу, стараясь ни о чём не думать, а «чесать» вниз как можно быстрее.
Как только косая диагональная часть тропы пройдена, и прямо подо мной оказываются 300-350 метров серпантина, ведущего к боковой морене, я падаю на задницу и, тормозя ледорубом, несусь вниз. Мои предшественники оставили мне пару отличных бобслейных трасс, и я лишь изредка пересаживаюсь из одной в другую. В нижней части спуска я неожиданно вылетаю на жёсткий фирновый участок и начинаю отчаянно зарубаться. Метров через 10 мне это удаётся, и оставшуюся часть склона я преодолеваю уже на своих двоих, как подобает венцу творения. Иван Иваныч поджидает меня внизу, сидя на большом моренном валуне и скептически наблюдая за моими упражнениями.
Всю долгую дорогу через Иныльчек к Базовому Лагерю Иван Иваныч развлекал меня обстоятельными историями из своей долгой и непростой жизни. По леднику он передвигался, перепрыгивая на ходу через трещины и безошибочно выбирая самый лёгкий путь в лабиринте ледовых холмов и ложбин, с тем уверенным автоматизмом, который достигается лишь многими годами жизни в горах. Сначала он задал пару дежурных вопросов о жизни «бывших» в Израиле, без особого интереса, и я ответил дежурными фразами без особого энтузиазма. Мне искренне осточертела эта тема. И тогда он начал рассказывать о себе, и это было интересно, потому что он оказался беженцем из Чечни, а я всегда хотел услышать об этой войне что-нибудь из первых рук. Вопреки тому, чего можно было ожидать от человека пострадавшего и заинтересованного, он никого не обвинял и не ругал, а просто спокойно изложил мне историю прихода к власти Джохара Дудаева. Эдакая сага в стиле Кополлы, клановая и криминальная. «Национально-освободительный» фиговый листок ловко прикрывал срамную изнанку. Я легко принял эту концепцию, поскольку она вполне вписывается в мою картину мира. Интересно, поверил бы я ему, человеку из эпицентра событий, если бы он рассказал мне историю о борцах за свободу без страха и упрёка?
Когда эта крайне любопытная и познавательная тема была исчерпана, Иван Иваныч рассказал немного о себе, о том, что проработал всю жизнь инструктором альпинизма и о своей сегодняшней жизни в приютившей его Ставропольщине. Постепенно рассказ его перешёл на спиртово-водочную тему, потерял стройность и динамизм, но приобрёл личную причастность и искреннюю заинтересованность. Тяжело дыша, поскальзываясь на негнущихся ногах и мечтая о кружке тёплого чая, я плёлся по изрезанному полуденными ручьями леднику, слушая горькие сетования Иван Иваныча на беспросветную отсталость ставропольских сельчан, предпочитающих вонючий самогон благородному чистому спирту, потребление которого, он, Иван Иваныч, годами пытается привнести в их отсталый быт. Жажда, усталость, бьющее по голове солнце и это сюрреалистическое обиженное бормотание сплелись у меня в мозгу в один причудливый бредовый узор. Ровно в два часа дня мы в базовом. Как раз к обеду.
На береговой морене нас встретила праздничная делегация, и, сияющая, как луна в полнолуние, повариха Баха вручила расстроганному Иван Иванычу честно заработанный маленький торт в форме горы Хан Тенгри.
В столовой шумно и полно новых лиц – за время нашего отсутствия в лагерь забросили новых клиентов.
Мы с Эялем садимся за «русский» стол, нас поят чаем, а затем приносят горячий борщ, и я выпиваю его залпом. На второе приносят картошку с курицей, но при первом же куске, поднесенном к губам, я чувствую, как тяжёлый ком подкатывает к горлу. Глаза хотят, а желудок не принимает. Эяль с аппетитом наворачивает картошку и хрустит куриными костями, и я с сожалением отдаю ему свою порцию. Потом, когда он методично начинает её уничтожать, я спохватываюсь и отбираю половину обратно... Укрощённый организм милостиво соглашается принять одну картофелину и куриное крылышко. На десерт приносят арбуз – попадание в десятку! Мы выгрызаем его до прозрачных зелёных плёнок. Я сижу распаренный, с блестящими глазами, погружённый в разноголосый гул столовой словно в ласковые волны южного моря. Организм всасывает в себя кислород, витамины и разные ценные жидкости, словно выжатая губка. Вот он – кайф! Под занавес, в честь Иван Иваныча кухня выставляет на столы пышный вишнёвый пирог с отчётливыми следами вишни. Жизнь удалась!
Палатка наша сиротливо стоит на краю лагеря, вымершая и вымерзшая за время нашего отсутствия. Зато в соседнюю палатку, которая ранее пустовала, вселилась компания молодых финнов и финнок. До вечера я валяюсь в палатке, зашиваю порванные кошками болоньевые брюки и прислушиваюсь к тоскливому шороху дождя, которым неожиданно закончился этот длинный день.
Передышка
Впервые с того момента, как я покинул дом, я спал всю ночь, как убитый. Встал к завтраку. Сырость, туман, но на душе спокойно. Сегодня погода не волнует меня. Беру мыло, полотенце и зубную пасту, и в праздничном настроении, хотя и с трудом передвигая ноги, поднимаюсь к кухне. Чищу зубы – опять же, впервые с момента отъезда... Обычно, в горах, опасаясь застудить зубы, я обхожусь мятной жвачкой, но тут у нас есть рукомойники с тёплой водой, и можно себя побаловать. На завтрак – овсянка со смородиновым вареньем и хлеб с маслом. Как радуют спустившегося с горы человека самые простые вещи! За завтраком мы рассматриваем новоприбывших.
Моё внимание привлекает человек, у которого на куртке – эмблема казахской каракорумской экспедиции на три «восьмитысячника». Я спрашиваю у «чайной» Тани, и она говорит, что это – Алексей Распопов. Я с интересом наблюдаю за ним. Это уже из тех альпинистов, о которых говорят: «тот самый». Рядом с ним сидит красивая светлая девушка, похожая на снегурочку.
За нашим столом теперь сидят четверо финнов – два парня и две девушки. Они молоды, всё ещё чисты и подчёркнуто корректны. Их белые лица излучают свет ничем не омрачённой молодости. Мы с Эялем – два заросших медведя, рядом с ними. Появились два американца, настолько типичных, что их американистость видна за сотню метров. Один из них – гид, со стопроцентно американским именем Скотт, а второй – его клиент, имя которого я так и не запомнил. Скотт вообще поразил меня этой своей «стопроцентностью»: сухое лицо, обтянутое давно и навечно загоревшей кожей, маленькие чуть ироничные глаза абсолютно уверенного в себе человека, пластичные движения – словно не тело, а каучуковая плотная отливка. Годится на обложку любого эстрим-журнала. Похож на собирательный образ американского альпиниста, а также на одну знаменитость, имя которой мы с Эялем мучительно пытаемся вспомнить.
У Скотта есть своя фирма, и когда Скотт фотографируется, а делает он это много и охотно, он всегда заботится о том, чтобы в кадр попало её название, вышитое на груди его куртки. Вообще же он – славный парень, у которого всегда всё есть и всегда всё работает. Его клиент выглядит куда менее внушительно – так, словно ничто человеческое ему не чуждо. Полагаю, что этот мужик – простой американский миллионер, если он в состоянии оплатить месячную прогулку на Хан Тенгри в эксклюзивной компании блестящего Скотта. Однако в его облике решительно отсутствуют бульдожьи черты, подобающие акуле капитализма. Он мягок в общении, а на Скотта смотрит с вопросительным почтением, в лучах которого Скотт сияет, как стальной клинок на куске бархата.
У Скотта есть одна замечательная игрушка – спутниковый телефон, которым он позволяет пользоваться по себестоимости – за три доллара в минуту. В Базовом Лагере есть «общественный» спутниковый телефон, но, по сравнению с телефоном Скотта, у него есть два серьёзных недостатка: во-первых, он дороже на целых два доллара, а во-вторых, он никогда не работает...
Как я уже упоминал, в лагере было даже Интернет – кафе, но по каким-то загадочным, почти иррациональным причинам, связь с внешним миром оставалась односторонней на протяжении первых двух недель моего пребывания. Каждый вечер я отправлял жене очередное электронное письмо, словно моряк, бросающий в море бутылку с заветной запиской, и мои шансы получить ответ были такими же, как у этого моряка. Главным компьтерщиком лагеря был молодой, но очень серьёзный парнишка, которого, как не трудно догадаться, звали Сашей. Каждый вечер, внушив нашим сердцам смутную надежду своими пространными и невнятными объяснениями, он погружался в потусторонний мир электронных сигналов, космических мостов и почтовых серверов. Его общение с компьютером не походило на стремительные пассажи профессионала. Скорее это выглядело, как осторожное шаманство, ворожба, шептание древних заговоров. Поколдовав над компьютером с полчаса, Саша тяжело вздыхал и озабоченно качал головой. Злые духи и сегодня не хотят пропустить электронную почту с Большой Земли в наш затерянный в ледяной пустыне оазис...
Когда мы спустились вниз после установки второго лагеря, естественным нашим желанием было тут же послать домой победные реляции об этих наших выдающихся успехах. Однако нас ждало жестокое разочарование. Печальный Саша объяснил нам, что за время нашего отсутствия спутниковый телефон окончательно сломался и отправлен в Алматы на починку. Больной скончался после продолжительной болезни. Верхом иронии стал момент, когда сам главный связист и почтальон лагеря воспользовался телефоном этих недушевных, но до обидного безотказных янки, чтобы поздравить свою маму с днём рождения...
После обеда с серых небес с плавным пастернаковским кружением пошёл снег. Большие пушистые хлопья снисходили на землю беспрерывным печальным потоком. А после ужина вдруг распогодилось, словно невидимая рука прошла по небу, сметая в сторону тучи, облака и прочий ненужный мусор. Плотная синька вечернего неба отражалась в накрахмаленном свежем покрывале, укрывшем притихший лагерь. Когда последний луч солнца утонул за горизонтом, мы любовались ночным Хан Тенгри – бледнолицым исполином в колючем обрамлении звёзд.
Лютый холод царил на леднике в эту ясную ночь. Несколько раз я просыпался от холода и натягивал на себя какую-нибудь дополнительную одёжку, а утром, пошарив рукой в тамбуре, я нащупал термометр: -7 градусов! И это в палатке, в Базовом Лагере.
***
Сегодня утром Володя окончательно отделился от нашей компании и ушёл на восхождение. Налегке он за день поднялся прямиком из базового во второй лагерь. Погода благоприятствует – весь день на небе ни облачка. Ясно и прохладно. Мы с Эялем договорились выйти завтра утром, хотя, если бы всё зависело от меня, я отдыхал бы и завтра тоже. У меня развилась какая-то нездоровая одышка. После быстрого подъёма по склону ноги становятся ватными, так что хочется сесть на землю. Предполагаю, что это – расплата за «ускоренную» акклиматизацию. У каждого из нас свой темп, и ничего тут не ускоришь.
Вечером у нас с Эялем состоялся серьёзный разговор. Он рвался поскорее на гору и хотел выйти вместе с Володей. Я осторожно отговаривал его, упирая на то, что у Володи приличный опыт, и он знает, что делает, а Эяль понятия не имеет, как поведёт себя его организм выше 6000 метров. Да и отдохнул Володя два дня, а не один, поскольку спустился на день раньше нас. «Ты, как знаешь, Эяль» – сказал я ему – «но я буду отдыхать минимум двое суток». Эяль надолго задумался. «А ты не будешь против, если мы разделимся? Как ты к этому относишься?» – спросил он. «Вообще-то, ходить поодиночке не в моих правилах» – сказал я, осторожно подбирая слова. «Так ты против того, чтобы мы разделились?» – снова спросил Эяль. Я вздохнул: «Пойми, Эяль, ты сейчас в значительно лучшей форме, чем я. Я не могу так уж настаивать на том, чтобы мы шли вместе. С позиции слабого это не слишком хорошо выглядит. Но раз ты хочешь прямого ответа, то – да. Мне было бы спокойнее за нас обоих, да и приятнее чувствовать, что мы – команда». «Нет проблем» – сказал Эяль, чуть помедлив – «наверное, ты прав. Раз мы начали это вместе, то вместе и закончим».
И тут он расслабился и стал с азартом разглагольствовать о том, как много у нас останется свободного времени ПОСЛЕ СПУСКА С ВЕРШИНЫ, и как здорово будет съездить на это замечательное озеро Иссык-Куль, о котором ему все тут трезвонят. Он пытался втянуть и меня в обсуждение этого актуального вопроса. О, наивная молодость! Всё что простиралось за пределы предстоящего восхождения, находилось для меня «за горизонтом событий». Предполагаемая поездка на Иссык-Куль интересовала меня не больше, чем погода в Шанхае или курс монгольского тугрика.
Когда Эяль произносил в очередной раз мечтательное «когда мы спустимся с вершины!..», я с трудом сдерживал смех.
На самом деле, я никогда ещё не оценивал наши шансы на Хан Тенгри столь высоко, как сейчас. Всё шло без сучка, без задоринки. Прошло всего семь дней с нашего прилёта на Иныльчек, а у нас уже поставлены и оборудованы всем необходимым оба лагеря. Впереди у нас целых две недели, в которые можно уложить две полноценные попытки восхождения. О лучшем нельзя было и мечтать! Однако, чтобы заранее говорить о такой вершине в прошедшем времени надо быть очень молодым и очень благополучным человеком...
Итак, мы потихоньку готовимся к завтрашнему выходу. Провели ревизию своих продуктовых залежей и отобрали некоторое количество для пополнения запасов в верхних лагерях. Кроме того, мы решили отказаться от скомпрометировавшего себя примуса и полностью перейти на газ. Проблема была лишь в том, что единственная Володина газовая горелка уплыла наверх вместе с ним. В итоге, нам удалось снять корейскую горелку у «компьютерного» Саши, который оказался, ко всему, главным бизнесменом лагеря. Он сдавал внаем различное снаряжение, продавал титановые российские ледобуры, а также – спиртное и пакеты с соком. После завтрака прилетел вертолёт с «Большой Земли» и привёз отремонтированный спутниковый телефон, который, впрочем, так и не заработал в этот день. Мы с Эялем составили прощальные письма родным и близким, сказав, что уходим на гору на неделю, и оставили их в компьютере в надежде на то, что информационная блокада рано или поздно будет прорвана.
К вечеру спустились с горы усталые британцы, ведомые Моисеевым. За ужином они шумно шутили, делясь впечатлениями, а меня постигла мелкая неприятность. Во время еды обнаружилось, что у меня болит зуб, и я не могу прикусывать на левую сторону. Поскольку в спокойном состоянии он не болел, то я не слишком обеспокоился. Решил, что поцарапал десну или что-то в этом роде. За ночь пройдёт, решил я.
Спать я ложился в приподнятом настроении. Хотя неприятная одышка ещё полностью не прошла, я чувствовал себя довольно неплохо, и меня переполняло предстартовое возбуждение. Хан Тенгри! В этот момент я готов был костьми лечь, чтобы добраться до его вершины. Рюкзак собран, с кухней договорено на 7 утра. В вечернем небе плыли облака причудливых форм и расцветок, а над тревожным горизонтом восходила ажурная дуга нежных циррусов. «Пусть сильнее грянет буря!» – подумал я. Шутка, конечно...
Три печальных дня в Золотом Храме
"Наконец я со всей ясностью понял, что
Вершина Прекрасного отказывается меня принять".
(Юкио Мисима. Золотой Храм.)
Посреди ночи я проснулся от зубной боли. Это была непрерывная дёргающая боль, не оставляющая сомнений, что дело плохо. По палатке шуршал сухой снежок. Где-то глухо ухнуло. Хотелось уснуть, и чтобы всё это – я имею в виду зубную боль – оказалось дурным сном. Я выпил таблетку и уснул, но под утро вновь проснулся от боли и лежал до рассвета, обдумывая сложившуюся ситуацию и смиряясь с необходимостью отменить выход на гору. Болело под коронкой. Всё это было, было, было. Теперь это называется модным французским словом «дежа вю», что в переводе на простой русский означает «та же Ж...» Этого не может быть, говорю я себе. Бомба не падает дважды в одну воронку: это уже было у меня во время экспедиции на Аконкагуа. Тогда меня это застало в верхнем лагере, и у меня не оказалось под рукой антибиотика. Теперь же я в Базовом, и у меня есть полный курс сильнейшего антибиотика. Сегодня же я начну его принимать, задавлю воспаление в зародыше и завтра выйду на восхождение. Всё к лучшему, убеждал я сам себя. Лишний день отдыха пойдёт мне только на пользу.
Зазвенел будильник и проснулся Эяль. «Эяль» – сказал я – «у меня есть проблема. У меня разболелся зуб, и я не смогу пойти сегодня на гору». Эяль задумался. Надо же – только вчера мы решили идти на восхождение вместе! «Хорошо,» – сказал он – «я могу подождать до завтра. Завтра ты сможешь пойти на гору?»
«Кто может знать?! Может, я пойду завтра, а может через три дня, или вообще не смогу пойти. Это же воспаление. Кто знает, как пойдёт дело здесь, в холоде, на высоте 4000 метров,» – ответил я – «теперь я уже не уверен, что тебе стоит меня ждать». Эяль колебался. Снаружи, с тяжёлого похмельного неба сеял мелкий снежок, но до первого лагеря народ поднимается почти в любую погоду, и с попутчиками у него проблем не будет. Вот и американцы говорили вчера, что пойдут сегодня на акклиматизацию. Наконец он принял решение. «Ты знаешь, я пойду,» – сказал он – «если ты выйдешь завтра, то сообщишь мне по связи, и я подожду тебя во втором лагере. Ты не обижаешься?» Конечно, я не обижаюсь. Какие ж тут обиды?! Абсолютно верное решение. Я желаю ему удачи и помогаю перепаковать кое-какие вещи из своего рюкзака в его рюкзак. Он уходит, а я остаюсь валяться в спальнике, тупо пялясь в потолок палатки.
За завтраком я едва смог осилить жидкую кашу. Боль была не шуточная, и мои утренние иллюзии развеялись, как дым. После завтрака я отправился к лагерному доктору, абсолютно не представляя себе, чем он может мне помочь. Доктор выслушал меня с философским спокойствием, одобрил приём антибиотика и порекомендовал мне закусывать каждую таблетку антибиотика таблеткой парацетамола. При этом он не без труда нашёл мне четыре парацетамолины, и протянул их с видом человека, отдающего самое дорогое.
С профессиональным интересом он осмотрел упаковку моего антибиотика, необычайно оживился и сказал, что это – антибиотик четвёртого поколения, и он, доктор, держит его в руках впервые! «Эта штука,» – сказал он – «убивает всё, что шевелится!» «Вместе с пациентом», – подумал я про себя... «Доктор,» – я поплотнее уселся перед ним и заглянул ему в глаза – «как, по-вашему, я могу завтра выйти на гору?» Классическая сцена: «ДОКТОР СКОЛЬКО МНЕ ЖИТЬ ОСТАЛОСЬ...»
Доктор смотрел вверх и в сторону. «Вы же взрослый человек,» – в его голосе слышалось чуть различимое раздражение – «должны сами понимать: у вас – воспаление, гной, и всё это в верхней челюсти. Рядом мозг, между прочим. А брать на себя риск, или не брать, и какой именно риск – это ваше решение. С профессиональной точки зрения, я не рекомендую вам идти на гору».
Доктор был, безусловно, прав своей докторской правотой, но у меня правда была своя – восходительская. «Так я ведь, доктор, не разрешения у вас прошу, а информации. Шансы свои знать хочу. У вас же опыт есть. Может вы такие случаи уже видели. Я вот думаю пойти на гору, продолжая принимать антибиотик. Как это, по-вашему?» – я пристал к нему, как банный лист, но доктор только морщился, словно зубная боль была у него, а не у меня... «Не знаю, не знаю. Это же – высота, с ней ничего нельзя знать наперёд. И, между прочим, антибиотик не уничтожает полностью болезнетворный очаг. Он лишь задавливает воспаление, а когда вы прекратите его принимать, то под действием высоты оно может возобновиться. Так что, может случиться всё, что угодно,» – решительно сказал он, и я понял, что разговор окончен. Ладно, решил я для себя. Если к завтрашнему утру боль утихнет – пойду на гору, продолжая принимать антибиотик. Вон, моя жена в своё время два шеститысячника сделала на антибиотике.
Погода тем временем улучшилась, проглядывало солнце, и я, прихватив фотоаппарат, отправился гулять в верховья ледника. Впервые, с моего прилёта сюда, «большая цель» не стояла передо мной, и я просто гулял, наслаждаясь видами и абсолютным безлюдьем.
Величественные стены запирали Северный Иныльчек на востоке, а с крутых боковых долин на его спокойную поверхность вываливались хаотические нагромождения льда и снега.
Кажется, даже район Эвереста уступает Центральному Тянь-Шаню в суровости и первозданности пейзажа. Хан Тенгри развернулся ко мне другой стороной. Где-то там, в районе пика Чапаева, упорный Володя бредёт сейчас сквозь взметаемые ветром колючие вихри снега.
Спокойное равнодушие воцарилось в моей душе. Я опустился на большой, чуть подогретый солнцем камень.
Пора кончать эти заигрывания с высотным альпинизмом, подумал я. Не моё это дело, да и не везёт, чего ж мучаться? Есть масса гор пониже и масса интересных маршрутов. Что это за цифра такая – 7000? Почему мне так уж важно пересечь именно эту черту? Только потому, что когда-то мне это казалось невозможным, а теперь кажется возможным? А если и вправду невозможно? И вообще, вот я бегаю тут вверх-вниз, жумарю и дюльферяю километры верёвок, не поставив при этом ни одной станции и не завязав ни одного узла. Даже верёвку мы с собой ни разу не взяли – так и валяется в углу палатки. Зачем мне это? Только ради цифры?
Я вдруг понял, что моя мечта о семи тысячах умерла, но осталось ясное чувство долга. Я не могу вернуться домой с пустыми руками. Я просто ОБЯЗАН подняться хотя бы до седловины... О! А вот это – показательная оговорка. Такую фразу нельзя произносить, ни при каких обстоятельствах. Тот, кто произнёс «только до седловины», тот и поднимется только до седловины. Я поморщился, пытаясь загнать обратно вредную мысль, но – слово не воробей, как известно.
Я, не спеша, побрёл обратно. В небе кипело варево из облаков всевозможных форм и размеров, и было неясно, во что всё это выльется к концу дня. Физически я чувствовал себя отлично. Одышка прошла. Может быть, всё ещё получится?
Обед поверг меня в депрессию. Жую и плачу – боль дикая! Куски мяса я заглатываю целиком, как удав. Базовый Лагерь – большая деревня, где все со всеми знакомы и все осведомлены о планах друг друга. Раз двадцать мне приходится объяснять, где Эяль и почему я остался в лагере. На меня смотрят печальными глазами и хлопают по плечу, мол «ничего, ничего...» Завтра эти люди уйдут на гору, а в базу спустятся другие и всё начнётся сначала.
Какая тоска!
После обеда остаюсь сидеть в пустеющей столовой. А куда идти? Валяться в палатке? Ко мне подсела «чайная» Таня, посочувствовала, потом помогла материально – принесла мне каких-то оранжевых экзотических таблеток убойной силы. На пару часов боль утихла, как будто её не было. Спасибо, Танечка!
В четыре часа дня – сеанс связи, и мы с Володиной Ирой приходим в палатку к Надие. Ира – вся на нервах, буквально руки заламывает. Переживает. Она-то сама ничем подобным никогда не занималась, а человеку «снаружи» тяжело отделить восходительскую рутину от моментов действительно опасных. Володя вышел на связь. Рация свистит, хрипит и тяжело дышит – он как раз сейчас выгреб на купол Чапаева по дороге на седловину. Круто! Вчера он за один день поднялся с Базового во второй лагерь (1500м перепада – с 4000 на 5500), а сегодня уже идёт на седло. Молодец, здоровый черт! Эяль в четыре не отозвался, но вышел на связь в шесть. Сказал, что хотел идти прямиком во второй, но шлось тяжело, и он остался на ночевку в первом. Кроме того, он сказал, что вороны откопали из-под снега нашу колбасу и всю сожрали. Вот твари! Ну да черт с ней. Она и так была не бог весть – потому и закопали. Та, что получше, ту мы во втором заначили. Эяль просит меня забросить в первый ещё колбасы, тушёнки и сухарей. Заброшу, заброшу, мне бы только из Базового выбраться...
***
Зуб болел всю ночь. Четвёртое поколение, четвёртое поколение... Ни хрена не помогает! Погода – дрянь. Утром всё в тумане, потом повалил снег и шёл с перерывами до самого вечера. Тоска зелёная. В палатке долго не пролежишь, а в столовой хоть и веселее, но такой дубняк, что до костей пробирает. Моя пуховка заброшена во второй лагерь, и я напяливаю на себя всё, что могу, но без движения всё равно мёрзну.
Слава богу, у меня есть книга. Я усаживаюсь на грубо струганную скамью в промозглой столовой, втягиваю шею и руки поглубже в гортексовую куртку, так, что торчат только два-три пальца, необходимые для переворачивания страниц, и с головой погружаюсь в сумрачный мир Юкио Мисимы. Трудно представить себе нечто более удалённое от той реальности, которая окружает меня в данный момент. Тягучая, как патока история взаимоотношений молодого монаха, нелюдимого, страдающего косноязычием, с прекрасным древним Золотым Храмом, которому он служит, и который влюбил его в себя и поработил его до такой степени, что сумрачный юноша решает сжечь его вместе с собой, чтобы избавиться от рабской зависимости.
Болезненный мир подавленных желаний, невысказанных слов и тёмных, перегнивших страстей. Прекрасная книга, написанная самым японским из всех японских писателей, в 45 лет вспоровшим себе живот быстрым самурайским мечом, после неудавшегося опереточного путча. Самый экстравагантный уход из жизни известного писателя, какой только можно вообразить. То ли – отчаянная эстетская попытка повернуть вспять историю некогда хищного, но давно и прочно одомашненного государства, то ли – воплотившаяся детская мечта гениального чудовища о прекрасной, мучительной и кровавой смерти. Я представил себе, что чувствует человек, разрезающий себя холодным и острым, как бритва лезвием – желудок, печень, весь этот мягкий и тёплый живот. От шока он не чувствует боли и только пялится выпученными глазами на выпадающие на грязный пол дымящиеся скользкие внутренности. Что за странная причуда! Только цельная и не обременённая проблемой выживания нация могла позволить себе такое расточительство. Нет ничего, более чуждого еврейскому национальному характеру, чем такая смерть.
Я много читаю, много размышляю о жизни и смерти и постоянно трясусь от холода...
К обеду с горы спустились «испанцы», то есть – два баска и два каталонца, и сразу в столовой стало теплее от их шумного присутствия. Все немногочисленные труженицы кухни слетелись на них, как бабочки на цветочную клумбу. Запас южных гормонов, который переполнял этих парней, ничуть не пострадал от двухнедельного пребывания на суровых Тянь-Шаньских кручах.
Всего пару дней назад эти ребята стали большим разочарованием всего лагеря. От них ждали подвига, лихого и неостановимого броска к вершине. Они были необычайно спортивны, перебегали из лагеря в лагерь со скоростью, внушающей менее блестящим восходителям комплекс неполноценности, и в числе первых в этом сезоне оказались на вожделенной седловине. Они вышли на штурм вершины в безупречно солнечный день, когда тяжёлая башка Хан Тенгри плавилась в фиолетовом небе, и вся База, затаив дыхание, следила за их стремительным продвижением. Когда я заглянул в «радиорубку» по какому-то хозяйственному делу, там сидел Моисеев, и я спросил его, как там наши испанцы, ожидая услышать победную весть. Но Юрий Михайлович лишь досадно махнул рукой, сказал: «повернули с 6500...» и добавил что-то вполголоса.
Однако, когда эта буйная четвёрка спустилась в Базовый Лагерь, что-то невнятно бросила по поводу «двух попыток, жуткого ветра и собачьего холода» и начала безоглядно пить, гулять и веселиться с размахом, который я всегда считал чисто русским, мало кто мог устоять перед их очарованием. Трое из них, те, что помоложе, беспрерывно улыбались. Когда к ним приближалось любое существо женского пола, улыбка эта автоматически растягивалась шире, обратно пропорционально расстоянию до этого существа. При этом, выражение лица одного из парней становилось маслянно-восторженным, нижняя челюсть отваливалась, а дыхание становилось неровным, как у сеттера при виде куропатки.
Четвёртый, тот, что постарше и посерьёзнее, отличался от своих товарищей тем, что говорил по-английски не на уровне Эллочки-людоедки, а на уровне её образованной подруги, а так же тем, что проявил выраженную склонность к беседам на глобальные политические темы. В течение тех двух дней, что испанцы ожидали вертолёта, а я тихо загнивал со своими стоматологическими проблемами, мы вели с этим парнем долгие разговоры про всё на свете. Возможно, мы стали бы приятелями, если бы не идеологическая пропасть, разделявшая нас и обнаружившаяся в процессе этих бесед.
Звали его Пабло, если я не ошибаюсь. Я почерпнул много занятного из этих бесед. Вообще, жизнь в базовом лагере – это потрясающая возможность пообщаться с людьми из самых разных стран и попытаться понять, что они из себя представляют. В первой же беседе, сразу после того, как мы обменялись исходной информацией о себе, я пустил в ход грубую, хотя и вполне искреннюю лесть. Я заявил, что побывал в Мадриде, и что мне жутко понравился этот замечательный город. Пабло насупился, словно я похвалил бывшего любовника его жены и сказал, что Мадрид – это символ испанского империализма и его захватнической политики в отношении маленькой, но свободолюбивой Каталонии, и её столицы Барселоны. У-упс... Вот так прокол! Я тут же попытался исправить неловкость, погладив по головке и Барселону тоже, хотя в ней я никогда не бывал. Тема меня заинтересовала, и я стал осторожно разрабатывать её, словно сапёр, откапывающий готовую взорваться мину. Пабло и его товарищи, как оказалось, принадлежали к прогрессивной, левой, свободолюбивой, антиглобалистской и антиамериканской части человечества. Это такой модный сегодня суповый наборчик.
Конечно, про борьбу басков не слышал только соболь в заполярье, но насчёт того, что солнечная Каталония тоже борется за отделение от Испании, я ей-богу не знал! «Да, боремся!»– с суровой гордостью говорил мне Пабло, – «они (испанцы, то есть) обижают нас, так же, как и басков. Но мы не взрываем бомбы, мы боремся с ними мирными средствами». «Пабло, а Пабло,»– спросил я его – « чем же они вас так обижают, эти испанцы?» «Они не любят нас,» – задумчиво произнёс Пабло – «они считают нас деревенщиной и не любят наш язык. Они не любят, когда мы говорим на своём языке в их Мадриде». Опа-па... Оказывается у каталонцев свой особый язык! Век живи – век учись. «А ты уверен, Пабло, что из-за такой, обидной конечно, но всё же непринципиальной вещи, стоит затевать такой грандиозный развод с битьём тарелок, причем уже после того, как Испания сама превратилась в часть Объединённой Европы?» По долгой раздумчивой паузе я понял, что Пабло не часто смотрел на эту проблему под таким углом. «Может быть, и нет,» – угрюмо сказал он, – «но мы хотим быть независимыми».
Во время другой нашей беседы мяч был перекинут на моё поле. История Святой Земли в представлении Пабло была проста, как строение инфузории-туфельки. Коснувшись палестино-израильского конфликта, он озабоченно покачал головой: «Шарон – очень плохой премьер-министр». Он сказал это сочувственно. «Ну, почему же?» – ответил я, – «по-моему, он один из самых удачных премьеров Израиля за всю его историю». На лице Пабло отразилось неподдельное изумление. Очевидно, в его голове не укладывалось, что человек, выглядевший вполне интеллигентно, хоть и заросший, как сибирский мамонт, может не разделять мнение всей прогрессивной Европейской общественности. Нет здесь Эяля, подумал я. Вдвоём они бы со мной живо разделались... Слушая мои разъяснения, Пабло недоверчиво качал головой, изредка соглашался с моими аргументами и, наконец, признал, что он никогда не имел возможности увидеть всю эту «столетнюю войну» глазами израильтянина.
Между прочим, все эти беседы, которые я так гладко тут излагаю, происходили на абсолютно чудовищном английском и сопровождались с обеих сторон беканьем, меканьем и отчаянной жестикуляцией. Это – так, для полноты картины.
Если бы всё только этим и ограничилось, то мы бы расстались с ним закадычными друзьями. Однако, желая проверить всю глубину моего морально-политического разложения, Пабло помянул американского президента, как символ всего самого ненавистного в ненавистной ему Америке, рвущей в клочья несчастную, поруганную иракскую землю. Ох, уж этот Буш! Его простая техасская физиономия торчит посреди мира, как металлическая мачта в грозу, и молнии всенародного антиамериканизма лупят в неё со всех сторон. Только ленивый не пнёт американца, и только мёртвый – их президента... «Ну, Буш, конечно, не семи пядей во лбу...» – подарил я Пабло пешку – «но козла этого, Саддама, они правильно ухайдокали,» – совершил я «ход конём по голове». Пабло замолчал и посмотрел на меня подозрительным чекистским взглядом. Он напрягся, и в какой-то момент мне показалось, что он собирается перенести наше духовное единоборство в физическую плоскость. Здравый смысл возобладал, но теплота и задушевность наших бесед была безвозвратно утеряна. С тех пор Пабло здоровался со мной с холодной учтивостью, как с уважаемым, но непримиримым противником. О, эти смуглые революционеры с твёрдой рукой и гибким телом – порождение страстных женщин, терпкого вина и неутомимого солнца! Как легко их любить! Как велика власть эстетичного!
А за брезентовой стенкой палатки всё так же падали тяжёлые хлопья снега, и жизнь шла своим чередом. Эяль, несмотря на непогоду, сумел пробиться во второй лагерь, а Володя сидит в пещере на седловине и ждёт возможности выйти на восхождение. После обеда отдохнувшие британцы ушли в первый лагерь. Их поджимают сроки, и Моисеев ведёт их на гору, несмотря на настырную метель, которая кончится неизвестно когда. И только я – встречаю и провожаю, читаю и треплю языком, выслушиваю «соболезнования» и ввожу прилетевших последним рейсом новичков в курс событий. Я превратился в деталь лагерного пейзажа, в мебель, в приблудную собаку, ютящуюся у кухни. Тоска, тоска. За обедом ловлю на себе иронический взгляд крутого восходителя на Каракорумские восьмитысячники. Похоже, общественное мнение уже списало меня. Я смиряю гордыню. Ты никому ничего не должен, говорю я себе. Не важно, что думают другие, важно – что думаешь ты сам. И всё же – тоска смертная! Половина моего антибиотика была «предусмотрительно» оставлена мной во втором лагере, и если до послезавтра воспаление не утихнет, то у меня кончатся таблетки, и тогда вообще непонятно, что делать. И всё ещё нет связи с «Большой Землёй», а это особенно мучительно, когда ты в депрессии и помираешь от тоски и безделья.
***
Вечером мне показалось, что зубная боль утихает, и я ушёл спать почти в праздничном настроении, но в три часа ночи я проснулся и снова принял болеутоляющее. О, господи! Когда же это кончится! Я просто гнию от всего этого – от безделья, от неизвестности, от сочувственных взглядов, от всей этой чудовищной невезухи. От бессилия я закусил свою жалкую подушку, сымпровизированную из не надетых на ночь вещей, и тут же застонал от боли... твою мать! Даже этого я не могу... Гори оно всё синим пламенем – завтра пойду на гору. Бог не выдаст – свинья не съест. Но постепенно я беру себя в руки и заставляю рассуждать логично, без эмоций. Я буду ждать столько, сколько потребуется. Я дождусь момента, когда воспаление утихнет, и я уверен, что оно не возобновится, если я буду продолжать глотать таблетки. Снизив дневную дозу, я смогу растянуть их так, чтобы хватило на восхождение. Конечно, вся эта обидная история ополовинила мои шансы взойти на гору, но всё же ещё не обнулила их.
Я переворачиваюсь на спину и думаю о том, как глупо и обидно пошло наперекосяк всё это грандиозное мероприятие, которое так прекрасно начиналось. Болеутоляющее начинает действовать, и я засыпаю. Пасмурное утро. Небо закрыто облаками, и вершина Хан Тенгри периодически скрывается в тумане. Народ теперь всё больше ходит после обеда. Это такая новая мода – чтобы не сидеть лишнего в первом лагере. В базовом-то гораздо уютнее и сытнее. Во время завтрака я почувствовал, что зуб уже не болит с той стервозной настырностью, что прежде. Радоваться не спешу, но готовлюсь на завтра на выход. Пока Моисеев сидит на горе со своими британцами, лагерем заведует спортивного вида женщина, которую подрастающее альпинистское поколение зовёт Еленой Петровной. Я покупаю у неё газовый баллон себе на дорогу. Одного полного баллона и остатков того, что оставлен нами в первом лагере, мне должно хватить на всё восхождение. Стараюсь выбрать, какой поновее, без видимых деформаций. Дело в том, что одноразовые газовые баллоны тут принято дозаправлять по тридцать раз. Русская смекалка в действии. Естественно, что после таких сеансов насильственного кормления, у этих баллонов то тут, то там появляются всякие вздутия, шишки и флюсы. Пользуются ими до тех пор, пока они не принимают форму мяча.
За обедом доктор вместе с Леной дружно отговаривают меня идти на гору, причём, если доктор придерживается щадящей пациента медицинской терминологии, то Лена рисует мне живописные полотна моего медленного и мучительного умирания. «Это же верхняя челюсть,» – объясняет она мне, – «гной там как прорвётся – и прямиком в мозг. И – тю-тю, пишите письма». «Нет, Лена,» – говорю я ей, – «я уже решил, и если эту ночь проведу без болеутоляющего, то завтра после завтрака я выхожу».
«Ну, тогда,» – говорит Елена Петровна с эдаким кокетливым цинизмом, – «разрешите прямой вопросик: а страховочка у вас есть, на тот случай если вы там наверху того-этого?...». «Есть у меня страховочка, есть,» – смеюсь я её цепкой хозяйственной хватке.
Пока я сидел в Базовом, я познакомился со многими новыми людьми. Прежде всего, это – русский немец Женя, крепкий мужик такого я бы сказал Никита-Михалковского типа, что ли. Он прибыл сюда один, без компании и договорился с русскими гидами, что будет пользоваться на горе их палатками, которые находятся там постоянно до конца сезона. С ним я общаюсь больше всего, по причине языкового сродства. Иногда я коряво беседую с тремя австрийцами, которые только прилетели и делают сегодня первый акклиматизационно-забросочный выход. Их лидер, тот, что помоложе, говорит, что был на Музтагате, Ама Дабламе, Мак Кинли и Аконкагуа. Два его спутника выглядят на «полтинник» и тоже вроде довольно опытные. Тот из них, которого зовут Робертом, сидит в столовой с постной физиономией, по которой можно безошибочно узнать альпиниста, временно отлученного от своего мазохистского увлечения. Оказывается, он кашляет, и доктор обещал ему быструю смерть на горе от воспаления лёгких. Как и я, он принимает антибиотик, мучается бездельем (всего-то второй день!) и рвётся на гору. В его компании я чувствую себя гораздо веселее.
Кроме того, в один прекрасный день лагерь наводнили поляки. В отличие от корейцев, они были очень даже «с этой планеты», легко влились в коллектив и довольно бестолково забегали вверх-вниз по горе маленькими группками. Все – молодые и безо всякого понятия о том, что такое высота и с чем её едят. Был среди них парнишка по имени Томаш. Так вот, более общительного товарища я в жизни не встречал. У нас в лагере сразу за столовой была такая популярная скамеечка. Она располагалась на краю морены, над ледником и была обращена к Хан Тенгри. В тёплый солнечный день народ собирался на этой скамейке, точил лясы и любовался подёрнутыми голубоватой дымкой отвесами Северной Стены. У меня даже выработалась по этому поводу одна такая старперовская шуточка: придя к этой скамейке и застав там кого-нибудь живого я непременно произносил: «что, опять фильм про Хан крутят?!» Так вот, найдя там как-то раз Томаша и одарив его этой своей непревзойдённой остротой, я был захвачен таким неудержимым потоком словоизлияний, таким длительным, абсолютно неистощимым стремлением к бескорыстному общению, что на мгновение даже подумал, а не еврей ли он? Томаш жил в Германии жизнью бедного, но свободного студента. Подрабатывал за гроши в магазине альпинистского снаряжения и мечтал о больших горах. Хан Тенгри показался ему подходящей горой для приобретения первого высотного опыта... Меня, вообще-то, непросто утомить разговорами, но поскольку общались мы с ним на английском языке, я расстался с ним абсолютно измотанным, словно выстоял десять раундов против чемпиона Польши в среднем весе.
Помимо этого, Томаш оказался простым, открытым парнем, готовым помочь любому человеческому существу в любое время дня и ночи.
Ещё одним человеком, с которым я проводил время в полезных беседах, был Витя, который спустился в Базовый Лагерь на одну ночь, подышать кислородом перед выходом на решительный штурм вершины. Игорь не нашёл в себе сил спуститься и остался ждать его в первом лагере.
В верхних лагерях сегодня царит уныние. Эяль провёл весь день во втором лагере, а Володя в пещере на седловине. Поскольку погода и сегодня не позволила ему выйти на штурм, ему предстоит как минимум ещё одна (уже третья) ночь. В пещере он сидит один, и можно только вообразить себе, как давит на психику такая отсидка в ледяной «одиночке» на высоте почти 6000 метров. То, что между вторым лагерем и седловиной торчит пик Чапаева, диктует принципиальное отличие в тактике восхождения с северной стороны, по сравнению с южной. Те, кто приходит к седловине с юга, обычно не пережидают непогоду на высоте, а стараются спуститься как минимум во второй лагерь. Там это делается быстро и просто, и так же просто вернуться обратно на седло. С севера, переход из второго лагеря в третий занимает целый ходовой день тяжёлой пахоты, да и чтобы спуститься, нужно набрать метров 300 и вылезти на купол Чапаева. Поэтому поднявшиеся на седло с севера обычно сидят на нём до упора и уходят вниз только в двух случаях: либо когда кончаются все ресурсы, материальные и ментальные, либо когда удаётся дождаться окна в погоде и сделать попытку восхождения. Сегодня утром корейцы дважды пытались выйти на штурм, и оба раза сильный ветер загонял их обратно в лагерь. Володя говорит, что на седловине ветер буквально сбивает с ног.
К вечеру у нас в Базовом погода испортилась окончательно – мелкий, плотный, мокрый снег с ветром. У меня же за ужином впервые не болел зуб, и я собираюсь идти завтра в первый лагерь в любую погоду. Отступать мне некуда – у меня осталась одна-единственная попытка. Зубная боль исчезла резко, словно её выключили, и теперь я весь нацелен на восхождение. Вечером я лежу в палатке, и сквозь пересвист ветра до меня доносятся крики, смех и варварская музыка. Испанцы завтра улетают, и в столовой водка льётся рекой до поздней ночи. А у меня перевёрнута последняя страница «Золотого Храма», и завтра я выхожу на гору.
«Самого Храма с вершины горы было не видно – лишь дым и длинные языки пламени. ... Я сел, скрестив ноги, и долго смотрел на эту картину. ... На душе было спокойно, как после хорошо выполненной работы. Ещё поживём, подумал я.»
Слегка подшмаленная птица Феникс
Подшмаленная птица Феникс – это я. Примерно так я ощущаю себя, с трудом передвигая ноги по истекающему потоками воды послеполуденному Иныльчеку. Физически я чувствую себя, как больной, вставший с постели после продолжительной болезни, но в душе у меня скачут солнечные зайчики. Я наслаждаюсь действием и движением. Наконец-то я снова в нахожусь в начале чего-то значительного. Я восстал из пепла, пусть даже с ощипанным хвостом и подгоревшими крыльями...
Вообще-то, я собирался уйти сразу после завтрака, но за завтраком Витя стал уговаривать меня выйти вместе с ним после обеда. Я колебался. В такую солнечную погоду после обеда весь склон до первого лагеря превратится в мокрую кашу. Да и сидеть в лагере уже нет никаких сил. С другой стороны, идти вдвоём веселее и безопаснее. Я соглашаюсь и даже договариваюсь о том, что пойду на восхождение вместе с обоими москвичами. Забавно, что случилось именно то, о чём я мельком подумал ещё тогда, на первом акклиматизационном выходе – я присоединился к их группе! Собственно ночевать я собирался отдельно, поскольку палатка у них была двухместная, а у меня стояли готовые лагеря, но на переходах куда приятнее идти с компанией. К концу завтрака к нам подсела «Елена Прекрасная» и спросила, выхожу ли я после завтрака, на что я сказал, что нет, что Витя уговорил меня подождать до обеда. «Вы слишком легко даёте себя уговорить, молодой человек...» – насмешливо хмыкнула Елена Петровна. Я засмеялся – да, я человек мягкий и с хорошим характером!
После завтрака произошла серия прощаний. Во-первых, улетели испанцы, слегка опухшие после вчерашней вечеринки. Я сердечно попрощался с Пабло, и, кажется, он даже простил мне мою нетрадиционную для европейского интеллигента политическую ориентацию. Затем «чайная» Таня сказала, что 10-го августа закончится её смена, и она улетит на Большую Землю. Поскольку в это время я всё ещё буду на горе, то мы с ней прощаемся, и я делаю памятную запись в её дневнике. Вскоре после этого ко мне подошла Надия и, вопросительно заглянув глаза, спросила, не откажусь ли я написать ей по-еврейски пару обиходных фраз. Она собирает в специальной тетрадке фразы на разных языках. Типа: «Здравствуйте», «как дела?», «как погода» и тому подобное. Я охотно соглашаюсь и пишу ей несколько фраз на иврите. Кто знает, может быть следующие израильтяне, которые попадут в этот лагерь, будут ошарашены приветствием на их родном языке...
В обед, в сеансе связи пришли волнующие новости: Володя – на выходе из кулуара, в полутора часах хода от вершины! Я держу за него скрещенные пальцы. Ира заламывает руки и засыпает меня вопросами. Я стараюсь её успокоить: всё будет в порядке – Володя дойдёт до вершины и спустится в лагерь целым и невредимым. Я действительно уверен в этом. Эяль сегодня переходит на седловину, и я слежу за его продвижением со смешанными чувствами. Я, несомненно, желаю ему удачи. Я искренне хочу, чтобы наша крохотная экспедиция завершилась успешным восхождением, а маленький бело-голубой флажок, который я передал Эялю перед его выходом из Базового, был развёрнут на вершине Хан Тенгри. И всё же, скользкий червячок ревности точит моё сердце. Это была моя мечта, моя гора, мой семитысячник...
Прощания окончены, и мы с Витей спускаемся на ледник. Несмотря на общую слабость и подлипающий на подъёме снег, мотивация у меня аж из ушей лезет, и через 3ч. 20м. мы вваливаемся в нижний первый лагерь. Игорь тут же окружает нас заботой и отпаивает вкусным фруктовым чаем. Здесь я встречаю поляка Томаша, который просто-таки исходит энергией, как спелый финик мёдом. Он сообщает, что собирается прямо сейчас, на ночь глядя, идти во второй лагерь. Я пытаюсь отговорить его от этой гнилой затеи, но почему-то ему важно сделать это именно ночью.
Посидев с ребятами с четверть часа, я перебираюсь на сотню метров выше – к своей палатке. Здесь я нахожу Женю, того, который из Германии. Он поселился в палатке гидов, и я одалживаю у него их коврик, поскольку все наши растащены моими компаньонами по верхним лагерям. Женя кисловато замечает, что коврики не его, но я разрешаю растолкать меня грубыми пинками посреди ночи, если гиды вдруг заявятся в лагерь вопреки всем прогнозам. Уже смеркалось и стало довольно прохладно. Я залез в палатку, сделал неловкое движение, и тут же мне свело судорогой икру. Вот зараза! И это после самого лёгкого перехода, а что будет завтра? И ведь на первых-то выходах ничего подобного не было. Помассировал мышцу – вроде отпустило. Я располагаюсь поудобнее у тамбура и не торопясь, наслаждаясь тишиной, уединением и чувством приятной усталости, готовлю себе ужин. Газовая горелка тихо гудит, с ткани палатки падают капли конденсата. Съедаю кружку супа с тушенкой и сухарями. Затем пью много горячего травяного чая с лимонными вафлями. Хорошо-то как, черт побери! Впервые за последнюю неделю я чувствую, что живу.
Залажу в спальник, затягиваю шнур, так что только нос торчит наружу, и изнутри этого лёгкого уютного кокона прислушиваюсь к поднявшимся снаружи резким порывам ветра. Судя по набегающему волнами сухому шелесту, метёт мелкий снежок. Какая ничтожная преграда отделяет меня от внешнего мира, от океана сухого морозного воздуха, в котором с протяжным свистом проносятся колючие жгуты снега. Убрать пару миллиметров капрона и пару сантиметров синтетического пуха, и в считанные минуты тёплое тело превратится в твёрдую остекленевшую колоду.
Сон не приходит, и я долго размышляю об этих и других интересных вещах. Я думаю о том, что пока я здоров и силён, мне нравится это моё одиночество. Мне это внове, но я начинаю понимать, за что люди любят соло восхождения – за ощущение свободы. Как и любая свобода, эта восходительская свобода – игрушка для сильных. Как за всякую свободу, за неё платят риском. Так устроен этот мир. Невозможно усидеть одной задницей на двух стульях: либо ты застрахован, либо ты свободен. Единственный сорт людей, которым я завидую безнадежной жаркой завистью, это люди, рождённые свободными. Есть такая порода людей, которые не чувствуют сопротивления окружающего их мира. Любое движение даётся им легко, поступки совершаются вовремя, и им никогда не приходится печально смотреть вслед уходящему поезду. Всю жизнь, пытаясь приблизиться к этой свободе, я раз за разом отодвигаю свою границу, но всякий раз обнаруживаю себя в новой комнате, может чуть просторнее предыдущей, но принципиально ничем от неё не отличающейся. Свобода – это состояние души, а не доступность чего-то, что было недоступно тебе ранее. Простое прогрызание жизненного тоннеля в новом направлении не делает тебя свободным человеком. Как и всякой человеческой способности, свободе можно учиться, но никакой самый упорный труд не заменит природного таланта – таланта быть свободным человеком. Сегодня я уже знаю, что мне не хватит жизни, чтобы обрести ту степень свободы, которая удовлетворила бы меня. Но даже самое ничтожное продвижение в этом направлении является для меня самым большим наслаждением и самой большой наградой.
***
Ворочался я долго, но под утро всё же крепко уснул и встал в бодром состоянии духа. Погода прохладная и чуть тревожная. Светит солнце, но по небу несёт высокие перистые облака, и с Чапаева вниз по ребру слетают волны резкого ветра, несущего сухую снежную пыль. Я, не торопясь, завтракаю и собираюсь на выход. Спешить некуда. Во-первых – надо подождать москвичей, которые поднимутся ко мне из нижнего лагеря, а во-вторых, за ночь намело снега, и у меня нет никакого желания ложиться грудью на амбразуру – пробивать народу тропу. Как я обнаружил только утром, в соседней палатке ночевали американцы, и я решаю, что героический покоритель Эвереста Скотт вполне может взять на себя эту почётную миссию. Вскоре они и вправду уходят вверх по ребру, останавливаясь и пригибаясь каждый раз, когда очередной смерч снежной пыли накатывает на них с верхних склонов. Несмотря на то, что Скотт тропит, ему приходится периодически поджидать своего клиента.
Я вернулся к своим делам и совсем забыл о них, как вдруг, к моей досаде, они вернулись. Клиент Скотта прошёл мимо меня с зелёным лицом, отошёл к краю площадки и выдал на-гора всё, что накопилось на душе. «Что случилось?» – спросил я Скотта. «Парень немного перебрал вчера...» – ответил Скотт с ехидной усмешкой. Он совсем не выглядел огорченным.
К 9 утра подходят Витя с Игорем, и мы выходим. Делать нечего – надо тропить. Я обнаруживаю, что даже то, что протропил Скотт, успело замести снегом. Через час я начинаю сдавать, и меня сменяет Игорь. Идём медленно. Самочувствие лучше, чем вчера, но ноги слабоваты – слабее, чем на первых выходах. Зато высота пока не давит – наакклиматизировался я, как положено.
Выше становится полегче, поскольку почти весь свежий снег посдувало ветром. Что действительно портит жизнь, так это заряды снежной пыли, налетающие на нас с отупляющей регулярностью. Начинают подмерзать руки, и перед скальным поясом я меняю перчатки на те, что потолще. Перед скалами долго жду своей очереди.
Оказалось, что скалолазание – не Витин конёк, и он долго приноравливается прежде, чем сделать следующий шаг. Игорь же пролез первым, довольно ловко, и теперь он ворчит и фотографирует сверху нашу возню.
Где-то над скалами мы встречаем Володю, который спускается в Базовый Лагерь. Ещё вчера я узнал, что он таки дошёл до вершины. Я поздравляю его – хлопаю по плечу и жму руку. Для человека, поднявшегося на вершину Хан Тенгри после трёх ночей на седловине, он выглядит на удивление свежим. Мы договариваемся с ним о том, что он оставит нам с Эялем свою палатку, стоящую в первом лагере. Кроме того, я взял у него горелку и рацию. Я обещаю вернуть ему всё в Алмаате перед отлётом, а он желает мне удачи и уходит вниз к своей Ире, к отдыху, к тихим матрасным радостям на берегу хрустального озера Иссык-Куль.
Во второй лагерь наша троица выползла только в шестом часу. Первым делом я занялся готовкой ужина. Заготовил большой мешок снега, так чтобы хватило и на утро, и залез в палатку топить воду. Приготовил себе картошку с колбасой и луком, а потом долго гонял чаи вприкуску с абсолютно улётной халвой. Вы когда-нибудь ели халву с изюмом, залитую горьким шоколадом? Если нет, то вам ещё есть для чего жить...
После ужина я пошёл прогуляться по лагерю и пофотографировать закат. Народу в лагере – море. Даже странно думать, что вся эта весёленькая тусовка (полтора десятка палаток!) обосновалась посреди довольно крутого маршрута на Хан Тенгри. Поражаюсь, до чего тепло меня все тут встретили. Они привыкли, что я являюсь эдаким печальным атрибутом лагерной столовой, и, похоже, никто не ожидал меня здесь увидеть. Покойник восстал из гроба...
Вечером снова пару раз сводило ногу, и я приготовил себе гидрана и выпил для профилактики. Это такой специальный порошок, который восстанавливает солевой баланс в организме. Затем натопил себе бутылку горячей воды и завалился с ней спать. В этом не было ничего сексуального – можете мне поверить.
***
Всю ночь сильнейшие порывы ветра трепали палатку. Спал я урывками, и сны мне снились какие-то странные. Будто я – это кто-то другой, который находится в палатке и смотрит сверху на меня настоящего, то есть того, который спит. Иногда нас, чужаков, было даже двое. При всей бредовости, сон был очень ярким.
В 12 ночи я понял, что до рассвета не дотяну – нужда меня одолеет. Заготовить бутылку на подобный случай я не удосужился, поэтому собираю волю в кулак, натягиваю пуховку и пластики и выхожу «до ветра». Какое там «до ветра»... До урагана! Отхожу за палатку на пару шагов, ровно настолько, чтобы завтра не черпануть «желтого снега». Стою по колено в сугробе. Ветер ревёт, снег летит параллельно земле. Струя тоже...
Возвращаюсь в палатку и дрожа заползаю в спальник. Через какое-то время я-чужак вновь усаживается в палатке у моего тела и о чём-то долго и проникновенно разглагольствует.
Под утро проснулся с головной болью и принял таблетку. Выглянул наружу, а там такой ветрище, что люди по лагерю ходят, наклонившись под 45 градусов. Приготовил на завтрак овсянку, но что-то она в меня не пошла. Кое-как её в глотку затолкал, но чувствую – назад просится. Я сел, привалившись спиной к стенке палатки, и сжал зубы. Стерпится – слюбится! И, вправду, спустя минут пять овсянка угомонилась, и я выбрался наружу, узнать, что к чему.
Британцы уходят наверх, несмотря на ветер. Упорный Моисеев гонит их на седловину. Кроме него их сопровождают ещё четверо гидов и портеров: Вадик Попович из Н.Тагила, Вася, который местный, казахстанский, и двое молодых ребят. Кажется, их звали Сашами... С Васей я сдружился, пока сидел в Базовом Лагере. Он меня всё про жизнь в Израиле расспрашивал, и всё недоумевал, почему мы не можем отдать палестинцам всё, что они хотят, а потом посмотреть, что из этого получится.
Я желаю Васе удачного восхождения. Глаза у него печальные, и я его понимаю. В такой ветрило не то, что британцев – собаку не выгуливают. Витя с Игорем решают остаться до завтра, а я какое-то время не знаю, что решить. С одной стороны – время поджимает, и случай подходящий – можно пойти с Моисеевской командой. С другой стороны – чувствую я себя довольно паршиво, а погода – дрянь. Есть у меня такое чувство, что посидеть денёк на этой высоте мне только на пользу пойдёт. Да и от москвичей убегать не хочется. Хорошие ребята, привык я к ним. В итоге решаю остаться на днёвку.
К двенадцати часам ветер притих, и я решил пойти прогуляться вверх до скального пояса. Это полезно для акклиматизации и чтобы организм не застаивался. Беру с собой только фотоаппарат и бутылку с водой.
Иду наверх чуть ли не в толпе.
Народ просёк, что ветер утих, и почти весь лагерь (а это – несколько финнов и половина Польши) отправились на Чапаева.
Финны собираются дойти до седловины, а поляки решили переночевать на вершине Чапаева.
Поляки, я заметил, вообще склонны к нетривиальным подходам и решениям.
Я поднялся почти до самых скал, но вплотную не подошёл. На скальном поясе висело с десяток человек, а скалы там разрушенные – то и дело камешки на снег вылетают.
Посреди подъёма связался с базовым лагерем. Из Второго связь с базой плохая. Из палатки вообще – глухо, нужно выбираться наружу и идти на северо-западный склон. Поговорил с Надией, и она сообщила мне странную вещь. Будто бы моя жена звонила в Валиевский офис в Алматы и узнавала у Юли, всё ли у меня в порядке. Это было довольно странно, поскольку перед выходом из Базового мне удалось позвонить домой через спутниковый телефон Скотта, и Таня знает, что я только пару дней, как ушел на гору. Я спросил Надию, не говорила ли жена, что у неё что-то случилось, но Надия меня успокоила и сказала, что Таня просто обо мне беспокоилась. Всё же у меня осталось ощущение какой-то недоговорённости: Танька-то моя понимает что к чему, и рано ей обо мне беспокоиться.
Я нащёлкал полплёнки и спустился в лагерь. Под скальным поясом, на высоте примерно 5800м я чувствовал, что высота давит на голову, а к палаткам пришёл выжатый и с головной болью. Наверное, правильно, что не полез сегодня на седловину. Хотя кто его знает, что тут правильно, а что нет. Это только потом, задним числом мы все умные.
Погода скачет, как настроение барышни в критические дни. Утром ветер с ног сбивал, после обеда – тишина, солнышко и лёгкие облачка, а к вечеру – всё затянуло, и пошёл снег. Но и это ещё не конец! Прямо перед заходом солнца вдруг распогодилось, и мы стали свидетелями феерического заката. После ужина я долго гуляю по лагерю – смотрю на закат и выгуливаю себя на ночь. Прямо, как собаку... Очень уж не хочется снова выползать посреди ночи.
На вечерней связи нам сообщили печальные новости: на южной стороне произошел гигантский ледовый обвал, под которым погибло от 11 до 14 человек (как потом оказалось – 11). Обвалился карниз с пика Чапаева – точное повторение трагедии 1993 года, когда погиб Валерий Хрищатый.
Теперь до меня дошло, почему Таня звонила в Алматы. Из первых новостей наверно сложно понять, где именно произошёл обвал. Я представил себе, какой переполох подняло это сообщение у меня дома, и мне стало по настоящему плохо. Особенно из-за родителей. Таня-то хорошо понимает, где я нахожусь и чем занимаюсь, примерно представляет географию горы и расположение маршрутов, а для них всё это – китайская грамота. Из российских новостей они наверняка поняли лишь то, что на той самой горе, на которую я лезу, погибла куча людей. Возможно, Таня и звонила для того, чтобы их успокоить (так потом и оказалось). В лагере царит уныние, но мы здесь, в общем-то, отрезаны от мира, и каждый продолжает заниматься своими делами. Холод, гипоксия и собственные проблемы не способствуют продолжительным сочувственным размышлениям.
Сегодня я уменьшил дозу антибиотика до одной таблетки в день – только вечером. И осталось у меня их всего 4 штуки. Что бы завтра не произошло, и какая бы погода не была, я просто обязан перебраться на седловину.
***
Ночью погода разыгралась не на шутку. Порывы ветра налетают с таким рёвом, словно проходит электричка. Посреди ночи вставил в уши затычки и лишь после этого сумел заснуть. Утром встал со слегка опухшей головой, но, в общем, состояние хорошее. Самое время идти наверх. Однако когда я выглянул наружу, моя вчерашняя решимость растаяла «как с белых яблонь дым». Погода – дрянь. Всё в тумане и метёт снег. После завтрака я перебрался в соседнюю гидовскую палатку, в которой обосновался Женя, и мы с ним убиваем пару часов в душевных беседах «за жизнь». В 10 утра погода улучшается, и мы с москвичами начинаем собираться на гору. В 11, когда мой рюкзак был полностью уложен, к моему восторгу с горы спустился Эяль. Он был заметно измотан, и, пока он сбивчиво рассказывал о своих приключениях, я приготовил ему кастрюльку чая. Надо сказать, что с тех пор, как он ушел на седловину, он ни разу не выходил на связь, и до меня доходили лишь противоречивые слухи через тех, кто спускался вниз из третьего лагеря. Оказалось, что он, по какой-то не совсем понятной причине, не пошёл к пещере нашего лагеря, а спустился на южную сторону, к киргизским пещерам. То есть к тем, которыми пользовались те, кто поднимается с юга. Естественно, от этих пещер невозможно связаться с лагерями, находящимися на северной стороне горы. Итогом его мытарств стали три ночи, проведенные в третьем лагере, и две попытки восхождения, которые он совершил в компании канадцев, с которыми подружился ещё в Базовом Лагере. На первом выходе они не ушли далеко, остановленные сильным ветром. Из четверых, только «длиноволосый» канадец продолжил восхождение и сумел подняться на вершину, несмотря на жуткую погоду. Во второй попытке оставшейся троице удалось добраться почти до четвёртого лагеря на 6400м, но сильный ветер и мороз заставили Эяля и Марка повернуть назад. Эяль продемонстрировал мне чёрную обмороженную каёмку своего уха и сказал, что один особенно сильный порыв ветра сбил его с ног и чуть не сбросил с гребня. В последний момент он сумел ухватиться за перильную верёвку. Не знаю, правда, почему он не был пристрахован. Человек столько натерпелся, что я не стал докучать ему лишними вопросами. В общем, они с Марком вернулись в пещеры, а Анатолий сумел дойти до вершины.
Пока Эяль рассказывал мне все эти занимательные истории и наливался чаем, погода испортилась окончательно. Поднялась натуральная пурга, и нам с москвичами осталось только вновь распаковать рюкзаки. Эяль пожелал мне успеха, вернул «переходящий бело-голубой вымпел» и выразил железную уверенность в том, что такой опытный альпинист, как я, обязательно водрузит его на вершине Хан Тенгри... Оптимизм этого патлатого израильтянина абсолютно несокрушим!
Затем он допаковывает в свой рюкзак кое-какие вещи и исчезает в вихрях снега в направлении первого лагеря. Мы договорились, что он снимет там Володину палатку и унесёт её вниз, а верхний лагерь сниму я. Итак, я остался один на горе. Вся моя команда, с которой я ввязался в это бессмысленное и прекрасное мероприятие, уже «отстрелялась», и только я всё ещё нахожусь на пути к цели.
Чуть позже, из первого лагеря пришёл Скотт со своим клиентом. Молодец всё-же: отлежался, отблевался и вылез таки во второй лагерь, несмотря на непогоду. Затем, спустился Анатолий и устроил моим москвичам громкий скандал из-за какой-то растащенной по недоразумению заброски. Неприятная вышла история. Кроме Эяля и Анатолия с седла спустился Вася. «Ну его в ж...у, этот высотный альпинизм!» – говорил Вася хмуро, и на фоне похмельного неба и колючих вихрей снега слова его показались мне убедительными, как никогда. «Хватит с меня,» – говорил он, – «накушался я этой радости – во как...» и он сделал режущее движение ладонью у своего горла. «Я – технарь. Скалы, лёд, работа со снарягой – это моё, а месить снег, надрывать пупок и загибаться на шести тысячах... в гробу я это видел!» Он был зол и убеждал меня, что ему совсем не обидно, что он не взошел на вершину.
Потянулись резиновые, ничем не заполненные часы до ужина. В дневнике моём такая запись: «Сейчас 14.50, за бортом пурга, а в палатке тепло, светло. Сижу, жру халву в шоколаде. Чувствую себя хорошо. Интересно, что тут у меня пульс в спокойном состоянии – 107! Как во время бега...»
Чтобы вы представили всю меру маразма и безделия, в которые я был погружен, я приведу также стишки, которые я там сочинял:
"Тянь-Шань. Сижу один в палатке.
Дремлю, пишу, жру шоколадки.
Погода – дрянь, и я гляжу
Не время ль драпать без оглядки.
И всё же, драпать западло,
Так и не выйдя на седло,
Хотя перила замело
И поморожено хайло."
Ну, как, прочувствовали? Дневник я вёл на горе очень подробно. Чего-чего, а свободного времени у меня было – хоть ложкой черпай.
Про Чапаева (не анекдот)
За ночь намело не меньше чем полметра снега. В затенённых от ветра местах проваливаешься по колено, если не по пояс. А погода-то, погода какая! Тишина и синее-пресинее вогнутое небо. Я с досадой смотрю на крутые склоны пика Чапаева, заваленные чистым пушистым снегом. Вот уже и погода есть, и здоровье в порядке, так столько снега навалило... Плохому танцору ноги мешают, думаю я. Ничего не поделаешь, сидеть здесь больше нельзя – или вверх, или вниз. Сейчас всем нам, идущим наверх, собраться бы вместе, да тропить по очереди, но короткий опрос населения не предвещает мне ничего хорошего. Американцы решают валить вниз, и, кроме меня и москвичей, на выход собираются только двое: австриец Роберт, тот самый, у которого были проблемы с бронхами, и молодой парнишка из экспедиции румынского «Нейшанл Джеографик». Они собираются подняться на пик Чапаева для акклиматизации и вернуться в лагерь. Они абсолютно не спешат и похоже ждут, что мы выйдем первыми и проделаем для них всю работу. Началась известная современная альпинистская игра: «Кто сморгнёт первым?». Москвичи тоже ждут, справедливо рассудив, что, в отличие от нас, австриец и румын выходят налегке, без тяжелых рюкзаков, поэтому честь проложить первую борозду по непаханной снежной целине должна принадлежать именно им. Проблема лишь в том, что те могут позволить себе выйти когда угодно или не выйти вообще. Нам же отступать некуда. Я сижу, как на иголках. Драгоценное время уходит. Румын с австрийцем сонно прогуливаются у своей палатки, москвичи – у своей, и я начинаю понимать, что если я не выйду первым, то мы прокрутимся так до обеда, и тогда идти нам будем уже некуда. С нашим темпом мы не успеем добраться до седловины засветло. К тому же, вчера Витя раздумчиво так обронил что-то насчёт «а не пойти ли нам вниз...», из чего я заключил, что мотивация у него сейчас не самом высоком уровне.
В 9.45 я застёгиваю палатку, надеваю рюкзак и выхожу в направлении гребня, туда где закреплена первая верёвка перил. Первая же пара десятков метров приводит меня в отчаяние. От тропы не осталось и намёка. Сделав несколько шагов по колено в рыхлом снегу, я вдруг проваливаюсь по бёдра. Снимаю рюкзак и, задыхаясь от напряжения, постепенно выбираюсь из снежного плена. После второго падения я, наконец, приноравливаюсь прощупывать старую тропу ледорубом. Тропа эта похоронена под полуметровым слоем свежего снега, но без неё продвижение вообще невозможно. Таким образом я доплываю до первой верёвки, которую приходится буквально выкапывать из-под снега. Пристёгиваюсь и начинаю подниматься вверх по склону. Снега – по щиколотку, да при том ещё и приходится верёвку из него выдёргивать. Пробарахтавшись так с полчаса, я сажусь в снег, абсолютно обессиленный и со злобой смотрю на лагерь. Они что думают, что я им Букреев или Месснер какой? Честно говоря, я надеялся, что, как первый боец, поднявшийся из окопа, я своим примером увлеку в атаку всю нашу немногочисленную армию. Надо признать, что я ошибся. Сколько я смогу ещё продержаться? Ясно, как день, что в одиночку и с таким рюкзаком мне целого дня не хватит, чтобы протропить всё ребро до вершины Чапаева. Если я вообще не сдохну раньше...
Работать надо, работать, говорю я себе. Вставай, сволочь, пахать надо! Надо пахать! Я встаю, выдёргиваю из снега следующие несколько метров верёвки, и продолжаю ползти вверх, оставляя за собой широкую борозду, кое где оживляемую рыхлыми воронками – местами моих падений и привалов. Никогда ещё я не был так решительно настроен, несмотря на всю очевидную безнадёжность своей затеи. Мной владела странная убеждённость, что я обязан выйти сегодня на седловину даже не для себя самого, а для всех тех (?!!), кто верит в меня, для моей семьи, в конце концов. Довольно странный ход мыслей. Можно подумать, что кто-то снаряжал меня в эту экспедицию или поощрял моё участие в ней...
Правда, однако, заключается в том, что то, что человек в состоянии сделать для других, он не в состоянии сделать ради одного своего эгоистического увлечения. Поддерживая себя в таком вот пассионарном состоянии, я уже почти добрался до горизонтального узкого гребешка, от которого начинается основная часть снежного ребра, ведущего к скальному поясу. За полтора часа я поднялся едва ли на сто метров. И тут я увидел внизу две крохотные фигурки, ползущие от лагеря к началу маршрута. Австриец и румын последовали моему примеру! Я устало опустился на рюкзак и демонстративно просидел всё то время, пока они поднимались ко мне. Когда они поравнялись со мной, у них были такие кислые физиономии, словно они вправду ожидали от меня геройской тропёжки до самой вершины. «Тропёжка – это групповая работа!» – назидательно сообщил я своим зарубежным коллегам, продолжая сидеть. «Это было ужасно тяжёло...» – добавил я на тот случай, если они всё ещё тешат себя идеей о моём суперменстве. Они согласно, хотя и печально, покачали головами на мои реплики и покорно «впряглись в плуг». Теперь они тропили по очереди, а я шёл за ними след в след, тихо радуясь свалившемуся на меня счастью. Забавно было наблюдать, как молодой румынский джентльмен пытается опекать Роберта, очевидно полагая, что в таком «преклонном» возрасте (лет 50, я думаю...) человек непременно нуждается в опеке. Он много и усердно тропил, а в свободное от тропёжки время донимал австрийца всякими полезными советами. Кроме этого, он не забывал о том, что он – часть экспедиции, снаряжённой географическим обществом, и много фотографировал, помещая Роберта в центр различных живописных композиций.
Выйдя на узкий, шириной в две ступни, горизонтальный гребешок, он начал картинно разъяснять Роберту, как именно проходятся такие незаурядные препятствия, дошёл до середины, покачнулся и ухнул вниз. Горизонтальные перила натянулись, и он повис на них метра на два ниже гребня. Слегка сконфуженный таким поворотом событий, парень выкарабкался обратно на гребень и осторожно, не тратя драгоценную энергию на дальнейшие разглагольствования, дошёл до безопасного места. Австриец же, всё это время выслушивавший советы молодого человека с подчёркнуто вежливым вниманием (вот она – Европа!), прошёлся по гребню лёгкой походкой человека, прожившего всю жизнь в окружении альпийских пейзажей. Позже, когда мы подошли под первый скальный пояс, австриец проскочил его не задерживаясь и как бы почти не заметив смены рельефа, а молодой румынский национальный географ, неуверенно поцарапав скалы кошками и ковырнув их ледорубом, виновато сказал нам с Игорем, что он свою программу на сегодня выполнил, и пришло время возвращаться «на базу». К этому моменту я уже воссоединился с моими московскими друзьями.
Мы с Игорем чувствовали себя вполне прилично, учитывая сопутствующие обстоятельства, а Витю терзал тяжёлый кашель. Когда после того узкого снежного гребня он надолго сел в снег, я подумал, что он повернёт вниз. Однако я недооценил его упорство. Посидев какое-то время и придя в себя, он продолжил идти вверх и постепенно вошёл в темп. Первый скальный пояс оказался самым сложным участком всего маршрута – метра три наклонных плит, налегающих друг на друга, как черепица так, что обычный «походный» ледоруб оказался на них практически бесполезен. Я попытался всё же пролезть их, используя жумар только для страховки, но с тяжёлым рюкзаком это оказалось мне не под силу. Ледоруб с противным скрежетом процарапал скалу, и я чувствительно провалился, соскользнув с обледенелой плиты. Больше не выпендриваясь, я вылез наверх, опираясь на жумар. От этих усилий на шеститысячной высоте в глазах у меня заплясали «кровавые мальчики», а так же их папы, мамы и дедушки с бабушками...
За скальным поясом последовал каменистый склон, засыпанный глубоким рыхлым снегом, который буквально выжал из нас все силы.
Он привёл нас к новой полосе скал, гораздо менее крутой, чем первая. Выше неё – вновь короткий снежный участок и снова скалы, тоже не сложные. Когда мы прошли их и оказались в основании длинного снежного склона, выше которого было только глубокое фиолетовое небо, мы поняли, что Чапаев – у нас в кармане. Мы сели передохнуть и кинуть что-нибудь себе «в топку». Витя периодически заходился продолжительным кашлем, я тоже начал подкашливать, а Игорь стал возбуждённо объяснять мне, что, находясь на склонах пика Чапаева, которого он почему-то называл Петькой, нельзя травить анекдоты про Василия Ивановича. Как будто у меня были силы рассказывать анекдоты! Да я вообще никогда не могу вспомнить ни одного анекдота, если уж на то пошло...
Выход на купол «Петьки», оказался абсолютно бесконечным. Выше шести тысяч метров нам перекрыли какой-то краник в организме. Мы продвигались плотной группкой, периодически, по самочувствию, меняя лидера и буквально выгрызая у высоты метр за метром. Усилия были просто чудовищными. От каждого шага пупок развязывался. В какой-то момент я обратил внимание, что издаю стоны. Мне это показалось неприличным, и я умолк, но, когда мои друзья подтянулись ко мне поближе, я с изумлением услышал, что и их продвижение сопровождается такими же тяжкими стонами. Хождение на этой высоте принципиально отличается от хождения ниже 5000 метров. В «низких» горах, идя вверх, ты просто вгоняешь себя в определённый, подходящий тебе темп, в котором можешь, не останавливаясь, идти почти сколько угодно. Дыхание подстраивается под твои шаги – определённое количество вдохов-выдохов на определённое количество шагов. В районе 6000 метров это становится невозможным. Пытаясь подстроить дыхание под шаги, ты просто переходишь на какое-то мучительное топтание на месте. Вместо этого у меня выработалась другая тактика. Я делаю от 10 до 15 довольно энергичных шагов на том запасе кислорода, который находится у меня в крови. Когда по слабости, разливающейся по телу, я чувствую, что запас иссяк, я останавливаюсь, опираясь на ледоруб, и долго усиленно дышу, пока силы не возвращаются ко мне. Если мне удаётся проходить 14-15 шагов подряд – прекрасно! На крутых участках или в глубоком снегу мне приходится останавливаться каждые 5-6 шагов.
В 19.30 мы выходим на северную вершину Чапаева. 6150 метров. В мягких вечерних лучах перед нами открывается пейзаж фантастической, первозданной красоты. Хан Тенгри возвышается над седловиной во весь свой исполинский рост.
Глядя с пика Чапаева на его бесконечные скальные склоны, понимаешь, что лишь отсюда, с лежащей у наших ног седловины, и начинается настоящее восхождение. Всё, что было до этого, весь этот тяжёлый, упорный труд, всё это харканье кровью, было лишь прелюдией к тому главному дню, который, даст бог, нам только лишь предстоит прожить. Хаос величественных и суровых горных хребтов простирается к югу от Хан Тенги. Я пытаюсь отыскать знакомый контур Победы, но мне это не удаётся, хотя, мне кажется, она должна быть видна отсюда.
Плоский снежный купол, на котором мы находимся, переходит на юге в ажурный снежно-ледовый гребень, ведущий к главной вершине пика Чапаева. Скользя взглядом вдоль этого острого хребта, со сбитыми набекрень пушистыми карнизами, я вспоминаю свою наивную идею – пройтись до главной вершины на акклиматизационном выходе. Какое там! Отсюда это выглядит серьёзным техническим восхождением.
Северная вершина обозначена воткнутым в снег ледорубом раритетного вида. Эдакий дедушка всех ледорубов. Мы фотографируемся возле него и начинаем длинный спуск на седловину, увязая по колено в пушистом снегу. Два долгих часа потребовалось нам, чтобы спуститься к палаткам третьего лагеря. Мы были настолько измотаны, что даже спуск превратился для нас тягостную пытку.
Спустившись с Чапаева, мы подошли к тому месту, где от южных киргизских пещер на седловину поднимается натоптанная тропа и тянется вдоль всего гребня, через третий лагерь, к подножию вершинной башни Хан Тенгри. Тропа эта траверсирует гребень по южной стороне, подальше от чудовищной величины карнизов, свисающих на северную сторону. Единственное, что меня волновало, когда я переставлял заплетающиеся ноги по этой местами весьма узкой тропе, это – не споткнуться от усталости и не улететь вниз. Туда, где волнистый, молочного цвета снежный склон теряется в подёрнутой сумерками глубокой долине.
У палаток нас встретил Вадик Попович и напоил горячим компотом. После выпитой кружки, я почувствовал, что все мои внутренности, сморщенные, как промороженная перуанская мумия, расправляются и наливаются жизнью. Способность смотреть и восхищаться увиденным возвращалась в меня, как вода в пересохшее русло.
Солнце висело над самым горизонтом, и прямо против нас возвышалась выкрашенная в закатное сочетание голубого и розового тяжёлая громада Победы. Я смотрел на всю эту неимоверную панораму и думал, что, быть может, только перенесенные страдания позволяют природной красоте проникать в нас на необходимую глубину, затрагивая самые чувствительные и тонкие струны. Сытое любование никогда не сможет вызвать в нашей душе такой же пронзительный отклик.
И случилось чудо. Нависающая над нами скальная башня Хан Тенгри на считанные секунды налилась кровью, запылала глубоким мраморным пламенем и тихо угасла, погружаясь в глубокую тень наползающих сумерек. Мы стояли, пораженные величием увиденного, судорожно сжимая в руках бесполезные и нелепые свои фотокамеры. Я рад, что не успел умертвить это ни с чем не сравнимое воспоминание, пришпилив его к жалкому клочку глянцевой бумаги.
Вадик ожидал возвращения трёх британцев, которые ушли на восхождение, в сопровождении Моисеева и двух портеров. Все они сумели взойти на вершину, тем самым удвоив количество успешно взошедших с нашей стороны горы. Сейчас уже 10 вечера, на глазах темнеет, а они всё ещё где-то там, на нижних склонах вершинной пирамиды.
Витя с Игорем занялись установкой палатки, а я по чуть заметной тропе спустился метров на 20 на южную сторону ко входу в ледяную пещеру, вырытую гидами нашего лагеря ещё в начале сезона.
Пещера оказалась гораздо более комфортабельным жилищем, чем я предполагал. Короткий низкий лаз привёл меня в просторную камеру, в которой я мог стоять в полный рост. Слева была вырублена глубокая спальная ниша. Она располагалась на возвышении, так, что было удобно сидеть на краю, и могла вместить четырёх человек свободно или пятерых, если лечь поплотнее. Прямо против входа изо льда был вырублен кухонный стол, на котором стояла какая-то небогатая утварь и валялись пакетики с супами, испещренные колючими корейскими иероглифами. Справа была вырублена небольшая ниша для рюкзаков и прочих вещей. В пещере никого не было, так что всё это великолепие досталось мне одному. Спальная ниша была застелена тонкими серебристыми ковриками. Я опустился на них и просидел какое-то время в прострации, собираясь с силами. От тяжёлой усталости реальность, как бы то уплывала, то вновь накатывала на меня волнами. На автопилоте готовлю себе ужин – бульон «Галина Бланка», заправленный для густоты растворимым картофельным пюре и кусочками сухой колбасы. Не торопясь, выпиваю несколько кружек травяного чая. Спать ложусь прямо в пуховке, синтепоновых брюках и во внутренних ботинках. Спальник у меня жидковат для такого дубняка, зато – лёгкий.
Сон накрывает меня тёплой волной, и откуда-то из угла пещеры появляется мой ночной гость, регулярно навещающий меня с того самого дня, когда я поднялся во второй лагерь. Я привык к его (или моим?) бесконечным и бессмысленным ночным рассуждениям, содержания которых поутру я не могу вспомнить. Как тепло и уютно спать в ледяной пещере! Ни хлопки промороженного палаточного тента, ни вой ветра, ни глухое уханье снежных обвалов не доносятся до меня в моей зимней берлоге. Я чувствую себя за пазухой у Снежной Королевы. Морозное спокойствие окружает меня.
Лишь однажды я проснулся посреди ночи и долго лежал, прислушиваясь к тупой боли, ворочающейся где-то в основании злосчастного зуба. Вчера целых 12 часов я усиленно прокачивал через себя ледяной воздух и, возможно, возобновил воспаление, переохладив больной зуб. Если завтра я встану с зубной болью, мне ничего не останется, как отправиться в обратный путь, и как можно быстрее.
Дневник пещерного человека
Да, я вёл дневник и довольно подробный. Особенно в пещере, когда у меня была масса свободного времени. Сейчас, когда пишу всё это, от дней проведенных на Хан Тенгри меня отделяет почти полгода, и я допускаю, что многие вещи представляются мне несколько иначе, или я хочу видеть их несколько иначе. Перечитав свой дневник, который я писал в пещере, я почувствовал какое-то смутное и абсолютно не логичное чувство протеста по поводу некоторых своих реплик. И именно это чувство натолкнуло меня на мысль, выложить всё как есть, точно так, как оно записано в дневнике. Единственное, что стоит разъяснить, так это план, который был тогда у нас с москвичами. Мы пришли в лагерь так поздно и настолько измотанные двенадцатичасовым переходом, что не могло быть и речи о выходе на восхождение завтра утром. Мы решили отдохнуть один день, а послезавтра, если погода позволит, сделать попытку восхождения. Если же погода не позволит – уйти вниз. Резонов Вити с Игорем я уже не помню, но у меня должен был к тому времени закончиться антибиотик, а ещё через день – газ в горелке и продукты. Мне это казалось достаточным основанием не задерживаться на седловине.
В дневнике же я писал вот что:
***
"Утром зуб не болит. Рассвет в пещере – красивейший: со всех сторон льются волны голубого света, как на дне моря. Погода неустойчивая – чуть ветер, чуть туман, чуть снежок.
Только позавтракал, как ко мне спустились Вадик Попович и два портера, один из которых (Саша) с обморожениями пальцев рук. Они приготовили чай и компот, и оставили кое-какие вещи в качестве заброски. Сидели довольно долго, часов до 10, и это было хорошо – не скучно. Когда они ушли, я пописал записки и почитал какую-то евангелическую брошюру (вот она, рука братьев Христовых! В ледяной пещере на 6000м!)
Потом пришли Витя с Игорем в гости. Посидели, поболтали за жизнь часов до двух. Попили чай. Потом пошли к ним обедать, поскольку они замёрзли в моей берлоге. У них в палатке тесно, но тепло. Поели растворимые (но в этот раз они не растворились...) макароны с рыбными консервами и попили чай с моими сухарями и печеньем (эх, что я завтра есть буду?). Поболтали про политику, и в 5.30 я пошёл в свою пещеру.
Договорились на утро выйти в 6 – 6.30, если погода позволит. В глубине души – боюсь эту гору. Здесь каждое движение требует таких затрат энергии, а гора эта такая высокая...
Я уже не хочу взойти на вершину, а просто выполняю какой-то странный долг перед собой, перед семьёй, перед своей мечтой. До этого момента я играл честно и отдавал, что мог, но сейчас, ставя завтрашний день предельным сроком для восхождения, я чувствую, что мухлюю. Я мог бы продержаться на седловине ещё пару дней. В любом случае, я рад, что пришел на седловину. Это было очень (ужасно!!!) тяжело, и это было восхождение. Если моя поездка и проигрыш, то хотя бы не всухую. Это было очень здорово увидеть закатную Победу с перемычки, спать и жить в пещере. Вчера вечером на закате я видел Хан облитым «кровью» во всей красе. Это – незабываемое зрелище! Я был тут, и я это видел!
На ужин второй день я делаю себе в кружке болтанку из Галины Бланка, картошки и кусочков колбасы. Сегодня добавил ещё кусочки перемороженного лука. Сыр, зараза, промерзает насквозь, хоть клади его на ночь в спальник. Спички, что оставил мне Володя, тоже отсыревают, и теперь зажигается каждая 3 – 4я. Да они и кончатся скоро. Удачно, сегодня утром ребята оставили «в заброску» горелку с пьезоэлементом, так я теперь пользуюсь ей, как гигантской зажигалкой. А ещё они оставили пластиковую лопату, так что теперь я могу отгребать снег, которым потихоньку заносит вход.
Вообще же, как много здесь зависит от удачи: выйди я из базового лагеря на день раньше, я шел бы всё время с британцами, включая вчерашнюю попытку при почти идеальных условиях. Задержись Эяль на седловине ещё на сутки, и он тоже мог бы в этом участвовать. Хотя те, кто сильны по-настоящему и физически и ментально, куда меньше зависят от удачи. Ждут погоды столько, сколько надо (я бы свихнулся сидеть в пещере 4 дня, как Володя) или восходят при не «идеальной» погоде (как канадцы). Удача – помощник слабых. Что и говорить, я устал от холода и одиночества, каким бы условным оно ни было. Хочется в тепло, к своим. Скучаю.
Под вечер (когда пора ложиться) ветер метёт прямо в пещеру. Загородился ковриками. Проблема помочиться – либо против ветра, либо – в свою пещеру... Нашёл компромисс и помочился поперёк ветра, на склон прямо у входа. На более серьёзный случай, да ещё ночью, заготовил полиэтиленовый мешок... Не вижу другого выхода. Ложусь спать. Спокойной ночи, мой еженощный гость! Принял для профилактики парацетамол и оптальгин, хоть вообще-то ничего не болит. Маразм? Все глотают."
***
Вот так провёл я свой день на седловине. Это всё звучало не слишком героически? Ну если бы я тогда знал, что сейчас вставлю это в рассказ прямо так, без купюр, я бы чего-нибудь приукрасил, конечно...
Снова про Чапаева (и снова не анекдот)
Спал я плохо, урывками. Краткие погружения в сон сопровождались особо яркими и страстными беседами с самим собой. Когда же я выныривал на поверхность из этого липкого бреда, то слышал равномерное тихое шуршание, словно змеи ползают – это снаружи метёт сухой жёсткий снег. Пару раз я зажигал фонарик, и в луче его кружилась у входа серебристая новогодняя пыль. И всё это длилось и длилось, но вдруг, не помню, когда точно это произошло, но определённо после полуночи, тихий шорох исчез. В пещере царила полная тишина. Распогодилось, подумал я, и сладостный холодок под ложечкой прогнал сон. Я хотел встать и приняться за готовку завтрака, но оказалось, что ещё слишком рано. Я снова проверил будильник – не хватало только проспать! Поворочавшись какое-то время в воспалённо-предпраздничном настроении, я неожиданно уснул.
В 4.50 проснулся снова и прислушался. Тишина стояла мёртвая. Вот оно – мой час пробил! Башка тяжёлая, в мутной спросонья голове одна только эта мысль бьётся, но мотивация – аж из ушей лезет. Одеваюсь сразу, как на восхождение – всё прилаживаю, изо всех сил пытаюсь хорошо думать. Собираюсь, как в бой. Хочу выйти «до ветру», и только тут обнаруживаю, что вход в пещеру полностью завален снегом. Страшная догадка приходит мне в голову! Я разгребаю лаз, начиная сверху, где слой снега потоньше. Из образовавшегося отверстия морозная мгла швыряет мне в лицо горсть колючего снега. Метёт! Не веря своему горю, разгребаю завал лопатой и, согнувшись пополам, выбираюсь наружу. Не видать ни зги – всё укутано сумрачным предрассветным туманом, из которого сыпет и сыпет мелкая белая крошка. Вверху, над седловиной иногда просвечивает лунный диск, бледный, как затёртая монета. Иногда проглядывают склоны Хана. Значит, туман не плотный.
Я не тешу себя особыми надеждами, но из добросоветности и, чтобы в случае чего «не было мучительно больно...», продолжаю сборы: топлю воду на чай и завтракаю. Делаю себе много чаю и запиваю им сухари с сыром. В 6.30, как уговорено, вползаю в вихрях снега на гребень, к ребятам. Метёт пуще прежнего! Пока вылез по глубокому снегу на седло, увидел бабушку с того света. Организм-то ещё не проснулся, а тут прямо с порога такая пахота. Все движения – как в замедленном кино. Всё. Восхождение окончено. Надо валить отсюда, и чем быстрее – тем лучше. Договариваюсь с ребятами на 9 – 10 утра и спускаюсь обратно в пещеру. Безо всяких эмоций прямо в пластиковых ботинках (!) залажу в спальник и тут же засыпаю. Финита ля комедия...
Через пару часов я проснулся. Метель шуршит и заносит мне вход свежим снегом. Интересно, как мы будем выгребать на Чапаева по такой-то погоде? Выложил на «стол» неликвидные продукты. С некоторым ожесточением сожрал весь запас шоколада, и на душе, серой и плоской, как погасший экран компьютера, как-то порозовело, что ли. Как раз, когда подошло время уходить, метель вроде улеглась. Вылажу из берлоги и не верю своим глазам – распогодилось!
Распогодилось настолько, что по гребню в сторону вершинной башни уже потянулись люди. Они пришли от южных пещер, и я поражаюсь, как это они успели сюда добраться. Не иначе, вышли ещё когда мело. Впрочем, я из пещеры не выглядывал, может туман уже давно поднялся. Мы с ребятами хмуро обсуждаем ситуацию. Злая досада – вот, что я чувствую, когда вижу над собой эту густую плотную синьку. Хребты, простирающиеся до горизонта, элегантны, как белые свадебные лимузины, но я – нищий без гроша в кармане, и меня отделяет от них невидимая, но абсолютно непреодолимая преграда.
Мы не можем выйти на восхождение сейчас, в 10 утра, и тратить последние силы на абсолютно безнадёжную попытку – верх глупости. Мы должны уходить, но до чего же унизительно делать это, когда вершина насмешливо ухмыляется тебе в спину с звенящего синевой неба. Игорь долго колеблется, затем решает сходить до первых гранитных скал у подножия вершинной башни – хочет прикоснуться к ней и привезти домой кусочек Хан Тенгри. Я стою полностью собранный, и ждать ещё непонятно сколько часов мне совсем не хочется. Если восхождение – так восхождение, а если уходить – так уходить. Я рву последнюю нить, связывавшую меня с этой вершиной, прощаюсь с ребятами и ухожу по гребню в сторону пика Чапаева.
По мере того, как я прохожу длинный гребень, ведущий к куполу, погода меняется. Она просто слетела с катушек, эта погода – невероятно, до чего быстро она может перемениться. Природу лихорадит. Под снежный купол я подошёл уже в тумане. Несмотря на то, что надвигающаяся кутерьма могла здорово осложнить мне жизнь, на душе полегчало. Сосущая досада исчезла: всё-таки сегодня нет погоды для восхождения. Впрочем, я ещё не представлял, до чего именно эта кутерьма осложнит мне жизнь. Скоро я обнаружил себя топчущим глубокий, рыхлый снег, в то время, как со всех сторон меня окутывает светящееся облако тумана, из которого равномерным косым потоком сыпет мелкая белая крупа.
Первый час я троплю в полном одиночестве вверх по склону от вешки к вешке, по нетронутой снежной целине. Ощущение такое, будто ты повис в пространстве в матовом светящемся шаре. Наконец, в разрывах тумана я замечаю две мутные фигуры, идущие по моим следам. Это двое поляков – парень с девушкой. На очередном привале они догоняют меня, и парень, не останавливаясь, продолжает тропить. Какое-то время я иду по их следам, но метель усиливается, и, завозившись один раз со сменой перчаток, я обнаруживаю, что следы их полностью замело. Это было поразительно! Я ещё видел их спины в двадцати метрах вверх по склону, но цепочку следов уже заровняло полностью, и мне снова пришлось тропить в одиночку. Поляки исчезли в сгустившемся тумане, и я вновь повис в слепящем облаке, где нет ни верха, ни низа, ни право ни лево, а только адски медленное и мучительное продвижение: вырвать ногу, перенести вес тела, опустить ногу, повиснуть на ледорубе и – дышать, дышать, дышать.
Навалившись на ледоруб, я закрываю глаза, чтобы хоть немного укрыться от этого сводящего с ума горячего свечения. Я ощущаю его, как почти физическое давление. Иногда, желание освободиться от него, вынырнуть из этого сияющего, вязкого шара становится невыносимым. Я не вижу ничего, кроме двух, иногда одной вешки, которые мерцают сквозь туман мутными красноватыми пятнами. Свечение доводит меня до галлюцинаций. Флажок, на который я неотрывно смотрю, вдруг исчезает, растворяется в мерцающей розовой мгле. Я напрягаю зрение так, что глаза начинают слезится, и вдруг утерянное красное пятнышко материализуется в стороне от того места, куда я пялил свои, наливающиеся резью глаза. Потеряв чувство времени и пространства, я продвигаюсь от одного красного пятнышка ко второму, от второго – к третьему, и так – без конца, без малейшего намека на то, что конец этот может существовать. Вселенная свернулась в тугой светящийся кокон, и я брожу в нём по кругу, от флажка к флажку, погружённый в безумное напряжение, в счёт шагов и в надрывное дыхание. Мои лёгкие пытаются всосать в себя весь этот сухой и разреженный внешний мир. Мне некуда ускользнуть из этого ада. Пути назад нет.
Единственное, что я могу и должен делать, это двигаться, переставлять ноги, прогрызаться сквозь это сияющее ничто.
Четыре часа труда, высасывающего сок из каждой жилки, и всякую мысль из мозга, потребовались мне, чтобы выползти на купол Чапаева. У меня не осталось даже сил этому радоваться. Я просто сидел на рюкзаке, в тёплом розовом облаке и был живым существом, выполнившим свою функцию – расслабленным и бездумным. Со стороны второго лагеря поднялся Алексей Распопов с каким-то мужиком, они передохнули чуток, и ушли в туман в сторону седловины. Я достал «уоки-токи» и связался с лагерем. На связь вышел Эяль и сказал, что ждёт вертолёта, чтобы улететь в Каркару. Я безразлично выслушал его утешения по поводу неудавшегося восхождения. После этого убийственного подъёма и ввиду предстоящего долгого, холодного, выматывающего спуска, само восхождение не представлялось мне чем-то существенным. К тому же, накануне я решил, что нет ничего более бессмысленного и бесполезного, чем сожалеть о несбывшемся. Лучший способ не погрязать в прошлом, это думать о будущем. В тот момент, как я начал спуск, я больше не принадлежу Хан Тенгри. Начало этого спуска, это начало моего следующего восхождения.
Два часа занимает у меня спуститься с вершины Чапаева во второй лагерь. Я дюльферяю со скальных поясов, сквозь туман и сухой шелест скользящего по промороженным плитам снега. На перестёжках снимаюсь с «автопилота» и стараюсь сконцентрироваться. Внимание рассеивается, утекает из истощённых высотой мозгов, как песок сквозь пальцы. Наконец, я на последних верёвках перед лагерем. Тёплое послеобеденное марево повисло в воздухе. У меня запотевают лыжные очки, и я передвигаюсь почти вслепую. К тому же, меня «носит» от усталости. В полусотне метров от первых палаток я подслеповато теряю тропу и тут же проваливаюсь в снег почти по пояс. Пара поляков, внимательно наблюдавшие за моим неровным спуском, выходят мне на помощь, решив, что со мной не всё в порядке.
Добредаю до палаток. Меня встречает Женя и угощает чаем из термоса. Я забираюсь в свою слегка обвисшую палатку и готовлю себе живительный бульон. Затем делаю себе эдакий «компоточай»: поскольку сахар у меня закончился, я кидаю в чай изюм. Пью тёплое пойло и отлёживаюсь в полудрёме.
В лагере царит оживление. Его создаёт весёлый, заводной мужик – Сан Саныч, по прозвищу Таракан. Я много слышал о нём от постоянных обитателей Базового Лагеря, понял, что он тут личность известная и уважаемая, но видеть мне его ещё не довелось. Сан Саныч ходит по горе вверх-вниз, водя за собой стада кротких корейцев. Он переполнен жизненной силой и энергией, и сыпет направо и налево причудливыми байками из своего непоседливого прошлого.
Его весёлое шебуршение было прервано спуском в лагерь двух молодых австралийцев с обморожениями рук и ног. Весь лагерь сбегается к ним на помощь. Эта пара австралийцев сидела с нами за одним столом в день нашего прилёта в Базовый Лагерь, и я хорошо запомнил девушку, поскольку она показалась мне похожей на мою жену. Потом они ушли на гору и буквально пропали там. Периодически, наше лагерное начальство вспоминало о них: «Где там наши кенгуру?! Куда пропали наши кенгуру?!» – и начинались судорожные попытки вызвать их на связь. Потом приходили с горы смутные вести через третьи руки. Типа: «наши друзья видели пару молодых кенгуру в районе второго скального пояса...» и все успокаивались. Последний раз их видели в третьем лагере на высоте 6400м, а затем пришла весть о том, что они взошли на вершину.
Несмотря на обморожения и крайнюю степень истощения, ребята держались очень мужественно. Когда Сан Саныч снял у девушки перчатки, лицо его скривилось, и у него вырвался громкий возглас досады: один палец у неё уже заметно почернел. Но, как оказалось, парень пострадал куда сильнее – у него были сильно отморожены 4 пальца на ноге. Похоже, они не страдали от боли, поскольку ткани были проморожены насквозь. Сан Саныч забрал их в гидовскую палатку, оказал первую помощь и напоил чаем.
К вечеру спустились Игорь и Витя. Первым приходит Игорь. Он шатается от усталости и спрашивает меня, смогут ли они переночевать в моей палатке. Им не хочется ставить палатку на одну ночь. Я демонстрирую ему свои жилищные условия, и он соглашается, что это невозможно. За две недели, в течение которых в палатке всегда спал только один человек, лёд под дном палатки проплавился в форме корыта, и теперь я лежал в этом корыте, как египетская мумия в саркофаге. С обеих сторон громоздились горы в беспорядке наваленных вещей, которые непрерывно сползали на меня, а я периодически из-под них откапывался. Пол был такой неровный, что даже миску с супом невозможно было поставить – она тут же сползала в это «корыто».
Вечером Сан Саныч собирает весь русскоговорящий коллектив лагеря в гидовскую палатку. Меня забывают позвать, и я печально слушаю отзвуки их весёлой гульбы. Поколебавшись, решаю самому не напрашиваться – палатка-то не резиновая.
Засыпаю быстро и сплю крепко.
Вниз, вниз, вниз...
Встал, не торопясь, в 8 утра, приготовил овсянку и чай. На дворе сияет солнце и приглашает на восхождение всех желающих. Меня слегка качает, и перед глазами мерцают какие-то красноватые пятна, но теперь мне всё до фени: сегодня вечером я уже буду сидеть в базовом лагере. Собирался выйти в 10, но не тут то было.
Попытка снять палатку потерпела полное фиаско. Мои добросовестные друзья растянули палатку на трудолюбиво вкопанные поглубже мешочки со снегом. Многократно оттаивая и замерзая, весь верхний слой снега вокруг палатки превратился в ледовый панцирь, прочно похоронив под собой эти мешочки, да и юбка тента тоже вмёрзла «по самые уши». Попытка выкорчевать палатку ледорубом принесла смехотворные результаты, и мне пришлось одолжить у москвичей лопату. Когда через час они попрощались со мной и ушли вниз, я уже сидел на корточках посреди внушительного раскопа. Как опытный археолог я обкапывал со всех сторон эти чертовы мешочки и осторожно удалял многокилограммовые блоки льда, стараясь не повредить ткань тента. Полтора часа кропотливого труда ушло у меня на то, чтобы вызволить свою палатку из ледового плена. За это время можно откопать небольшую пирамиду Майя. Наконец, около 12-ти я ухожу вниз с тяжёлым рюкзаком, пятнами перед глазами и чувством выполненного долга...
В первом лагере меня ожидает приятный сюрприз – я прибыл прямо к чаепитию, которое затеяли тут мои московские друзья. Уже никто никуда не спешит, погода не гонит в спину, и мы неторопливо потягиваем чаёк, рассуждая о разных альпинистских материях на грани чистой философии. Тема для спора выбрана самая животрепещущая – роль силы воли и физподготовки в высотных восхождениях. Игорь вдохновенно убеждает меня в том, что свободный человеческий дух может абсолютно всё, и то, например, что я валяюсь тут, как старая калымага, пробежавшая 100 000 без капремонта, это всего лишь от недостатка силы воли. «Ты не представляешь себе, на что ты способен НА САМОМ ДЕЛЕ!» – восклицает Игорь, с экспрессией, позволяющей заключить, что сам он и вправду ещё способен на многое – «Ты мог бы ходить на „восьмитысячники“, а ты просто не веришь в себя, в свои силы!» Я пытаюсь представить себе, на что я в данный момент способен, и список таких дел кажется мне крайне скудным. «Игорь,» – говорю я, – «конечно, сила воли многое значит, но согласись, что есть у человека и врождённые ограничения. Вот возьмём меня, к примеру». Игорь согласно кивает головой, соглашаясь взять меня в качестве примера.
«Если я продолжил бы сидеть на седловине, а потом взял бы да полез на Хан до упора, думаешь, что произошло бы? Да я бы просто сдох, и все дела! Если бы у меня было невпроворот силы воли, я просто сумел бы загнать себя насмерть». «Вот!» – радостно восклицает Игорь, – «я же говорю, что ты просто не веришь в себя! Воля и только воля – вот что позволяет человеку восходить на „восьмитысячники“! Вот возьми, к примеру, автогонщика Шумахера...» – я изумлённо поднимаю на Игоря глаза – «...думаешь у его противников машины хуже, чем у него? Почему же он побеждает их раз за разом?» «Да, почему?» – заинтересованно спрашиваю я. «Потому, что у него больше силы воли!» – победно восклицает Игорь. Я подавленно молчу.
Игоря воодушевление достигло такого градуса, когда всякое сопротивление становится бесполезным. Я, проверенный и неутомимый спорщик, чувствую, что хватка моя слабеет, словно руки скалолаза, перевисевшего в неудобной позиции. Я вяло закругляю спор, оставляя провокационный пример с Шумахером без ответа. Хотел бы я видеть, как помогла бы великому гонщику его сила воли, если бы он вышел на старт в горбатом «Запорожце»...
Я с усилием поднимаю с земли свой собственный горбатый запорожец, у которого стучат клапана, шалит карбюратор, и внешний мир видится сквозь лобовое стекло покрытым какими-то непотребными пятнами. Судя по тому, какой моряцкой походкой сам Игорь прогуливается по лагерю, в его распоряжении тоже не «Порше» последней модели...
Когда я закончил спуск к леднику и расселся на валунах, снимая кошки, ко мне спустились вчерашние обмороженные австралийцы в сопровождении разговорчивого поляка Томаша. Томаш объяснил мне, что сам он отказался от восхождения из-за возникшей проблемы с коленом и заодно решил проводить пострадавшую пару до базового лагеря. Он заботливо отобрал у них часть вещей и вообще проявлял в их судьбе самое горячее участие.
Я с радостью присоединился к их каравану, удвоив почётный эскорт и облегчив их ношу ещё больше. Австралийцы были мне глубоко симпатичны тем спокойным достоинством, с которым они переносили свои трудности и тем мужеством и настырностью, с которыми они осаждали вершину. Они провели две ночи в четвёртом лагере – до и после штурмового выхода, и можно себе представить, чего они там натерпелись. После оказанной им вчера первой помощи и из-за спуска на более тёплые высоты, их обморожения дали о себе знать, и теперь парень передвигался, сильно хромая. Они были ослаблены, почерневшие лица с ввалившимися глазами были лишены выражения, но на любое обращение они неизменно отвечали вежливой благодарной улыбкой.
Мы с Томашем шли перед ними, стараясь отыскать самые пологие и удобные проходы на пересечённом холмами и руслами ручьёв леднике. Когда приходилось перепрыгивать через эти ручьи, мы строили австралийцам поручни из лыжных палок и иногда буквально переносили их на противоположную сторону. На береговой морене мы передали пострадавших в руки встречающих.
Потом, уже в Алматы, я слышал, что у парня обморожения выросли в серьёзную проблему, на грани ампутации пальцев. К сожалению, я не знаю, чем всё это закончилось.
Сдав австралийцев в надёжные руки, мы с Томашем завалили на кухню. Сидим, отпиваемся чаем и киселём. Я спросил у ребят насчёт бани (а я, извиняюсь за интимную подробность, не купался с того момента, как покинул свой дом в далёком Назарете три недели назад), и они сказали, что такая возможность есть, но идти надо прямо сейчас. Я «сбегал» (надеюсь, вы понимаете, почему слово «сбегал» я заключаю в кавычки) за купальными принадлежностями и, должным образом снаряжённый, явился в банную палатку.
Первый раз в жизни я попадаю в такое экзотическое банное помещение, и мне всё тут любопытно. Палатка разделена на 3 секции. Войдя, вы прежде всего попадаете в среднюю из них – в раздевалку. Здесь есть скамейка и вешалки для одежды. В левой секции находится сауна, но мне в детстве не потрудились привить банную культуру, и в сауну я не иду, хотя подозреваю, что лишаю себя тем самым какого-то жизненно важного удовольствия. В правой секции на газовой плите стоит огромный, просто-таки гигантский чан с кипящей водой, в углу – такой же чан с холодной ледниковой водой, а между ними на скамейке стоит большая смесительная миска и ковшик для обливания. Я долго отмываю себя в горячих клубах пара, затем выхожу в холодный воздух раздевалки, чувствуя, что дышу буквально всей поверхностью кожи. Тело просто стонет от наслаждения. Пока я одеваюсь, вваливаются усталые Витя с Игорем. «Ага! Привет немытая Россия!..» – шумно приветствую я их, – «вы себе не представляете, что вас ждёт!..»
За ужином я по-свински объедаюсь пловом, а потом допоздна болтаю с Витей, попивая кофе. Идёт снег и наша кухонная палатка светит жёлтыми окнами, словно корабль, затерянный в просторах зимнего ночного моря. Сваливаюсь в сон, словно меня огрели по голове огромной мягкой подушкой, и сплю, как убитый.
***
Весь следующий день прошёл в мелких хлопотах. Я вернул всё, что поодалживал или снял за деньги и перепаковался на отлёт, поскольку на завтра нам обещали вертолёт. Завтра, между прочим, пятница 13-е!
Прекрасный день для полётов на вертолёте... Впрочем, за обедом прошелестел слух, что рейс переносится на 14-е. Мне, в общем, почти пофигу, а москвичи забеспокоились – у них билеты в Москву на 15-е.
После обеда Витя с Игорем прихватывают с собой две початые бутылки водки, и мы втроём идём к Моисееву прощаться и заодно выяснить, что же там с вертолётом. Оказалось, что с рейсами сейчас большая напряженка, поскольку с южной стороны Хана всё ещё продолжаются спасработы. Поэтому завтра из нашего лагеря вывезут только обмороженных – обоих австралийцев и одного поляка, а все прочие полетят послезавтра.
Затем Юрий Михайлович ведёт нас на кухню и организовывает нашей водке соответствующее обрамление – солёные огурчики и резаные ломтиками помидоры. Мы выпиваем и душевно беседуем о разных альпинистских материях. Я вновь поражаюсь, до чего он приятный и открытый мужик, этот Моисеев. Видно, что компания по водружению британцев на вершину Хан Тенгри не прошла ему безнаказанно. Он выглядит уставшим, и у него почти пропал голос. Говоря, он сильно напрягается, сипит, и в какой-то момент я думаю: что ж мы издеваемся над человеком-то? Но он, похоже, искренне увлечён разговором, и мы продолжаем беседовать. Он немного вспоминает о знаменитом восхождении на Дхаулагири с Казбеком Валиевом и Золтаном Демианом, а затем, с гораздо большим воодушевлением, рассказывает о своём недавнем восхождении на Аконкагуа. Я понимаю: то, хоть и великое, но случилось давно, а Аконкагуа – оно было сейчас, недавно. Да и экзотика, что ни говори.
Мы говорим о бескислородных восхождениях на восьмитысячники и, довольно неожиданно, Моисеев оказывается сторонником Игоревой теории о потенциальном всемогуществе рядового человека. «Любой здоровый человек,» – говорит Юрий Михайлович, хрипя и срываясь на шепот, но с глубокой убеждённостью в голосе, – «может взойти на 8000 без кислорода. Всё дело в психологии, в готовности, в понимании самого себя...» Я ловлю на себе Игорев победный взгляд. Я не спорю с Моисеевым. У меня хватает ума не спорить о восхождениях на «восьмитысячники» с тем, кто их неоднократно совершал, но я тихо остаюсь при своём мнении. Слишком много было в последние годы примеров, когда опытные и чрезвычайно волевые восходители загнали себя насмерть на таких восхождениях. Незаметно мы приканчиваем обе бутылки, и беседа постепенно затухает.
Перед ужином мы с Игорем сидим в пустой столовой в компании молодого русского гида. Не помню, как его звали, но ему отлично подошло бы имя Коля. Он был одет в военную форму, и весь его поджарый облик, некоторая скрытая резкость и характерный выговор свидетельствовали о каком-то десантно-афгано-чеченском прошлом. Примерно так и вышло. Парень оказался бывшим спецназовцем и долго кормил нас увлекательными рассказами о суровых технических восхождениях, в которых он участвовал. Я подумал о той отчётливой разнице в отношении к делу, которая существует между русскими и западными альпинистами.
В русском отношении к восхождению есть огромный элемент долга, словно восхождение, это суровая и необходимая работа. Почти война, что ли. В отступлении перед вершиной всегда присутствует горечь военного поражения. Отступать – стыдно. Для западного альпиниста восхождение, это всего лишь игра, приносящая участнику суровое удовольствие. В этом присутствуют азарт, амбиции, самовыражение, но никогда – чувство долга. Поэтому они с гораздо большей лёгкостью отказываются от вершины. Игра, она игра и есть. Поразили меня в этом плане австрийцы. В последний день перед отлётом я встретил в столовой их лидера Кристиана и того мужика, что не говорил по-английски. «Ну, как,» – спросил я – «завтра выходите на гору?» «Нет,» – довольно безразлично сказал Кристиан, – «с нас хватит. Мы улетаем домой.» У меня просто варежка раскрылась от удивления. Я знал, что они только поднялись на Чапаева и даже не ходили на седловину, а в запасе у них ещё было валом времени. И это Кристиан, который был на Музтагате, Ама Дабламе и прочих серьёзных вершинах! Допускаю, что я могу чего-то не знать. Могли у них быть какие-то скрытые причины, и всё же нет сомнений, что западные альпинисты выходят из игры куда легче своих российских коллег.
***
Наступил мой последний день в базовом лагере – август, пятница 13е. Всё, абсолютно всё говорит о приближающемся конце сезона: и поредевшие ряды восходителей, и усталые глаза персонала, и опасно качающаяся на краю трещины будка туалета, и провисшие, покосившиеся палатки. За три недели солнце оплавило ледник, и его уровень опустился, но лёд под палатками находится в тени, поэтому все палатки теперь возвышаются на эдаких ледовых тумбочках, словно шляпки грибов или избушки на курьих ножках. Когда ночью я переворачиваюсь с боку на бок, деревянный настил подо мной скрипит и опасно кренится, и палатка грозит соскользнуть со своего ледяного постамента. Всё идёт к своему логическому завершению.
День заполнен в основном трепотней: с Моисеевым, с Томашем, с австрийцами, с Васей. Вася, который во втором лагере высказывался о высотном альпинизме в пренебрежительном тоне, теперь, после того, как его подопечные британцы взошли на вершину, выглядит раздосадованным и слегка подавленным. Я понимаю его. Одни и те же события выглядят по-разному из холода штурмового лагеря, из относительного комфорта брезентовой столовой и из уютного кресла у домашнего компьютера. Тогда, в базовом лагере, я казался себе помудревшим человеком, навсегда расставшимся с ребяческой мечтой о «семи тысячах», но теперь я знаю, что пройдёт время, и я попробую снова. Просто потому, что я люблю всё это. За этот месяц я прожил целую жизнь, со всеми её подъёмами и спадами, трагедиями и комедиями, встречами и расставаниями. Самый ценный результат любой экспедиции и любого путешествия заключается в том, что ты никогда не возвращаешься домой таким же, каким покинул его. Ты меняешься, узнаешь новое о мире и о себе. Жизнь, это как езда на велосипеде – стоит остановиться, перестать крутить педали и ты падаешь. Трясина затягивает тебя, мозги твои загнивают, и спустя какое-то время ты уже ни на что не годен. Крутите педали, народ! Не сдавайтесь.
Вечером после ужина, Игорь уговаривает меня купить в складчину поллитровку водки и распить «на прощание». Я упорно сопротивляюсь. Я полагаю, что здесь, на высоте 4000м, после всех тех издевательств, которые я учинил над своим организмом, четверть литра водки окажутся для меня просто контрольным выстрелом в затылок. Стыдно признаться, но я вообще не уверен, что, когда бы то ни было, вливал в свой организм столько спиртного за раз... Одно дело пить в компании, когда можно филонить, и собутыльники будут этому только рады, другое дело – честный поединок «глаза в глаза», когда всё делится поровну до последней капли. «Игорь» – говорю я – "сегодня пятница 13-е. Это плохой день. Я напьюсь до потери пульса, свалюсь по дороге к палатке в ледниковую трещину, сдохну там, как собака, и только ты будешь в этом виноват. Я не шучу!
Год назад, в пятницу 13-го я свалился со скалы и сломал ребро, так что всё это – очень серьёзно". Однако Игорь был неумолим и неутомим в своей решимости попрощаться, как следует. Собственно говоря, когда Игорь в ударе, он может безногого уговорить купить ботинки, а безрукого – перчатки. «А, черт с ним,» – подумал я,– «гулять, так гулять. В конце концов, невозможно приобщиться к русскому альпинизму, не пройдя через пьянку в базовом лагере!» Нам приносят поллитровку, чистую как слеза Алёнушки, и мы выпиваем по первой. Мне становится тепло и хорошо, а после второй я перехожу в то особое состояние, когда поле зрения сужается до узкого круга, которым, как лучом прожектора, я выхватываю лица и детали, необычайно резкие и исполненные глубокого смысла. Слух же, наоборот, становится всеохватным и отстранённым, когда слышишь сразу всех, и каждого в отдельности. Звуки обступают тебя со всех сторон, словно шум морского прибоя. Блаженная улыбка расплывается на моём лица. Когда я пьян, я полон любви и всепрощения.
Мы говорим с Игорем о жизни и о Хан Тенгри, и каждое слово кажется мне полновесным и значительным. После третьей, Игорь наклоняется ко мне с видом человека, решившегося сказать самое главное. «Ян,» – произносит он – «ты не обидишься, если я скажу тебе что-то?» По интимной торжественности его голоса я безошибочно определил, что речь пойдёт о национальном вопросе... «Говори Игорь, я тебя слушаю,» – я важно кивнул головой.
«Ян, я должен тебе признаться, что я знаком со многими евреями, но, за всю свою жизнь, я не встретил ни одного плохого еврея,» – Игорь смотрел на меня с заботливой тревогой. Я склонил голову набок, пытаясь понять, что именно может быть обидным в этом утверждении. Как это нет плохих евреев? Что ж мы не люди, что ли... «Игорь, я не обижаюсь, конечно, но, согласись, такого просто не может быть. Лично я знаю гораздо больше плохих евреев, чем хотелось бы. Не может быть, чтобы ты их не встречал...». «Клянусь тебе!..» – горячо говорит Игорь, – «у меня их в знакомых знаешь сколько было?!» «Игорь,» – говорю я, – «ты просто обязан приехать ко мне в гости в Израиль. Я приглашаю тебя. Я покажу тебе Иерусалим, Мёртвое Море, каньоны Негева и множество плохих евреев. Я обещаю тебе целые залежи плохих евреев!»
«Я не могу,» – Игорь кивает головой с пьяной печалью, – «Я обещал повезти свою семью в Египет, и я должен выполнить обещание». Я продолжаю настойчиво его уговаривать, и после четвёртой он восторженно взмахивает рукой: «Ну его в задницу, этот Египет! Поедем в Израиль, в каньоны Негева!...» Я радостно взглядываю на молчаливого Витю, который не участвует в нашем разгуле. «Смотри, Витя,» – гордо говорю я, – «у нас настоящий пьяный базар!». Витя смеётся. Мы выходим с Игорем из столовой, бережно придерживая друг друга. «Я провожу тебя до палатки, чтобы ты не упал в трещину,» – серьёзно говорит Игорь. «Не надо, Игорь,» – говорю я – «я в полном порядке, я трезвее мусульманина на исходе Рамадана». «Нет,» – говорит Игорь, назидательно подняв палец, – «сегодня пятница 13-е, и я должен доставить тебя к палатке в целости и сохранности...»
Даже в глубоко нетрезвом состоянии я понимаю, что спорить с ним бесполезно. Пока мы с ним бредём к моей палатке, я убеждаюсь, что Игорева система навигации пострадала сильнее моёй. «Игорь,» – говорю я, – «а как ты теперь доберёшься до своей палатки? Идём, я провожу тебя к ней...» «Нет,» – решительно возражает Игорь, выставив перед собой руку в протестующем жесте, – «я в порядке, и абсолютно всё соображаю». Я смутно подумал о том, как мы проведём всю ночь, по очереди провожая друг друга от палатки к палатке, и отказался от этой затеи.
***
По правде говоря, я не надеялся, что проснусь после вчерашнего, а я не только выжил, но даже встал утром на удивление свежим и бодрым. Более того, даже пятна в глазах, досаждавшие мне последнее время, куда-то пропали. Я подумал, что возможно Игорь прав, и я просто ещё себя не знаю.
Я допаковываю остаток вещей в свой большой рюкзак и в баул Эяля, который он мне оставил с просьбой вернуть в Израиль. Вернувшись в базовый лагерь, я нашёл в палатке записку от Эяля, в которой он выражал сожаление по поводу того, что нам так и не удалось встретиться и объяснял, что он собирается поехать на Иссык-Куль в компании трёх канадцев, с которыми он тусовался на седловине.
В отличие от меня, он вовсе не возвращался домой после Хан Тенгри, а имел на руках билет в один конец по маршруту Тель-Авив – Алматы – Дели. Как-то раз, я спросил его, сколько же времени он собирается провести в Индии. «Пока злость не пройдёт...» – задумчиво произнёс Эяль, имея в виду, очевидно, своё недавнее армейское прошлое. Вдобавок к изначальным индийским планам, уже в базовом лагере он подцепил идею о восхождении на Ама Даблам и, учитывая, что дистанция между словом и делом у него была сведена к минимуму, я не сомневался, что он попытается это сделать. Я даже милостиво одолжил ему один из своих жумаров, чтобы ему было там чем жумарить верёвки.
Идя на завтрак, я перетащил на ледник к посадочной площадке все свои вещи, а после завтрака нам сообщили, что «вертак» уже в воздухе. Начались шумные прощания и перекрёстное опыление адресами электронной почты. Кроме меня и москвичей, этим рейсом улетали также Скотт со своим клиентом, чайная Таня, закончившая свою бесконечную трудовую вахту, и поляк Томаш с двумя тихими, как мышки, молодыми польками.
На фоне Томаша они вообще казались глухонемыми. Вертолёт приземлился, решительно сдув в сторону всех не успевших как следует пригнуться. Мы загрузились внутрь, бросили прощальный взгляд на щемяще сиротливый лагерь и с тяжелым рокотом поднялись в воздух. Несмотря на то, что в последние дни мне просто хотелось блевать от вида скал, снега и грязного льда, всё же я здорово прикипел к этому странному крохотному обитаемому острову. Трудно расставаться с людьми, к которым привык, зная, что никогда больше их не увидишь.
Длинная белая цепь Тянь-Шаньского хребта превратилась в далёкую белую полоску и исчезла, заслонённая зелёными предгорьями.
Мы приземлились в Каркаре, и я был буквально смят лавиной ярких красок, нахлынувшей на меня. Зелень травы, синь неба, яркие вспышки полевых цветов, всё было оглушающим, чрезмерным, бьющим через край, после того холодного черно-бело монастыря, в котором я провёл почти месяц. Я понял Ван Гога, который ел свои краски. Это такая повышенная, почти болезненная чувствительность к цвету. А воздух! Воздух можно было мазать на хлеб, как масло. И опять – пищевые ассоциации... Приобщение, путём поглощения!
В Каркаре нас поят чаем с «хворостом», и мы загружаем свои вещи в красный микроавтобус. Валиев возвращает мне мои документы и спрашивает, куда я дошёл на Хане. «Две ночи на седле,» – говорю я. «Две ночи на седле, это – серьёзно,» – спокойно говорит Валиев, но лицо его остаётся непроницаемым. Он передаёт мне записку от Эяля. Я иду по следам Эяля, как в дешевом приключенческом романе, отслеживая его перемещения по оставляемым запискам. В этой записке он сообщил, что не поехал с канадцами на Иссык-Куль, поскольку Анатолий дал понять, что Эяль не самое желанное дополнение к их тесному канадскому коллективу. Оставив эту затею, Эяль отправился в Алматы с твёрдым намерением поменять билет и улететь в Дели при первой же возможности.
По дороге в Алматы я расспросил Скотта о его фирме и о планах на будущее, и он охотно рассказал мне, что осенью ведёт группу клиентов на мексиканский вулкан Оризаба, а зимой, уже для себя самого, летит в Антарктиду на Маунт Винсон. Это последняя из пресловутых «7 вершин», на которую он ещё не поднялся. Мы подъезжаем к киргизской границе и останавливаемся у шлагбаума. Из караулки выходит солдат и не спеша подходит к водителю, а водитель открывает окно и протягивает ему пачку сигарет. Парень берёт сигареты и поднимает шлагбаум. Скотт заливается диким хохотом: «смотри, смотри» – говорит он своему клиенту – «он пропустил нас через границу за пачку сигарет!..»
Люди! Никогда не делайте поспешных выводов о жизни чужой страны по мимолетно схваченной детали.
Ванна из верблюжьего шампанского
Уже на полпути к Алматы я с ностальгией вспоминал о ледниках и снеге. 35 градусов в тени! Я тихо оплывал, как свечной огарок. Жара меня «плющила», как любит выражаться один мой знакомый альпинист. В Алматы первым делом мы высадили американцев. Весь процесс развозки по гостиницам был продуман, все клиенты были расставлены по ранжиру. Мы подъехали к огромному, тяжеловесно шикарному отелю. Тутанхамон был бы счастлив быть похороненным в таком сооружении. Я подумал было, что и меня собираются поселить здесь вместе с американцами, и здорово струхнул, представив себе, сколько стоит провести ночь в этом флагмане казахского гостиничного бизнеса. Поскольку в купленный мной пакет услуг входила только одна ночь, то вторую мне предстояло оплатить из своего кармана. К моему облегчению, подоспевшая Юлия завернула меня обратно в автобус, объяснив, что меня ожидает нечто более скромное, хотя и вполне приличное. Так оно и получилось. Меня поселили в гостинице «Жетысу», которая находится на проспекте Абылай Хана. Вообще, я заметил, что истосковавшийся по своему, национальному, казахский народ бросился с упоением увековечивать своих ханов. Каждая улица в Алматы носит название какого-нибудь хана, и меня, выросшего на «Белом сонце пустыни», не покидает ощущение, что я нахожусь в каком-то огромном басмаческом лагере.
Моя гостиница представляла собой классическое совковое сооружение, оживлённое свежим ветром свободного предпринимательства. Когда Юлия сообщила, что мне придётся выложить здесь 30 баксов за вторую ночь, я подумал, что, пожалуй, переселюсь к Вите с Игорем, хотя от названия их гостиницы «Спорт» веяло дешёвым привокзальным б...вом и запахом потных подмышек.
Когда я вошёл в свой номер, свалил на скрипучий пол огромный рюкзак и присел на краешек небольшой женоненавистнической кровати, слёзы умиления выступили у меня на глазах. Всё, буквально всё шептало мне о моём неброском совдеповском детстве: выцветшие обои, ссохшийся в тоске по портвейну деревянный стол с поцарапанной полировкой и вымощенный мелким паркетиком пол, сиротливо прикрытый красным потёртым ковром. Точь в точь такой же ковёр висел когда-то на стене моей комнаты, а я пускал пузыри и бессмысленно угукал, разглядывая его усреднённоазиатские узоры... В туалете полулежала полусидячая ванна, но не было умывальника, и постояльцу предлагалось умываться над ванной. Крохотный унитаз выглядел так жалко, что сесть на него могла только абсолютно бездушная сволочь.
Чтоб вы не сомневались – я в своей жизни вселялся и в куда более скромные апартаменты. Но не за 30 же баксов...
В самый разгар водных процедур раздался телефонный звонок. Чертыхаясь и заливая дворцовый паркет струями воды, я выскакиваю из ванной. Звонит Игорь из своей гостиницы, и мы договариваемся сходить вечером в какой-нибудь ресторан и выпить «прощальную».
Переодетый в чистое, распаренный, я выхожу в душный алмаатинский вечер и безнадежно долго пытаюсь поймать такси на просторном проспекте имени Абылай Хана. За четверть часа мимо меня проехала лишь одна машина со знаком «такси», и та не остановилась. В месте, где я закинул удочку, происходит какая-та странная полуподпольная деятельность по купле-продаже квартир. Вот так, прямо у дороги, напротив гостиницы. Народ толпится, шушукается. Мне предлагают купить какую-то недвижимость в центре города, но я вежливо отказываюсь. Неужели не понятно, что небритый субъект в видавших виды «курортных» брючках и в застиранной красной футболке навыпуск не приобретает недвижимость направо и налево?..
Устав ждать такси, я махнул первому встречному частнику, и он тут же остановился. Вот, где собака зарыта! Как со смехом объяснили мне Витя с Игорем, здесь абсолютно все частники подрабатываю извозом, не заботясь ни о каких формальностях и знаках отличия. Настоящее же «официальное» такси является пижонской штучкой и стоит дорого.
Мужик, к которому я подсел, безошибочно узнал во мне залётного лоха и попросил 300 тенге. Я предложил ему 200, и мы, разумеется, сошлись на 250.
Гостиница «Спорт», как и полагается, расположена в здании Центрального Стадиона. Её комнаты растянулись цепочкой вкруг его гигантской чаши, словно камеры гладиаторов, в которых они, потея от страха, ожидают своего последнего выхода на арену. Стоила такая комната 2$ за ночь, вмещала в себя четверых постояльцев, и кроме коек в ней ничего не было. В такой комнате хорошо пасмурным осенним утром привязывать к крюку под потолком кусок прочной бельевой верёвки.
После недолгих поисков мы нашли крохотный, но вполне приличный на вид ресторанчик. Нам прислуживал очень худой и смуглый мальчишка. Совсем ребёнок. Похоже, золотые зубы у него во рту пришли прямиком на смену молочным. Мы заказали себе салат и по бараньему шашлыку. Мы с Игорем попросили бутылочку «Медвежьей Крови» на двоих, а Витя проявил интеллигентский индивидуализм и взял себе бутылку какого-то особого «Каберне». Сидим, болтаем, вспоминаем Хан Тенгри. Выпиваем за горы, за «боевых друзей» и за будущие восхождения. «Медвежья Кровь», текущая по моим жилам, делает меня сентиментальным, романтическим юношей. Я говорю о пике Корженевской бархатным голосом влюблённого.
Кажется, кто-то не собирался больше на эти сизифовы семитысячники? Никогда, ни ногой?..
Ребята сажают меня в такси, и мы прощаемся. Каких славных людей можно встретить в этих чертовых горах! Я рухнул на койку в своём номере. Боже мой, сегодня утром я проснулся в Базовом Лагере на Северном Иныльчеке... Что за долгий, утомительный день! Включаю телевизор, но не выдерживаю и пяти минут. Щёлкаю выключателем и погружаюсь в сон, словно в тёплое ночное море.
Телефонный звонок сверлит мне мозг, настойчиво выталкивая из небытия. Душная темнота. Полная потеря чувства пространства и времени. Где я? В Израиле? В Одессе? У черта на куличках? На ощупь снимаю трубку. «Вы не хотите провести вечер с девушкой?» – мягкий женский голос словно выписывает эту фразу светящейся палочкой в густом мраке, окутывающем мой мозг. «Нет..» – отвечает автопилот, я откидываюсь на подушку и погружаюсь, погружаюсь... «Почему нет?...» – мелькает последняя вялая мысль, словно щепка, исчезающая в водовороте. Я перестаю существовать.
***
У меня прямо из окна номера видны белые вершины далёкой горной цепи. Долго валяюсь в постели, пялясь в белёсый потолок и не находя причин выходить в этот беспокойный мир из моего сонного логова. Расслабуха. Наконец природа берёт своё, и я нехотя бреду в туалет. Попытка слить воду не удалась – унитаз умирает медленной мучительной смертью, и у него отказывают различные органы. Докладываю о поломке в «вышестоящие инстанции» и выхожу в душное алмаатинское утро на поиски завтрака. Похоже, все кафе ещё закрыты, и я просто гуляю по утренним, шуршащим южной зеленью улицам. Один в чужом городе, свободный, как птица. Что за странное, давно забытое ощущение. Найдя открытое кафе, сажусь у окна и заказываю омлет с сосисками. Хрупкая казахская девушка с утренней ленцой в движениях приносит мне чашку пахучего чая. Две её подруги, русская и казашка, с интересом разглядывают меня, пытаясь угадать, откуда и каким ветром занесло меня в их края.
Мой жаркий, янтарный, тягучий как мёд среднеазиатский день был заполнен медленным кружением по тихим переулкам, наблюдением за жизнью людской и размышлениями о вечном. Кроме того, (не редко) я кушал, пытаясь придать своим трапезам максимально аутентичный характер. За те пару дней, что я провёл в Алматы, я съел больше бараньих шашлыков, чем за всю прошедшую жизнь. Я вкусил с древа познания Добра и Зла, и никто больше не сможет убедить меня в том, что если кусочки куриного мяса нанизать на деревянную палочку, это превратит их в шашлык. Эта жалкая пародия годится лишь на то, чтобы её заливали безалкогольным пивом в компании резиновой женщины...
Я мало что знаю о Средней Азии. В кулинарном плане мои знания ограничены шашлыком, кумысом и длинными, как мяч для игры в регби, полосатыми азиатскими дынями. Я очень обрадовался, когда в своих бесцельных скитаниях набрёл на супермаркет «Юбилейный», тот самый, с которого начиналось моё знакомство с этой страной. Первым делом я отправился в молочный отдел и взял там пакет кумыса. Затем я отправился в кондитерский отдел. Здесь я попал в довольно затруднительную ситуацию. Невыразимо роскошные, богато украшенные торты тянулись стройными рядами. Груды сказочных пирожных и сочащихся мёдом восточных сладостей сбивали с толку мою систему наведения, и я носился вдоль этого праздничного прилавка, как ракета, потерявшая цель. Наконец, я взял себя в руки и стал рассуждать логично. Чем тешит себя нормальный восточный владыка, сидя на высоких подушках в окружении своих пышнобёдрых жен? Я уверен, что одной рукой он подносит ко рту пиалу кумыса, а жирными пальцами другой запихивает себе в пасть куски пахлавы, нежной, как дыхание новорожденного арабского жеребёнка. Полный решимости устроить себе в номере «Тысячу и одну ночь» в натуральную величину, я покидаю «Юбилейный» с пакетом кумыса и коробкой пахлавы.
В молочном отделе я заметил ещё одну местную диковинку – напиток из верблюжьего молока, который называется «шубат», но, поколебавшись, решил отложить его покупку на завтра. Хорошего – понемножку, решил я, опасаясь за свой желудок.
Кумыс оказался кислым, освежающим напитком, а пахлава напоминала один из видов наших арабских сладостей, но с более нежным вкусом. Напитавшись молоком степной кобылицы, я растягиваюсь на кровати, щёлкаю дистанционкой и смотрю по «Нейшанл Джеографик» трогательный и печальный фильм о судьбе гордого и наивного африканского племени Карамоджа. Некогда гибкие охотники и неутомимые плясуны с обнаженными шоколадными телами, они попали под каток гражданской войны, которая не имела к ним никакого отношения. Раздавленные ошмётки их жизнерадостного племени вымирают от голода и болезней, и серолицые костлявые женщины прячут свои потерявшие плодородие тела под грубыми балахонами в угоду ханжеским обычаям пришельцев с севера, которые, походя истребляя неверных варваров, неизменно заботятся об их нравственности. Фильм навевает на меня меланхолию.
Моя сиеста была бесцеремонно прервана стуком в дверь – явились Володя с Ирой, вернувшиеся с Иссык-Куля. Мы немного поболтали, я вернул Володе его снаряжение, и мы договорились встретиться вечером для прощального ужина.
Прощальный ужин мы затеяли в кафе с символическим названием «Тянь Шань». Это такое кафе под открытым небом. Точнее – цепь небольших кафешек, длинная, как Тянь Шаньская гряда. Мы выбрали себе столик возле огромного аквариума, в котором тугие форели нарезали круги, поддерживая себя в аппетитной спортивной форме. Колючие раки с поджатыми хвостами вылупили на нас удивлённые глазки на тонких стебельках. Нам принесли неизменный бараний шашлык и по стопке коньяка, который мы тут же и хлопнули за здоровье Хан Тенгри. Наконец, я услышал о Володином восхождении из первых уст. Он стартовал с седловины в компании Сан Саныча по кличке Таракан и двух его подопечных корейцев. Сан Саныч попросил Володю идти первым, и Володя побежал. Когда он обернулся в очередной раз, то увидел, что таракановские корейцы повернули назад, и дальше весь путь до вершины Володя прошёл в гордом одиночестве. 8 часов на подъём и 3 часа на спуск. Проще пареной репы...
От крохотной рюмки коньяка осталось острое чувство недосказанности. Кроме того, мы ещё не выпили за будущие восхождения. Поэтому мы зашли в Юбилейный и купили по рекомендации одного молодого человека бутылку якобы лучшего местного полусладкого. Что-то типа «Турайское Бриллиантовое». Затем, в надвигающихся сумерках мы разыскали ларёк с дынями и купили дыню, но не длинную полосатую, а обычную, хотя и крупненькую. Не везёт мне с полосатыми дынями – хоть плачь! Прихватив добычу, заваливаем ко мне в номер и ведём задушевные беседы до тех пор, пока дыня не начинает лезть у нас из ушей, а «Турайское Бриллиантовое» литься из носа.
Между нами: ну и фуфло же это «Турайское Бриллиантовое» ...
***
Утро принесло с собой вкус вялой дыни, вымоченной в «Турайском Фуфловом». Долго полощу рот, пытаясь избавиться от воспоминаний о вчерашних посиделках. Принимаю душ и выхожу на не по– утреннему жаркие улицы в поисках завтрака. Усаживаюсь за летний столик и заказываю глазунью и чай с песочным пирожным. Пирожное, похоже, знало лучшие времена. Это было старое, умудренное жизнью пирожное, с которого сыпался песок. Оно так уверенно легло на вчерашнее «Турайское», словно всю жизнь ждало с ним встречи... И всё же, я не теряю надежды, что этот последний день моего путешествия сможет принести мне радость и успокоение. После завтрака я отправляюсь на Медео – высокогорный спортивный комплекс, ставший в своё время одним из символов Советского Казахстана, как Байконур или Семипалатинск. Ну, может, чуть поскромнее...
Сам Великий Конькобежный Стадион произвёл на меня угнетающее впечатление. В окружении жарких, дымчатых, летних пейзажей, его огромная серая чаша кажется давно и безнадёжно севшим на мель кораблём. Я побродил по нему без интереса и покинул без сожаления. Затем я дал уломать себя одному гиперактивному водителю, и он повёз меня в горы, туда где расположен местный высокогорный курорт Чимбулак. Кроме меня, в машину заманиваются пять женщин самых разных форм и возрастов. Все они одеты в розовые платья и костюмы. Розовый цвет сейчас в фаворе у казахских женщин, и алмаатинские модницы бродят по улицам бело-розовыми стаями, словно фламинго на берегах озера Танганьика. Возбужденный таким обилием женского пола, водитель решительно берёт на себя функции экскурсовода. Он высаживает нас у огромной плотины, перегораживающей всё ущелье «от уха до уха» и с гордостью рассказывает нам историю её создания. Витя, который всегда всё обо всём знает, рассказывал мне как-то об этой плотине и утверждал, что она была создана направленным ядерным взрывом. Наш водитель решительно отринул версию о ядерной природе взрыва, но лицо его при этом стало озабоченным.
Четыре последовательных каскада канатной дороги ведут от посёлка Чимбулак к подножию ледников Ала Тау. Ни с чем не сравнимое наслаждение – тихо парить в прохладном воздухе над тёмно-синими свечками Тянь-Шаньских елей. Пушистый ковёр луговых фиолетовых цветов небрежно брошен к подножию цветных скалистых гор.
Я сошёл на последней станции, куда добираются лишь самые любопытные и неэкономные отдыхающие. Общительный абрек пытается соблазнить меня чаем, газированными напитками, хоть чем-нибудь. В неудержимом порыве быть полезным, он пытается помочь мне сфотографироваться на фоне гор, не понимая, что моя камера снаряжена автоспуском, что я не ищу ничьей помощи и, что я пришёл сюда, чтобы попрощаться с горами. То есть – я хочу быть один. Я иду по тропе к большому старому снежнику с натаявшим тусклым озерцом, поднимаюсь выше по склону и сажусь на тёплые замшелые камни. Горы успокаивают меня, и от утреннего раздражения не остаётся и следа. «Турайское Фуфловое» мирно свернулось калачиком и более не тревожит меня. Благодать!
Внизу я заметил слабое шевеление: на снежник выползли два нарядных розовых жучка. Это – мама с дочкой, которые ехали вместе со мной в такси. Не видя меня, мама непринуждённо садится пописать. Всё естественно в этом солнечном божьем мире, где подрагивает прохладный парус неба, и чёрные бархатистые бабочки свивают свой бесконечный спиральный узор. Я продолжаю медитировать. Мама с дочкой уходят на восхождение на сыпучую крутобокую морену, возвышающуюся над снежником, а им на смену приходит корейский детский сад, который долго, с интересом и с недетской серьёзностью постигает суровую природу гор. Пора спасать маму с дочкой. Я вздыхаю, спускаюсь на снег и карабкаюсь вверх по морене.
Горовосходительницы встречают меня с радостным облегчением. Обратно в Чимбулак я спускаюсь пешком вдоль поросшего еловым лесом гребешка.
Нарядный тихий посёлок украшен причудливыми деревянными усадьбами местных владык. На часах 3 часа дня, и я, наконец, голоден. Сажусь в открытом кафе, на терассе под матерчатым навесом, и заказываю себе солянку, шашлык и чай с лимоном. За соседним столиком расположилось странное коротко остриженное создание неопределённого пола. Крупное светлое лицо было интеллигентным и целеустремлённым. Создание писало записки в толстую переплетенную тетрадь и изредка прихлебывало чай. По некоторым особенностям рельефа я определил, что оно было женщиной. Писательница или журналистка – «навскидку» угадываю я. Возможно – феминистка или нетрадиционно ориентированная женщина. Интересное и благородное создание, не часто встречающееся за пределами европейских академических заповедников.
Пока я боролся с мясом барана, существо допило чай, решительно захлопнуло пухлую тетрадь и расплатилось с официанткой.
От Чимбулака к Медео мне предстояло спускаться вдоль шоссе. Когда я проходил мимо последних окраинных особняков, впереди замаячила фигура, в которой я тут же узнал ту самую «загадочную незнакомку». Немного поколебавшись, я решил догнать её. Во-первых, спуск обещал быть длинным и скучным, а, во-вторых, она меня заинтересовала. Сделать это оказалось не так просто – незнакомка летела широким мужским шагом. Пока я «давил на газ», пытаясь её настичь, в голове у меня прокручивались различные вступительные фразы, и все они казались мне идиотскими. Я никогда не умел лихо подкатить к незнакомому человеку, тем более к женщине. Когда я поравнялся с ней, она обернулась.
«Вы спускаетесь в Медео?» – спросил я, прекрасно сознавая, что по этой дороге больше спускаться некуда. Она настороженно кивнула. Я выглядел большим заросшим мужиком не первой свежести, и это ясно отразилось в её глазах. «Я тоже спускаюсь в Медео» – сказал я – «я могу составить вам компанию?» Я говорил спокойным, доброжелательным тоном, не оставляющим человеку ни малейшего повода отказаться от моей компании, и она согласилась.
К своему удивлению, я обнаружил, что она говорит по-русски медленно и с сильным акцентом. Мы разговорились, и я узнал, что она – чешка и учится на политологическом факультете института международных отношений. Как я и предполагал, она оказалась интересным человеком, эта чешка. В свободное от учёбы время она путешествует по миру, отдавая предпочтение «горячим точкам» и тем странам, которые находятся в переломных точках своей истории. Сытые и спокойные страны её не интересуют – сообщила она мне с пренебрежительной гримаской. Это была сильная и целеустремлённая личность, по самую макушку набитая либеральными университетскими идеями.
Я с интересом выслушал её рассказ о поездке в Закавказье – по Грузии, Армении и Нагорному Карабаху. Похоже, девушка мало чего боялась в этой жизни. Я даже подумал, что, быть может, её подчёркнуто мужеподобный облик – лишь хорошо продуманная мимикрия, совсем не лишняя в подобного рода путешествиях. Политические взгляды её не отличались оригинальностью и вполне подходили европейскому «отличнику политологической учёбы»: все бедные – хорошие, все слабые – правы, а богатые и сильные – кругом виноваты. Иронические реплики, которые я себе изредка позволял, она встречала со спокойной снисходительностью человека, которого научили истине в последней инстанции.
Пожалуй, интереснее всего было услышать из первых уст историю отделения Словакии от Чехии. Само собой, она не отрицала право словаков на самоопределение, но всё же высказалась в том духе, что зря они всё это затеяли. По её мнению, словакам неплохо жилось в компании со «старшим чешским братом» и они многим ему обязаны. Если учесть, что сама она была чешкой, я не нашёл в её мнении ничего неожиданного... Даже самым пламенным либералам не чуждо ничто человеческое, и это с лёгкостью обнаруживается, когда речь заходит о вещах, затрагивающих их самих непосредственным образом.
«Всё это прекрасно, но какое это имеет отношение к Хан Тенгри?» – раздраженно может спросить читатель. Всё, абсолютно всё, что происходило со мной в это лето имело отношение к Хан Тенгри. Эта девушка сообщила мне, что её друзья, тоже чехи, штурмовали Хан Тенгри из южного базового лагеря. Я знал, что среди погибших в лавине было 5 чехов, но не стал говорить ей об этом.
Кто знает, может быть, это были не её чехи.
***
По дороге в гостиницу я зашёл в «Юбилейный» за шубатом. Трижды я обшарил весь молочный отдел – шубат, как верблюдица языком слизнула. Я ещё мог смириться с потерей длинных полосатых дынь – дыня, она дыня и есть – но уехать, не попробовав верблюжьего молока, я никак не мог! На мой запрос работница молочного отдела извинилась и сказала, чтобы я не беспокоился – шубат завтра подвезут.
«Завтра будет поздно...» – мрачно сказал я – «завтра я улетаю». «А вы купите его в лотке на улице» – посоветовала жалостливая работница – «там продаются точно такие же бутылочки». Я не очень люблю покупать молочные продукты на улице, особенно, когда назавтра мне предстоит многочасовый перелёт. Я прекрасно понимал, что молоку верблюдицы не пошёл на пользу весь этот длинный жаркий день, проведенный им в сомнительного вида уличном холодильнике, но выбора не было.
В одном из ларьков напротив кафе Тянь-Шань я обнаружил этот экзотический напиток, добавил к нему пакет пухлых масляных круасонов и приволок всё это богатство к себе в номер. Кроме того, что мне хотелось экзотики, я чисто по-человечески хотел жрать. Широким веером я метнул на стол пышные круасаны и свернул крышечку с бутылки. И тут случилось неожиданное: шубат рванулся из бутылки мощной пенной струёй. Никакое шампанское рядом не стоит с этим напитком! Он бил наружу, как из пожарного брандспойта. Я попытался зажать его рукой и стравить давление... Куда там! С тем же успехом я мог бы попытаться оседлать дикую верблюдицу! С трудом сдерживая пенный напор, я метнулся в туалет и направил струю в ванную. Я почувствовал облегчение, сродни тому, что испытывает любитель пива в сходной ситуации. Ванна постепенно наполнялась пушистыми облаками пены, а поток всё не ослабевал. Когда, наконец, он прекратился, в бутылке оставалось не более трети неистового зелья, а в ванной можно было бы выкупать небольшого верблюжонка. Я, со вздохом, посмотрел на остаток и вернулся к столу.
Всё, абсолютно всё дышало предательством: шубат подло сбежал, а прекрасные на лицо круасаны оказались злыми внутри. Я запиваю их острым, как подбродивший кефир, напитком, которого осталось меньше одного стакана. После такого ужина – хоть два пальца в рот. Я устало опускаюсь на кровать, и тут меня разбирает дикий смех. Что за странный это был день?! Он начался с «Турайского Фуфлового» и закончился верблюжьим шампанским, но это был длинный и насыщенный день, который вместил в себя и бесшумное парение над фиолетовым цветочным ковром, и цветные остроконечные горы с оплывшими подушками ледников у подножия, и случайное знакомство с интересным человеком. Это был полноценный день свободного человека.
Я люблю тебя, Хан Тенгри! С тобою каждый день был равен жизни.



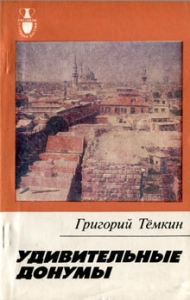
Комментарии к книге «Хан Тенгри с севера. Негероические записки», Ян Рыбак
Всего 0 комментариев