Андре Лори Искатели золота
ГЛАВА I. На судне «Дюранс»
Судно «Дюранс» трансатлантической компании, выйдя из залива Адена, уже два дня летело на всех парах по Индийскому океану, держа курс к порту Дурбан. Был вечер, после обеда. На корме шло большое празднество с благотворительной целью. Пассажиры всех классов, имевшие счастливую возможность подышать посвежевшим воздухом после нестерпимой арабской жары, разместились рядами перед небольшим импровизированным театром.
Взоры всех были устремлены на сцену, опустевшую на несколько минут, и утомленное внимание слушателей казалось вдруг возбужденным. Подходили к самому интересному месту программы. До сих пор зрители слушали и аплодировали, больше из приличия, монологу «l'Obsession», произнесенному неуверенным голосом молодым французом, Генрихом Массеем, только что выпущенным из центрального училища искусств и мануфактур; затем — сонате Бетховена, исполненной на рояле его сестрой, Колеттой, не особенно талантливо; соло флейты, «попурри» из «Dame Blanche», сыгранному не очень уверенно Брандевином, марсельским коммерсантом; арии «Yean Bart», пропетой грубым голосом самим командиром, Франкером, и многим другим вещам все в том же роде. Публика рукоплескала не столько талантам любителей-артистов, сколько их усердию.
Все прекрасно понимали, что тут важно было найти предлог, чтобы сделать необходимый сбор для облегчения жестокого несчастья: помощник кочегара-машиниста, вследствие неосторожности, погиб во время стоянки «Дюранса» у Обока, где судно делало запас угля. После него осталось многочисленное семейство. Эта трагическая смерть произвела на всех сильное впечатление; все отнеслись сочувственно к ужасному положению несчастной вдовы, матери четырех детей. Видя всеобщее сожаление, командир решил воспользоваться им, чтобы помочь бедной женщине. Обратившись к содействию желающих принять участие, он устроил концерт, конечно, с неважной программой, но зато с такими высокими ценами на билеты, которые могли соперничать с оперой Ковент-Гардена в Лондоне.
Однако в этом представлении фигурировали не только флейта, пианино и монологи. В середине программки, разукрашенной рисунками, значилось крупными буквами:
СЕАНС ФОКУСНИЧЕСТВА
испол. доктором Ломондом.
Вот этого-то номера публика и ждала с большим нетерпением. Зрелища, в которых играют роль ловкость и умение вызвать сверхъестественные явления и поразить ими ум, всегда пользуются необыкновенным успехом.
Эта блестящая мысль, поместить в программу фокусничество, пришла в голову Жерару Массею, мальчику четырнадцати-пятнадцати лет. Сам доктор не додумался бы до этого. От природы меланхолик, скромный и довольно скрытный, доктор Ломонд представлял из себя совершенную противоположность болтливому хвастуну, который подвизается на подмостках с кубками и стаканами.
Страстно влюбленный в науку, он все свободное время посвящал любопытным исследованиям и упражнениям. Ни одна из отраслей знаний не казалась ему недоступной или не стоящей внимания; его кабинет был переполнен всевозможными ретортами и колбами; тут можно было найти коллекции по геологии, ботанике, образчики доисторической эпохи, скелеты, гербарии, телескопы, микроскопы, редкие книги и прочее, — все это указывало на тщательность и разнообразие его занятий.
Магия интересовала его наравне с другими науками. Подобно молодому Гёте, ему хотелось познать тайны кабалистики. Однажды, во время своих эксцентричных работ, он встретился с очень искусным физиком итальянцем, который был в то же время и фокусником. Последний посвятил его в тайны своей профессии, и доктор усвоил их с большой легкостью.
Но вследствие врожденной скромности, Ломонд не любил распространяться о своих работах и талантах, а тем более он скрыл бы от всех свое знание фокусов, если бы в дело не вмешался молодой Массей.
За долгие часы плавания между ученым доктором и юным гимназистом установились самые дружеские, товарищеские отношения. Несмотря на разницу лет и темперамент (Жерар обладал пылкой и восприимчивой натурой, тогда как доктор отличался спокойствием и сдержанностью), Ломонд признал в нем ум, родственный своему, а потому и почувствовал большую симпатию к этому честному, развитому и любознательному ребенку, старающемуся уяснить себе тысячи феноменов, поражающих его, не из простого любопытства, а из потребности жажды знаний.
Понемногу Жерар получил право на вход в знаменитую каюту доктора, где этот последний, не стесняясь, производил при нем свои химические опыты; он объяснил также Жерару некоторые явления, вызываемые внушением, которыми он особенно занимался последнее время. Увлекшись однажды, он показал ему несколько замечательных фокусов с картами, где играли главную роль ловкость и магнетизм. Восторгу молодого ученика не было границ, и с этой минуты он стал считать доктора самым великим человеком во всей вселенной. Он не менее восхищался и географическими познаниями доктора. Жерара особенно интересовала Африка, которую он видел только издали, проезжая по Суэцкому каналу и Красному морю, и к которой он должен был пристать со своими родными с западной стороны Мозамбикского пролива. Он очень усердно изучал морские карты судна и своего атласа. Он даже нарисовал себе карту величиной с ладонь с обозначением контуров берегов, и разрисовал их различными красками, смотря по европейским национальностям, занимающим их. Он постоянно имел при себе этот рисунок и, глядя на него, припоминал грустную историю медленных завоеваний Африки великими путешественниками, завоеваний, которые представляют собой яркую страницу истории настоящего столетия.
Они начались Францией с севера — Египта и Алжира, на юге — Голландией и Англией с мыса Доброй Надежды. Затем шли: открытие Судана и Страны Озер в восточной части материка, Конго и Нигера — с запада, далее, эмиграция голландских колонистов с юга Африки на север; португальцы, попадающие одновременно с восточной и западной стороны; Германия и Италия, принимающие участие в этом движении, одна — через Гвинейский залив, другая через Эритрею.
Весь этот наплыв европейцев, их усилия, сопряженные нередко с геройскими подвигами и жертвами, — все было направлено к этому таинственному материку, хотя до сих пор не привело еще ни к каким результатам, если не считать появления новых точек и полос на географической карте.
Жерар мысленно сроднился с отважными путешественниками. Чувствуя близость Африки, он мечтал, что, быть может, и ему удастся пойти по их следам и потрудиться для великого дела, начатого ими. Конечно, и во всем этом он считал доктора Ломонда своим оракулом.
А потому не мудрено, что когда речь зашла о программе концерта, Жерар не колеблясь заявил:
— А я знаю такую вещь, перед которой все ваши скучные стихотворения и сонаты — ничто; то, что я придумал, живо наполнит целый ящик кучей золота для несчастных.
— Что же это может быть, хвастун ты этакий? — сказала его сестра Колетта, не придавая значения его словам.
— Фокусы с картами, внушение…
— Только-то! — рассмеялся господин Массей. — Однако ты, брат, ловок. Но ты забыл главное: чтобы было заячье рагу, нужно сначала достать зайца. Ну, скажи, пожалуйста, кто возьмет на себя роль фокусника? Уж не ты ли?
— Отчего же и не я?! — с важностью сказал гимназист. — Я могу быть прекрасным помощником… — Тут он рассказал о докторе, о его изумительной ловкости, его обширных познаниях…
— Он делает все, что хочет. Наше судно и мы вместе с ним очутимся в его руках, если он этого пожелает, — уверенно закончил Жерар.
— О! о! — вскричал капитан Франкер, — вот так таланты, совсем из ряда вон выходящие. Я, конечно, знал, что наш дорогой доктор серьезно занимается науками: во время наших многочисленных плаваний я не раз убеждался, что познания доктора Ломонда, как выражается его молодой почитатель, действительно поразительны. Но я никогда не думал встретить в нем второго Боско или Роберта Гудина.
— Однако все возможно! — сказал господин Массей. — Вы же сами восхваляете его необыкновенные способности?
— Да, действительно, это правда. Его пациенты удивляются сами, с какой легкостью он совершает над ними всевозможные операции. После всего очень возможно, что он, при такой ловкости в пальцах, способен и к фокусам; в самом деле, этому человеку все удается.
Капитану весьма понравилась мысль оживить свой концерт выдумкой Жерара, и он добавил:
— В сущности, это действительно находка. Если только Ломонд согласится принять участие, то наше дело выиграно, хотя, конечно, немаловажную роль будет играть и музыка.
— О! капитан! — воскликнула Колетта. — Прошу вас, не говорите о музыке. Уверяю вас, что я ни на минуту не задумывалась бы, если бы предложили выбор между хорошо исполненным фокусом или искаженной сонатой.
— О! мадемуазель! — запротестовал капитан Франкер.
— Нет, нет, — сказала Колетта совсем искренне. — Я отлично знаю, что вовсе не гожусь в музыкантши. Если бы вы знали, сколько от страха прибавится фальшивых нот к тем ошибкам, которые я обыкновенно делаю, то, наверное, вы вычеркнули бы из программы несчастную сонату! — добавила молодая девушка.
— Вычеркнуть вашу сонату? Ни за что! — ответил капитан. — Это один из самых лучших моих номеров!
— Ну, что ж, Колетта, — рассудил господин Массей, — покорись, дитя мое; если твое самолюбие пострадает, утешай себя, что это ради бедных.
— Господа, — воскликнул Жерар, которому не стоялось на месте, — не отправиться ли нам сейчас к Ломонду?
— Полно, мой мальчик, — возразил его отец. — Доктор теперь в своей каюте; нельзя же так врываться к ученому человеку во время его занятий.
— Но, папа, — возразил Жерар с очаровательной уверенностью, свойственной молодежи, которая воображает, что ей всюду рады, — я вхожу к Ломонду, когда мне хочется, и он всегда очень рад видеть меня.
— Это ты так думаешь! Но с годами ты перестанешь верить радости людей, которую они показывают из воспитанности даже тогда, когда им надоедают непрошенными визитами.
— Пойдемте со мной! — не унимался Жерар, ничуть не смущенный отцовскими словами, — и вы увидите…
Собственно говоря, всем хотелось поскорей узнать, удастся ли задуманный проект, а потому многие и решились в кои веки раз прервать занятия доктора, и к нему отправилась целая делегация под предводительством Жерара.
Ломонд показался сначала очень смущенным такой неожиданной просьбой и начал уже отказываться. Но Жерар так опечалился, что доктор в конце концов согласился принять участие в празднике.
— Пусть будет по-вашему, — сказал он, вздохнув, — я согласен взять на себя роль фокусника и балагура… Но, Жерар, я не ожидал от вас, что вы меня выдадите!
— О! доктор! неужели же я в самом деле злоупотребил вашим доверием? — огорчился Жерар.
— В наказание вы должны быть моим помощником, — улыбнулся доктор. — Вы сами заслужили его.
— Ах, как я рад! — воскликнул Жерар. — Неужели это правда, вы позволяете мне быть вашим помощником? Какое счастье! Я не уступлю моего места никому, даже за золото всего Трансвааля. Ты увидишь, Колетта, и вы все увидите, какие мы покажем вам чудеса! Вы не поверите своим глазам и не будете знать, наяву это или во сне!
— Вот уж он начинает свое заманивание! — сказал доктор. — Уймите ваш пыл, Жерар; после такой громкой рекламы мои скромные фокусы покажутся совсем ничтожными.
— Ах! чего вам бояться? — вздохнула Колетта, которую преследовала ее соната, точно кошмар. — Представьте себе, доктор: капитан и мама, все решили, что я должна сыграть сонату «Clair de lune»; но чем больше я работаю над ней, тем меньше она дается мне. Я так боюсь надоесть всем!..
— Выбор кажется мне прекрасным, — сказал доктор серьезно, — и, что касается меня, то я буду в восторге прослушать такое дивное произведение.
— Да, если бы оно было порядочно сыграно, то конечно!
— Знаешь что, — вмешался Жерар, — вывеси над пианино объявление с просьбой «извинить ошибки исполнительницы из уважения к цели».
— Ошибки! вы бы лучше подумали о своих собственных ошибках, Жерар, о тех промахах, которые мы вместе с вами натворим! — сказал доктор Ломонд.
— А! уж этого-то мне бояться нечего! — проговорил Жерар с уверенностью. — Зачем себя унижать напрасно; я убежден, что мы преподнесем им «самое лучшее блюдо»!
— Подумайте, какое тщеславие! — сказала Колетта. — А ведь он прав! Хорошо, что хоть вы-то заинтересуете зрителей и доставите им удовольствие.
— Вы в этом отношении счастливее нашего, — ответил доктор и мысленно добавил: «Достаточно взглянуть на это очаровательное лицо, выражающее такой наивный страх не понравиться, чтобы остаться довольным ее игрой, какова бы она ни была».
Таким образом шли долгие беседы, споры и соображения. Наконец, после всех переговоров артистов-любителей, наступил торжественный час. Большая часть программы прошла без особенного успеха, но довольно гладко.
Два матроса внесли на сцену белый деревянный столик, на котором были поставлены графин с вином, стаканы и еще несколько вещей. Ломонд и Жерар, выйдя из публики, взошли на эстраду.
Высокий, стройный блондин в безупречном костюме, доктор производил впечатление властного и незаурядного человека; и все-таки среди публики нашлась кумушка, которая начала критиковать его, находя его внешность не соответствующей «настоящему» фокуснику, а его приборы — незначительными.
— Это Мартина пускается в рассуждения! — проворчал Жерар, лицо которого сияло от радости и заранее предвкушаемой победы. — Но мы поразим ее!
— Вот графин, в котором смешали воду с вином! — начал доктор слегка насмешливым тоном. — Не возьмется ли кто-нибудь определить, в каких количествах сделана смесь?
— Попробовав, я сразу могу определить! — вызвался длинный и толстый субъект, который незадолго перед тем разыгрывал на флейте невинные мелодии.
— Жерар, потрудитесь наполнить этот стакан и передать его.
Толстяк попробовал и прищелкнул языком.
— Превосходное Понте-Кане! — объявил он. — Жаль, что в него подлили воды на треть.
— Мы можем проверить, правильно ли вы определили дозу примеси! — сказал Ломонд. — Жерар, наполните, пожалуйста, эти стаканы.
Жерар взял графин и вылил содержимое в три стакана.
— Я могу вас поздравить, милостивый государь, с тонкостью вашего вкуса, — продолжал доктор, — вы совершенно верно определили пропорцию примеси. — Действительно, один из стаканов оказался наполненным чистой водой, в других же двух было вино.
Все ахнули.
— Как же это он мог сделать?
— Я видел, как он наливал!
— Я следила за каждым его движением!
— Не может быть!
— Но ведь стол ничем не закрыт! Однако не чародей же он! Я решительно ничего тут не понимаю! — и так далее, и так далее.
Среди этого шума послышался голос того, который пробовал:
— Господин доктор, не согласитесь ли вы влить в графин содержимое в стаканах?
— С удовольствием. (Жерар исполнил требование.)
— А теперь позвольте мне самому разлить?
— Пожалуйста.
Толстяк влез на эстраду, взял графин и разлил смесь по стаканам; но на сей раз жидкость оставалась смешанной. У него появилась торжествующая улыбка:
— А! вот видите!
— Значит, вы не сумели разлить, — пояснил доктор.
В одну минуту доктор влил опять в графин жидкость и разлил ее по стаканам, и на этот раз вино и вода опять были отделены.
Со всех сторон раздались аплодисменты. Что же касается толстяка, он остался неудовлетворенным; осмотрев подозрительно ножки стола, остававшегося незакрытым, он пошел обратно к своему месту, ворча себе: под нос:
— Тут что-то не так, неясно!
— Э! сударь, если бы все было ясно, так не для чего было бы давать представление, — заметил сердито его сосед, господин Массей, который не выносил воркотни, когда все веселились.
— Никто лучше меня не умеет отличить подделки вина, — не унимался сварливец, который до путешествия находился при складах вина в Марселе, — и в моих подвалах я никогда еще не встречал ничего подобного.
— Верю вам, черт побери! А потому, будьте покойны, вам никто и не дал бы двадцати франков, чтобы посмотреть на ваши манипуляции. Однако будем слушать нашего волшебника.
— Я боюсь, господа, что этот несложный опыт отнял у нас слишком много времени! — послышался опять голос Ломонда. — Интересно было бы узнать, который теперь час?
И так как многие вынули свои часы, он остановился на часах своего критика:
— Какой прекрасный хронометр, — заметил он, — позвольте мне рассмотреть его.
Жерар бросился к нему, и негоциант, очень польщенный, передал мальчику свои часы. Но, увы! пока тот собирался передать их своему патрону, он поскользнулся и растянулся на полу во весь рост; часы упали вместе с ним и разбились вдребезги.
— Неуклюжий! — воскликнул Массей в отчаянии. Многие из зрительниц вскрикнули, а негоциант позеленел от злости.
— Какое неприятное приключение, — сказал доктор своим ровным голосом, между тем как Жерар на корточках собирал куски, еле сдерживаясь от смеха, — но вы можете быть уверены, милостивый государь, что я один отвечаю за все. Я берусь в самое короткое время возвратить вам совсем такие же часы.
— Да? — грустно вздохнул марселец, еще не опомнившийся от горя. — А мой вензель? А мой девиз: «Место молодым!», которые были там выгравированы, разве вы можете мне их восстановить?
— Конечно, — ответил Ломонд своим мелодичным голосом. — Ну, а эти осколки, они теперь все равно больше никуда не годятся, лучше их истолочь в порошок.
И, взяв ступку, стоявшую у него на столике, он принялся колотить остатки часов с невозмутимым спокойствием. Затем передал ступку своему помощнику, и Жерар преспокойно истолок их в порошок.
— Вот и отлично; теперь, Жерар, избавьте нас от этого ненужного предмета. Не возьмется ли кто-нибудь подержать его?
Между всеми лицами, устремленными на него, он остановился на бледной застенчивой девочке, которая сидела возле мадам Массей, прижавшись к ее плечу.
— Вот как раз особа, которой можно доверить охрану ценной вещи; думаю, что я не ошибаюсь. — И, не дожидаясь ответа, Жерар водворяет ступку на колени испуганной девочки, в душе очень довольной пофигурировать в представлении.
В ступке был порошок, образовавшийся из золота, стекла и стали.
— Прекрасно! — сказал Ломонд. — Теперь, мадемуазель, потрудитесь попросить у вашей соседки батистовый носовой платок с кружевами, который у нее в руках, и прикройте им пока ступку так, чтобы ни одна песчинка из моего порошка не улетучилась, а мы перейдем к другим упражнениям.
— Так, — проворчал купец, — а я все-таки не могу понять, каким образом все эти уловки возвратят мне мои часы!
— Вот колода карт, — начал доктор, — они совершенно новые и еще, как вы сами видите, заклеены; значит, колода должна быть полной. Не соблаговолите ли вы, мадемуазель, — обратился он к Колетте, — назвать мне какую-нибудь карту?
— Король бубен! — сказала Колетта, не раздумывая.
— Потрудитесь разорвать обертку и найти ту карту, которую вы сейчас назвали.
Колетта тотчас же распечатывает колоду, ищет, считает, пересчитывает все карты, но короля бубен не находит.
— Странно! — говорит доктор. — Не уронили ли вы его на пол?
— О, нет, не думаю, — ответила Колетта, оглядываясь вокруг себя. Начинают все искать, рыться. Девочка хранительница ступки, тоже засуетилась; платок у нее соскальзывает и падает; и пока она наклоняется, чтобы поднять его и положить на место, ее соседка вскрикивает:
— Вот он! Он здесь, король бубен!
— Где?
— На дне ступки.
— Не может быть!
— Нет, правда! — говорит девочка в восторге, забыв свою застенчивость. Она берет карту и хочет отдать ее доктору, как вдруг в это время раздается удивленный возглас мадам Массей:
— Часы!
Все встают и окружают ее. Вместо порошка на дне ступки лежат драгоценные часы без всякого изъяна, без единой царапинки.
Их передают из рук в руки; наконец они доходят до своего хозяина. После первого изумления раздаются неистовые аплодисменты. Все было проделано с замечательным искусством.
Но владелец часов все еще оставался недовольным.
— Кто мне поручится, что они стоят тех? — говорил он, раскрывая часы, оглядывая их со всех сторон и взвешивая в руке с видом человека, который не даст провести себя.
— Да ведь это и есть ваши прежние часы, — говорит господин Массей, смеясь, — неужели вы все еще сомневаетесь?
— И вы хотите, чтобы я поверил, что их можно было починить в пять минут? Я не так глуп! Не на такого напали, сударь!
— Да их и чинить-то не пришлось, так как им не было сделано никакого вреда.
— А! но ведь у меня есть, кажется, глаза! Я сам видел, как они упали! А когда их толкли, у меня даже мороз пробежал по спине!
— Вам только казалось, что вы это видите; неужели вы не понимаете, что доктор Ломонд заставил вас смотреть на все не своими глазами, что в этом именно и состоит сила фокусника?
— Как! так он растолок не мои часы?
— Ну, конечно, нет!
— Так в чем тогда его заслуга, что он возвратил мне их в прежнем виде? Этак я бы сделал! — сказал толстяк, который, уверовав в волшебство, разочаровался, узнав правду.
— Попробуйте! Эти вещи, как вы сами видите, особенно веселят публику.
— О! мне некогда заниматься такими пустяками, — ответил купец. — Вы знаете, что каждый мой рабочий день доставляет мне по крайней мере два луидора.
Жерар был вне себя от ярости, слушая эти рассуждения винного торговца.
— О! доктор, — шепнул он Ломонду, — заставьте его покориться себе, загипнотизируйте его, это будет так забавно.
Доктор устремил пристальный взгляд на своего ненавистника.
— Господин Брандевин, — обратился он к купцу, — я надеюсь, что никто не заподозрит вас в сообщничестве со мной, если я вас попрошу оказать мне ваше благосклонное содействие «ради бедных». Мне не раз рассказывали о вашей необыкновенной силе. Как вы полагаете, можете вы поднять вот эту гирю?
И доктор указал на одну из самых тяжеловесных гирь, стоящих на палубе.
— Еще бы! Это для меня сущий пустяк! К вашим услугам, сударь!
И Брандевин, как все силачи, любящие похвастать собой, гордо выступил вперед; его широкое лицо сияло радостью. Он ловким движением ухватился за ручку гири. Но, сверх всякого ожидания, гиря осталась неподвижной.
Удивленный Брандевин снова взялся за нее с удвоенным усилием. Но напрасно. Тогда им овладела злость. Он приседает, напрягает все свои силы, рвется, бесится. Все безуспешно: гиря остается точно приросшей к полу.
Брандевин побагровел; его глаза чуть не вышли из орбит, жилы надулись и со лба струился пот.
— Здесь какое-нибудь мошенничество! — прорычал он в бешенстве. — Гири прикреплены к полу.
— Попробуйте с другой гирей.
Брандевин стаскивает с себя верхнюю одежду и жилетку, появляется в одних подтяжках, одним словом, забывает все правила приличия, плюет себе на ладони и бросается с новой силой к другой гире. Но и с этой он совладать не может.
— Может быть, вы справитесь со следующей? — продолжает Ломонд.
Взбешенный, но уже несколько покорнее, он пробует свои силы на соседней гире, но — увы! — опять напрасно.
Что это с ним случилось? Он со страхом оглядывает свои мускулистые руки. Что бы подумали его товарищи в Марселе? Он, который всегда брал приз на упражнениях этого рода… Тут что-то странное.
Он не на шутку забеспокоился, попробовал поднять гирю в пятьдесят килограммов, но и эта не поддалась ему, как и предыдущие. Тогда он попробовал их все по очереди, но самая маленькая из них, которую он обыкновенно мог бы поднять на мизинце, и та не тронулась ни на йоту с места.
Это его окончательно сразило, он стал испуганно озираться во все стороны, как бы ища объяснения того, что с ним произошло.
— Успокойтесь, господин Брандевин, — сказал ему тогда доктор, — и простите мне то минутное беспокойство, которое я вам причинил этим опытом. Теперь вы можете поднять все эти гири!
— Что? Как? Что вы хотите этим сказать? — сказал ошеломленный Брандевин.
— Запрет снят. Попробуйте же, говорю вам. Сделавшись недоверчивым вследствие только что понесенного поражения, Брандевин тихонько подошел к гире в пятьдесят килограммов. О, какой сюрприз: он ее поднял как перышко; то усилие, которое он намеревался употребить, даже качнуло его назад. Обрадовавшись, он подошел к соседней гире, потом к следующей, дошел, наконец, до самой тяжелой, в сто килограммов, но и эту поднял совсем свободно и даже потряс ею над головой с торжествующим видом.
Посыпался целый град рукоплесканий; хотя все и радовались неудаче сварливого купца, но в то же время и забеспокоились, увидев внезапную слабость, овладевшую им.
— Что же все это означает? — сказал Брандевин, еще не вполне пришедший в себя. — Уж не припадок ли со мной случился?
— Нет, нисколько. Вы оставались совершенно здоровы. Но это просто сила внушения. Вы, конечно, слышали об этой новой интересной науке?
— Не знаю! — признался Брандевин. — Но мне эта наука кажется весьма неприятной.
— О! доктор, еще! Сделайте мне внушение! — послышалось сразу несколько голосов.
— Эти опыты удаются не со всеми; между вами могут найтись такие субъекты, перед которыми мой магнетизм останется бессильным! — скромно ответил доктор. — Но я согласен на новый опыт. Попробуем опять с картами, если хотите.
Он оглядел испытующим взглядом лица всех присутствующих и минуту спустя предложил колоду карт одной пожилой даме, к плечу которой с такой доверчивостью прижималась застенчивая девочка.
— Вот, — сказал он, — бумага и карандаш. Выберите, сударыня, мысленно одну из этих карт, потом запишите задуманную карту, а также и место, на котором вы пожелаете найти ее. Постарайтесь устроить, чтобы никто не мог видеть, а я менее, чем кто-либо, то, что вы напишете; ни карту, ни бумагу ни на секунду не выпускайте из рук.
— Хорошо! — сказала мадам Массей и тотчас же принялась за выполнение данного поручения.
Пока она поспешно писала несколько строчек, доктор удалился, делая вид, что он прибирает свой столик, и даже повернулся ко всем спиной. Ему непременно хотелось, чтобы скептики и неверующие сознались бы после, что он никак не мог заранее увидеть или услышать тайну, которую ему предстояло решить.
— Готово! — сказала мадам Массей, поднимая голову.
— Вы уверены, сударыня, что карта, которую вы выбрали, осталась в колоде?
— Конечно, уверена. Я только мельком посмотрела ее, не вынимая даже из колоды.
— Будьте так добры, посмотрите еще, там ли она?
Вполне уверенная, что в такое короткое время в колоде карт не могло произойти никакой перемены, тем более, что она их крепко держала в руке, мадам Массей наскоро просмотрела их. Задуманной карты в колоде не было!
Думая, что она ошиблась, она начала опять искать медленнее, стала рассматривать и переворачивать одну карту за другой и наконец должна была удостовериться, что та карта, которую она мысленно выбрала, исчезла.
— Это немыслимо! — сказала она.
— Теперь с вашего разрешения, сударыня, эта карта должна была выйти из ваших рук и поместиться в месте, указанном на вашей бумаге, которую вы еще держите в руках; теперь мы убедимся, исполнено ли ваше желание. Жерар, сходите, пожалуйста, на кухню и попросите дать вам дюжину яиц.
Пока мадам Массей ахала от удивления, Жерар в один миг слетал в кухню и уже нес корзину яиц, которую поставил перед своей матерью.
— Потрудитесь теперь, сударыня, указать на то яйцо, в котором бы вам хотелось найти вашу карту?
— Они все одинаковы! — не нашла мадам Массей ничего иного ответить, так велико было ее изумление, что ее мысли так легко отгаданы.
— Да, — сказал господин Массей, наклоняясь над корзиной, — если вы могли ввести постороннее тело в яйцо, не повредив скорлупы, как бы тонко это тело ни было, то вы, господин доктор, чрезвычайно ловки!
— Что же вы, мама, не выбираете? — не выдержал Жерар, который сгорал от радости и нетерпения.
— Ах, да, правда! — И, окинув дюжину яиц взглядом опытной хозяйки, мадам Массей вынула из корзины самое белое и прозрачное яйцо.
— Теперь, сударыня, вам остается только разбить его…
— Разбить? в перчатках и без тарелки?
— Да, в самом деле, о чем же я думаю! — сказал доктор, точно ища что-то вокруг себя. — Ах! вот как раз пестик, который уже нам оказал услугу…
И, поставив перед ней пустой стул, он положил на него пестик.
— Теперь вы можете спокойно производить операцию.
— Если бы вы сами разбили его? — обратилась к доктору мадам Массей, боясь что-нибудь испачкать при публике по непривычке обращаться с яйцами.
— С удовольствием! — согласился Ломонд.
И, окруженный со всех сторон зрителями, сотни глаз которых следили за малейшими его движениями, он разбил яйцо, выбранное наудачу мадам Массей, и вытащил оттуда карту, сложенную вчетверо.
— Теперь, сударыня, настал момент, чтобы вы были так любезны прочесть нам, что вы написали на этом клочке бумаги.
Мадам Массей развернула бумажку и передала ее своему мужу, который прочел громким голосом:
«Валет пик. Я желаю, чтобы эта карта нашлась в сыром яйце».
Пока шло рассмотрение документа и споры, доктор развертывал карту, найденную в яйце. Эта карта оказывается валетом пик!
Доктору устроили настоящую овацию. Все были восхищены. Его засыпали вопросами и поздравлениями. Одни приставали, чтобы он и им сделал внушение, другие без зазрения совести требовали разъяснения этого интересного фокуса; некоторые склонны были думать, что тут играет роль волшебство. И, говоря правду, хотя дьявол тут был ни при чем, но что действительно помогало доктору в его фокусах, еще более его ловкости в пальцах, это — та таинственная сила, которую называют магнетизмом; ее тайна узнавать мысли людей состоит в том, чтобы «внушать» им эти мысли.
— Что ж тут особенного, — сказал бы, конечно, неукротимый Брандевин, если бы ему объяснили, в чем вся суть, — здесь ничего нет трудного. Когда знаешь заранее, что другие думают, в чем же заслуга угадывания?
— Попробуйте! — могли бы повторить ему, так как не только не всякому дана способность внушения, но развитие ее и пользование ею — вещь, доступная немногим.
К тому же доктор вовсе не намеревался давать объяснения, которые умалили бы прелесть его опытов, испортили бы удовольствие зрителей, да они, по всей вероятности, и не поняли бы этих объяснений.
Но так как каждому хотелось непременно принять участие в празднике, то доктор уступил всеобщему желанию и показал еще массу фокусов, варьируя их до бесконечности.
Все веселились от души, и единогласно решили, что спектакль удался на славу. А потому, когда капитан Франкер, воспользовавшись всеобщим настроением, попросил Колетту обойти публику с белой шапочкой, в эту последнюю так и посыпались щедрые пожертвования. Таким образом несчастная семья покойного матроса разом была спасена от ужасов нищеты.
ГЛАВА II. Семейство Массей
Между пассажирами «Дюранса», которые покинули свою родину, соединились здесь на некоторое время и, может быть, более никогда не встретятся, самым симпатичным было семейство Массей, состоящее из отца, матери и троих детей.
Мы уже познакомились с Колеттой и Жераром, упомянули о Генрихе и их родителях. Несколько слов об их жизни дадут нам возможность еще ближе узнать их.
Начнем с главы семейства, Александра Массея, бывшего начальника отделения большого финансового общества «Французского Кредита». Он вместе с женой и детьми эмигрировал в Трансвааль.
Массей, несмотря на свои сорок восемь лет, прекрасно сохранился. Он был очень высок, богатырского сложения, со смуглым цветом кожи и с волосами с проседью; черные и густые брови придавали лицу энергичный вид. Одевался он всегда элегантно, с изысканным вкусом. В общем, его лицо было открытое, решительное, в нем чувствовался «порядочный человек»; вся его внешность производила прекрасное впечатление.
И на госпожу Массей можно было залюбоваться. Ей было около сорока лет; ее прелестное лицо, голова с очень густыми и уже побелевшими волосами походили на портрет XVIII столетия. Замечательная свежесть ее лица, темно-синие глаза, в которых, как в зеркале, отражалось каждое ее впечатление, тонкие и правильные черты и даже небольшая полнота ее талии, нисколько не мешавшая быстроте ее движений, — все внушало к ней доверие и невольное уважение. Между нею и детьми отношения были самые дружеские, задушевные. В этой женщине сразу видна была мать в полном значении этого слова.
Трое детей, поразительного сходства между собой, унаследовали от своих родителей грацию, густые вьющиеся волосы, прекрасные глаза и красивые зубы; все они, и молодая девушка так же, как и мальчики, обнаруживали в своих движениях необыкновенную легкость и гибкость благодаря тому, что с детства были приучены к физическим упражнениям. Старшему, Генриху, был двадцать один год. Он только что окончил центральное училище искусств и мануфактур и получил диплом инженера-металлурга. Его прямой взгляд, хорошо обрисованный подбородок и манера высоко держать голову выдавали гордость и самоуверенность.
Его сестре, Колетте, шел семнадцатый год. Трудно себе представить что-либо очаровательнее этого белоснежного личика с розовыми щечками, освещенного большими, сияющими глазами; фигура ее — безукоризненна; со всем этим в ней была еще особенная прелесть: она вовсе и не подозревала о своей красоте.
Наконец, Жерар, прехорошенький мальчик, очень живой и веселый. Его несколько вздернутый нос, открытая улыбка, блестящий и насмешливый взгляд его голубых глаз обрисовывали веселый и немного беспечный характер и любознательность. Взглянув на него, сразу было видно, что это открытая и дружелюбная натура.
Мы не обойдем молчанием и служанку их, редкой преданности, хотя и ворчливую; эта Мартина, здоровая тулузка лет сорока пяти, всюду сопровождала своих господ; у нее были черные блестящие глаза и усики на верхней губе. Она всегда, не стесняясь, громко высказывала свое мнение, считая себя членом семьи Массей, на что и в действительности имела право, так как поступила в дом своей госпожи с момента ее замужества и вынянчила всех трех детей; последние очень любили ее, а она в них просто души не чаяла.
Славная Мартина! Несмотря на целых двадцать пять лет, проведенных ею в Париже, она до сих пор сохранила свой прежний говор, свои присказки, свои — тэ, свои — ах ты грех! тьфу! — и так далее.
В путешествии она, понятно, всему очень удивлялась, но, чем дальше ехала, тем больше всего боялась; океан, огромное судно, эта страшная машина, — все это были в ее глазах ничего не стоящие вещи; только одна привязанность ее к господам и могла заставить ее бросить все, к чему она привыкла, и доверить свою драгоценную особу переменчивой стихии.
Утром, накануне благотворительного праздника, Мартина стояла на палубе и неодобрительно выслушивала восторги, радости и удивления «своих детей» по поводу всего нового, встречающегося в путешествии; она трясла головой и поджимала губы, устремляя глаза к небу: очень выразительная мимика, понятная без слов.
— Ну, зловещий пророк, что тебе не нравится? — спросил ее Жерар, подсевший к ней.
— Что мне не нравится?.. О, Господи!.. Если бы только зависело от меня!..
— Ну, что еще?..
Мартина подняла руки к небу.
— Может быть, «Дюранс» недостаточно велик для сударыни?.. Или мы двигаемся слишком медленно?.. Подумайте!.. только семнадцать узлов!.. Это ужасно, не правда ли?..
— Тэ! месье Жерар, что мне за дело, сколько он делает узлов, только бы мне-то не быть бы на нем, это все, чего я желаю!!!
— Ну, признайся, по крайней мере, что все дивно хорошо… Посмотри-ка на это необъятное море, на это небо! Ай! летающая рыба!.. вот она!.. вот! совсем около тебя, смотри же скорей!..
— Летающая рыба!.. Это еще что за новости!.. И рыбы теперь залетали?..
— Ты можешь сама убедиться!.. Ведь плавают же утки!.. Отчего же и рыбам не летать, скажи на милость?
— Тогда мир стал бы вверх ногами. Кстати, вы мне напомнили об утках. У меня сердце болит по моим уткам… Бедняжки, остались они там одни, в Пасси… Что-то с ними будет там без меня?..
— Их съедят другие вместо нас, — решил Жерар совсем спокойно. — Ты знаешь, что с их точки зрения им это все равно.
— Э! тьфу! очень может быть, что их и съели бы! Но когда пришлось продавать дом… эти бедные малютки… так и побежали за мной, точно люди.
— Не воображая, конечно, что в один прекрасный день ты им перережешь горло, жестокая женщина! А что касается дома, то мы можем опять купить его, когда возвратимся и у папы будут деньги… а пока нам предстоит прелестное путешествие… что ты там ни говори!..
— Когда возвратимся?..
— А разве ты думаешь, что мы навсегда застрянем в Трансваале?..
— Застрянем! сохрани Боже!
— Знаешь, Мартина, — вмешалась Колетта, — за папой осталось право выкупить дом в течение пяти и даже десяти лет…
— Да за такое время мало ли что может произойти!..
— Ох! какая ты несносная с твоими глубокими вздохами, — не стерпел Жерар. — Разве ты не знаешь, что в той земле, куда мы едем, очень легко нажить огромные деньги? Ты сделаешься миллионершей, дура ты этакая!.. будешь ездить в карете!!
— Что ж, я бы не прочь!..
— Ты знаешь, Мартина, — начала тихонько Колетта, — папа серьезно надеется. А он и Генрих редко ошибаются в своих расчетах. Правда, папа увлекается, но разве он не прав?.. Благодаря своей энергии и сильной воле он может преодолеть все препятствия. Надо было видеть, с каким мужеством он принял на себя дело, перед которым у других опустились бы руки.
— О! мужества-то у него много, так же как и у мадам! Да и вы все у меня храбрецы! — воскликнула с гордостью Мартина.
— Да и ты у нас молодец: не оставила нас, несмотря ни на что! — сказала Колетта, положив ей на плечо руку.
— Э! да разве я могла оставить вас?.. Что бы я стала делать без вас одна? У меня никого нет… только вы одни.
— Она бы стосковалась по мне! — прервал Жерар, не любивший трогательных излияний. — Я необходим для ее счастья, — прибавил он, ущипнув толстую руку Мартины, на что та взвизгнула: «Иес!». (Это восклицание постоянно употребляется женщинами юга; оно произошло, вероятно, от слова «Иесус».)
— Перестань, Жерар, не дразни Мартину! — сказала Колетта покровительственным тоном старшей сестры.
— Ба! да она это очень любит! ей это здорово!..
— Ах, какой ребенок! все тот же! — проговорила Мартина, следя глазами за своим питомцем, который стремглав бросился на другой конец судна, увидев там доктора.
— Второго такого нет! Но скажите, мадемуазель Колетта, вы вправду думаете, что барин наживет там капитал?
— Капитал не знаю; но, во всяком случае, будем надеяться, что он покроет все убытки.
— Увы!.. Боже!.. Приданое барыни!.. А ваше-то, родная моя… Ах! негодяи, отняли все добро!.. уж если бы они только попались ко мне в руки!..
Голос Мартины становился все сильнее, и наконец она стала так громко говорить, что на нее начали оглядываться.
— Тише! — прервала ее Колетта, сконфузившись. — Не кричи так, милая Мартина!
— Э! да разве я могу говорить спокойно, когда дело идет о наших деньгах, погибших из-за них… Да я бы готова задушить их!
Добродушная Мартина не знала, что в спекуляциях люди готовы рисковать всем и, в погоне за выигрышем, нередко теряют безвозвратно свое состояние.
Такая именно история и приключилась с самим Массеем.
Будучи начальником отделения «Французского Кредита», во время горячки с акциями золотых приисков в Трансваале, выпущенными Англией, он увлекся этой горячкой и стал играть, поставив на карту и свое собственное, и жены, и детское достояние; когда же случился крах, то все погибло и зажиточная прежде семья осталась почти без средств.
Но после первой минуты отчаяния, видя сочувствие и утешение своих близких, Массей пришел в себя и стал хладнокровно доискиваться до причины несчастья: вся беда произошла оттого, что его расчет оказался неправильным. Если бы он был хорошо знаком с обстоятельствами дела, то результат был бы другой. Следовательно, необходимо было изучить их. Ведь он спекулировал на золоте Трансвааля, не зная количества содержания металла в руде, не имея понятия о способах добывания его, не зная даже географического положения этой страны!
Впредь он будет умнее!
Между тем ему представился случай отправиться в Южную Африку для ознакомления с положением этих знаменитых золотых рудников за счет общества парижских финансистов. Можно себе представить, с каким восторгом Массей согласился на это предложение. Он решил взять с собой семью и поселиться в Претории. Не раздумывая долго, он продал свой домик в Пасси, собрался в дорогу и очутился на «Дюрансе».
Так как господин Массей неоднократно убеждался, что молодежь гибнет большей частью вследствие недостатка энергии и инициативы, то поставил себе задачей воспитать своего старшего сына Генриха как полезного общественного деятеля, а потому и определил его в училище искусств и мануфактур. Человеку с обширными практическими познаниями представлялось большое поле деятельности в новой неизведанной земле.
Он всегда скорбел, что французские прекрасные колонии прозябают вследствие недостатка рук и капиталов. Сколько раз он вспоминал слова знаменитого князя Бисмарка:
«Англия владеет колониями и колонистами;
Франция владеет колониями, но не имеет колонистов;
Германия, имея колонистов, не имеет колоний».
Чего бы не дал Массей, чтобы заселить французские колонии честными тружениками, которые, вводя там образование, и сами могли бы обогатиться. Он часто мечтал эмигрировать, хотя бы в Алжир, эту новую Францию; но ему все не удавалось; теперь же, когда представилась возможность применить свои теории на практике, на юге Африки, он не колебался ни минуты. Его сын Генрих вполне сочувствовал своему отцу, для которого, при своих технических познаниях, он мог быть незаменимым помощником. Что касается Жерара, то этот был в восторге променять сидение в классе лицея на путешествие по открытому морю! Мадам Массей, Колетта и верная Мартина и слышать не хотели оставаться одни. Вот почему все семейство теперь и неслось по синим волнам Индийского океана.
По правде сказать, у господина Массея были самые радужные надежды. Он рассчитывал найти в Трансваале целые груды золота; потом он полагался на Генриха как металлурга, думая, что теперь — все в их руках.
Надежды несколько химерные, так как до него перебывали двадцать инженеров и геологов в том округе, куда он направлялся, и нашли лишь весьма скудное содержание драгоценного металла в руде.
Одним словом, он дал ход своему пылкому воображению. Несомненно, действительность должна была разочаровать его.
Пока Колетта разговаривала с Мартиной, мадам Массей по обыкновению сидела с худенькой бледной девочкой лет двенадцати, с впалыми глазами и рассеянным, почти испуганным взглядом.
Этого ребенка звали Лина Вебер; она была одета очень бедно, в траурное платье. Ехала она со своим отцом, человеком пятидесяти лет, на лице которого отражались заботы, с ввалившимися глазами и рассеянным блуждающим взглядом. Казалось, он только изредка, как-то вдруг, вспоминал о своей дочери, и ребенок оставался один целыми часами; застенчивая и пугливая девочка настолько уходила в себя, что вздрагивала каждый раз, когда с ней заговаривали.
У мадам Массей сердце обливалось кровью при виде ее. Своими ласками и добротой она понемногу приручала к себе эту маленькую дикарку, и теперь за столом в зале Лина всегда пряталась под ее крылышко, как только ее близорукие глаза различали стройный силуэт ее покровительницы. Через несколько дней она уже относилась к мадам Массей с полной доверчивостью, но от прочих членов семьи, даже от Колетты, сторонилась. Отрывистыми фразами и пугливо оглядываясь вокруг, она рассказала ей свою грустную историю. Лина родилась в Париже от эльзасцев, которые после войны поселились во Франции. Ее отец был ученый, великий ученый, по ее мнению. Он сделал очень-очень много изобретений; еще когда она была совсем маленькой, об этом много говорили, и у них в доме была огромная комната, наполненная бумагами, чертежами, частями разных машин. Ее мать всегда лежала, всегда хворала… Лина не помнила ее здоровой; она умерла четыре месяца тому назад. Тогда отец, которому стало очень тяжело в Париже, решил поехать в Трансвааль испытать счастье. У него в голове был план, который, как он предполагал, обеспечит их жизнь.
«Что было бы очень кстати!» — думала про себя мадам Массей, видя старые и изношенные костюмы отца и дочери. Лина, по-видимому, нежно любила своего отца, но ее робость мешала ей быть к нему ближе, а он почти не обращал на нее внимания, поглощенный своими заботами и планами.
Ребенок мало-помалу так привязался к мадам Массей, что целыми днями не отходил от нее. Колетта с удовольствием иногда освободила бы мать от неотвязчивой девочки, но Лина отталкивала все эти попытки Колетты с каким-то упорством. Так как молодая девушка не привыкла ни в ком встречать к себе враждебность, то и она могла бы почувствовать неприязнь к маленькой дикарке, но ее великодушное сердце невольно заставляло ее жалеть эту несчастную и некрасивую девочку.
Мадам Массей, собственно говоря, и не тяготилась обществом Лины, она постоянно разговаривала с ней, заставляла ее читать, рассуждать, осторожно внушала ей любовь к порядку, чистоте, и девочка стала ее боготворить. Сам Вебер, выходя из своей рассеянности, заметил доброту мадам Массей к своей дочери и в трогательных выражениях выразил ей свою благодарность. Этот человек казался очень образованным, с возвышенным и незаурядным умом. Подстрекаемый рассказами жены, Массей заинтересовался им; и их теперь часто можно было встретить расхаживающими вместе большими шагами по палубе; но они представляли такую противоположность друг другу, что, глядя на них, все невольно улыбались: один был представителем физической и нравственной силы; другой же — разбитый бледный мечтатель с всклокоченными седыми волосами, погруженный в свои мысли, точно он был не от мира сего; несмотря на это, их соединяла одна идея, один мираж — нажить капитал.
Капитан Франкер давно знал этого несчастного изобретателя и очень жалел его; он часто рассказывал Жерару о незаслуженных обидах и огорчениях, которые всю жизнь преследовали этого страдальца; Жерар был в прекрасных отношениях с капитаном, который позволял ему приходить к себе даже на мостик, куда не всякий решился бы взобраться. Добрый моряк полюбил мальчика за его прямоту и веселость и с удовольствием посвящал ему свободное время.
Благодаря любознательности Жерара, которой не уступала неистощимая любезность капитана, мальчик живо освоился с устройством судна и мореплаванием; и в их разговорах стало попадаться столько морских терминов, что Колетта перестала понимать их.
Когда капитану и милому доктору Ломонду некогда было разговаривать с Жераром, то он отыскивал некоего Ле-Гуена, старшего матроса с темной кожей, вьющимися волосами и носящего в ушах круглые серьги, совершившего много плаваний, несколько раз терпевшего крушения в разных местах, словом, самого занимательного человека.
— Да, от этого молодца в полчаса узнаешь больше по географии, чем из целой книги в течение года! — в восторге восклицал Жерар. И он с интересом выслушивал самые неправдоподобные россказни славного матроса, который так увлекался, что сам не знал, где у него кончилась правда и начиналась фантазия.
— Я столько видал на своем веку! — говорил он, покачивая головой, когда его рассказы начинали казаться невероятными. И тут начинались настоящие сказки, от которых покраснел бы даже сам барон Мюнхгаузен.
Для Жерара, который переходил от одного своего друга к другому, это путешествие казалось волшебным праздником; и уже не один раз он объявлял Колетте, что решил сделаться моряком.
— Но тебе теперь уже поздно поступать в морское училище! — возражала Колетта.
— Ба! так что ж из этого! Я поступлю в купеческий флот!.. Это кажется странным… но зато гораздо полезнее… все видишь сам. Уверяю тебя, что в купеческом флоте гораздо легче сделаться хорошим моряком, чем на военных судах!
Колетта возмущалась. Ей вовсе не улыбалось, что ее брат удовольствуется ничтожным положением; ей хотелось видеть его командующим броненосцем во главе нескольких соединенных флотов. Но Жерар не любил, когда Колетта говорила на эту тему.
Он кончил тем, что обещал бросить мысль о поступлении в купеческий флот, но продолжал строить планы, что он снарядит свое собственное судно, когда их средства поправятся, и отправится на нем вместе с Ле-Гуеном и еще несколькими испытанными моряками. Тогда он совершит нападение на англичан. Ведь Ле-Гуен, уроженец Сен-Мало, сохранил до сих пор традиционную ненависть к англичанам; он готов был с пылом прежних корсаров погнаться за ними.
А пока, в ожидании этих набегов, Колетте стоило немало труда заставить его брать урок английского языка, которым она прекрасно владела, и элементарные понятия которого взялась преподать своему брату. Господин Массей находил, что глупо явиться в страну, где преобладает английский язык, не зная его, а потому усердно принялся за изучение. Генрих и Колетта отлично говорили по-английски, и молодая девушка каждый день стала заниматься с матерью, Жераром, Мартиной и даже с отцом. Надо быть справедливым, в этом классе слышалось больше смеху, чем английских спряжений!
ГЛАВА III. Яхта «Лили»
К вечеру на горизонте показалась шхуна. Сначала виднелись только верхние паруса; но, по мере приближения ее, увидели, что это было судно необыкновенной красоты и, судя по всему, очень быстроходное.
В одну минуту все разговоры замолкли, книги были оставлены; игры в карты, шахматы, домино и прочее — отложены в сторону; все столпились на палубе с лорнетами и подзорными трубами, чтобы лучше рассмотреть приближение шхуны.
Кто не бывал в открытом море, окруженный со всех сторон океаном, подобно огромной пустыне, тот не может себе представить всю радость новой встречи. Самые ленивые и апатичные вскакивают с мест, торопятся, не хотят пропустить ни одного момента; они ждут с замиранием сердца проезда незнакомца, пристально вглядываются в него, следят за каждым его движением, их взоры не могут оторваться от него.
Между тем как на суше мы остаемся совершенно равнодушными ко всевозможным зрелищам, к езде экипажей, к роскоши магазинов, к великолепию памятников; на суше мимо нас проходят тысячи людей, узнать которых у нас нет ни малейшего желания, они чужды, далеки настолько, как будто бы мы живем с ними на разных планетах, в море же совсем не то: здесь появившийся незнакомец делается для нас вдруг своим, другом, братом.
Пассажиры обмениваются ласковыми взглядами, дружественными словами и сердечными пожеланиями благополучия. И здесь играет роль не только удовольствие встретить человеческие лица, тем более, что на таком судне, как «Дюранс», народу было немало.
Нет, при виде незнакомого судна невольно чувствуешь симпатию к его пассажирам, как к своим собратьям, находящимся вне обыкновенных условий.
В море катастрофа всегда возможна, опасность постоянно угрожает нам. Но это легко забывают. Невзирая на непрерывное движение чудовища, готового ежеминутно поглотить нас, вами все-таки овладевает спокойствие. Привычка к долгому плаванию, не испытанное чувство крушения, наконец, свойственный человеческой природе оптимизм, — все это ослепляет нас. Но сознание опасностей только лишь дремлет; малейший толчок может пробудить его, достаточно показаться другому судну. Вам вдруг делается ясно, как вы были одиноки в бесконечных волнах; вы вдруг начинаете чувствовать, что вы можете погибнуть, так как во встречном судне вы видите самих себя; дрожа за эту скорлупку, ясно сознаешь и свою собственную слабость.
Замеченное судно шло не совсем в противоположную сторону с «Дюрансом»: оно направлялось к юго-западной стороне. Вскоре уже ясно были видны все его красивые паруса, затем боковые части, и наконец все могли полюбоваться на прелестную яхту средних размеров и прекрасной конструкции. Это было судно водоизмещением около пятидесяти тонн. Оно плыло точно лебедь по волнам Индийского океана; его белые паруса походили на огромные крылья, а медная оправа то показывалась, то исчезала в шипящей пене, точно чистое золото.
Расстояние между двумя судами было еще слишком велико, чтобы рассмотреть экипаж; но с помощью лорнетов можно было заметить, что яхта изменила свое направление, натянула паруса и легла на параллельный «Дюрансу» курс.
— Прекрасный ход! — воскликнул капитан, который с особенным интересом следил за движениями красивого судна. — Как оно быстро догоняет нас!
— Если бы я был на вашем месте, — проворчал Жерар, — я бы лучше взорвал «Дюранс», чем дал этой скорлупке догнать нас!
— В таком случае мы можем себя поздравить, что не вы командуете нами. Скажите, пожалуйста, какой для нас может быть стыд, если яхта, легкая как ласточка, и построенная специально для гонок, перегонит такое тяжеловесное судно, как «Дюранс»?
— Я сам не знаю. Но так неприятно быть побитым.
— Без состязания не бывают побитыми. У этого судна свои достоинства: красота и легкость, а за нами — опытность и прочность. Кто же из нас сильнее? Если бы с этим смелым бегуном приключилось несчастье, то нет никакого сомнения, что «Дюранс» мог бы спасти всех его пассажиров и, приняв к себе, одеть и накормить их. «Лили» же, как я полагаю, не в силах была бы оказать нам такие же услуги.
Между тем расстояние между двумя судами значительно уменьшилось. Теперь можно было видеть красивую яхту без лорнетов. На носу ее среди зелени выделялась белая лилия чудной работы, и на лодочке, висевшей с правого борта, значилось золотыми буквами «Лили». Ее палуба была выложена различным материалом, таким светлым и блестящим и такого любопытного вида, что можно было подумать, что это камчатная скатерть, закрытая наполовину богатыми восточными коврами. На корме были устроены разноцветные палатки, в которых, казалось, группами разместились пассажиры; но в эту минуту все повскакали со своих мест, и леди, и джентльмены устремились к решеткам и с любопытством смотрели на оживленную группу пассажиров на палубе «Дюранса». Только одна женщина пятидесяти лет, с властным видом и крупными орлиными чертами лица, осталась сидеть у стола, на котором кипел самовар и стоял сервиз из тонкого фарфора, сандвичи, пирожки и тартинки; все это показывало, чем занимались пассажиры «Лили», когда заметили появление трансатлантического судна.
Мужчины экипажа, в синих мундирах, были все как на подбор: сильные, рослые, выдержанные. Пассажиры и пассажирки, все молодые, здоровые, хорошо сложенные, в морских костюмах, составляли прелестную группу. Вся эта яхта казалась верхом изящества; всякая мелочь на ней была тщательно отделана и доведена до совершенства, точно драгоценная вещь в футляре.
Когда оба судна почти поравнялись, «Лили» вывесила британский флаг.
— Поднять и наш флаг! — скомандовал капитан Франкер.
На мачте медленно взвился трехцветный флаг.
Высокий молодой человек, худощавый блондин, с беспечным видом подошел к носу и, устроив рупор из своих рук, спросил:
— Ваше имя? Мы не можем разобрать его.
— «Дюранс»! — ответил капитан громким голосом, так что его расслышали.
— Привет «Дюрансу»! Вы выступаете очень важно, но и «Лили» постоит за себя.
— Привет «Лили»! Она, конечно, перегонит нас в ходу, но зато «Дюранс» дольше выдержит…
— Вы далеко идете?
— В Дурбан, через Занзибар.
На «Лили» послышался веселый смех.
— Для нас это немножко далеко!
— А вы откуда?
— Из Адена; а теперь мы просто прогуливаемся.
— Это очень приятно! Кому принадлежит эта красивая яхта?
— Лорду Ферфильду.
— Его милость здесь? Молодой человек взялся за шляпу.
— К вашим услугам. Позвольте узнать ваше имя, командир!
— Франкер, также готов служить вам. Не прикажете ли передать от вас что-либо в Занзибар или в другое место?
— Нет, ничего особенного. Вот если бы я мог подойти к вам, то с удовольствием передал бы вам ящик шампанского.
— Благодарю за намерение и благополучного пути!
— И вам тоже!
С обеих сторон начали махать платками, посылать приветствия руками, прощаться.
Колетта положительно успела влюбиться в двух молодых блондинок, стоявших у решетки около лорда Ферфильда, которые ни на минуту не переставали ей улыбаться и махать платками, прельщенные, в свою очередь, ее красотой.
При отъезде ни те, ни другие не вытерпели и стали посылать воздушные поцелуи, между тем «Лили» переменила галс и взяла прежнее направление на юго-запад. Долго еще виднелся улетающий силуэт красивой яхты. Наконец она превратилась в мелькавшую точку и совсем скрылась. Тогда все пришли в себя и начали сообщать друг другу о своих впечатлениях, и только теперь заметили, что господин Брандевин был чем-то очень недоволен и взволнован. Краснее, чем обычно, со взъерошенными волосами, откинув левую руку назад, он, взявшись за шляпу, неистово кланялся вслед уходящему судну.
— Что это он?! — воскликнул Генрих Массей, удивленный его жестикуляциями.
— Он не переставал ни на минуту во время нашей беседы проделывать эту гимнастику! — сказал Жерар, имевший своеобразную способность видеть одновременно, что делается перед его глазами и за его спиной.
— Кому это он? — удивился Массей. — Он никак совсем ошалел!
— Вы, кажется, чему-то очень радуетесь, господин Брандевин, — вежливо обратился к нему капитан. — Не правда ли, какое у нас сейчас было приятное зрелище? Как хорошо устроена эта «Лили», просто наслаждение для моряка полюбоваться ею! Но я не знал, что вы такой знаток в этом деле.
— Я? Нисколько!.. Хотя, по правде сказать, я давно мечтаю завести собственную яхту, которой я бы сам командовал…
— Вот как? — не удержался от улыбки господин Массей, вспомнив страшные конвульсии этого человека при всяком незначительном волнении моря.
— Есть вещи просто невероятные! — возразил тот, выпрямившись. — Если есть средства, сударь, отчего же и не позволить себе этой роскоши?
— Конечно, отчего же, — вежливо ответил Массей, которого очень забавляло хвастовство марсельца. — Так вы, значит, увидев портрет вашей будущей яхты, так радостно приветствовали и раскланивались с «Лили»?
— Нет, сударь, — ответил Брандевин с достоинством. — Я кланялся своим знакомым.
— А! — сказал капитан, заметивший про себя, что эти поклоны остались без ответа. — Вы знаете лорда Ферфильда?
— Да, знаю; а также и его мать, вдову, леди Ферфильд, а равно и его сестру Феодору, — вы, наверное, заметили эту молодую особу, всю в белом, с большим красным зонтиком; а барышни, которые стояли около лорда Ферфильда, — его двоюродные сестры-близнецы мисс Амабель и мисс Миллисента Мовбрей; маленький же господин, рыжий, с цветком в бутоньерке, это — Альджернон Гиккинс, зять лорда Ферфильда. Скоро исполнится десять лет, как он женился на леди Феодоре. Она в то время была замечательной красавицей. Весь Лондон был у ее ног, и все были уверены, что она променяет имя Мовбрей только разве на корону маркизы или герцогини. И что же! она предпочла простого пивовара, да, сударь, такого же коммерсанта, как я!
— Но, быть может, этот коммерсант обладал особенными достоинствами? — спросил капитан, рассмеявшись.
— Конечно, громадным состоянием, сударь! Неужели вы думаете, что такая особа, как леди Феодора, согласилась бы выйти замуж за первого встречного без разбора?
— Однако вы действительно хорошо знаете их всех! — удивился господин Массей.
— Еще бы мне их не знать! — обрадовался Брандевин. — Я прожил шесть лет под одной кровлей с этим семейством; я знал покойного лорда, замечательную личность, высокого, сильного, такого же красавца, как я, — совсем не то, что его тщедушный сынок. И любил же он вкусно поесть…
— Но, — вскричал капитан, который, как истинный моряк, привык к откровенности, — что же вы там делали в этой стране… в их среде?
— Я служил у лорда Ферфильда поваром! — сказал с гордостью Брандевин. — И позвольте вам сообщить, господа, если вы этого не знаете, что у англичан в доме нет более почетного звания. С лакеями, камеристками и ключниками говорят отрывистыми фразами, высокомерным тоном, которого французский служитель не мог бы вынести. Я не говорю уже о мелких сошках — с ними и вовсе не разговаривают. Но повар — дело другое. Перед ним все тают. Милорд никогда не проходил мимо меня, чтобы не сказать мне ласковым голосом: «Какое прекрасное утро, Брандевин!» или: «Скверный день!». Тот, кто знает этих людей, может подтвердить, что это была большая милость. Что же касается миледи, то, когда она звала меня на какое-нибудь важное совещание, приглашала меня сесть возле себя, — да, возле себя, — это та высокая и толстая дама, которую вы там видели, разряженная и размазанная, как… как Савская царица!.. «Сядьте вот тут, господин Брандевин, — говорила она мне слащавым голосом, — и скажите мне, вполне ли вам хорошо у нас?». И только после таких вежливых фраз мы приступали к вопросу об обеде.
Видно было, что бедный повар рассказывал сущую правду, и эта черта англичан хорошо известна, а потому все и заинтересовались его рассказом.
— Да, да, — сказал капитан, — я видел эту даму: эта особа пожилых лет не выходила из-за чайного стола и даже не соблаговолила посмотреть на нас. Жаль, что она не видела ваших поклонов.
— Она их прекрасно видела, но сделала вид, что не замечает меня! — вздохнул Брандевин с обидой. — Миледи «срезала» меня, по их выражению. И, однако, уверяю вас, что не один раз, а по крайней мере двадцать раз она мне повторяла: «Господин Брандевин, вы настоящий артист!» Однажды, я как сейчас помню, их должен был посетить важный князь, и милорд лично просил меня употребить все мои старания. Я придумал все, что мог: работал, соображал день и ночь; но зато и стол оказался на славу!
— Вы превзошли самого себя, господин Брандевин, — объявила хозяйка. — Мы главным образом обязаны вам хорошим расположением духа его сиятельства во время его визита!.. И вдруг теперь она меня «режет»!
— Но, может быть, эта дама не узнала вас? — вмешался доктор Ломонд, тронутый благородным негодованием несимпатичного Брандевина.
— Нет, нет, сударь; я их хорошо знаю, этих англичан. Пока им нужны были лакомые блюда, они находили достаточно любезностей для меня; теперь же, когда им больше нечего рассчитывать на меня, они не хотят знать меня. Такова жизнь! — решил Брандевин.
— Если они действительно так думают, тем хуже для них! — возразил доктор. — Но мне кажется, что вы судите их слишком строго.
— Господин доктор, хотя вы и очень талантливый человек, но вам не пришлось изучить этих людей, как мне. Да, да, можно смеяться: Брандевин воображает, что знает Англию, потому что он жил шесть лет в кухне… Но я утверждаю, что кухня — самое лучшее место для наблюдений, и серьезно посоветовал бы тем, которые приезжают туда с целью изучить нравы страны, заглянуть в кухню!
— Да, господа, — продолжал бывший повар, воодушевляясь, — я знал этих журналистов, репортеров и «интервьюеров», которые берутся изучать и описывать народ между приездом и отъездом увеселительного поезда; в общем в два с половиной дня! У меня даже есть такой племянник, страшный шалопай, бумагомаратель. Я видел его за работой: он приезжает, останавливается в Лейчестерском сквере, где встречает одних французов; затем объезжает лондонские кварталы, забегает ко мне на минутку, садится опять на пароход, не обменявшись ни с кем ни одним английским словом; после чего он рассказывает своим читателям о том, как поживают по ту сторону Ла-Манша! Дай-ка мне лучше перо, — не раз говорил я ему, — если твоя статья и будет не совсем гладко написана, зато в ней прочтут правду!
— Мерси! — отвечал мне племянник, — мне это не годится. Какое мне дело, правдивы ли мои описания или нет. Все, что мне нужно, это преподнести моим читателям тот соус, которого они ждут. Вы, дядя, повар, а потому сами должны знать, что в этом вся суть. А так как я не дурак, то и мои впечатления о путешествии настрочил заранее до отъезда; так спокойнее, я был уверен, что написал то, что требовалось, и в нужном объеме!..
— Верьте после этого тому, что вы читаете в газетах!.. — заключил Брандевин, удаляясь, чтобы возобновить прерванную партию в домино.
— Этот человек неглуп и наблюдателен! — заметила мадам Массей.
— Вот уж никак не ожидал, что под такой грубой оболочкой скрывается философ и моралист! — добавил ее муж.
— Да это алмаз в грубой оправе! — воскликнул Генрих Массей.
— Из чего следует вывод: не спешить судить о людях по наружности, — добавил доктор. — Вот человек, который своими выходками в походном театре нашего «Дюранса» произвел на всех самое неприятное впечатление. И что же! Очень возможно, что если бы с нами случилось несчастье, Брандевин оказался бы одним из первых, кто пришел бы на помощь.
— О! доктор! — запротестовал Жерар, — как вы можете так говорить?
— Ну, представьте себе, Жерар, что мы, подобно Робинзону, выброшены на необитаемый остров; все наше образование, приобретенный лоск окажутся совсем непригодными; представьте себе, что нам пришлось бы вновь осваивать и открывать все завоевания цивилизации? Тут природные качества каждого из нас проявились бы с необыкновенной силой, а также и Брандевин показал бы свои качества.
— Это совершенно верно, — сказал Массей. — С его здравым смыслом, его геркулесовой силой и умением состряпать кушанье из найденных трав и раковин на пустынном острове, Брандевин был бы очень полезным товарищем при крушении.
— Необитаемый остров! — воскликнула Колетта. — Я только недавно перестала думать о нем и днем, и ночью. Не правда ли, было бы интересно посмотреть, как бы мы все стали вести себя и чем бы мы могли быть полезны друг другу?
— Генрих принялся бы немедля изучать геологическую формацию края, разыскивать залежи угля и минералов, — сказал Жерар.
— Мама заботилась бы обо всех и никому не показала бы своей усталости! — добавила Колетта, обняв мадам Массей.
— Папа поддерживал бы дисциплину, надежду и веселое настроение, — продолжал он с живостью. — Капитан Франкер распоряжался бы постройкой лодки, чтобы увезти нас; доктор повелевал бы, подобно Посейдону, ветрами и бурями…
— А Мартина ныла бы более, чем когда-либо, зачем это она попала в такую каторгу! — заключил Массей. — Но будем надеяться, дитя мое, что partie de plaisir, о котором ты мечтаешь, никогда не осуществится.
ГЛАВА IV. Столкновение
На другой день капитан Франкер заметил по направлению к юго-востоку какое-то сгущение атмосферы, которое распространялось на семь-восемь градусов долготы.
Несколько раз принимался он за это наблюдение.
Массей полюбопытствовал узнать, на что это он все смотрит вдаль.
— Туман!.. В этих местах он бывает очень редко! — ответил капитан. — Он еще далеко от нас, но заметно густеет и очень быстро надвигается.
И в самом деле, казалось, что линия горизонта приближалась к «Дюрансу» и постепенно принимала вид длинного берега, покрытого снегом и застилающего юго-восток.
Понемногу туман покрыл небо и окружил судно сплошной стеной. Все исчезло, смешалось в этом белом облаке.
Было не более шести часов вечера. Зажгли все огни, но темнота не уменьшилась.
Когда настала ночь, туман не поднялся. С первого же момента были приняты все меры предосторожности, вахта усилена, колокол звенел на носу без перерыва, но его звуки, поглощенные туманом, едва слышались на корме. На всех напало уныние и, как обыкновенно в таких случаях бывает на суше, каждый пошел в свою каюту, чтобы лечь спать.
По мере того, как ночь надвигалась, туман все густел. Ни одной звезды не виднелось на небе. Вокруг каждого огня образовался красноватый круг, совсем не распространяя света. В трех шагах самый яркий из этих огней точно не существовал, а также не освещал ни одного предмета, даже соседнего. Капитан заметил, что подле самого фонаря он не мог разглядеть своей руки на расстоянии шести сантиметров. Он спустился к себе в каюту, чтобы записать об этом явлении в судовом журнале. Было около двух часов утра. Перед восходом солнца с моря, по обыкновению, начала чувствоваться прохлада, перешедшая в пронизывающий холод, но туман не рассеивался и точно ватой закрыл все судно.
Вдруг все проснулись, разбуженные страшным толчком, таким ужасным и неожиданным, что все пассажиры повскакали с постелей в рубашках, босиком и, ощупью схватив одежду, высыпали из кают бледные и испуганные при тусклом свете электрических ночников, горевших в общей зале.
Издали, с носа, где находились пассажиры третьего класса, раздавались крики, стоны, отчаянные мольбы о помощи…
В несколько секунд все выскочили на палубу, как река, прорвавшая плотину.
Все поняли, что произошла катастрофа, но какова она и откуда?
Сплошной туман еще более усиливал мучительное чувство опасности. Звали один другого, натыкались друг на друга, не узнавали никого; напрасно вопрошали тени, мелькавшие в тумане, что случилось; никто ничего не понимал. Только раздавался громкий и отрывистый голос капитана. Все потеряли голову. Но каждый чувствовал, что с «Дюрансом» случилась беда: судно остановилось и сильно накренилось набок.
— Колетта!.. Генрих!.. Жерар!.. Александр!.. — повторяла мадам Массей в отчаянии. — Будем вместе, ради Бога!.. Колетта, где ты?..
— Я здесь, мама, около вас!.. Остальные где? Где папа?.. Братья где?..
— Позови их!.. Давай звать вместе!.. Мартина, где вы?
— Я здесь, барыня… Э! барин!.. барин!.. Жерар!.. Генрих!
Подобные этим, крики несчастных женщин раздавались со всех сторон, но оставались без ответа. Озабоченные матросы бегали, не обращая внимания на мольбы просящих объяснить причину катастрофы.
Вдруг раздался сильный взрыв. То с адским шумом лопнул паровой котел, после чего послышалось зловещее шипение пенящейся воды, столбы искр сыпались на палубу, покрывая ее кусками железа и обломками дерева, меди и — о, ужас! — частями человеческих тел, падающих окровавленными к ногам обезумевших пассажиров, столпившихся, как стадо баранов.
Взрывом парового котла снесло часть палубы. После невообразимого вопля, последовавшего за взрывом, наступило ужасающее молчание; женщины падали без чувств, другие выли как дикие звери.
И вдруг все оставшиеся в живых почувствовали, что от них отрывается какое-то постороннее тело, врезавшееся в бок судна.
Послышался сердитый голос капитана:
— На нас наскочило другое судно!.. Подлецы! Они бросают нас на произвол судьбы!
Это предположение подтвердилось появлением с правой стороны громады парохода, который, отодвинувшись задним ходом, пошел вперед как ни в чем ни бывало и исчез в тумане. С палубы «Дюранса» послышались проклятия. Разъяренная толпа как один человек ринулась к правому борту, взывая, умоляя, проклиная корабль-призрак: даже силуэта его нельзя было рассмотреть в эту ужасную ночь. В эту минуту страшный крик довел всех до апогея отчаяния:
— Мы тонем!.. Все лодки спустить в море!.. Рупор капитана гремел с верхушки мостика:
— Мужчин поставить к левому борту! Женщины и дети спустятся в лодки первыми!.. Стрелять в того, кто посмеет не соблюсти очереди!..
Среди стонов и криков отодвинутой толпы началась неприятная церемония. Офицеры, доктор Ломонд, господин Массей, Генрих и многие пассажиры защищали собой проход к лодке. Несколько фонарей, наскоро зажженных, освещали тусклым красноватым пламенем эту толпу, ошалевшую от страха; всем хотелось сойти разом. Стоило необыкновенных усилий, чтобы перенести сперва женщин и детей в лодки, качающиеся теперь внизу, так далеко, почти незаметные, — около судна.
Раздавались отчаянные возгласы; свист пара, зловещий шум снастей, падающих на палубу, смешивались с плачем и стонами.
Сильные руки схватили мадам Массей: ее сейчас спустят в одну из шлюпок, там осталось еще одно место. Слышится ее крик, раздирающий душу:
— Колетта! дочь моя!.. Не разлучайте нас!.. — умоляет несчастная мать. — Помогите!.. Дитя мое!..
Ее голос замолкает… Колетта в слезах остается на палубе. Но вот и ее схватывают, уносят и кладут, как сверток, в другую лодку, наполненную наполовину… О! если бы это была та лодка, в которую опустили ее мать! Она зовет, умоляет всех, кто с ней; но бедняжка получает в ответ только слезы и такие же мольбы.
Пассажиров продолжают спускать. Подняв туда, наверх, свои глаза, полные слез, она мельком при слабом мерцании света видит лицо Генриха, бледное и решительное; он держит револьвер. Мрачная процедура продолжается; сейчас все женщины и дети будут спасены, но вдруг среди них хочет броситься обезумевший мужчина и, невзирая на защиту, занять одно из первых мест; он объясняет с пеной у рта, что ему необходимо пройти, что от этого зависит его жизнь… он хочет оттолкнуть одну бедную женщину с двумя детьми на руках, очередь которой настала… Раздался выстрел, и жалкий трус падает с размозженной головой… Этот пример восстанавливает порядок.
Наконец первые лодки полны; они немедленно отплывают. Колетте показалось — о, какая радость! — что в ее лодку спускали Жерара, несмотря на его сопротивление; мальчику хотелось остаться с отцом и старшим братом.
Неужели она ошиблась?.. Если бы и те оба могли попасть сюда!.. И среди своего горя она чувствует, что чья-то рука прикоснулась к ней.
— Колетта!.. Колетта!.. Это вы?.. — спрашивает дрожащий голос, который она признала за голос Лины Вебер.
— Это вы, бедное дитя? — воскликнула молодая девушка. — О! как я рада, что вы здесь… Скажите, ведь это сейчас Жерара спустили, я не ошиблась?..
— Увы! Я и днем-то вижу плохо, а теперь…
— Да, правда.
— Папа… папа… — зарыдала Лина. — Колетта! как вы думаете, он с нами?
— Голубушка, ночь такая темная, что я ничего не могу рассмотреть… — ответила Колетта, делая над собой громадное усилие, чтобы заглушить свою собственную тоску и ободрить этого слабого ребенка, который с отчаянием прижимается к ее руке. Она это чувствует, и присутствие возле нее девочки придает ей мужества. Надо, чтобы она храбрилась за двоих, за себя и за эту бедную девочку, не помнящую себя от страха и бормочущую среди рыданий:
— О! как я боюсь!.. О! Колетта, где папа?.. Куда нас везут?.. Как холодно!.. Как темно!.. Ведь мы утонем, не правда ли? О! как я боюсь!..
Колетта сажает девочку себе на колени; она замечает, что та в одной ночной рубашке, уже мокрой от морской воды. Сама Колетта, по примеру своей матери, спала совсем одетой; кроме того, при первой тревоге она машинально захватила свое дорожное пальто, завязанное ремнем; она поспешно развязала его и накинула на дрожавшее тельце Лины. Теплота подкрепила немного силы бедного ребенка.
— Вы добрая!.. — пробормотала она, целуя руку молодой девушки. — А мадам Массей? Ведь она здесь, не правда ли?
— Нет, Лина, — ответила Колетта, тяжело вздохнув. — Я не думаю… Она должна быть в другой лодке. О, моя бедная мама!.. дорогая моя мамочка!..
Она не могла сдержать слез. Прижавшись друг к другу, они горько заплакали. Сколько других сердец страдали такими же муками в этой лодке, уносившей их среди ночи Бог весть куда. Под сильным напором здоровых рук матросов лодка все подвигалась вперед. Вдали виднелось красноватое пятно. Это был покинутый «Дюранс».
Вдруг это пятно померкло и погрузилось в воду. Судно исчезло навсегда в волнах океана.
Гребцы вскрикнули:
— Прощай, «Дюранс»!
Сердце несчастных сжалось еще сильнее. Они почувствовали себя еще более одинокими теперь, когда совсем погибло их судно. Всех мучил вопрос: успели ли избежать этой ужасной смерти остальные пассажиры, весь экипаж, добрый капитан, офицеры?.. Их собственная участь неизвестна, их спасение очень шатко, — и все-таки они хотели бы быть с ними. Чего бы они не дали, чтобы узнать об их участи.
Возможно ли, что еще только вчера так веселились на «Дюрансе»?.. Еще дня не прошло, всего каких-нибудь несколько часов, — и веселье и спокойствие счастливых путешественников сменились несчастьем, смертью и разлукой с близкими… Может быть, каждый из них лишился того, что ему дорого в жизни; не говоря уже о материальных потерях, кто поручится, что они увидятся вновь с теми, кого они любили, кто с ними еще несколько минут назад разделял эти мелочи повседневной семейной жизни, которая кажется пустяком, пока мы ею пользуемся, но потеря которой так ужасна, когда от нее остается лишь одно воспоминание?
Потерпевшие крушение ждали наступления дня с лихорадочным нетерпением. Морская зыбь сильно трясла шлюпку; пассажиры, привыкшие только к небольшой качке «Дюранса», чувствовали себя очень плохо. Иногда волна набегала на лодку, что вызывало крики у женщин, думающих, что они тонут.
Наконец сквозь туман слабо пробился луч… и вдруг, подобно разрывающемуся парусу, туман рассеялся и исчез перед лучами восходящего солнца.
Тускло-серое море виднелось вокруг лодки на бесконечном пространстве; ни одной точки, никакого признака того места, где погиб «Дюранс». Что же касается других лодок, они тоже исчезли, точно улетучились вместе с туманом.
Воскресшая на минуту надежда у потерпевших крушение пропала. Они были совсем одни. Трудно вообразить себе более ужасное, безвыходное положение! Вода начинала бурлить, принимая более прозрачный и синий цвет. Это был для всех очень тяжелый момент. Наступил утренний пронизывающий холод. На светло-голубом небе всплывали красноватые облачка, легкие и воздушные, как перья. Солнце с каждой минутой становилось ярче, и его благодатные лучи, высушив измокшие одежды несчастных, доставили им первое приятное ощущение после катастрофы.
С наступлением дня Колетта с лихорадочной тоской окинула взглядом всю лодку. Кого-то из своих она найдет среди окружающих ее лиц?.. Мать?.. отца?.. Жерара?.. Генриха?.. Мартину?.. А что если никого из них нет?.. При этой мысли ей чуть не сделалось дурно; слезы мешали ей смотреть. Она смахнула их… Почти никого она не знала: это были по большей части пассажиры носовой части, которых она даже никогда не встречала… Ее матери — увы! — здесь не было. И хотя она это знала, но уверенность, подтверждающая печальный факт, была слишком тяжела; она зарыдала… Осматриваясь дальше, она узнала Ле-Гуена, правившего рулем. Ей было приятно встретить доброго матроса в такую горькую минуту; сколько раз, бывало, она вместе с Жераром давала ему мелочь на табачок, необходимый для его счастья. А там, на том конце лодки, доброе загорелое лицо, улыбающееся сквозь слезы, — это Мартина!.. Они издали протягивали руки друг другу… Глаза молодой девушки вдруг видят в нескольких шагах, на дне лодки лежащий силуэт с белым лбом… Это Жерар!.. Мертвый?.. Заснувший?.. С отчаянным криком она бросилась к нему, не обращая внимания на протесты соседей. Она упала на колени перед своим юным братом. Как он бледен! Огромный багровый синяк на его лбу показывал, что он сильно ушибся. Она стала обнимать его и умолять выйти из этого состояния; вскоре она с радостью увидела, что он открыл свои измученные глаза.
— Жерар, дорогой мой, что с тобой?.. Ты ранен? — спрашивала Колетта с тревогой.
— Я споткнулся о борт, — пробормотал Жерар с мутным взглядом и с трудом выговаривая слова. — Но… это ничего… пройдет… Где остальные?.. Ах, да! Я теперь помню… Меня спустили насильно… О! Колетта! «Дюранс»-то! Все кончено?.. Все погибло?..
Не будучи в силах говорить, она только утвердительно кивнула головой.
— А папа, мама, Генрих?.. — воскликнул Жерар, приподнимаясь.
— Их здесь нет, — едва выговорила Колетта сквозь слезы. — О! как я рада, что хотя мы-то с тобой вместе.
— Но другие… лодки?..
— Я не знаю, где они… только что взошло солнце, и посмотри!.. Мы одни… Кругом ничего… ничего… ни души!..
— Но они не могут быть далеко от нас! Это уж очень странно! О! только бы они не пошли ко дну!..
— Нет!.. Нет!.. — воскликнула Колетта, содрогнувшись при такой ужасной мысли. — Вспомни, что нам рассказывал Ле-Гуен, — он здесь, в конце лодки, а также и Мартина! Ты знаешь, что в море ситуации меняются неожиданно быстро. Довольно десяти минут, чтобы все изменилось к лучшему или к худшему… Часто какая-нибудь волна или туман могут скрыть от нас вещи, которые находятся от нас всего в нескольких сотнях метров… О! если бы он говорил правду! Если бы они были близко от нас, наши бесценные родители, наш Генрих, наши друзья!..
В волнении она прячет лицо в своих руках и горько плачет; бедняжка Жерар, сам вытирая свои глаза, старается удержать дрожание губ и в свою очередь внушить сестре уверенность, которой сам не чувствует.
— Ты права, Колетта, — говорит он, — они должны следовать по тому же пути, как и мы… Может быть, их понесло течением… Но мы встретимся на суше…
— Лина в лодке, — сказала Колетта немного погодя. — Бедняжка!.. Она еще несчастнее нас, у нее никого нет, она… Мама так любила ее… — прибавляет она разбитым голосом и, уронив голову на плечо Жерара, перестала сдерживаться.
Бедный мальчик искусал себе губы, чтобы не расплакаться. Он должен был утешать, поддерживать свою сестру, заменить ей покровителей, которых она лишилась. Он обнял ее.
— Ну, будет, голубчик, — нежно, но решительно остановил он ее. — Мы должны быть неизмеримо счастливы, что нас не разлучили; будем надеяться, что и наши дорогие отсутствующие или в одной лодке тоже, или близко от нас и мы скоро найдем их… Как говорит Ле-Гуен, одного часа бывает довольно, чтобы многое изменить на море. Почем знать! Может быть, сегодня же вечером мы их встретим на каком-нибудь судне, приютившем их. Невозможно, чтобы мы не встретили ни одного корабля… Это море — судоходное… Удивительно, что мы до сих пор еще ни на кого не напали. А! негодяи, трусы! ночью… — добавил он, вздрагивая. — Так бросить нас! Какая подлость!..
— О, да! Это возмутительно! — воскликнула Колетта. — Это не может быть французское судно, я в этом уверена!
— За это-то мы можем быть спокойны. Летописи наши могут засвидетельствовать, что наши моряки скорее всех других готовы рисковать своей жизнью, чтобы спасти погибающих. Улепетнуть так и оставить нас гибнуть по их же вине!.. Как это низко, гадко!..
— Бедный капитан Франкер! — пожалела его Колетта. — Он так любил свое судно!
— А дорогой доктор Ломонд!.. — вздохнул мальчик. — О! как бы я хотел знать, что они все живы и здоровы!.. А Генрих… Ты видела, как он защищал выход?.. Ах, если бы я мог остаться с папой и с ним! Но волей-неволей пришлось спуститься… у меня не спросили моего мнения… уверяю тебя!.. В один миг спустили! Я не успел опомниться, как мы уже отчалили…
— Слава Богу, — воскликнула Колетта. — О, Жерар, какое утешение в нашем горе, что мы — вместе!
— Это правда! Будь спокойна, моя Колетта, я тебя не дам в обиду!.. — сказал Жерар, выпрямляясь. — А эта тоже моргает своими совиными глазами… Ее тоже надо охранять, — добавил он с важностью.
— Что твоя голова? Все еще болит? — с заботливостью осведомилась Колетта.
— Ба! Это ничего, пустяк! Надо приспосабливаться к обстоятельствам! Я немного ошеломлен, но это пройдет…
— И мне нечем сделать тебе перевязку, бедный ты мой мальчик. Ах! Как я испугалась, когда увидела тебя там, такого бледного и без движения!
— В обмороке, точно слабую женщину! — сконфузился Жерар. — Честное слово, мне кажется, что это со злости, что меня против желания спустили вниз как узел!..
Колетта повернулась к Лине, которая только что очнулась от лихорадочного сна. Дрожа от утреннего ветерка, она смотрела своими близорукими глазами, стараясь узнать, кто ее окружает. Она очень обрадовалась, когда увидела Жерара, которого на судне она так боялась, и узнала, что Мартина и Ле-Гуен были здесь. Дети начали так же, как и их спутники, внимательно смотреть на горизонт, поглядывая в то же время на странные костюмы друг друга.
Жерар был одет, но без шапки. У Лины не было башмаков, и длинный ульстер, которым ее закрыли, свисал вокруг нее. Колетта же успела обуться и не забыла захватить свою шляпу. Глядя на нее, в ее голубом костюме, в коротенькой жакетке с капюшоном, нельзя было подумать, что она только что потерпела крушение.
К счастью, Лина нащупала в карманах ульстера белый шерстяной берет, сложенный вчетверо, и большой шелковый платок, из которого Колетта тотчас же смастерила ей капор, который мог защитить ее от палящих лучей солнца. Берет она предназначила Жерару, который был очень доволен, что мог прикрыть голову от нестерпимой жары.
Остальные же, менее предусмотрительные, чем семейство Массей, были большей частью полуодеты, и почти все — босиком.
Мартина была почти совсем одета. Она уже давно издали поглядывала на «своих детей» и не могла дольше вытерпеть разлуки с ними; несмотря на энергичные протесты соседей, она бросилась по узкому проходу лодки, отчего та, конечно, зашаталась, к молодым Массеям и с волнением прижала их к своей груди, заливаясь горькими слезами.
Ей неохотно освободили место, так как несчастье вместо того, чтобы сблизить людей, часто портит их характер; но, не придавая значения ворчанию своих сотоварищей, она расчистила себе порядочное местечко и, обняв одной рукой Колетту, другой — Лину, во весь рот улыбнулась Жерару, дружественно кивнула головой Ле-Гуену и стала сравнительно спокойно ожидать хода дальнейших событий.
ГЛАВА V. Первые африканские впечатления
Положительно лодка была одна на беспредельном пространстве моря. Вдали со всех сторон виднелась закругленная линия опускающегося небесного свода и ни малейшего признака появления какого-либо судна.
— Ей-ей!.. — проговорил Ле-Гуен, — дело плохо!.. Как тут узнать, где мы находимся? Одно солнце показывает восток. Но надо решить, куда мы едем!..
— У меня есть маленькая карта Африки и компас, с которыми я никогда не расстаюсь! — обрадовался Жерар. — Хотя он и невелик, все же поможет нам определить стороны света!..
— А, мосье Жерар, вот это, что называется, блестящая идея! Значит, мы могли бы держать путь к берегу Африки, которая должна быть недалеко к западу. Если бы я мог сообразить, где мы были вчера, когда появился этот проклятый туман!..
— Я знаю где! — сказал Жерар. — После нашего отъезда из Марселя я все время следил за направлением судна. Мы были на 19°15′ 3? северной широты и 34°5′ восточной долготы.
— Так!.. Это я понимаю. Как видно, любопытство приносит иногда пользу. Значит, по-вашему, в скольких милях мы были от Африки?
— Ну, конечно, в сорока или пятидесяти морских милях приблизительно… недалеко от берега Ажана, как говорил доктор.
— Гм… интересно бы знать, какой народ мы тут найдем?
— О! народ неважный… Сомали, если не ошибаюсь…
— Что касается этого, — вмешалась Колетта, — то все эти племена ненавидят европейцев: самали, мандарасы, нжимпсы, зулусы, макалолосы, суакелисы, кафры и готтентоты…
— Однако, мадемуазель Колетта, откуда вы их так знаете, этих язычников? — удивился Ле-Гуен.
— Я много читала о них, Ле-Гуен, все они очень нехорошие люди!..
— Ах ты грех! — воскликнула Мартина. — Верно, все людоеды?
— Надеюсь, что нет, милая Мартина. Кажется, что людоедство исчезло теперь, по крайней мере, на этом материке… но они свирепы, жестоки, алчны… Не дай Бог попасться к ним в руки…
— Эй, Мартина!.. Что, если бы тебя поймал людоед, — начал шутить Жерар, к которому уже возвратилась его природная веселость, — каких бифштексов он нарезал бы из тебя!.. У него потекли бы слюнки при одном взгляде на тебя…
— Не говорите глупостей! Э! Так я ему и дамся…
— Ай!.. — воскликнула вдруг Колетта, — Жерар, посмотри-ка! Вон там!..
Она указывала на точку в синей воде, прозрачной как кристалл. Перегнувшись через борт, Жерар увидел на глубине двух метров длинный силуэт акулы с приплюснутым носом и громадной пастью; она распустила хвост веером и казалась неподвижной.
Лодка делала в час около пяти километров, чудовище неотступно следовало за ней… Жерар отшатнулся от ужаса. Все в невыразимом страхе смотрели на ужасного зверя… Может быть, им суждено было погибнуть от этой отвратительной пасти… Ле-Гуен плюнул в воду с презрением.
— Подлая тварь! — закричал он, показывая акуле кулак, — чего ты лезешь за нами, а?.. Ты воображаешь попробовать нас… но погоди, голубушка!..
И, схватив весло, он изо всей силы ударил им по голове животного; лопатка даже сломалась, но удар ошеломил ее, так как, зашевелив быстро хвостом, она нырнула, оставив на поверхности воды блестящие пузыри.
Когда вода приняла свой обычный вид, акулы уже больше не было.
— Иес! О, Господи!.. — повторяла Мартина, крестясь. — Какое чудовище!.. Иес!.. Когда-то мы будем на земле!.. Подумайте, какая встреча! Мне кажется, что я видела черта!..
— Без таких встреч не обойдешься в этих краях, мадемуазель Мартина! — сказал Ле-Гуен. — Акулы родятся в этих морях, а потому и понятно, что они здесь шатаются…
— Ах! Боже милосердный!.. Ну, скажите, к чему существуют такие гадины?..
— Разве их много здесь, Ле-Гуен? — спросила Колетта, еще бледная от страха. — И они всегда нападают?..
— О, этого нельзя сказать, мадемуазель Колетта! Не надо беспокоиться из-за такой дряни… да, когда они увидят в воде человека, то обыкновенно подплывают к нему сзади, и трах!.. Вы не успеете опомниться, как они откусят у вас руку или ногу — Но с лодкой они ничего не могут поделать…
— Однако они любят плыть за судами; доктор Ломонд несколько раз показывал мне акулу.
— Это потому, что они знают, что с кораблей бросают кости, куски говядины, овощи, а так как эти твари очень прожорливы, то они и надеются поживиться лакомым кусочком. А вот эту, конечно, привлекло свежее мясо…
— Ой! какой ужас!.. — воскликнула Колетта, вздрагивая.
— Да, это противные животные, — заметил Ле-Гуен, потряхивая головой. — Но бояться их нечего: мы постараемся не попасться им…
— О, скорей бы пристать к земле, — не удержалась бедная Колетта, но, встретив взгляд испуганной Лины, которая прижималась к ней, она попыталась улыбнуться.
— Мы скоро приедем, не бойся! Благодаря этим добрым людям, которые так дружно гребут, мы можем быть спокойны. Подумай, как хорошо, что у Жерара есть компас!.. Мы уже наверное не потеряемся, ведь правда, Ле-Гуен?
— Совершенно верно, мадемуазель Колетта; с этим инструментом нельзя заблудиться; разве только если ослепнешь…
Солнце уже давно поднялось, и жара делалась нестерпимой.
Утренний ветерок совсем прошел. Море было спокойно. Только легкие волны шли к западу, что значительно облегчало труд гребцов, так как земля должна была находиться именно в этом направлении. Жара сделалась такой сильной, что пот градом катился со лба потерпевших крушение. Жажда поскорей пристать к земле чувствовалась всеми, тем более, что опасность всегда могла застигнуть врасплох простую лодку, да и провизии было очень мало: мешок сухарей и небольшой бочонок пресной воды, брошенные наскоро в лодку при ее отплытии. Из десяти гребцов было только два матроса, кроме Ле-Гуена. На всех лицах отражалась безмолвная тоска.
Но Колетта не унывала; от нее никто не услышал никакой жалобы; она изо всех сил старалась утешить своих несчастных соседок: Лину, изнемогавшую от усталости, и Мартину, которую один вид акулы довел до жалкого состояния. Эта шестнадцатилетняя девушка с самого момента несчастья выказывала сокровища своего сердца — храбрость и покорность; вместо того, чтобы упасть духом под гнетом ужасающего одиночества и беспомощно хныкать, подобно большинству ее спутников, ее глаза не переставали вглядываться в горизонт во всех направлениях, и в них никто не мог заметить ни на одну минуту выражения страха. Такая энергия Колетты служила для всех уроком. Вскоре и Мартина, следуя ее примеру, перестала ныть. Она взяла к себе на колени Лину, отяжелевшая голова которой повисла на руке Колетты, и, покрыв своей юбкой ее плечи, начала укачивать ее как малого ребенка; скоро девочка заснула, забыв все свои невзгоды.
День казался нескончаемым благодаря всем пережитым страданиям: голоду, жажде и жаре. По всеобщему согласию, Ле-Гуену поручено было хозяйство. Боясь, что еще, пожалуй, предстоит пять или шесть дней пути, он очень скупо оделил всех пищей.
Потерпевшие крушение особенно страдали от жажды, а вид сверкающей перед их глазами воды еще усиливал ее.
Наконец солнце зашло. На небе показались мириады звезд, серебристая луна осветила несчастных своим бледным светом, показавшимся им благодатным после дневного зноя.
Настала ночь, тихая и приятная. Мужчины гребли по очереди; Жерар, умевший прекрасно грести, исполнял свою обязанность наравне с другими. Второй день был такой же мучительный, как и первый, и тоже прошел без приключений, если не считать того, что путешественники увидели на горизонте дым большого корабля, который прошел мимо и исчез, не зная или не заботясь о несчастных, простиравших к нему руки.
Вечером, около девяти часов, выпили весь остаток воды до последней капли.
Следующая ночь показалась всем чересчур длинной; жалобы и стоны возобновились. Лишь только на востоке показалась заря, Колетта, не смыкавшая глаз, посмотрела на горизонт. О, радость! На западе виднелась масса темных туч. Слишком привыкшая к морю, чтобы принять эту массу за простые тучи, она радостно воскликнула:
— Жерар!.. Мартина!.. Ле-Гуен!.. Земля!.. Земля!..
Все вскочили. Действительно, там, вдали, была видна земля.
Несколько минут продолжалось радостное волнение, восклицания, крики, счастливый смех…
Взялись за весла с новой силой. Вскоре все подробности обозначились. Это был остров, красовавшийся как жемчужина среди голубых волн океана. Середина острова, покрытая густым лесом, выступала из песчаных берегов, на которые набегали пенящиеся волны.
Жерар и Колетта, несмотря на радость при виде земли, не могли удержаться от горького сожаления, что это был только остров, так как им больше всего хотелось бы пристать к Африке, к которой, конечно, стремились и их родители, и где они надеялись встретиться. Но все же они разделяли счастье своих спутников, и когда наконец киль лодки задел за песок, и их ноги почувствовали под собой столь пламенно желанную землю, брат и сестра обнялись с облегчением.
Первым долгом все набросились на кокосовые пальмы, росшие совсем близко. Молодой матрос в один миг вскарабкался наверх и набросал оттуда массу орехов к ногам своих спутников. Все стали пить свежее душистое молоко и делить сочную мякоть; в ста шагах журчал ручеек, вода в нем была пресная, и все с наслаждением напились из него. Остров казался необитаемым. Дикие фрукты росли на нем в изобилии; на берегу огромные черепахи отложили свои яйца, которые многие из вновь прибывших принялись высасывать сырыми. Масса птиц летала, никого не пугаясь, вероятно, потому, что еще впервые видела человека. Один из путешественников, пустивший в них камнями, дал им первый урок, что следует бояться присутствия человека.
После того как все отдохнули, Ле-Гуен, Жерар и другие отправились исследовать остров. Они возвратились только к вечеру и объявили, что остров совсем пустынный, что он имеет около двадцати километров в окружности, что в середине его непроходимый лес, но что местность вообще вполне годится для обработки и удобна для поселения. С небольшого холмика на горизонте к западу виднелась огромная темная стена. Все единодушно решили, что это должна быть Африка.
И тут же подняли вопрос, ехать ли туда или нет.
— Но, право, торопиться нечего! — воскликнул один из матросов, Петр Денвер, разваливаясь на песке. — И здесь совсем не худо!.. Не надо чистить медь, не надо мыть палубу!.. Только ешь, пей да спи… просто земной рай!..
— А потому и я намерен остаться тут, пока меня не вытребуют! — добавил второй матрос.
— Как! — возразил Жерар. — Значит, мы не можем рассчитывать добраться до Африки?.. Остаться здесь, без всяких сообщений с цивилизованным миром, отрешиться от надежд… Нет, это было бы безумием. Чего же проще переправиться к тому берегу, раз у нас есть хорошая лодка?.. Подумайте, через каких-нибудь двенадцать или пятнадцать часов мы были бы в Африке!
— Благодарю покорно! — резко ответил Петр Денвер. — Отправляться на поиски большой земли? Разве у нас тут не земля, не все ли равно, велика она или мала?.. Найдем ли мы еще землю лучше этой, с такой массой фруктов, деревьев, рыб и птиц? Лучше удержать то, что имеешь, а не гнаться за неизвестным.
— Но наши родители! — вступила Колетта в разговор, складывая руки. — Если они не погибли, то они отправятся в Африку. И только там мы можем встретиться с ними.
— Найдете ли вы их или нет, до этого мне нет никакого дела! — возразил Денвер. — Если вы рассчитываете таскать меня с собой в поисках их, то ошибаетесь, предупреждаю вас.
— Ну, что ж! Вам никто не мешает остаться здесь, если вам это нравится, — решительно заявила Колетта — но отчего же желающим не попробовать отправиться в Африку.
— Та, та, та!.. Моя хорошенькая малиновка… Для такой маленькой птички вы поете слишком громко… Спросите-ка лучше других, что они думают по этому поводу…
— Хорошо, я согласна! — воскликнула Колетта. — Кто предпочитает остаться здесь?
— Я! я! я! И я тоже!.. Я!.. — закричали со всех сторон.
— А! а! вот видите? — сказал Денвер насмешливо.
— А кто хочет попытаться остановиться в Африке?
— Я! — заявил Жерар.
— И я, мадемуазель Колетта. Хотя это и неблагоразумно, но я не расстанусь с вами… — сказал Ле-Гуен.
— И я, конечно, — проговорила Мартина.
— И я! — пробормотала Лина, прижимаясь к молодой девушке.
— Пять против двадцати трех!.. — воскликнул Денвер. — Побита моя бедная девчоночка!..
— Но те, которые хотят остаться, не могут же удержать нас от поездки. Какое им дело до нас? — спросила Колетта, скрывая свое беспокойство.
— Гм… А лодка-то? Было бы несправедливо отдать ее вам; она может понадобиться нам самим… Впрочем… мне все равно!.. Я не люблю плавать в таких скорлупках; я уже довольно пожарился на солнце и помучился жаждой среди воды… Денвер останется здесь, пока настоящее судно не возьмет его отсюда… А там делайте, как хотите… Мне решительно все равно, но я не тронусь с этого острова…
Начался оживленный спор: одни хотели оставить лодку, другие соглашались отдать ее путешественникам. Наконец несколько добрых людей, тронутых волнением Колетты, прекратили разногласие, предложив желающим доплыть до берега, оставить их там, а затем вместе с лодкой вернуться обратно к своим спутникам. Колетта и Жерар так спешили покинуть остров, боясь, что их товарищи по несчастью изменят свое мнение, что уговорили Ле-Гуена отплыть ночью. Сделав наскоро запас бананов, яиц и свежей воды, они снова уселись в лодку; Ле-Гуен, Жерар и еще двое других взялись за весла и стали удаляться от острова, преследуемые насмешками безжалостного Денвера.
С восходом солнца им оставалось несколько километров до берега, виденного накануне. Низкий, длинный, покрытый лесом и роскошной растительностью, этот берег поразил их при первых лучах солнца. Eго внушительный вид доказывал, что на этот раз перед ними был не остров, а сама Африка — огромный черный материк, почти не тронутый цивилизацией, находящийся во власти варварства, зверства, невежества… и здесь-то бедные дети мечтали пуститься на поиски своих родителей!..
К десяти часам утра они подъехали к земле. Волны гнали их к берегу с неимоверной силой. По совету Ле-Гуена, они ухватились за борт шлюпки, чтобы их не снесло, но вот вал отбросил их в бухточку, на берегу которой стояли гиганты-деревья, дугообразные корни которых расползлись в воде.
Воздух здесь был особенный, напоенный пряным, одуряющим запахом, который они почувствовали еще в море и который Ле-Гуен и матросы назвали «запахом Африки».
Наконец они причалили и выскочили из лодки. Теперь они на большой земле. Первая часть их путешествия пройдена. Но куда именно попали потерпевшие крушение, никто не знал, и спросить было не у кого. Они были окружены великанами-деревьями с громадными корнями, невиданной доселе растительностью: пальмами с фруктами, гвоздичными кустарниками, манговыми деревьями с переплетающимися между ними лианами. Почти везде берег был обрамлен громадными алоэ, точно ограждавшими его от чужеземцев; деревья с громадными шипами, ядовитые молочайники и масса всевозможных кустарников, образовавших сплошную стену, придавали этому берегу далеко не гостеприимный вид… Но это была земля, это была Африка!.. Это был первый шаг к Трансваалю, куда, несомненно, стремятся все члены семьи, пережившие катастрофу…
А потому брат и сестра радовались от всего сердца, вступив на эту неизвестную землю. Они искренне благодарили людей, привезших их сюда. Последние приготовились к отдыху, в котором они так нуждались; затем, подкрепив силы и пожав в последний раз руки своим покидаемым товарищам, сели в лодку и поехали обратно к острову, который смутно виднелся на горизонте, точно большое пятно аспидного цвета.
ГЛАВА VI. На черном материке
— Ну, что нам теперь делать? — спросил Жерар, прерывая молчание, напавшее на путешественников после исчезновения лодки.
— Надо посоветоваться сначала! — ответил Ле-Гуен, усаживаясь на песок и очищая банан, который он принялся есть. — Вы желаете, насколько я понял, мадемуазель Колетта, и вы также, мосье Жерар, отправиться в Трансвааль, где надеетесь разыскать своих достопочтенных родителей?
— Да, дорогой мой Ле-Гуен, — ответила Колетта. — Так как это была цель нашего путешествия, то, понятно, нам хотелось бы добраться до Трансвааля, куда отправятся и те, кто пережил эту ужасную ночь… — добавила она совсем тихо, закрыв лицо обеими руками.
— Конечно, и другие остались живы, так же, как и мы, — добродушно сказал Ле-Гуен. — Отчего им помирать, скажите на милость? Если их понесло течением, то наверное их подобрал корабль, который нам попался навстречу; почем знать. Не бойтесь, милая барышня, они живы и здоровы!..
— Будем надеяться и сделаем все, что можем, чтобы найти их! — вздохнула Колетта. — Господин Вебер тоже ехал в Трансвааль, значит, и он будет там. Все наши старания должны быть направлены к этой цели; там — центр нашей встречи, а так как вы последовали за нами из одного великодушия, добрый наш друг, то и вы отправитесь с нами туда же!
— Правильно, мадемуазель Колетта!.. Куда пойдете вы, туда же и я за вами, честное слово Ле-Гуена!
— Теперь надо решить вопрос, как нам туда добраться! — начала Колетта, благодаря улыбкой доброго моряка. — Чтобы нам не заблудиться, а также, чтобы нас заметили с какого-нибудь судна и оказали помощь, — не лучше ли нам держаться береговой линии?
— Конечно, да! — ответил Ле-Гуен. — Если мы направимся вглубь, где мы не знаем ни одной собаки и нас никто не знает, это все равно, что самим проситься в волчью пасть. Мы наверное заблудились бы, совсем как отряд мальчиков с пальчик.
— Что верно, то верно, и компас мой тут не помог бы, — заметил Жерар. — Итак, мы идем по берегу…
— А по вечерам будем останавливаться для ночлега и будем зажигать огонь как маяк… Если будет проходить корабль, то он направится к нам…
— Просто и ясно как день! — прервал Жерар, подбрасывая свой берет. — Итак, в дорогу! Мы скоро придем в Трансвааль, ты увидишь, Колетта!
— Разве нам надо войти в этот лес?.. — спросила Лина, испуганный взгляд которой старался проникнуть сквозь непроходимую стену деревьев.
— Как же, без этого, милая моя, не обойдется! — добродушно ответил Ле-Гуен.
— Но… львы!.. змеи!.. тигры!.. — бормотала Лина, вытаращив глаза от ужаса.
— Ге, ге! пожалуй, мы и натолкнемся на них где-нибудь, — сказал Жерар, — только не на тигров, их нет в Африке, не правда ли, Колетта?
— Нет, вот в Индии их очень много. Но что же делать, Лина, надо быть готовым ко всему. Львы могут напасть на нас, если им это понравится.
— Это верно! — сказала Мартина. — У нас нет с собой дверей, чтобы запереться от них.
— Будем внимательно следить, вот и все, — сказал Ле-Гуен. — Кстати, посмотрим, какое у нас оружие. У меня, во-первых, имеется нож, — продолжал он, показывая небольшой ножик с треугольным лезвием, кожаные ножны которого торчали из-под его красного фланелевого кушака. — Затем при мне топорик; я его захватил, когда раздалось приказание капитана садиться в лодку. А мои карманы… Посмотрите-ка, что у меня там… пробочник, платок, несессер с наперстком, нитками и иголками. Итак, нитки, иголки, булавки… раз, два, три, четыре су… монета в пять франков (жаль, что не золото), мешок табака, трут… Ах, черт побери!.. Я забыл мою трубку!.. Вот досада-то!.. Какая жалость!.. Трубка, с которой я не расставался целых пять лет!.. Это, можно сказать, большое несчастье!..
— Может быть, Жерар смастерит вам другую; он все умеет! — попробовала утешить его Колетта, тронутая печалью доброго моряка.
— Ах, мадемуазель Колетта, вы думаете, что это так легко — заменить старую трубку; видно, вы тут ничего не понимаете, не в обиду вам будет сказано! — воскликнул Ле-Гуен, грустно поникнув головой. — Но нечего делать… Подумать только, что моя любимая трубка теперь в зубах какой-нибудь акулы!.. Этакий я дурак!.. И о чем только я думал, чтобы забыть мою трубку!..
— Не горюйте, — сказал Жерар, — я попробую сделать вам другую. А теперь посмотрим, что у меня есть. Во-первых, мой компас. Мой маленький револьвер на шесть зарядов, который мне подарил Генрих в день отъезда; мои часы, монета в десять франков, коробка спичек, носовой платок, норвежский ножик… вот и все!.. Даже пистонов больше нет, нечем заменить их после выстрелов!.. — добавил он, опечалившись.
— У меня есть ножницы, которые висят на моем переднике, — сказала Мартина, — подушечка с булавками и все, что нужно для шитья, как у Ле-Гуена, мой кошелек, три носовых платка (я всегда запасаюсь ими), вот и все.
— У меня, — сказала Колетта, — часы, мой золотой кошелечек с монетой в двадцать франков, мой карманный несессер… Но, что я считаю самым важным, — это моя гребеночка, щеточка и ногтечистка!.. Благодаря этому мы не рискуем превратиться в настоящих дикарей… И еще мой платок и перчатки; больше ничего нет.
— А у меня ничего нет, только ваше манто! — сказала Лина, сконфузившись.
— Не мешало бы поднять его, это манто, так как от него по кустам тянется королевский шлейф, — рассмеялся Жерар. — Эй, Лина, что если сейчас по нему поползет одна из этих ящериц! — воскликнул насмешливо Жерар и показал на красивую ящерицу изумрудного цвета, по крайней мере в двадцать сантиметров длиной, которая смотрела на незваных пришельцев, высунув свой острый язык. Лина вскрикнула и попятилась назад, но в это время чуть не наступила на огромного паука с желтыми пятнами, точно у тигра; паук убежал вприпрыжку, пока Лина продолжала кричать и пятиться. Жерар и Ле-Гуен так и покатились со смеху. Мартина притянула к себе Лину, вдела нитку в иголку и большими стежками стала подшивать манто, чтобы девочке было удобнее ходить; вдруг Колетта остановила ее.
— Но ведь она босиком! — воскликнула она. — Как она пройдет по этим кустам?..
— Да, это невозможно! — сказал Ле-Гуен, — не говоря уже о том, что ее может укусить какая-нибудь гадина…
— Я дам ей мои гамаши! — предложил Жерар.
— Нет, они ей будут велики и не защитят ног! — ответил Ле-Гуен. — Предоставьте это мне.
Он начал собирать большие, толстые и крепкие листья, начинавшие сохнуть, и сделал из них сандалии, которые и прикрепил ребенку к ногам с помощью длинных эластичных трав, зеленых с белыми полосками. В это время Мартина решилась отрезать излишек от манто и выкроила из него высокие гамаши, которые также увязала вокруг ног Лины; эта своеобразная обувь очень забавляла ее.
— Да! — сказал Ле-Гуен, — теперь она пойдет как мужчина. Ведь правда, моя крошка?
— О! конечно. И как удобно! По крайней мере мои башмаки не будут жать мне ноги.
— А когда они истреплются, мы купим новые за ту же цену! — сказал Ле-Гуен. — Ну, теперь все готовы?
— Все!
— Ну, так двинемся!
Прежде чем вступить под темноватый свод деревьев, потерпевшие крушение, обернувшись, бросили последний долгий взгляд на блестящий океан, теряющийся вдали, точно двигающаяся груда сапфиров. Что скрывалось в этом таинственном лесу? Они невольно представляли себе огромные алоэ, сверкающие глаза змеи, незаметно скользившей по земле или обвивавшей ствол дерева. Странный тропический воздух, делавший жару еще знойнее, жужжание мириадов неизвестных насекомых; птицы с разноцветными перьями, летающие, точно живые огоньки, и издававшие монотонный и жалобный крик, вовсе не похожий на нежное щебетанье птичек Европы, — все это носило странный отпечаток дикости, которая произвела бы неприятное впечатление даже и на путешественников при более благоприятных условиях.
Определив стороны света, двинулись в путь; Ле-Гуен с топором в руке углубился первый в чащу. Местами виднелась узенькая песчаная тропинка, но большей частью путь заграждался густыми кустарниками; иногда растительность делалась такой плотной, что трудно было не потерять совсем из виду океан, который только временами едва просвечивал. Можно было подумать, что здесь не ступала еще человеческая нога. По выходе из светлой бухточки им показалось, что они сразу вступили в непроницаемую мглу; на душе сделалось страшно и тоскливо.
Куда они шли? Куда их приведет дорога, которую они старались проложить себе в этом лесу? Приведет ли к желанной цели надежда Жерара и Колетты найти их родителей? Пройдут ли они без защиты, лишенные всего необходимого, то огромное расстояние, которое отделяло их от цели? И если они избегнут хищных зверей, укусов змей, если они превозмогут усталость, лишения и болезни, то справятся ли они с дикарями, которые страшнее всех прочих опасностей, вместе взятых?
Эти невеселые мысли были в голове у всех, хотя каждый старался не говорить о них, боясь напрасно тревожить других, а потому дорога казалась еще мучительнее.
Путники продвигались с большими затруднениями: им приходилось с помощью ножей и топора пробираться сквозь чащу кустарников и переплетавшихся между собой ползучих трав.
Вокруг раздавались тысячи таинственных звуков: крики вспорхнувших птиц, жужжание насекомых, резвившихся в воздухе, кваканье лягушек; порой же издали доносилось страшное рычание, от которого все вздрагивали, а Колетта и Лина в испуге прижимались друг к другу.
Берег повышался, поэтому шествие становилось еще труднее; к вечеру несчастные вышли на нечто вроде лужайки, довольно высоко поднимающейся над морем.
Все разом остановились, обрадовавшись возможности вздохнуть свободно от душной атмосферы леса.
— Недурно было бы отдохнуть немножко! — заметил Ле-Гуен.
— Отдохнуть! — воскликнула Мартина. — И без вас знаем, господин Ле-Гуен, что давно пора сделать это. А то уж я начала думать, что вы считаете нас за странствующих жидов… Я просто не чувствую ног под собой, а взгляните-ка на этих малюток. Они больше и шагу не могут сделать! Отдохнуть!.. Скажите лучше лечь, выспаться, это будет вернее!..
— Все, что вам будет угодно, мадемуазель Мартина! — с чувством ответил Ле-Гуен, так как еще на корабле добрый парень почувствовал большое влечение к этой славной женщине, и ее присутствие играло немаловажную роль в решимости Ле-Гуена не покидать молодых Массеев.
— Мы переночуем здесь, если хотите, но прежде надо непременно набрать сучьев для сигнального огня, как говорила мадемуазель Колетта утром… Тем более, что этот огонь послужит настоящим маяком, — нас будет видно с моря на несколько миль…
— Да, правда, — сказал Жерар, — но сначала посидим немного. Мы еще успеем набрать хворосту, его здесь не занимать, а сейчас я не могу…
Сказав это, мальчик развалился под высоким деревом, вытянув ноги и закинув руки за голову; он стал зевать во весь рот, как вдруг один корень, на который он облокотился, с резким шипением выпрямился. Остолбеневшие путники поняли, что они все приняли за корень мангового дерева громадную змею, длиной в семь-восемь метров, с плоской, угловатой головой, на которую нельзя было смотреть без содрогания. Жерар тотчас же вскочил на ноги. К счастью, его спасло то, что он наступил на шею пресмыкающегося, голова которого с разинутой пастью оказалась пригвожденной к земле, а потому она и не могла укусить его. Но туловище чудовища вдруг приподнялось и обвилось вокруг ноги мальчика, стиснув его как клещами. Жерар, к счастью, не растерялся и не приподнял ноги, придерживающей голову змеи, которая, извиваясь, все сильнее и сильнее сжимала ему ногу, причиняя невыносимую боль; несмотря на это, он не двигался с места, а только ухватился покрепче руками за ствол дерева.
Но Ле-Гуен был уже около него. Одним взмахом топора он отсек голову ядовитой гадины так близко от подошвы Жерара, что даже задел за башмак… Туловище змеи зашевелилось в конвульсиях, потом вдруг опустилось, освободив ногу своей жертвы. Жерар от слабости упал в двух шагах от отвратительной головы, все еще опасной. Все это произошло так быстро, что обезумевшие зрители едва успели вскрикнуть. Колетта, увидев, что ее брат спасен, бросилась к нему.
— Жерар, дорогой мой, ты ранен! Господи, какое горе! — воскликнула она вслух.
— Нет… Это пустяки, — сказал Жерар, все еще бледный от страшного объятия. — Боюсь только, не сломала ли эта тварь мою ногу.
— Вам очень больно? — спросил Ле-Гуен.
— Нет… То есть да… Может быть, она только онемела.
— Посмотрим, попробуйте встать и поставить ногу на землю…
Жерар послушался и с радостью почувствовал, что его нога не особенно болела, только в ней ощущались холод и тяжесть.
— Если бы не вы, дорогой мой Ле-Гуен, — воскликнул он с благодарностью, — меня бы уже не было в живых!.. Бррр… но какая она противная!.. — продолжал он, отшвырнув ногой желтоватую гадину.
Все столпились вокруг змеи, с ужасом осматривая ее. Лина от страха едва держалась на ногах. Что касается Мартины, то от пережитого волнения при виде опасности, угрожавшей ее мальчику, она точно обезумела…
— Все это показывает, что нам нельзя больше медлить с огнем! — сказал Ле-Гуен. — Сейчас настанет ночь! Львы, леопарды, дикие кошки, змеи, все эти прелести выйдут на прогулку, и если свет огня не удержит их от нас на почтительном расстоянии, то нам несдобровать…
— Львы!.. Сохрани нас Бог от них!.. — воскликнула Мартина.
— Вы думаете, что они тут водятся? — спросила Колетта Ле-Гуена.
— Еще бы, мадемуазель Колетта! Я полагаю, что их тут целые полчища…
— А я думала, что они живут только в пустынях! — сказала Лина.
— А тут разве не пустыня, крошка моя? Настоящая пустыня, только покрытая не песком, а травами и деревьями!.. Один из моих товарищей убил их штук двадцать на африканском берегу… Как доказательство, он потом продавал их по двадцать франков!..
— А может быть, и я убью хоть одного из моего револьвера? — сказал Жерар, развеселившись такой перспективой.
— Льва не убьешь из пистолета, месье Жерар. Для этого нужно ружье большого калибра. Эти звери очень злы, говорил мой товарищ.
— Но тогда лучше было бы остаться в лесу!.. — испугалась Лина.
— А кто им запретит пойти туда за нами? Нет, нет, давайте-ка лучше собирать хворост для огня!.. Это куда надежнее…
Все усердно принялись за работу, позабыв об усталости. Вскоре они набрали большую кучу сухих веток, которые разделили на две части; одну из них решено было зажечь, как только стемнеет, а другую оставить для поддержания костра, который устроили на площадке холма, выступающего из земли, и расположили так, чтобы огонь не доставал до окружающей их зелени. Закусив дикими фруктами и чистой водой, путники разожгли костер, который запылал ярким пламенем, освещая вывешенный Ле-Гуеном на верхушке одного из деревьев сигнал, состоящий из четырех платков Мартины, скрепленных углами, так что получилось нечто похожее на флаг.
Видя, что его спутники изнемогают от усталости, Ле-Гуен объявил, что берет на себя первую четверть ночного дежурства; все остальные, расположившись вокруг костра, вскоре заснули, не заботясь о рычании зверей и реве шакалов, которых Ле-Гуен смутно видел бродящими в тени, с их искрящимися глазами, устремленными с удивлением на огонь. Часа два спустя Ле-Гуен разбудил Мартину, а сам заснул. Продежурив два часа, добрая Мартина с сожалением позвала Жерара, который вскочил и сразу не мог сообразить в чем дело; он подумал, что это колокол в лицее зовет всех спускаться в классы.
Сначала мальчик удачно боролся со сном и подбавил еще сухих ветвей в костер, но потом, чувствуя, что сон одолевает его, начал ходить взад и вперед, свистеть и даже петь, чтобы удержаться от сна…
Но все напрасно… сон пятнадцатилетнего мальчика оказался сильнее. В ту самую минуту, когда Жерар повторял себе: «Я не должен спать, мне надо караулить… Наша безопасность зависит от моего бодрствования…», ноги его невольно согнулись, он тихо опустился на землю и заснул крепче, чем когда-либо. Солнце уже сияло на горизонте, освещая алмазные капли росы, висевшей на зелени. Наши путешественники все еще спали, как вдруг их разбудил крик дикарей. Они все разом вскочили, не понимая, в чем дело.
Их окружили со всех сторон ужасные черные лица. Около тридцати полунагих мужчин, вооруженных длинными копьями, смотрели на них с жадным любопытством, толкая друг друга, чтобы лучше разглядеть, и при этом испускали какие-то дикие гортанные звуки, жестикулировали, кричали, говорили все разом на непонятном наречии.
Ле-Гуен и Жерар хотели схватиться за оружие, которое они положили подле себя. Но оказалось, к их великому огорчению, что от них уже все было отобрано.
ГЛАВА VII. У Сомали
Чернокожие, обступившие путешественников, принадлежали к одному из самых безобразных племен — сомали. Благодаря длинным черепам, низким лбам и необычайной худобе тела, они производили крайне неприятное впечатление. Особенно поражали взор их необыкновенно большие животы, что зависело, конечно, от пищевого режима, которого придерживались почти все их соотечественники: в обыкновенные дни — настоящий пост, а при удобном случае — настоящие оргии, а может быть, на них влияло постоянное употребление в пищу сырых трав, которые образуют вздутие живота.
Большинство из этих людей разукрашивали себя кружками и черточками, которые они вырезали на лице и закрашивали; эти раны придавали им еще более отталкивающий вид. Часть дикарей носила простые передники, на других же были плащи, перекинутые через левое плечо и заходившие под правую руку. Плащи эти были сделаны из тяжелой материи, украшенной внизу яркими цветами и сделанной, как узнали впоследствии, туземными женщинами. Их костюм заканчивался обручами, надетыми на руки и на ноги.
Среди дикарей особенное внимание привлекал молодой человек лет двадцати, как бы затянутый в трико, — до того густо он был разрисован татуировкой с головы до ног. Этот высокий и здоровый юноша был симпатичнее всех своих спутников; одна его нога была выкрашена длинными желтыми и красными полосками, а другая бледно-голубой краской; на туловище чередовались горизонтальные белые и черные полосы; одна рука была красная, другая желтая. Его украшала целая грива волос, заплетенных в мелкие косички. Все это было до того смешно, что Жерар несмотря на свое критическое положение, так и покатился со смеху… Молодой негр, по-видимому, не обиделся этим приступом веселости и, засмеявшись в свою очередь, притянул к себе Жерара за руку, забормотав на своем наречии. Другие же, не обращая на него внимания, продолжали свой спор, перекрикивая один другого и указывая то на путешественников, то на горизонт. Их мимика была до того выразительна, что, не понимая ни слова из их разговора, потерпевшие крушение поняли, что речь шла о том, чтобы увести их куда-то. Но ради какой цели? Этот вопрос их сильно мучил.
Отталкивающая наружность этих людей не говорила в их пользу, а хищнический вид невольно наводил всех на мысль о людоедстве. Однако, раз они не задушили спящих путешественников, то можно было питать надежду, что у них и впредь не разыграются кровожадные инстинкты.
— Подумать только, — воскликнул Жерар в отчаянии, — что это я причина несчастья! Мне поручили стеречь!.. А я вместо того заснул, как бревно!.. Ах, я никогда не прощу себе этого!..
— Вы совсем напрасно обвиняете себя, — прервал его Ле-Гуен, — вы тут совсем не виноваты!.. Наш огонь мог предохранить нас от четвероногих животных… но от двуногих!.. Им от него ни жарко, ни холодно… Я знал, что уберечься от этих молодцов не было никакой возможности…
— Во всяком случае, можно было бы убежать от них, если бы их заметить вовремя.
— Как бы не так! Эти негры ползают как змеи, лазают как обезьяны; они подкрадываются незаметно, как кошки, не говоря уже о том, что эти места знакомы им так же хорошо, как сад вашего батюшки, месье Жерар. Нет, нет, спастись не было никакой возможности. Вы себя упрекаете совсем напрасно. Рано или поздно это должно было случиться, и, по-моему, в обществе этих дикарей нам еще спокойнее, чем одним…
— Ах! если бы еще мой револьвер был у меня!.. — проговорил Жерар.
— По-моему, лучше, что у вас нет его, так как вы уже давно воспользовались бы им и нас за это убили бы. Теперь же, пока мы живы, есть еще надежда на спасение. Верьте мне, лучше не сердить этих негров, ведь их в десять раз больше, чем нас, а эти копья — ассагаи, как их называют, — прескверная штука!.. Вам, конечно, неприятно было бы, если бы мадемуазель Колетту пырнули ими?
Жерар побледнел от ужаса.
— А потому постараемся, чтобы этого не было, — продолжал Ле-Гуен. — Судя по всему, у них нет дурных намерений. А если они непременно хотят увести нас — что ж! Мы тут ничего не можем поделать.
— Как вы думаете, Ле-Гуен, куда они поведут нас? — спросила Колетта, бледная как полотно и не отстававшая от Мартины, которая взяла Лину к себе на руки.
— Кто их знает! — ответил матрос. — Наверное, к себе в деревню, чтобы показывать нас, как любопытных зверей.
— Они съедят нас? — спросила Лина, не будучи в состоянии побороть своего страха.
— Съедят!.. — воскликнула Мартина, содрогаясь. — Иес!.. язычники!..
— Ведь я тебе говорил, Мартина, — проговорил Жерар, улыбаясь, несмотря на ужас положения, — ты слишком лакомый кусочек! Ну, как им устоять от соблазна попробовать тебя?
Но заметив, что Лина была вне себя от страха, он продолжал серьезнее:
— Нет, Лина, не бойся! Посмотри, какое доброе лицо у этого молодца, как он мил с его гривой и костюмом попугая. Невозможно съесть людей после того, как с ними обошлись так вежливо. Это было бы подло!
Успокоенная немного тоном Жерара, Лина решилась посмотреть в сторону испещренного татуировкой негра, который, кривляясь и дружелюбно гримасничая, предложил им прекрасных, свежих бананов. Жерар принял угощение и поделился со своими спутниками, которые с удовольствием поели вкусных фруктов. Молодой негр, казалось, был в восторге от такого успеха своего внимания.
Наконец, после продолжительных переговоров, чернокожие согласились двинуться в путь. Сделав путешественникам знак, чтобы они вставали, дикари окружили их и дали понять, что нужно идти. Сопротивление было бы бесполезно.
Перед уходом пестрый негр по имени Мреко вскарабкался как обезьяна на дерево, достал оттуда платки Мартины и передал их Ле-Гуену. Положительно он не замышлял ничего дурного. По-видимому, он сразу почувствовал большую симпатию к Жерару, так как пошел с ним рядом, взяв его под руку, к чему Жерар отнесся благосклонно; вскоре он осмелился потрогать руками одежду своего нового друга, которая очень занимала его. Особенно гамаши мальчика поражали негра, который назвал их «слоновыми ногами», как путники узнали впоследствии.
Жерар воспользовался случаем поучиться и начал выспрашивать у своего нового друга названия слов на негритянском языке. Взяв руку негра, он ему сказал несколько раз: «Рука? рука?» таким вопросительным тоном, что дикарь наконец понял и принялся кричать: «М'ма!» Жерар повторил это слово, и, продолжая тем же способом, узнал названия головы, черт лица, других частей человеческого тела, название животного, перебегавшего дорогу, деревьев, неба, земли, — одним словом, всего, что их окружало. Мреко очень скоро вошел во вкус своей профессорской роли: он покатывался со смеху над усилиями своего ученика правильно выговаривать, и когда Жерар переставал его спрашивать, то сам поучал его.
Таким образом, показав вдруг на Колетту, он произнес с большой почтительностью: «Ниениези». Его товарищи, повернувшись в сторону молодой девушки, одобрительно закивали головами и в один голос повторили: «Ниениези! Ниениези!»
Пленники поняли, что они дали это имя Колетте, но о значении этого названия догадались лишь при закате солнца, когда на небе возле луны показалась звезда. Показывая тогда то на звезду, то на молодую девушку, Мреко постарался объяснить то, что хотел сказать: он сравнивал Колетту с Венерой, самой красивой звездой; девушка невольно улыбнулась от этой неожиданной и наивной похвалы.
— Черт побери! Да этот Арлекин очень галантен!.. — сказал Жерар. — Я и не воображал, что у него столько вкуса, а потому с этой минуты я готов уважать его, раз он способен любоваться тобой!
— Хотя эти негры, — начал философствовать Ле-Гуен, — сами безобразны, как обезьяны, но им это не мешает распознавать прекрасное. Знаете, если бы им предоставили выбор, то они предпочли бы быть белыми… Но… надо мириться с тем, что есть… Если бы было возможно прибавить к его росту хоть один сантиметр или хоть немного изменить форму его носа… Когда я был молод, как вы, месье Жерар, я очень страдал оттого, что у меня рыжие волосы… мне это так не шло… о! и как еще не шло!.. Однако пришлось мириться… и что вы думаете, я кончил тем, что стал находить, что цвет моих волос нисколько не хуже других!..
— Тэ! конечно, не хуже!.. — вежливо отозвалась Мартина, которая считала его очень красивым.
— А! вы находите, мадемуазель Мартина? — воскликнул обрадовавшийся Ле-Гуен. — Но подумайте, какой я был дурак, чтобы мучиться из-за таких пустяков. И я готов побиться об заклад, что теперь этот негр с радостью переменил бы свою черную кожу, недаром же он ее размалевал радужными цветами!
— Он вас называет «Млижу», Ле-Гуен, — прервал его Жерар, — мне бы хотелось знать, что это значит.
— Кто его знает? Наверное, что-нибудь менее лестное, чем название мадемуазель Колетты.
— Лину они зовут «Нжеркук»; мне кажется, что это просто означает дитя. А тебя, Мартина, они прозвали «Куези», и я убежден, что это значит луна. Не правда ли, как они верно определяют! Они сейчас же сообразили, на что походит твое милое личико…
— А что в нем особенного, в моем лице?
— Для меня оно совершенство; но так как оно имеет круглую форму, то они и сравнивают его с луной!
— Невежа!.. — воскликнула Мартина. — А вас как они зовут?
— Меня назвали «Вагиан». Сам черт не разберет, что они этим хотят сказать!
— «Который ничего не боится», держу пари! — сказала Мартина. — Они, наверное, сразу увидели, что вы не дадите ступить себе на ногу! Однако, они не так глупы, как кажутся. Но луна!.. я бы хотела знать, по какому праву они осмеливаются так называть меня!
— Ты знаешь, моя милая Мартина, — сказала Колетта, улыбаясь, — что у всех восточных народов сравнение лица с луной считается комплиментом. У персов, например, нет большей похвалы; и гурии Магометова рая изображаются с луноподобными лицами. Не считай же это прозвище плохим.
В эту минуту все поднимались на небольшой холм, где черные собирались переночевать. Весь день они шли не торопясь по огромным равнинам, покрытым высокими густыми травами, доходящими до плеч и совсем покрывавшими Лину. Там и сям встречались большие дыры и рытвины, образовавшиеся после прохода слонов; многие места должны были быть болотистыми, но царившая в то время засуха укрепила почву. Иногда, пройдя равнину, путники углублялись в темный лес из акаций. Давно уже море осталось позади путешественников; они двигались по прямой линии, к западу; дорога эта была хорошо знакома их черным спутникам. Несмотря на трудность ходьбы в лесу, среди тропической растительности, путешественники рады были укрыться под эти величественные своды, где приятная прохлада благодушно действовала на них после мучительного зноя на открытом месте. Фрукты тут были в изобилии; со всех сторон цветущие кустарники, магнолии, акации, мимозы, белые и желтые, волшебные орхидеи наполняли воздух своим ароматом, на который негры не обращали никакого внимания.
Эти люди все время не переставали быть вежливыми и внимательными к своим пленникам; они предлагали им фиговые плоды, бананы; останавливались, когда замечали, что Колетта или Лина уставали; одним словом, если бы они не стерегли их, то можно было бы подумать, что у них самые дружелюбные намерения относительно белых.
К ночи был устроен привал. Все заснули, как накануне, под звуки рычания диких зверей и визг гиен. Но усталость была так велика, что даже Лина сразу заснула, положив голову на колени Мартины и позабыв о голосах, доносившихся из пустыни.
На следующий день шествие возобновилось при тех же условиях; Мреко не расставался с Жераром, и хотя от штукатурки негра шел отвратительный запах, Жерар, решивший мириться со всем, переносил его, не морщась, и пользовался возможностью ознакомиться с языком негров, в котором сделал такие успехи, что на следующий вечер уже мог объясняться со своим новым другом. Последний восторгался способностями молодого белого и усердно продолжал учить его, так что вскоре они стали вполне свободно понимать друг друга.
Жерар узнал, что прозвище «Млижу», данное Ле-Гуену, означает: «Человек с бородой»; чернокожие чувствуют большое почтение к людям с густой бородой, а борода Ле-Гуена, разросшаяся на его лице, как кустарник, произвела на них сильное впечатление. «Вагиан» значило, как и думала Мартина, «Смелый»; Жерар, по правде сказать, был очень доволен, что за ним признали это качество.
По объяснениям Мреко Жерар понял, что чернокожие, предприняв прогулку вдоль берега, прервали ее, напав на белых, и решили взять их в плен, чтобы увести к своему начальнику Абруко, родному отцу Мреко, который будет очень счастлив принять таких важных гостей. Он жил в деревне, до которой было пять дней ходьбы.
Но так как присутствие женщин замедлило это путешествие, то только через одиннадцать дней они достигли владений начальника, состоящих из жалких лачужек, великолепие которых Мреко так преувеличивал.
Еще издали обитатели деревни заметили приближение путешественников, и не успели те вступить в деревню, как их окружила толпа мужчин, женщин и детей всех возрастов. Затем белых повели среди невообразимого гвалта к главной хижине, месту жительства начальника Абруко.
Для пленников одиннадцати дней постоянных отношений с чернокожими довольно было, чтобы привыкнуть объясняться на туземном наречии.
Когда белых ввели в жилище Абруко, которому его почетное звание не позволяло выйти к ним навстречу, несмотря на все его нетерпение, они могли совсем свободно высказать свои требования или, вернее, желания, так как, к несчастью, находились во власти этих людей.
Приняв спокойный вид, Жерар все-таки объявил, что они согласны, пожалуй, остаться в деревне, но только с тем условием, чтобы им отвели отдельное жилище; у чернокожих хижины переполнены всякого рода животными, чего европейцы не переносят; там можно встретить и поросят, и кур, и разных насекомых, которых в порядочном обществе не принято даже называть.
Абруко, негр лет пятидесяти, с самыми хитрыми глазами, спросил Жерара, что он даст ему за это.
— Я тебе подарю это «тик-так», — ответил Жерар, заметивший, что его часы возбуждали благоговейный трепет Мреко, — но берегись — если ты мне взамен не сделаешь того, что я прошу, «тик-так» умрет, и ты ничем не воскресишь его. Если же ты построишь нам дом, то мы останемся жить с вами; Ниениези и Куези согласятся показать вашим девушкам работы цивилизованных женщин; но, может быть, ты хочешь отпустить нас, ведь мы тебе не нужны?
— Уэ! — протянул Абруко по-своему. — Отпустить вас!.. И не подумаю. Разве ты не знаешь, что это дар с неба, что мой сын Мреко, отправившийся путешествовать в первый раз, захватил в плен таких людей, как вы? Нет, нет, моеры не легко выпускают из рук свое добро! Я с удовольствием согласен дать вам отдельное жилище, но с тем, чтобы ты дал мне слово, что вы не убежите от нас, иначе вас не выпустят из виду и вы никуда не выйдете из моего дома!
Жерару такое предложение было очень неприятно: он не в состоянии был нарушить свое слово, данное хотя бы африканскому дикарю. Но иначе он тоже поступить не мог, а потому пришлось согласиться. Жерар утешал себя тем, что впоследствии он постарается уговорить Абруко отпустить их на свободу. А теперь, раз им суждено было сделаться пленниками, надо было радоваться, что они попали к дикарям сравнительно мягкого нрава, которые не сделали им ничего дурного.
Итак, Жерар торжественно вложил в руки Абруко «тик-так». Дикарь не скрывал своего восторга и немедленно отдал приказание своим рабам выстроить большое помещение для его друзей, которые сами выбрали себе место за деревней, чтобы избежать неприятной близости с дикарями. Им пришлось с удовольствием признать за этими людьми честность, так как, лишь только Жерар дал Абруко свое слово, их тотчас же освободили и перестали сторожить. Рабочие-негры живо смастерили им хижину с соломенной крышей, устроили ее очень удобно, разделили на две комнаты перегородкой из плетеного тростника; здесь белые могли, по крайней мере, спокойно спать и ждать счастливой случайности, чтобы выйти из этого неприятного положения.
После свидания с начальником, пленники поспешно вышли из его хижины; они чуть не задохнулись в ее спертом воздухе. Деревенские жители тотчас же обступили их со всех сторон; не оставалось ни одного человека, даже самого старого, который не прибежал бы со всех ног и не глазел бы с разинутым ртом на этих людей, которые интересовали дикарей столько же, как нас — обитатели Луны.
Многие из них падали навзничь, крича во все горло. Испуганные негритята прятались за своими черными матерями, убежденные, что белые непременно съедят их; женщины падали к их ногам, моля о пощаде; другие пронзительно вскрикивали; трудно себе представить, какое это было волнение. Колетта, от души смеявшаяся над их испугом, схватила одного из черных мальчуганов двух-трех лет, совсем голого, только с амулетом на шее, с гладкой как атлас кожей, выстриженной головенкой, на которой торчали смешные хохолки; найдя его забавным, она не побрезговала поцеловать ребенка своими розовыми губками в его кругленькую щечку. Негритенок сразу перестал плакать и вдруг ласково улыбнулся ей; хотя крупные слезы еще катились по его личику, он забормотал: «Кабоо, кабоо!» — выражение, означавшее восторг. Как только Колетта поставила его на землю, ее окружили местные женщины, которые, ободрившись ее добротой к ребенку, сразу перестали бояться ее и смотрели на нее с жадным любопытством. Молодые шептались, хохотали, подталкивали локтями друг друга, что проделывают зачастую и их белые сестры в наших деревнях. Все они были маленького роста и красивее мужчин, а между тем, подобно всем африканским народам, с целью украсить себя, они повыдергали себе четыре передних зуба, что уменьшало прелесть их улыбки.
Некоторые из этих бедных девушек, задрапированные в рокко (ткань из древесной коры), со своими вьющимися волосами и венками на голове, отличались даже своего рода грацией. Колетта ласково улыбалась им и, сказав несколько слов на их наречии, позволила подойти к себе, но тотчас же раскаялась в этом: одна из черных красавиц схватила ее шелковистую косу, которая была ниже талии, другие тоже захотели потрогать ее, и заспорив, кому скорее погладить эти чудные волосы, затолкали Колетту; но тут подоспел Мреко, напал на нахалок и в один миг разогнал их. Колетта, изнемогая от жары, сняла свою жакетку; такое простое движение очень насмешило негритянок, которые ничуть не обиделись на расправу с ними Мреко и уже опять начинали приближаться, но объявление, что обед готов, заставило их наконец разойтись.
Как только Абруко узнал о прибытии своего сына в сопровождении знатных иностранцев, он приказал устроить большой пир. В подземную печь опустили двух козлят, начиненных полдюжиной кур, массой попугаев и маленькими обезьянками, что было любимыми кушаньями негров. Пока жарились козлята, приготовили груды бананов, картофеля, пирогов из маниока, риса с шафраном и множество тыквенных бутылок, наполненных «мвенге», — спиртным ликером, шипящим, как шампанское. Этот ликер чернокожие изготовляют из сгущенного сока бананов.
Колетта с удивлением заметила, что малые дети схватывали по пути бутылку и с жадностью пили это мвенге. Позже она узнала, что Абруко гордился тем, что ни разу в своей жизни не проглотил ни одной капли свежей воды. Он считал воду неаристократическим напитком, годным лишь для обыкновенных людей.
Наконец, под однообразные звуки тамтама, Абруко торжественно вышел из своего жилища и пригласил иностранцев занять места около себя.
Угощение отличалось большим великолепием. Женщины, девушки и дети ухаживали за мужчинами, которые ели сначала сами, а им бросали лишь остатки.
Абруко хватал кушанья первый полными горстями и, не стесняясь, ел руками. Когда он догрызал кость, то отбрасывал ее назад; а толпа ребятишек тотчас же начинала драться за добычу, как щенята. Время от времени, облизывая себе губы и кряхтя от удовольствия, Абруко выбирал один из лучших кусков и клал его перед гостями на большой фиговый лист, служивший вместо тарелки. Несмотря на все желание не обидеть хозяина, Колетта чувствовала себя в очень затруднительном положении каждый раз, как ей преподносились такие куски; к счастью, ее выручал Мреко, находившийся недалеко от нее и ног под собой не чувствовавший от радости, что присутствует на таком королевском празднике, устроенным его отцом. Колетта передавала ему эти кушанья, которые тот тотчас же и съедал. Здесь, на банкете, Колетта и Мартина с удовольствием заметили, что несколько дней, проведенных на свежем воздухе, очень благотворно подействовали на Лину; не говоря уже о том, что девочка ела с большим аппетитом, тогда как на «Дюрансе» она с отвращением отворачивалась от пищи, она очень посвежела и даже успела вырасти; ее бледные щеки загорели и порозовели, а плечи ее не казались такими угловатыми; даже ее характер сделался спокойнее; за все время этого трудного перехода она ни разу не хныкала и не отказывалась от услуг своих спутников; вероятно, несчастье раскрыло это замкнутое сердечко, и она перенесла на своих спутников всю свою любовь, которую не могла больше выказывать отцу.
— Бедная девочка!.. — воскликнула растроганная Мартина, — может быть, это путешествие укрепит ее!..
— Как бы мама порадовалась, если бы увидела, что Лина так поправилась, — вздохнула Колетта, лаская взглядом Лину, — как странно, Мартина, — каждый раз, как я смотрю на этого ребенка, я еще живее представляю себе маму. Она ведь не расставалась с ней на корабле.
— Ах! дорогая барыня! Еще бы Лине не любить ее. Такую-то добрую, кроткую даму! Но не надо отчаиваться, моя голубушка! Я видела сегодня во сне всех: и барыню, и барина, и Генриха, словом, всех, совершенно здоровыми! — объявила уверенно Мартина, как будто обладала даром предвидения. — Не беспокойтесь! Мы непременно найдем их! То-то мы порасскажем чудес! Господи Владыко! если бы мои-то знали, где я теперь!
Они и не поверили бы! Я и сама-то не знаю, наяву все это или во сне.
— Грустный сон, моя добрая Мартина, — сказала Колетта, покачав головой. — Дай Бог нам поскорее избавиться от него и быть опять вместе с нашими дорогими родными!
Между тем банкет кончился, и дикари приступили к танцам, до которых были страстные охотники. Гости после выпивки немного пошатывались, но это не мешало им прыгать в такт, под звуки тамтамов, в которые барабанили старухи, сидящие на корточках и подпевающие звукам инструментов, своими пронзительными выкрикиваниями. Танцоры, уставшие скакать, принимались вертеться, как волчки, что большей частью, кончалось падением, и несчастный, одуревший от паров мвенге, здесь же засыпал крепким тяжелым сном, тогда как его товарищи продолжали выкидывать антраша, задевая его ногами по лицу. Другие то и дело прикладывались к бутылкам и затем устремлялись в середину толпы танцующих. Со всех сторон раздавались дикие, хриплые звуки, прыжки делались яростнее, жужжание тамтамов ускорялось. Эти черные лица, мелькавшие при свете большого огня, производили впечатление чего-то фантастического, дикого, необузданного, тогда как остальная часть деревни оставалась в темноте. Не говоря уже о Лине, даже Колетта чуть не потеряла своего хладнокровия. Но необходимость успокоить расплакавшуюся Лину заставила ее сдержаться.
— Не бойся, голубчик, ведь они не злые, они ничего дурного не сделают нам. Это они так веселятся, по-своему.
— О! но они такие страшные, Колетта!.. Я боюсь!..
— Да, нельзя сказать, чтобы они были красивые! — сказал Жерар, — но погоди, Лина, мы сейчас уйдем отсюда, оставим этот содом.
Подойдя к начальнику, который одобрительно смотрел на оргию своих подчиненных, Жерар объяснил ему, что его сестра желает уйти. Абруко хотя и удивился, что с его праздника хотят уйти так рано, но не возразил, и пленники — так как нельзя было их называть иначе — отправились в свою хижину, где постарались запереться как можно крепче, счастливые, что им наконец удалось остаться одним. До самого рассвета до их слуха доносился сквозь сон шум танцев и звуки тамтама.
ГЛАВА VIII. Гости или пленники?.
Моеры были не самым диким народом из черной расы. Они до некоторой степени умели обрабатывать землю, содержали скот, изготовляли одежду из коры и довольно искусно украшали свою посуду, они также выделывали железные обручи, которые носили на руках и ногах. Любопытные, беспечные и веселые как дети, они главным образом страстно увлекались танцами, и казалось, у них вовсе не было кровожадных инстинктов.
Жерар узнал из своих долгих бесед с Мреко, что людоедство еще не исчезло на черном материке, что у многих народов Экваториальной Африки оно более или менее практиковалось.
Чернокожие называют любителей человеческого мяса «валиабанту» — едоки людей. Часто Мреко, рассказывая о каком-нибудь из своих знакомых, прибавлял: он — валиабанту. Однако он с жаром утверждал, что в его племени не было людоедов, что подтверждал и Абруко. Но при этом его лукавые глаза так бегали из стороны в сторону, что трудно было верить его словам, и Жерар не выдумывал, дразня Мартину, что в глазах Абруко он замечал кровожадные мысли.
Что же касается Мреко, то это был добрый парень. Подарив Ле-Гуену еще в начале знакомства трубку, сделанную из горлышка бутылки с тростниковой ручкой, он сразу завоевал себе симпатию славного матроса.
Правда, он сначала преподнес свой подарок Колетте и даже очень огорчился, что «Звезда» не приняла его. Но его внимание осталось все-таки неистощимым. Слыша, что его друзья хотели достать материи, чтобы сшить себе костюмы, он пристал к своему отцу, чтобы тот отправил послов в соседнюю деревню, которая славилась материями с незапамятных времен. Абруко согласился, и в одно прекрасное утро его сын явился с огромным свертком голубой бумажной ткани, которую и положил у ног Колетты. То-то была радость! Они с Мартиной не медля принялись за работу, кроили и шили без отдыха, так что вскоре у всех оказалась смена белья.
Видя это, моерские девушки умоляли, чтобы иих научили шить. Под руководством Мартины они научились понемногу владеть иголкой и сметывать простые платья.
Пленники так хорошо устроились в своем домике, что дикари не могли налюбоваться. Ле-Гуен с помощью Жерара сделал очень удобные сидения из простого бамбука, стол и гамаки.
Вся деревня сбегалась как на пожар, когда распространялся слух, что белые смастерили новое чудо.
С условием, что начальник возвратит им отнятое оружие, Ле-Гуен обещал и ему изготовить такую же мебель.
Колетта сделалась идолом и моделью для всех туземных девушек, которые охраняли ее всюду, как телохранители, что подчас очень надоедало ей; они до смешного перенимали каждое ее движение.
Жители этой африканской деревни вели странный образ жизни. Благодатный тропический климат не вынуждал здесь к работе, и мужчины проводили почти все время в бездействии, растянувшись в тени и куря огромные трубки, так как дикий табак в изобилии рос в окрестностях.
Только женщины немного работали: они расколачивали кору и ткали, вскапывали землю, чтобы рассадить корни маниокового дерева, или собирали просо и растирали его камнями, сидя на корточках и стрекоча как сороки.
В награду за труд они нередко получали побои от своих владык и повелителей; но бедные создания не сознавали всей безотрадности своего положения и вообще отличались кротким нравом.
Домашние работы женщин осложнялись тасканием с собой всюду детей, которых укладывали в кусок коры и привешивали за спину или на бедра. Этот неизменный обычай продолжался до тех пор, пока ребенку не исполнялось двух или трех лет.
Мартина восторгалась необыкновенным плодородием почвы, которую сравнивала с землей своей родины. Чего бы не посадил тут ее отец, старый Дельбуа, который умудрялся из своего крошечного виноградника на каменистой почве добывать три бочонка вина! Собрав кукурузу со своей несчастной десятины, он тут же сажал коноплю и эспарцет, не давая отдыха земле. Боже! если бы он увидел эту плодоносную землю! Мартина от одной этой мысли плакала от умиления и столь трогательной любви крестьянки к своей кормилице-земле.
Ле-Гуен, вспоминая свою бесплодную полосу, поросшую утесником, разделял восторги Мартины. Разговаривая между собой, они представляли себе, что бы было, если бы вдруг, по волшебству, перенести во Францию кусочек этой земли, которой туземцы не умели пользоваться. Матрос не утерпел, чтобы не обработать себе поле, где посеял правильными рядами табак, пшеницу и маниок, а вокруг устроил бордюр из тяжелых тыкв оранжевого цвета. Дикари очень любовались огородом Ле-Гуена и целыми часами, не двигаясь, смотрели на него, наблюдая за поучительной для себя работой.
Колетта с Линой тоже устроили себе садик вокруг дома; им для этого довольно было принести из соседнего леса несколько ароматных цветов, на которые негры не обращали никакого внимания, так как цветы эти не годились для еды. Да и вообще они относились с апатией ко всем чудесам природы; животные интересовали их только как кушанья; им и в голову не приходило приручить хотя бы одного из них, если не считать полудиких собак, бродивших по деревне: моеры не имели понятия о домашних животных.
Мреко был поражен, что белые относятся с таким интересом к этой новой для них флоре и фауне; чтобы сделать им удовольствие, он часто уходил на поиски и всегда приносил им что-нибудь новенькое.
Так, однажды он подошел к Колетте, сидевшей на траве с Жераром, и положил на край ее юбки какой-то предмет, который она приняла за сухую травку. Так как девушка не обратила на принесенное особенного внимания, то Мреко, улыбаясь, громко сказал: «Киромбо! Киромбо!» — и при этом запрыгал от радости, как сумасшедший.
— «Киромбо»! — повторила Колетта, оглядываясь, так как знала, что этим словом называлось живое существо. Она подумала, что около нее какое-нибудь необыкновенное насекомое. Став на колени и взяв осторожно предполагаемую сухую травку, Мреко повторял: «Киромбо… киромбо… моио!» (оно живое!) — и показал ей, что то, что она приняла за травку, было насекомое. Оно принадлежало к семейству прямокрылых, которые своей неподвижностью и сходством с сухими травами, в которых они живут, вводят наблюдателя в полное заблуждение.
Колетта и Жерар, сопровождаемые Мреко, видели и другие примеры такого странного уподобления. Молодой негр научил их, как узнавать одну из самых опасных змей, кожа которой имеет такое сходство со стволами деревьев и сухими листьями, по которым она ползает, что с первого взгляда почти невозможно заметить ее.
В другой раз он прибежал за ними с пальцем, приложенным к губам, и повел тихонько на лужайку, казавшуюся испещренной тенью и проходившими лучами солнца. Когда он довел своих друзей до середины, то вдруг громко расхохотался и захлопал в ладоши. Земля точно зашевелилась, и вдруг со всех сторон поднялись зебры и разбежались в разные стороны. Получилась полная иллюзия; если бы не было очевидности этих бешено уносящихся животных, молодые парижане никогда не поверили бы, что они только что находились среди стада красивых животных, — до такой степени их шерсть походила на узоры, образовавшиеся на земле тенью и солнцем.
— Может быть, и львы желтые потому, что они живут в пустынях! — заметила Лина, которую очень интересовали эти вещи.
— Конечно, они уподобляются пескам, среди которых находятся, и могут незаметно подойти к добыче, а равно и скрыться от преследования.
— Точно также в Сибири медведи белого цвета, подобно снегу, — сказал Жерар.
— А крокодилы, которых мы видели на берегу большой реки, когда мы шли сюда! — воскликнула Лина. — Можно было подумать, что это простые стволы деревьев!..
Так разговаривали молодые пленники, интересуясь всем, что они видели нового в ближайшем лесу: они любовались ягуарами с желтыми пятнами, огромными бабочками, рассматривали саранчу, которая являлась для африканцев неизбежным злом, изучали ослепительную флору; но за всем этим они ни на минуту не забывали дорогих существ, с которыми несчастие разлучило их, и с трепетом ожидали, как и когда они избавятся от этого странного плена.
Однажды в одну из своих прогулок они поднялись на высокий холм, в соседстве с деревней. «Оттуда виден весь мир», — по выражению Абруко, соблаговолившего на сей раз присоединиться к ним.
Пробродив два-три часа, они собирались вернуться в деревню, как вдруг послышался пронзительный долгий крик, который быстро приближался к ним. Все остановились как вкопанные; из высоких трав, сминая их своим громадным туловищем, выбежал огромный разъяренный слон, с поднятыми ушами и хоботом и, не переставая, издавал крики от боли или от злости.
Путешественники посторонились и хотели бежать, но мастодонт приближался к ним, с теми же криками, и вдруг Колетта заметила, что он шел только на трех ногах, а четвертую держал поднятой, точно не мог вынести непосильной тяжести.
— Это животное страдает!.. — воскликнула молодая девушка. — Посмотрите… оно не может ступить на ногу!.. Бедный!.. Он точно просит нас помочь ему…
— Это было бы трудно, — сказал Жерар. — Вот Мреко вылечит его по-своему, — добавил он, показывая, как молодой негр прицеливался в слона своим ассагаем. Ассагай полетел со свистом и вонзился в плечо слона.
Раздался бешеный крик слона, он хотел броситься, но, попробовав ступить на больную ногу, остановился, глухо заревев.
— Это животное ужасно страдает! — повторила растроганная Колетта. — Жерар, не правда ли, этот слон напоминает Голиафа, которого мы видели в зоологическом саду? Помнишь, как мы его любили?.. Я пойду к нему…
— Колетта, ты с ума сошла!.. О чем ты думаешь? — воскликнул Жерар, стараясь удержать ее.
— Нет, пусти меня!.. — возразила девушка; она не могла больше видеть страдания животного. — Разве ты не видишь, как он смотрит на нас!.. я уверена, что он просит нас помочь ему. Да, собственно говоря, не все ли равно, — быть раздавленной слоном или оставаться пленницей Абруко! — тихо сказала она. И не обращая внимания на мольбы Жерара, она вырвалась и бросилась к животному.
Негры, онемев от ужаса, молча смотрели на нее.
Колетта без малейшего страха подошла совсем близко к слону и стала уговаривать его ласковым голосом, как разумное существо. Вероятно, в ее голосе и взгляде была особенная власть, так как слон сразу перестал кричать и, устремив на девушку свои умные глаза, тихо застонал и приподнял больную ногу.
— Да, мой милый Голиаф, тебе больно, — сказала Колетта, гладя его. — Покажи мне твою лапочку… Поди сюда!.. Я тебе ничего дурного не сделаю!..
Она опустилась на колени перед мастодонтом и увидела, что в самую его подошву вонзилась огромная колючка, длиной сантиметров в десять. Колетта взяла его ногу и совсем спокойно и осторожно принялась вытаскивать колючку, пока наконец совсем не вытащила ее. Рана оказалась глубокой и уже была воспалена. Колетта сейчас же вытерла ее и обвязала свежими листьями, затем, поднявшись, вынула из его плеча пущенный в него ассагай и далеко отбросила его.
Трудно себе вообразить удивление негров и радость слона во время этой сцены. Животное начало кряхтеть с облегчением, ласкать хоботом молодую девушку, обнюхивать то ее прелестную голову, то ее тонкие и ловкие руки. Он весело зашевелил своими длинными ушами и завилял маленьким хвостиком. Его умные глаза выражали довольство и благодарность. Колетта, в восторге от своего успеха, гладила раненого, смеялась на его забавные выражения дружбы, точно имела дело с маленькой собачкой.
Опомнившись от испуга, присутствующие приблизились к странной группе и стали рассматривать нового друга Колетты. На негров слон поглядывал недружелюбно, если кто-нибудь из них подходил к нему слишком близко.
Удивительное явление, на которое неоднократно обращали внимание все исследователи Африки, — это предпочтение, оказываемое животными белой расе. На негров они яростно накидываются, давят их, разрывают на клочки, бодают, смотря по тому, какими средствами самозащиты их снабдила природа; для европейцев же они гораздо мягче. Самые свирепые слоны, буйволы и олени чувствуют хорошее обращение с ними; сколько было удивительных примеров их кротости и привязанности к белым, которые приручали их.
Колетта и ее спутники не знали этого. Но поведение Голиафа — его сейчас же назвали так — служило тому ясным доказательством. Поставив осторожно свою ногу на землю, когда путешественники двинулись в обратный путь, он пошел сзади Колетты, как будто решив в своем уме всюду следовать за ней. Негры, все еще боявшиеся его, всячески старались прогнать его, но слон поворачивался к ним с таким угрожающим видом, что им поневоле пришлось отказаться от желания отделаться от него.
Он дошел с ними до самой деревни. Как только пленники пришли к своей хижине, Колетта побежала за бананами и апельсинами, которые Голиаф ел из ее рук с видимой благодарностью. Потом он направился к ручью, протекавшему около самого дома пленников, и начал пить воду большими глотками, после чего повернул в лес, и все думали, что он скрылся навсегда.
Но на другой день, рано утром Колетта нашла его стоящим неподвижно, точно на карауле, около ее жилища. Она осмотрела его ногу, промыла рану, которая стала уже заживать, переменила повязку и так же, как накануне, накормила своего друга сочными фруктами. Слон казался очень чувствительным к такой доброте; весь день он бродил недалеко от деревни, приходя время от времени к девушке понюхать ее лицо и руки. Колетта каждый раз ласкала его и приносила фруктов, которые слон съедал с наслаждением, так что к следующему вечеру они стали настоящими друзьями.
С этого дня Голиаф сделался, так сказать, жителем деревни; он большей частью прятался в ближайшей чаще, где оставался целыми часами, но стоило ему услышать голос Колетты, как он прибегал к ней со всех ног, не только тогда, пока продолжалось лечение его ноги, но и потом, когда его рана совсем зажила и можно было подумать, что он давно забыл о ней.
По просьбе Колетты, Мреко добился от своего отца обещания, что никто не станет преследовать слона. Абруко был так поражен влиянием девушки на этого зверя, которого негры считали неукротимым, что с удовольствием согласился дать формальный приказ не причинять зла «отцу ушей», как негры прозвали слона, по привычке называть людей и животных, упоминая те черты, которые их наиболее поражали. Так, лысого они звали «отец черепа», горбатого — «отец плеч», хромого — «отец ног», толстяка — «отец живота» и так далее, нисколько не стесняясь намекать на природные недостатки, о которых воспитанные людистараются обыкновенно умолчать.
Абруко пользовался неограниченной властью над своими подданными, а потому никто из них не осмелился ослушаться его приказа.
Голиаф сделался постоянным членом племени. К тому же это был выдающийся экземпляр своей породы: настоящий гигант, с блестящими глазами, умным широким лбом, с веселым и умным лицом, если можно так выразиться о морде животного. Ему на вид было лет тридцать, — весенняя пора жизни слонов. У бедного животного было, конечно, очень доброе сердце, так как оно, по-видимому, ни на минуту не забывало услуги, оказанной ему Колеттой. При всяком удобном случае он всячески старался показать ей свою признательность. Его исключительная привязанность к молодой девушке всем бросалась в глаза; ради нее он позволял себе своевольные поступки, которые очень забавляли Жерара, но нередко сердили тех, кто делался его жертвой. Если он видел у кого-нибудь вкусный фрукт, красивый цветок или широкий лист, заменяющий зонтик, он тихонько подходил, схватывал предмет своим хоботом и клал его, как нечто должное, к ногам Колетты. Если же она намеревалась возвратить вещь обиженному хозяину, слон начинал ворчать и, взяв опять яблоко раздора, снова приносил ей, как будто говоря: «Это для тебя, потому что оно вкусно или красиво». Словом, всем своим поведением он давал понять, что Колетте принадлежит первое место, и горе тому, кто воспротивился бы этому!..
Однажды, обхватив хоботом талию девушки, он осторожно приподнял ее и посадил к себе на плечи. Испугавшись сначала, Колетта ухватилась за его шею и стала кричать, но вскоре успокоилась; ей даже было приятно вспомнить о верховой езде, и она позволила слону повозить себя.
С этого дня у нее вошло в привычку кататься на нем каждое утро. Мреко, всегда готовый сделать Колетте что-нибудь приятное, устроил ей из тростника нечто вроде седла, благодаря которому она могла удобно сидеть на животном. И Лине тоже захотелось попробовать прокатиться; Голиаф с удовольствием принял эту новую наездницу; таким образом, каждый день они совершали бесконечные прогулки. Жерар тоже ездил на нем; а иногда, в добрую, веселую минуту, Голиаф приподнимал их за талию и подносил к своим клыкам, за которые те ухватывались и в таком положении разгуливал с ними, к великому изумлению негров; но подобная честь оказывалась только девицам; да и то сами они не решались на это, если Голиаф не приглашал их.
Благодаря расточаемым услугам и бананам, Мреко удалось побороть ненависть, питаемую Голиафом ко всем неграм. Молодой туземец сделался грумом грузного бегуна. Каждое утро он скреб его, чистил, наряжал; и когда Голиаф поднимал его и обращался с ним, как с белыми, Мреко был бесконечно благодарен ему.
ГЛАВА IX. Гассан и Рурук
Дни проходили за днями. Уже целых три месяца прошло с тех пор, как пять французов были захвачены моерами, а пока не предвиделось никакой надежды выйти из этого положения.
Абруко оставался равнодушным ко всем рассуждениям и просьбам. Жерар пробовал доказать ему, что их присутствие вовсе не необходимо для его народа, что он должен быть великодушным к своим «гостям», что пора отпустить их; Абруко только поднимал руки к небу.
— Куда вы пойдете, несчастные? — вскрикивал он с сочувствием. — Что станет со «Звездой», такой хрупкой, с маленькой Нжеркук, Куези, Млижу, и с тобой, мой Вагиан, — ну, что будет со всеми вами, если вас отпустить одних в пустыню?.. Неужели тебе хочется быть съеденным дикими зверями? Или ты хочешь погибнуть от голода и усталости?.. И чего вам тут не хватает?.. У тебя здесь прекрасный дом, гораздо лучше наших жилищ, а моя дружба и дружба моего сына разве ничего не значат для тебя?
— Мы очень ценим всю твою доброту к нам, Абруко, ты сам знаешь это… Но у нас нет свободы, а для белых это самое важное. Кроме того, я тебе не раз говорил, что единственное наше желание и надежда — найти наших родителей; одна эта мысль поддерживает нас в нашем горе. Подумай, как им тяжело, что они лишились нас.
Взгляни на «Звезду», как она страдает в разлуке со своей матерью, как она заливается слезами. Пожалей нас!.. Отпусти нас!..
— Нет, — отвечал Абруко после глубокого раздумья. — Я не могу на это решиться даже в ваших же собственных интересах. Если представится удобный случай, караван, который будет проходить через нашу землю в Бар-эль-Газаль, то пожалуй еще… Я ничего не обещаю, но мы тогда посмотрим… Но отпустить вас одних — ни за что! Мреко вас слишком любит. Он не согласится расстаться с вами…
«Убирался бы он к черту со своей любовью, если из-за нее мы должны оставаться пленниками!» — подумал Жерар, который ломал себе голову, стараясь догадаться, какая тайная мысль скрывалась в слащавых словах Абруко.
Между тем Мреко, относившийся по-прежнему к белым восторженно и выказывавший к ним особенную любовь, умолял Жерара совершить с ним мистическую церемонию «Братства», на что Жерар согласился, потому что этим между ними устанавливалась священная связь.
Позвали мандуа, или колдуна деревни. Он начал с того, что сделал прокол на правой руке каждого из неофитов, чтобы извлечь несколько капель крови, которые затем влил в тыквенную бутылку с банановым вином, и дунул на смесь три раза, произнося какие-то заклинания. Жерар и Мреко должны были по очереди сделать по глотку этого символического напитка; потом колдун вырыл в земле ямку и вылил туда оставшуюся жидкость; затем произнес другие кабалистические изречения, и «два брата», пожимая друг другу руки, поклялись в верности один другому, во взаимной помощи и в том, что они никогда не забудут, что их кровь соединена.
Когда церемония окончилась, Мреко принялся изъявлять свою радость невообразимыми прыжками.
— Теперь мы с тобой связаны на жизнь и на смерть! — повторял он Жерару. — Куда бы ты ни пошел, что бы ты ни делал, помни, что у тебя есть брат, а у «Звезды» верный друг! Мне бы хотелось, чтобы вам угрожала какая-нибудь опасность; тогда я доказал бы вам мою преданность!
Бедный мальчик действительно думал то, что говорил, и впоследствии события подтвердили истину его слов.
В конце четвертого месяца этого плена в деревне однажды появилась толпа людей странного вида — черные суданцы, арабы и мулаты; они путешествовали с полдюжиной огромных догов. Люди эти, без сомнения, занимались торговлей, так как притащили целые груды материй и разных предметов, но в то же время казалось, что они намерены поселиться здесь постоянно, так как разбросив палатки, вскопали небольшой участок земли, засеяли его и окружили забором.
Жерар сначала подумал, что это был тот караван, о котором Абруко упомянул вскользь, а потому напомнил ему об его полуобещании отпустить их с этими людьми, если те предполагают отправиться по береговой линии или к Нилу. Но Абруко, прищурив глаза на этот раз еще хитрее обыкновенного, ответил неопределенно, что ему неизвестны их намерения и что к тому же эти люди могут быть ненадежными. Одним словом, видно было, что он не хотел дать положительного ответа.
Начальником новых пришельцев был араб в белом бурнусе; его звали Гассан. Целыми днями курил он свою длинную трубку, сидя по-турецки на коврике около своей палатки. Его главного министра — отвратительного карлика со зверским лицом и волосатым туловищем, как у медведя, звали Руруком. Прочие занимались земледелием и разными ремеслами, не обращая, по-видимому, никакого внимания на моеров.
Жерару удалось наконец выведать от Абруко, что, по мнению последнего, эти люди скупали слоновую кость, для добывания которой отправились в Сомали.
Жерар попросил его сказать им, чтобы они не трогали Голиафа и считали бы его за домашнее животное. Абруко, конечно, ожидал этой просьбы, а потому ответил, что это само собой разумеется. К тому же клыки «отца ушей» еще не выросли и приобретут настоящую ценность только через несколько лет.
Он делал вид, что не придает никакого значения пребыванию иностранцев около своей деревни, и отвечал Жерару, так, будто эти люди в его глазах вовсе не существовали или не имели с ним никаких отношений.
Однако молодой парижанин, выйдя однажды вечером прогуляться и присев отдохнуть у леса, при свете луны увидел Абруко в соседнем лагере, разговаривающим с Руруком! Эта тайна и ложь сомальского начальника показались весьма подозрительными. Но что было делать и как воспрепятствовать замыслам двух сообщников? Жерар не нашел иного средства, как попробовать самому подружиться с Руруком.
На другой день, проходя мимо палатки карлика, он увидел его сидящим на земле и чистящим красивое европейское ружье. Удивившись, что в руки дикаря попало такое оружие, Жерар сразу остановился.
— Какое у тебя прекрасное ружье! — сказал он ему приветливым тоном. — У тебя также есть и необходимые боевые припасы?
— Да! — ответил лаконично Рурук.
— И у твоих товарищей есть такие же ружья?
— Да!
— Откуда вы их достали?
— Оттуда! — сказал карлик, указывая мизинцем на юг.
— И ты умеешь владеть им?
— Еще бы, хочешь, я покажу тебе?.. — Он вынул из-за кушака патрон, зарядил ружье, приложил его к плечу и, не целясь, убил маленькую синюю птичку, спокойно пролетавшую в нескольких стах метров от него.
— Что! видишь!.. — сказал довольный Рурук и с улыбкой, не предвещавшей ничего доброго, принялся опять за прерванную работу. Жерар попробовал возобновить разговор, но так как карлик ничего не отвечал ему, то он ушел. С того момента, как Жерар узнал, что у этих людей есть огнестрельное оружие, их намерения показались ему еще более подозрительными, и теперь он уже не сомневался, что Рурук и Абруко замышляли заговор.
Люди соседних племен, также моеры, выбивались из сил, чтобы найти слоновую кость и сбыть ее купцам. Эту кость складывали в одну из палаток, и караван продолжал вести тот же однообразный образ жизни, сажать, сеять, собирать и прочее, не вмешиваясь в дела туземцев.
Мусульмане этой шайки совершали ежедневно омовения утром и вечером, молились около палаток, оборотившись по направлению к Мекке и вообще, казалось, строго соблюдали все правила, предписанные Кораном. С виду трудно было представить более кротких и честных людей, занимающихся исключительно своей торговлей и земледелием; но, несмотря на это, Жерар не переставал опасаться их. Ему все время казалось, что Рурук и в особенности Гассан, начальник арабских купцов, подолгу устремляли на них, а главное, на его сестру, свои отвратительные глаза, что сильно беспокоило Жерара. Можно было подумать, что они что-то соображают, глядя на них, совсем как лошадиные барышники, оценивая лошадь, которых Жерар видел на рынке, когда ему отец покупал пони.
Присутствие арабского лагеря усиливало безмолвную тоску, воцарившуюся теперь среди пленников деревни. Кроме того, на них убийственно действовал удушливый своеобразный воздух, распространяющийся из африканского леса; помимо их личного горя и постоянных опасений, они страдали от спертого запаха разлагавшихся растений и нестерпимой жары. Казалось, что даже птицы измучились от этого раскаленного воздуха и не в силах были петь; только издали доносилось порой завывание слона или рев дикого зверя.
Путешественник, попавший сюда, должен чувствовать какое-то томление и безысходную тоску. Казалось, что лес скрывал в себе страшные тайны: чудились привидения, насилия, преступления, воображению невольно рисовались всевозможные убийства, невольно содрогаешься при мысли о том, что происходит в этом лесу, сколько крови пролито на эту дикую землю…
Днем всюду тишина и бездействие; люди и животные дремлют в изнеможении. Ночью же все меняется: не успеет луна осветить верхушки деревьев и высокие травы, не успеют таинственные тени замелькать во всех направлениях, как все оживает, пробуждается от спячки. Со всех сторон слышится движение, шум; животные оживают, хищные звери оставляют свои берлоги и отправляются на добычу; большие змеи развертывают свои кольца и ползут на охоту, оставляя после себя в траве длинную борозду; ночные птицы перелетают с ветки на ветку со странными криками, и запах цветов наполняет атмосферу тяжелыми, густыми испарениями. Монотонное пение, крики огромных лягушек, в изобилии водящихся в Африке, усиливают тяжелое впечатление; тогда туземцы берут тамтамы, выходят как призраки из своих душных хижин, начинают петь, плясать и пить, забывая, что им со всех сторон угрожают леса и силы природы, что звери и даже растительность могут задушить их. Плодородие почвы для них — не благо; растительность здесь гниет в ужасающих размерах, сея лихорадку и смерть.
Негр прозябает, относясь апатично к зловредной природе, которую он не сумел покорить себе. Окруженный разными опасностями, он живет изо дня в день, погруженный в невежество и варварство, и обращаясь иногда с бесполезными мольбами к своим противным, идолам, но решительно ничего не предпринимает, оставляя себя на произвол судьбы.
В сущности, жизнь негра — это идиллия, омрачаемая постоянной угрозой, всего ужаса которой другие народы не знают: боязнью попасть в рабство. Междоусобные войны, голод, гнев колдунов и даже домашнее порабощение, — все это пустяки для негра; эти невзгоды бледнеют перед тем возмутительным преступлением, которое совершается над всей их расой: продажей невольников арабами — этими пришельцами другой крови, но с более высоким развитием. Они далеко уводят негров, отрывая их от родных мест, от их деревни, семьи, чтобы продать их, как последних скотов, на суданских рынках. Можно было подумать, что этот кочующий народ задался целью разлучить с родиной как можно больше несчастных негров.
Торговцы невольниками обращаются с неграми крайне сурово и требуют от них беспрекословного подчинения, а обладание огнестрельным оружием обеспечивает им главенство. Невольники необходимы арабам для перенесения слоновой кости, к тому же этих людей потом легко сбыть за хорошую цену. Таким образом человеческое существо сделалось в Африке ходячей монетой. Эту торговлю невольниками совершенно справедливо называют открытой раной черного материка. Все просвещенные народы должны были бы соединиться, чтобы навсегда прекратить такое чудовищное явление, унижающее человеческое достоинство.
Между тем доставка кости арабам прекратилась; в этой местности моеры перебили почти всех слонов, трупы которых там и сям валялись на земле.
Голиаф с беспокойством втягивал в ноздри воздух, останавливаясь перед своим околевшим товарищем. Но до сих пор он счастливо отделывался от ассагаев охотников.
Средняя палатка арабов была переполнена отпиленными клыками, и торговцы не спеша начали укладываться. Жерар ждал с нетерпением, когда, наконец, деревня избавится от их присутствия.
Колетта хворала уже несколько дней; жара, лихорадочная атмосфера и горе подорвали ее здоровье, и, несмотря на все свое мужество, она таяла с каждым днем. Однажды рано утром Жерар, вышедший на воздух, облокотился о стену дома и совсем ушел в свои безотрадные думы, как вдруг, откуда ни возьмись, прибежал запыхавшийся Мреко, с блуждающими глазами, с выражением ужаса на своем черном лице, которое от волнения сделалось сероватым, что было у негров признаком бледности. Бедный мальчик был вне себя от ужаса и горя.
— Что случилось? — спросил Жерар.
— Тише!.. берегись!.. у дверей есть уши!.. — ответил Мреко, увлекая его.
— Но…
— Иди, иди… вот сюда… здесь нас никто не подслушивает. Слушай… я твой брат!.. я пил твою кровь… Между нами все свято… Ну, так знаешь!.. ох! как я ему скажу?
— Да говори же!.. говори!..
— О! я несчастный!.. Прокляни меня, если хочешь, но клянусь тебе, что я тут ни при чем… Я с радостью умер бы за тебя, за «Звезду»… и все же, все же… я сын изменника!..
— Абруко!.. — воскликнул Жерар, отшатнувшись.
— Да, Абруко, мой отец!.. — ответил молодой негр сдавленным голосом.
— Что же он сделал?.. Говори же!.. ты измучил меня!..
— Он продал вас, тебя, «Звезду», Млижу, Куези, Нжеркук… продал торговцам слоновой кости, которые сейчас уведут вас с собой.
— Гассану и Руруку?
— Да!.. они называют себя торговцами кости, но на самом деле ищут человеческих тел… не для того, чтобы съесть, они не валиабанту… но чтобы продать как можно дороже!.. Прости меня, что я раньше не догадался об этом!.. я бы все сделал, чтобы вы могли бежать… Что с вами будет!.. Видеть, как тебя закуют в железо, видеть «Звезду»!..
— В железо? — повторил Жерар с ужасом.
— К несчастью, да… я их видел, эти невольничьи цепи, которые таскают за собой торговцы. Но что теперь делать? Придумай что-нибудь… Убежим вместе, спрячемся в лесу… Я хорошо знаю эти места… Позови «Звезду», позови всех!.. Еще есть время… бежим!..
Одним прыжком Жерар очутился в хижине, разбудил своих спутников и в нескольких словах объяснил им, в чем дело. Они все относились недоверчиво к Абруко, а потому и не удивились его измене.
Не теряя ни минуты, все бросились в лес в сопровождении Мреко, который хотел завести их в самую глубь, в надежде, что здесь никто не найдет его друзей.
Но через полчаса безумного бегства Колетта не в силах была двигаться; ее силы надорвались, сердце сильно забилось, и она почти без чувств упала у дерева.
— Уходите… уходите без меня!.. — едва проговорила она.
— Оставьте меня здесь… может быть, они меня не увидят…
— Бросить тебя!.. — воскликнул Жерар, падая перед ней на колени. — И не говори этого! Нет, мы понесем тебя, если ты сама не можешь идти… мы пойдем потише, но оставить тебя… ты сама знаешь, что это невозможно!
— Ну, хорошо! Я пойду, — сказала она, стараясь подняться, но не в силах была сделать ни одного шага и опять упала, как подкошенный цветок.
— Не могу… — проговорила она. — Какое горе!.. из-за меня вас поймают…
— Мы понесем тебя! — решительно сказал Жерар. Он только собрался поднять ее, как Ле-Гуен указал рукой по направлению к деревне.
— Все кончено… Вот они… — сказал он. Действительно, послышался лай арабских собак.
Через несколько минут они показались. За ними шли Гассан и Рурук, вооруженные с головы до ног, в сопровождении свиты из своих людей, среди которых находился Абруко; в несколько секунд беглецов окружили и Рурук с злорадным смехом положил свою руку на плечо Жерара.
— Не смей трогать меня! — закричал мальчик, отталкивая его. — А ты, Абруко, подлый изменник, продающий своих гостей, берегись! Твой скверный поступок принесет тебе несчастье!..
Начальник хотел пробормотать несколько слов, но презрительный жест Жерара заставил его замолчать.
— Ну, ну, зачем сердиться, — сказал Гассан вкрадчивым голосом, — мы будем с вами хорошо обращаться. Неужели у нас поднимется рука сделать что-нибудь дурное этим двум голубкам? — добавил он с отвратительной улыбкой, показывая на молодых девушек, которых бедная Мартина, вся в слезах, защищала собой. — Отправимся в дорогу, теперь уже поздно!
— Куда ты хочешь вести нас? — спросил со страхом Жерар.
— В прекрасную страну, где красивые невольники очень ценятся! — ответил Гассан с торжествующим видом. — Ну, идем же!..
Все двинулись к деревне. Жерар обнял свою сестру, чтобы поддержать ее, другие шли рядом с ними в гробовом молчании, прерываемом иногда плачем и стонами Мреко. Абруко искоса поглядывал, как горевал его сын; он молчал, но его бегающий взгляд избегал взгляда Жерара, и он точно прятался среди торговцев невольниками.
Вдруг Рурук, схватив длинную железную цепь, набросил ее на туловище Лины, запер замком и намеревался сделать то же и с Колеттой; но неустрашимый Жерар бросился на негодяя и с помощью Ле-Гуена и Мреко удержал его; но напрасно он силился вырвать цепь из рук араба. Большинство одолело их. Арабы в одну минуту повалили их на землю и связали им руки и ноги. Гассан, приблизившись к Колетте, собирался на нее набросить цепь. Девушка мгновенно выпрямилась, щеки ее пылали; казалось, что она выросла; глаза ее метали молнии. Торговец невольниками инстинктивно отодвинулся под ее гневным взглядом.
— Слушай! — закричала она дрожащим голосом, — вас много и на вашей стороне сила, вас двадцать против одного и вашей жестокости равняется разве одна ваша подлость! Ты можешь, если хочешь, заковать нас в цепи и тащить нас за собой, как скотов. Но есть одна вещь, перед которой твоя власть — ничто и которая преодолеет твою жестокость, — это наша воля! Так знай же: если ты осмелишься прикоснуться к нам своими мерзкими руками, у нас есть средство избавиться от тебя: клянусь за себя и за своих, что если ты наденешь на нас цепи, мы умрем от голода и жажды! Ни одной капли воды, ни одной крошки мы не проглотим, клянусь в этом перед всеми вами!..
— И мы тоже! — воскликнул Жерар, пораженный мужеством сестры.
— И мы клянемся! — повторили остальные, точно наэлектризованные.
Гассан оказался в большом затруднении. При одном взгляде на этих пленников видно было, что они сдержат свою клятву, и богатая нажива, о которой он мечтал столько дней, лопнет как мыльный пузырь.
Он затопал ногами, изливая свою ярость. Рурук, не помня себя от гнева, настаивал, чтобы белые были заключены в цепи; но, видя презрительную улыбку Колетты, негодяи поняли, что они бессильны, что решимость белых помешает их алчности.
Опьянев от бешенства, они развязали пленников и сорвали цепь, наброшенную на Лину.
В ту же минуту Гассан сделал знак… Тотчас его спутники приподняли с земли ковер, скрывавший правильные ряды ружей. Каждый взял себе по ружью; тогда Гассан со злорадством повернулся к Абруко.
— Ты заодно с белыми! — сказал он. — Кроме тебя некому было внушить такие мысли. Чтобы моя цепь не пропала даром, ты займешь их место. Скорей!.. Торопись!.. — скомандовал он.
В одну секунду его люди с ружьями в руках бросились на моеров. Некоторые из них хотели бежать, но накинувшиеся на них собаки притащили их обратно, как баранов.
Из них выбрали около сотни, составили ряды, с Абруко и его сыном во главе, и Рурук всех заковал в цепи. Потом, снабдив каждого пленника связкой слоновой кости, обернутой сухими травами, он приказал трогаться.
Женщины, дети и старики, свидетели этой ужасной сцены, наполняли воздух своими воплями. Рурук, в новом припадке бешенства, велел на прощание сжечь все их жалкие жилища.
Несколько минут спустя печальный караван оставил за собой деревню, объятую пламенем. Белые составляли арьергард, за ними зорко следили, но оставили их на свободе среди их палачей, бросавших на них ненавистные взгляды, но в то же время относившихся к ним с невольным уважением.
ГЛАВА X. Торговцы слоновой костью
Жерар сначала возмущался таким насилием, но, со свойственным ему оптимизмом, и здесь нашел хорошую сторону.
— Все же мы покинули селение моеров! — сказал он Колетте утешительным тоном.
— Да, но что нас ждет? — возразила девушка, стараясь улыбнуться.
— Посмотрим. А пока мы ведь только этого и добивались от противного Абруко. Куда бы нас ни привели, во всяком случае, теперь у нас будет больше шансов встретиться с образованными людьми, чем в его жалкой деревушке.
— Дай Бог, — ответила Колетта, — чтобы твоя надежда оправдалась!
— Мы идем к востоку или юго-востоку, — сказал Жерар, уже справившийся с компасом, — то есть к Нилу, или Стране Озер. И в том, и в другом случае мы можем встретить образованных людей.
— Неужели ты серьезно думаешь, что наши палачи намереваются показаться туда? — спросила Колетта, бросая выразительный взгляд в сторону своих тиранов.
В самом деле, печальный вид каравана не внушал таких иллюзий.
Передохнув в тени во время сильного зноя, он только что возобновил свое шествие по широкой равнине.
Солнце, стоявшее еще высоко, немилосердно палило. Негры, согнувшись под тяжестью больших тюков со слоновой костью, тащились со стонами, оплакивая свою родину, семью и свободу. Лишь только они немного замедляли свои шаги, над ними тотчас же свистел кнут, безжалостно стегая их по ушам и по спине, а собаки с разинутой пастью, с лаем хватали отставших за ноги.
Арабы мучили несчастных без зазрения совести. Чего им было жалеть этих скотов, годных лишь для перенесения тяжестей? Не было бы этих, нашлись бы другие. На черном материке их много. Главное, надо было успеть дойти до наступления дождей.
Положение белых, как ценного товара, было иное. А потому одна мысль лишиться их вследствие их самовольной смерти так испугала арабов, что они немедля исполнили требование Колетты.
Во время пути они бросали на нее алчные взгляды и заметили, что она шла с большим трудом. Еще в предыдущие дни лихорадка истощила ее силы, но негодование временно укрепило ее; теперь же наступила реакция: девушка еле волочила ноги, бледная, как цветок жасмина, с потухшим взором. Гассан подошел к ней.
— Ты как будто устала, — сказал он заискивающим тоном. — Хотя ты сегодня утром обошлась с нами сурово, но мы не помним зла и не сердимся на тебя. Ты сама могла убедиться в этом, так как довольно было одного твоего слова, чтобы мы отказались от нашего старинного правила. Вас всех освободили от цепей.
— Ты совсем напрасно приписываешь себе добродетели, которых у тебя нет! — презрительно возразила ему Колетта. — Ты согласился на это только из жадности и боязни потерять свою добычу. Мы отлично знаем, что ты за человек, и твое лицемерие не приведет ни к чему. Если ты действительно хочешь доказать, что ты несколько лучше, чем кажешься, сними цепи с этих несчастных, отгони от них своих страшных собак, и тогда мы, пожалуй, поверим твоей доброте.
— Того, чего ты просишь, невозможно исполнить! — сказал Гассан. — Попроси чего-нибудь другого. Хочешь, я заставлю этих бездельников нести тебя на носилках?
— Нет, — ответила девушка, — я никогда не соглашусь прибавить ни одной былинки к их и без того непосильной ноше. Оставь меня; я пойду сама, пока у меня хватит сил, а если смерть вырвет меня из твоих рук, тем лучше для меня! Довольно! Я тебе не отвечу больше ни слова.
Она отвернулась от него, и пристыженный торговец невольниками замолчал.
Между тем уже несколько минут за путешественниками слышался какой-то шум среди деревьев и сильное хриплое дыхание. Колетта услышала эти хорошо знакомые ей звуки.
— Голиаф! — воскликнула она, остановившись. Слон, расталкивая ветки и кустарники, торопливо прочищал себе дорогу; подбежав к Колетте, он начал ласкать ее хоботом, махать хвостиком и ушами и радостно кряхтеть; потом вдруг он ее поднял и осторожно усадил к себе на спину.
Рурук в ярости схватился за ружье, чтобы выстрелить в животное, но Гассан остановил его:
— Оставь, дурак! — закричал он. — «Звезда» согласится ехать на своем слоне и больше не будет уставать!
— А если он убежит с ней? — возразил Рурук.
— Чего же легче, как перевязать ноги слону так, чтобы он не мог бежать? Это уже мое дело. За эту девушку мы выручим больше, чем за всю нашу кость. Разве ты хочешь испортить ее здоровье, заставив ее идти, и лишиться такой редкой наживы? К нашему сокровищу мы присоединим еще клыки этого слона! Ну, нечего рассуждать, пускай «отец ушей» остается!
Рурук заворчал, как сварливая собака, но принужден был склониться перед неоспоримыми доводами Гассана, и запутав ноги слона ремешком из верблюжьей шерсти, позволил ему идти рядом с караваном. Мало этого, Гассан придумал устроить из полос материи и жердей гамаки, которые повесили по бокам животного и в которых Колетта, Лина и Мартина могли продвигаться, не особенно утомляясь.
Колетта, сильно страдавшая от лихорадки, с удовольствием воспользовалась этой импровизированной постелью; убаюканная равномерными шагами своего верного друга, она впала в полузабытье, сопровождаемое грустными сновидениями.
Жерару стало полегче на душе, когда его сестре не пришлось больше тащиться пешком; он шел около нее со своими невеселыми думами; иногда слон обертывал своим хоботом шею бедного мальчика, точно хотел успокоить его, напомнить, что у него есть друг, и Жерару было приятно чувствовать присутствие доброго животного.
На вечерней остановке услужливый Гассан выделил большую палатку для Колетты, Лины и Мартины. Кроме того, он предложил Жерару передать сестре пузырек с сернокислым хинином, который мальчик на сей раз принял с благодарностью, так как весь день мучился, не зная, чем облегчить страдания бедной Колетты.
Драгоценное лекарство и свежий ночной воздух благотворно подействовали на больную. Когда на другое утро опять двинулись в путь, Колетта чувствовала себя гораздо лучше, хотя была еще очень слаба. Но скоро перемена климата совсем восстановила ее здоровье.
Мало-помалу все приноровились к установившемуся распорядку этого странного путешествия: к ежедневным регулярным остановкам, к обеду, к ночному лагерю и утренним сборам. Караван проходил по гористой местности, без сомнения, направляясь к юго-востоку. Попадались навстречу долины среди высоких гор, в которых дул легкий ветерок; вообще эти места не имели ничего общего со страной моеров.
Столетние деревья возвышались громадными колоннами. Смоковницы, пальмы, мимозы с золотистыми цветами, акации красовались, точно громадные букеты, среди папоротников и всевозможной зелени, в изобилии встречавшейся по пути.
Конечно, при других обстоятельствах это разнообразие восхитительных пейзажей доставило бы большое наслаждение хотя бы тем, кто не тащил на себе цепей.
Но вид нескончаемых страданий отравлял всякое эстетическое удовольствие. Никто не мог без содрогания смотреть на эту толпу негров, которых ежеминутно хлестали кнутом и всячески истязали. Сколько раз Колетта, несмотря на свое отвращение к Гассану, умоляла его сжалиться над ними. Но всякий раз она наталкивалась на его упрямство и возмутительное презрение к человеческим страданиям. Жерар, со своей стороны, просил освободить Мреко от цепей, но Гассан не согласился, и бедный негр, по доброте сердца, утешался тем, что его белым друзьям не так тяжело, как ему. Он даже шутил при случае и пел песни, которые его спутники подтягивали за ним, и пытка казалась ему менее мучительной.
Абруко шел молча, мрачно опустив голову. По вечерам, когда караван останавливался, Колетта обходила все ряды пленников, утешая их ласковыми словами и сочувствием; она приносила им свежей воды, фруктов, брада к себе на руки их малюток и качала их. Несчастные, плача, целовали ее руки. В таких случаях вождь моеров отворачивался от нее, будучи не в состоянии вынести ее взгляда. Кара, постигшая его за алчность, была слишком жестока, даже в его сердце появлялось сострадание.
Видеть себя, своего сына в цепях, видеть похищение и плен своего народа, о, это было ужасно! И негодяй сознавал в бессильном бешенстве, что он оказался игрушкой в руках арабских торговцев, что они теперь смеялись над ним, а он-то думал, что сам обманул их, предложив им иностранцев, чтобы спасти своих.
Доброта Колетты не ограничивалась одними людьми.
Необыкновенно любя животных, она подружилась со страшными сторожевыми псами арабов. Торговцы костью, и сами-то боявшиеся своих собак, могли их принудить к послушанию только кнутом: они были поражены, увидев, как эти свирепые животные окружали Колетту, как они молча опускали перед ней уши, ложились на землю и изъявляли радость, когда она гладила их страшные головы.
Чтобы их усмирить, она действовала только добротой, ласковыми словами да кусками, которые уделяла им по очереди из своего скудного обеда.
Хотя доги инстинктивно понимали, что белые были во власти их хозяев, но не могли устоять перед магнетическим влиянием молодой парижанки. Жерар потешался, глядя на испуганные лица арабов, когда те смотрели на Колетту, окруженную собаками, слушающимися каждого ее приказания.
Здесь было какое-то колдовство! Рурук поговаривал о том, что следовало бы убить эту чародейку, одаренную такой сверхъестественной силой. Чтобы его успокоить, Гассану приходилось то и дело напоминать ему о том куше, который они получат за нее, так как араб был настолько же жаден, как зол.
Таким образом дни и месяцы продолжалось это монотонное шествие, настоящая цель которого была известна только одному Гассану. Было заметно, что арабский начальник всячески старался избегать населенных мест. Первое время это было нетрудно, так как в той гористой местности, по которой проходил караван, совсем не было жителей. Но к концу третьего месяца, спускаясь с южного склона одной из гор, пленники стали замечать на холмах дым от деревушек туземцев, и тогда всем становилось ясно, что Гассан намеренно обходил их.
Если же встречался какой-нибудь человек, то он, бедняга, сам же старался улепетнуть, увидев цепи невольников, из боязни, чтобы и его не забрали.
Такое долгое и трудное странствие не обошлось, конечно, без человеческих жертв. Часто носильщики, изнемогая от усталости и лишений, падали как снопы. Тогда Рурук с невозмутимым равнодушием отмыкал цепь, бросая несчастных на дороге, а на других наваливал двойную ношу. Потом, при всяком удобном случае, он забирал новых невольников. Иногда караван останавливался дня на два. Карлик отправлялся на охоту с дюжиной бандитов, вооруженных с головы до ног, и вскоре возвращался с новой цепью пленников, застигнутых ночью в какой-нибудь деревне.
Колетта обычно не говорила ни слова в таких случаях, но трудно описать нравственное возмущение бедной девушки при виде этих зрелищ.
Все эти зверские лица, окружавшие ее, казались ей страшным сном, кошмаром. Минутами, вспоминая свою прошедшую жизнь, ежедневные занятия в Париже, курсы в Сорбоннском университете, свои первые выезды в свет, молодая девушка не могла верить, она ли это теперь? Неужели это та самая Колетта, которая любила одеваться с изысканной простотой, которая считала большим несчастьем надеть старые башмаки или потасканные перчатки?.. Бедная Колетта!.. Конечно, благодаря Мартине она и теперь была далеко не в лохмотьях: ее ситцевое платье красиво облегало ее стройную фигуру, и волосы были убраны, как в былые дни. Но она казалась самой себе дикаркой, видя себя и своих спутников в таких костюмах.
Она не могла видеть, что ее наружность нисколько не изменились, она даже совсем не загорела, и Мартина с Жераром гордились свежестью и белизной ее нежного личика.
Что же касается их самих, а также Ле-Гуена, их лица приняли темно-красный оттенок, совсем, как у краснокожих индейцев. Лина тоже загорела; ее щеки округлились и волосы потемнели; она почти доросла до Колетты. Но это все, что было утешительного в путешествии, а помимо этого сколько ужасов, беспокойств! Какая нестерпимая неизвестность о судьбе всех близких! Колетта боялась даже произносить вслух имя отца и матери, чтобы не растравлять всеобщую рану. Только засыпая, она иногда в забытьи повторяла: «Мамочка!» таким голосом, что верная Мартина так и заливалась слезами.
Жерар же, этот добрый и беззаботный мальчик, превратился во взрослого мужчину по своим чувствам и рассудку. Он поддерживал во всех бодрость своей неистощимой веселостью и внушал надежду.
— Все обстоит прекрасно! Мы идем к югу, значит, приближаемся к Трансваалю! — повторял он всякий раз, когда кто-нибудь начинал жаловаться и отчаиваться.
И маленькая группа кончала тем, что смеялась над этим афоризмом, звучавшим, как заученный мотив рожка.
Если бы с ними не было Голиафа, который вез на себе девушек, они, наверное не вынесли бы этого тяжелого путешествия. Жерар был хорошим ходоком и ни разу не согласился подняться на слона, хотя благородное животное с удовольствием приняло бы его к себе на спину. Голиаф не забывал и бедного Мреко. Он часто гладил хоботом его лохматую голову, приподнимал его и раскачивал в воздухе, от чего тот приходил в восторг; а иногда, заметив, что негр страдает от жары, слон набирал в хобот воды из первого попавшегося ручейка и затем, подойдя к Мреко, пускал на него холодный душ.
Из нескольких названий, произносимых изредка их сторожами, и, сопоставляя их со своими скудными сведениями, Колетта с Жераром пришли к заключению, что они миновали гору Ельго с запада и Кенид — с востока; потом оставили позади себя озеро Укеруе и вершину Килиманджаро; наконец, караван вступил на плоскогорье Обоимауэзи, где его шествие замедлилось вследствие крутизны подъема.
В один прекрасный день, — это было уже на четвертом месяце пути, — при выходе из одной долины путешественники увидели огромное синее озеро, окруженное горами.
Арабы, которые уже за несколько часов начали волноваться, остановились с радостными криками:
— Танганьика!.. Танганьика!..
И это имя наэлектризовало пленников так же, как и их тиранов. Так вот оно, это знаменитое озеро, которого не знали целые столетия и которое так недавно открыли великие европейские путешественники!.. При одной мысли о таком соседстве Колетте с Жераром казалось, что они вступили в цивилизованную землю.
Конечно, их положение нисколько не изменилось.
Они продолжали оставаться во власти этих людей, жестокость которых не уменьшилась; и, несмотря на все это, уже один звук знакомого названия, воспоминание о прочитанном из истории этого озера, призывали их к жизни, отрывая от страшного кошмара.
Гассан прекрасно понял, почему они вдруг повеселели, и, подойдя к ним, со злой усмешкой сказал:
— Да, здесь живут белые интриганы, втершиеся к нам, чтобы вмешиваться в наши дела и отравлять нашу жизнь! Но не беспокойтесь, мы сумеем избежать их! Мы не допустим нежелательной встречи! Гассан крепко держит в руках свое добро!
Колетта с презрением отвернулась от него и стала смотреть на озеро, как бы призывая его в свидетели злости этого человека. Каково же было ее удивление, когда она увидела вдали, на его зеркальной поверхности, какой-то темный предмет, казавшийся детской игрушкой, над которой возносилось облако дыма…
Корабль!.. Корабль!.. Там белые, образованные… Значит, возможна свобода… Может быть, в эту самую минуту взоры этих белых обращены на неподвижную гору, откуда несчастные, нравственно разбитые от унижения, напрасно простирали к ним руки!.. О! если бы они могли услышать их! Если бы они могли вывесить флаг, привлечь их внимание!.. Они все окаменели при виде этого дыма, уменьшавшегося в прозрачном воздухе и удалявшегося к северу. Колетта, потеряв все свое самообладание, так долго поддерживавшее ее, упала на колени и, подняв обе руки к небу, отчаянно закричала:
— Помогите!.. Помогите!.. Не покидайте нас!
По ее щекам текли горячие слезы; она вся съежилась, упала на землю и со страхом глядела на маленькое судно, терявшееся вдали.
На всех свидетелей этой сцены напала безмолвная тоска. Даже Гассан не проронил ни слова, тронутый отчаянием этой гордой натуры, мужество которой внушало ему невольное почтение.
Наконец, Жерар употребил все усилия, чтобы стряхнуть с себя эту тоску, и, поцеловав Колетту, поднял ее и вытер ей слезы.
— Не плачь, дорогая моя сестра, — утешал он ее. — Наше дело еще не проиграно! Ведь мы не рассчитывали так скоро встретить европейцев, и вот, не успели мы еще прийти к озерам, как уже увидели их. Это доказывает, что мы теперь уже не в пустыне. Ну, потерпи… Все обстоит прекрасно, раз мы продвигаемся к югу…
— Ты прав, — ответила Колетта, овладев собой. — Но видеть, как они проплыли мимо, не подозревая даже о нашем присутствии… о! это жестоко!..
— А я так убеждена, что они сделали это нарочно! — вздохнула бедная Мартина.
— Нет, не говори так, дорогая Мартина! — воскликнула Колетта. — Жерар прав: это хороший знак, что мы увидели белых. Мы еще встретим других!
ГЛАВА XI. В Маюнге и Мадагаскаре. Мать и сын
Пусть Колетта, Жерар и их верные спутники продолжают это тяжелое путешествие по экваториальной Африке, мы же пока перенесемся на большой остров Мадагаскар, эту жемчужину Индийского океана.
Маюнга, расположенный на западном берегу его, только недавно приобрел большое значение как морская гавань, чему служили доказательством верфь на сваях, большие магазины и публичные здания. По берегам Бетсибока виднелись многочисленные постройки и паровые заводы. Знаменитая дорога, начатая французской армией, прокладывается к югу. Колонисты в белых костюмах и пробковых касках толпятся около таможни, ожидая прибытия писем из Европы с «Бенуэ», вышедшего из Занзибара.
Среди публики, собравшейся сюда, обращала на себя всеобщее внимание изящная дама с грустными и добрыми глазами. На нее все показывали, пропуская ее вперед с почтительным шепотом и сочувствием.
— Кто эта дама, месье Валентин? — спросил вновь пришедший. — Она не похожа ни на кого из этих зевак…
— Как! разве вы не знаете, месье Диедоннэ? Это мадам Массей!
— Мадам Массей?..
— Да, мадам Массей, с «Дюранса»… Неужели вы ничего не слышали о крушении этого судна?
— Вы сами знаете, что я целыми днями на заводе, мне некогда следить за новостями.
— Но это удивительно. Здесь только об этом и говорят целых полтора месяца.
— Ну, так в чем же дело? Расскажите, пожалуйста, историю этого «Дюранса».
— Это было прекрасное марсельское судно, шедшее в Дурбан, по ту сторону Мозамбикского пролива, с капитаном Франкером, настоящим морским волком, о котором все очень хорошо отзываются. Запасшись углем в Обоке, «Дюранс» направлялся к Занзибару, как вдруг ночью опустился густой туман; в это время на «Дюранса» наскочило другое судно и распороло его так, что оно пошло ко дну. Встречное судно затем ушло, бросив несчастных на произвол судьбы.
— Это чудовищно! Морской суд расследует эту историю?
— Без сомнения. Но что он может теперь сделать? Неизвестно, кто виновник катастрофы, никто не знает даже национальной принадлежности этого судна. Не осталось ни одного свидетеля, который мог бы дать какие-либо сведения по этому поводу.
— Но вы говорите, что вот эта дама…
— Да, но она из тех, которые потерпели крушение. Я говорю, что нет ни одного человека, который бы подробно изложил факты. Невежественные пассажиры и обезумевшие женщины в таких случаях совсем теряют голову. Их разбудил страшный толчок, потом их побросали в лодки, где они, ошеломленные и дрожащие от испуга, остались на долгие часы среди темной, ужасной ночи. На другой день французское судно «Иравади» заметило на море одну из этих блуждающих лодок, приняло на борт ее пассажиров, которых там было около тридцати человек, и привезло их сюда.
— И между этими несчастными была эта дама?
— Да, — ответил добрый коммерсант, сочувственно посмотрев на мадам Массей, которая не принимала участия ни в каких разговорах; ее взгляд впился в «Бенуэ», контур которого становился все яснее и яснее.
— Эта бедная женщина ехала со всем своим семейством: с мужем, дочерью, двумя сыновьями и прислугой. Она ни о ком из них не имеет известий; только о старшем сыне узнала, что он спасен и выехал из Адена.
— Может быть, она теперь ждет его?
— Вероятно, а также и каких-нибудь известий от остальных.
— Мадам Массей остановилась в резиденции. Все наперебой стараются оказать почтение и сочувствуют ее горю. Все следят за газетами и депешами, чтобы найти какое-либо известие, утешительное для нее. Таким образом три недели тому назад узнали, что ее сын прибыл в Аден.
«Бенуэ» входил на рейд и бросил якорь в нескольких кабельтовых от верфи. Тогда живо были спущены лодки, в одну из которых поместилась госпожа Массей, не отрывавшая глаз от палубы судна.
Вдруг раздался крик, отозвавшийся во всех сердцах.
— Мой сын!.. Мой Генрих!..
Высокий, худощавый молодой блондин спустился с лесенки парохода, вскочил в лодку и сжал бедную женщину в своих объятиях.
Тут полился целый поток слез и восклицаний.
— Генрих!.. сын мой!.. дитя мое!.. Я уже думала, что больше не увижу тебя!.. Какое горе!.. Но как я теперь счастлива!.. Но другие?.. где они?.. Ты ничего не слышал?.. Ничего не узнал?..
Во всех лодках, подъехавших к судну, не было ни одного человека, который бы не плакал. Между тем лодка возвращалась к верфи. Диедоннэ подошел со шляпой в руке.
— Извините меня, милостивый государь, — сказал он Генриху Массею, — за эту вольность, но здесь все французы считают себя как бы принадлежащими к одной семье, а потому позвольте сказать вам, что мы все разделяли беспокойство вашей матушки и теперь все радуемся вместе с ней. Я хотел передать вам, что мадам Массей остановилась в резиденции; теперь ваша матушка слишком взволнована, чтобы показать вам дорогу. Если она позволит, разрешите мне сопровождать вас!
— Тысячу раз благодарю вас!.. — ответил молодой человек, еще не вполне пришедший в себя от удивления и волнения.
— Мама, вы можете идти? — спросил он ее, видя побледневшее лицо матери.
— Конечно! Я чувствую себя прекрасно. Теперь у меня много сил, раз ты со мной, мой Генрих! Я очень страдала, но ты возвратил мне здоровье!
Хотя бедная мать и говорила так, но она пошатывалась; такие переходы от долгого отчаяния к внезапной радости не проходят бесследно. Рука доброго коммерсанта оказалась не лишней опорой, чтобы помочь ей пройти расстояние, отделявшее гавань от резиденции.
Здесь так же, как и у верфи, мать с сыном встретили самые дружеские симпатии. Французский агент в Маюнге, господин Хаган, отнесся к потерпевшим крушение на «Дюрансе» с большим вниманием и заботливостью, — одних он тотчас же отправил на родину, для других нашел подходящие занятия. Его семья вместе с ним просто влюбилась в мадам Массей; оказав ей гостеприимство, она разделяла с ней ее тревоги и надежды. Приезд Генриха был для них настоящим семейным праздником. На весь день мать с сыном оставили одних, предоставив их родственным излияниям. Но вечером они непременно должны были принять участие в обеде и скромном торжестве, устроенном по случаю этого свидания.
К искреннему участию всех примешивалась доза любопытства. Всех интересовали приключения Генриха, о которых он с удовольствием согласился рассказать.
— О причинах катастрофы, — сказал он, — я знаю не более других: внезапный толчок, всеобщее смятение, ужас, смутное ощущение столкновения с паровым судном, пробившим нас и затем отталкивающимся, потом взрыв, организация помощи… Я собирался спуститься в последнюю лодку, как вдруг раздался сверху голос капитана Франкера:
— Торопитесь!.. спасайтесь!.. Мы тонем!..
Я только успел машинально схватиться за пробковый круг, висевший передо мной. Не успел я опомниться, как почувствовал себя охваченным водяным ураганом, и, судорожно уцепившись за спасательный круг, потерял сознание.
Когда я пришел в себя, было уже светло и туман исчез. Я был один на поверхности моря и держался со всей силой утопающего за спасательный круг, который приходился мне под подбородок, как хомут. Счастливый случай спас меня. Иначе не знаю, чем бы окончилось это приключение. Не успел я ничего сообразить, как со мной повторился обморок. Я точно сквозь сон смутно сознавал, где я. Я не помню, сколько времени я блуждал таким образом, переходя то к сознанию, то к забытью, как вдруг надо мной послышались голоса:
— Стой!.. он здесь!..
— Где?
— Налево от вас!
— Хорошо!
Я почувствовал, что меня взяли под руки, начали мять, катать и трясти. Я снова лишился чувств и пришел в себя от жгучего ощущения спирта, который мне влили в рот. Меня уложили на мягком диване в большой каюте. Какой-то маленький человечек, с рыжими бакенбардами, тщательно выбритыми усами, с сияющим лицом, вливал в меня из ложки коньяк. Мне приятно было увидеть такую добрую физиономию. Два дюжих матроса изо всех сил растирали меня щетками.
— Ну! — воскликнул доктор, — все идет прекрасно! Глаза хороши, пульс ритмичный. Я отвечаю за утопленника. Довольно, оставьте его теперь, ребята. Как вы чувствуете себя, милый господин? Вы понимаете по-английски?
Когда я наконец мог пошевелить моим парализованным языком, я сказал ему, что понимаю, что я оживаю и нахожу даже, что меня больше не нужно поить коньяком.
— Так! так! Но лишняя капля бренди никому не принесет вреда!.. Когда наглотаешься столько морской воды, как вы, необходимо хорошенько прополоскать гортань. Но если вы больше не хотите — отлично. Не утомляйте себя разговором. Теперь вам надо выспаться, и тогда вы будете совсем здоровы. А для вашего спокойствия знайте, что вы находитесь на яхте «Лили», под наблюдением доктора Мак-Ивора.
После этого маленький человечек укрыл меня теплыми шерстяными одеялами и оставил одного.
Почувствовав приятное ощущение теплоты, я крепко заснул и проснулся через несколько часов совершенно здоровым и с волчьим аппетитом.
— А! бьюсь об заклад, что вы желаете позавтракать? — тотчас же послышался веселый голос доктора Мак-Ивора.
— Но, уверяю вас, что эти девять часов, которые вы проспали, накормили вас лучше всякого мяса. А как вы крепко спали, сударь! Я с завистью смотрел на вас! Точно беззаботный ребенок, право.
Затем основательная закуска совсем подкрепила меня. Завтракая, я рассказал свою историю. Доктор смотрел на меня с большим удовольствием.
— Все прекрасно! Все отлично! — повторял он, потирая руки, как будто я рассказал ему что-либо очень веселое. — Теперь вам остается только одеться, чтобы представиться нашему хозяину, лорду Ферфильду…
— Лорду Ферфильду! — воскликнул я. — Значит, эта яхта — та самая, которая обменялась приветствиями с «Дюрансом»?
— Совершенно верно, это «Лили». Я в то время сидел за обедом. Но я много слышал о «Дюрансе»… Ну-с, а теперь я вас оставлю и пойду доложить о вас.
К неприятным воспоминаниям, овладевшим мной по пробуждении, присоединилась неловкость представиться дамам в моем непрезентабельном костюме. Но я скоро успокоился на этот счет. В изящной каюте, куда меня уложили, были не только все необходимые принадлежности туалета, но еще и полная пара морского костюма из белой фланели, лежащего на диване, у меня в ногах. Я примерил его. Он оказался мне почти впору. Как я был благодарен доктору Мак-Ивору за такое гостеприимство и предусмотрительность!
Я заканчивал одеваться и не успел еще надеть на себя мой костюм с чужого плеча, как доктор опять пришел сказать мне, что меня ждут, и я тотчас же последовал за ним.
Проходя по яхте, я любовался ее внутренним убранством: двери были сделаны из редкого дерева, прелестные обои, бархатные ковры, занавески от москитов. В рубке, служащей курительной комнатой, мы нашли лорда Ферфильда. Я сразу узнал его по непринужденным манерам, которые заметил при встрече.
Он принял меня так мило, что я сразу почувствовал себя хорошо. Первым долгом он начал расспрашивать меня о моем приключении. Под его холодной наружностью скрывается страстный любитель всего, что касается морских происшествий. Он сам командует своей яхтой, совершил на ней много поездок, и больше всего его интересуют морские вопросы. Он слушал с большим вниманием мой рассказ о крушении, останавливая меня время от времени для более точных сведений. Потом он задумался и посмотрел в судовой журнал, который приказал принести с палубы.
— Мы все время были в этих краях, — сказал он наконец, — и мне кажется, что ничего выдающегося не могли упустить из виду. Судя по вашим рассказам, «Дюранс» мог получить повреждение только от большого судна. А между теми пароходами, которые нам попадались приблизительно в это время, только два судна по своей величине и скорости хода могли произвести такую катастрофу: это «Дриднут» и «Гамбургер». Первый из них — английский крейсер, превосходно устроенный, и я убежден, что он не способен на такую подлость.
— О! я тоже уверен, — воскликнул я, — что ни английское, ни французское судно никогда не скрылось бы, не оказав помощи в несчастье, в котором оно само было виновником.
— Это и мое искреннее убеждение. Хотя я не более, как моряк-любитель, но за все время моих странствований видел всегда со стороны французов примеры героизма, самозабвения и преданности, без всяких фраз, и в этом отношении французский флот, подобно нашему, — вне всяких подозрений. Но есть суда, так же, как и люди, для которых совесть не существует. И мне кажется, что «Гамбургер» принадлежит именно к таким.
— Его приемы показались мне очень подозрительными, а его капитан, с которым я раскланялся по неизменному обычаю, произвел на меня самое неприятное впечатление. Он сказал, что его зовут Лупус и что он едет в Занзибар с грузом земледельческих машин. Но я уверен, что в действительности он ехал в Мозамбик для обмена оружия и снарядов на невольников. Весь вечер после этой встречи меня не оставляли подозрения на его счет. Теперь же я больше не сомневаюсь. Вы потерпели крушение из-за «Гамбургера» и его капитана Лупуса, если это его настоящее имя, в чем я сомневаюсь.
— Ах, если вы говорите правду, — воскликнул я, — и если найдутся доказательства, клянусь, что я немедленно приступлю к преследованию негодяя, убежавшего в тумане, чтобы не протянуть руку помощи своим жертвам!.. Но доказательства, как найти их?..
— Это может быть легче, чем вы думаете. От такого сильного столкновения виновник непременно имеет повреждения. С другой стороны, матросы не особенно молчаливы по своей природе, даже и тогда, когда они участвуют в темном деле. Ненависть, личное недовольство могут их заставить выдать тайну. А потому, как только мы приедем в Аден, мы с вами сделаем заявление со своей стороны. Но я этим не ограничусь. Я надеюсь провести свое собственное расследование и буду очень удивлен, если не добьюсь желаемых результатов. Поживем — увидим!..
— Что же касается меня, — сказал я, — то, прежде чем преследовать этого подлеца, я должен сначала разыскать своих близких, ради чего готов пожертвовать своей жизнью, которой я обязан исключительно вам!
При этом я выразил моему хозяину глубокую благодарность, на что он мне ответил со свойственным ему юмором.
— Я не могу, да и не желал бы уничтожать в вас чувства, достойного благородных сердец, к тому же нет дара драгоценнее нашей жизни!.. Но в данном случае я совершенно ни при чем. Я ненавижу больше всего на свете прикрываться чужими добродетелями: вас увидела моя кузина, мисс Мовбрей, матрос Картер выудил вас, а доктор Мак-Ивор вылечил вас; мое участие здесь состоит лишь в том, что я слушаю рассказ, весьма интересующий меня; полагаю, что мне не за что получать пальму первенства за филантропию!..
— Хорошо, милорд, — сказал я ему, — в таком случае, чтобы доставить вам удовольствие, я постараюсь забыть, что воздухом, которым я дышу, пищей, которую я принимаю, кровом, который меня защищает, — я обязан только вам; я даже постараюсь убедить себя, что одежда, прикрывающая меня, выросла на мне сама собой…
Он рассмеялся от души.
— Я очень, очень рад, — сказал он, — что мы с вами оказались почти одного роста. Ну, а что вы теперь думаете насчет того, чтобы пойти поздороваться с нашими дамами?
Конечно, я с удовольствием согласился с его предложением и минуту спустя сидел в их милом обществе, на которое мы так любовались с «Дюранса». Так же, как и тогда, вдова сидела за самоваром на председательском месте, две блондинки, мисс Мовбрей, хлопотали около своей тетки, красивая леди Феодора Гиккинс, сидевшая поодаль, мечтала о чем-то… Они встретили меня очень радушно; тотчас же налили мне чашку чая и с любопытством стали расспрашивать меня обо всем, так что мне пришлось в третий раз рассказывать о моем приключении.
Жизнь на яхте очень однообразна, а потому, естественно, что все обрадовались появлению среди них нового человека.
Вскоре к нам присоединились и мужчины. Кроме доктора и хозяина яхты тут были господин Альджернон Гиккинс, его зять, полковник Гутвайт, лет тридцати, и еще двое-трое, имен которых я не помню.
Меня по всем правилам вежливости представили той блондинке, мисс Мовбрей, которая заметила меня. Она очень мило приняла мою искреннюю благодарность. Потом она и ее сестра осведомились, кто была та очаровательная особа, которая выделялась из всех путников на «Дюрансе» и с которой они обменялись улыбками и поклонами. Они очень подробно описали ее лицо, костюм и фигуру. Трудно было ошибиться; я ответил им, что это, должно быть, моя сестра, Колетта, гордость и радость нашей семьи, что неизвестно, где она теперь, — может быть, мучается и страдает. Обе девушки залились слезами — искреннее доказательство сочувствия, которого я никогда не забуду и за которое всегда буду им благодарен!
Здесь Генрих Массей остановился, так как волнение сдавило ему горло, и его бедная мать более не могла сдерживаться. Но, оправившись, он продолжал.
— Как я уже сказал, «Лили» направлялась в Аден. Можете себе представить, с каким нетерпением я ждал приезда туда.
Истощив весь запас вопросов, мне оставили время на размышление; и все временно заснувшие страхи охватили меня с новой силой. Где теперь мои дорогие создания? Не погибли ли они в лодках? Или куда их забросило? Первое время я еще не мог сообразить всей тяжести этой разлуки. Но я начал до такой степени терзаться от неизвестности их судьбы, что мне казалось, что я схожу с ума. Только необходимость сдерживаться и не выказать малодушия перед иностранцами поддержала меня в эти тяжелые минуты.
Наконец мы подъезжаем к Адену. Первым долгом я жадно набрасываюсь на газеты…
И опять зоркие глаза мисс Мовбрей первые высмотрели радостное известие. С торжествующим видом она передала мне листок печатной бумаги, в котором помещена была депеша из Занзибара относительно катастрофы «Дюранса». В ней говорилось, что французское судно «Иравади» приняло с лодки около тридцати человек, потерпевших крушение, и что между этими несчастными, которых увезли в Маюнгу, на Мадагаскар, находилась мадам Массей!.. Ах! какие это были минуты!.. Сколько страха и вместе с тем надежды!.. Каково было пережить такие испытания!..
Немедленно было решено, что я отправляюсь в Маюнгу с первым судном, идущим туда. Лорд Ферфильд снабдил меня необходимой суммой, и вот я с вами!..
Господин Хаган и его семья, слушая этот рассказ, переживали все жгучие волнения вместе с мадам Массей, которую они все полюбили как близкую родственницу. Когда дамы удалились, агент с Генрихом отправились в сад покурить и побеседовать еще.
На дружеские вопросы о его планах молодой человек сознался, что его самое большое желание — устроиться так, чтобы иметь возможность вместе с матерью отправиться в Трансвааль.
— Это была цель нашей поездки, — сказал он, — и где бы теперь ни находился отец и дети, они непременно будут стремиться туда, а я убежден, что только в Трансваале мы можем встретиться с ними.
— Я с вами вполне согласен, — ответил господин Хаган. — Но, по-моему, следовало бы остаться тут еще на несколько недель, даже несколько месяцев, чтобы следить за морскими депешами. Куда бы ни забросило лодки «Дюранса» ветрами или течениями, где можно получить скорее всего сведения об этом? Конечно, в Занзибаре или здесь. А потому я и советую вам дождаться их.
— Я с удовольствием останусь пока, только бы мне удалось найти какое-нибудь занятие. Вы сами, конечно, понимаете, что мне не хотелось бы безвозмездно пользоваться, вместе с моей матерью, вашим великодушным гостеприимством.
— Вы хотите работы? На Мадагаскаре только это и требуется. Здесь очень много дел, это еще совсем новый, неустроенный край. Конечно, если бы священные обязанности не призывали вас в Трансвааль, вы бы должны были навсегда поселиться здесь, в Маюнге, как настоящий француз. А теперь поговорим откровенно: какая ваша специальность?
— Я, собственно говоря, металлург, — ответил Генрих, — но в нашем училище изучались и многие другие предметы, родственные с металлургией, — постройки, машины и так далее; я готов, в случае необходимости, быть «инженером на все руки» и могу принять на себя какую угодно должность…
— И вы совершенно правы, — сказал агент с улыбкой, — только с такой решительностью можно восторжествовать над всеми препятствиями. Но будем надеяться, что мы найдем для вас занятия, соответствующие вашим способностям!
ГЛАВА XII. Из Страны Озер в страну пигмеев
Ради чего Гассан повел свой караван к восточному берегу Танганьики? Вот чего Жерар никак не мог решить, рассуждая об этом со своей сестрой.
Конечно, первой заботой торговца слоновой костью было выгодно сбыть свой товар. Раньше для этой цели они обыкновенно следовали по Нилу в Бербер, Донголу и Хартум; но когда там произошло суданское восстание и дорога к Египту и Азии для торговцев закрылась, они перенесли свою торговлю в Страну Озер, которая постепенно превратилась в центральный рынок всей Восточной Африки.
Этот край граничит с английскими владениями со стороны озера Виктория-Нианца, направо от Танганьики — немецкие владения; с юга Сомали — находится во власти итальянцев. Все эти европейские нации всячески стараются препятствовать торговле невольниками, которая часто ведется заодно с торговлей слоновой костью.
Но Гассан был слишком опытен в этих делах, чтобы придавать большое значение дипломатическому разделу Африки. Он знал, что европейская полиция не могла уследить за ним; да, кроме того, ему известны были такие дороги, которых европейцы не могли знать.
А потому, выбрав в лесу самое глухое место, он раскинул там лагерь и, оставив большую часть своей добычи под надзором Рурука и догов, отправился с пятью-шестью арабами к озеру, где выбрал местечко для своего товара.
Затем он велел выкопать здесь глубокую яму и в течение нескольких дней перенес в нее весь запас слоновой кости. Покончив с этой работой, он оставил в лагере своих спутников и ушел один сбывать товар.
Судя по всему, он весьма удачно повел дело, так как немецкие негоцианты Танганьики не особенно интересовались происхождением и способом перенесения предлагаемого им ценного товара.
Дней через шесть Гассан возвратился с торжествующим видом, подталкивая осла, навьюченного мешками, от которых послышался металлический звон в ту минуту, когда Рурук помогал ему перетаскивать деньги в его палатку.
Вот все, что знали пленники. Возникал вопрос: что же будет дальше? И это скоро выяснилось.
На другой день караван опять собрался в дорогу, захватив предварительно из склада новые тюки товаров, состоявших из бумажных тканей и домашней утвари. Шествие продолжалось к югу. Через двадцать дней пути караван раскинул палатки на северной стороне небольшого озера Рикуда.
С этого момента Гассан перестал избегать заселенных мест и даже снял цепи со всех невольников. Он знал, что теперь они не убегут, так как в этой стране им решительно все было незнакомо.
Ежедневные хождения по рынкам кончились тем, что Гассан, отличавшийся обыкновенно своей умеренностью, начал напиваться, как простой негр, позабыв о своем караване; он возвращался в лагерь, шатаясь, с воспаленным лицом и мутными глазами. Вскоре банановая водка расшатала его здоровье: с ним начали случаться приступы жестокой лихорадки. То его сильно знобило, то бросало в жар, он насилу волочил за собой ноги; двигаться он мог только на осле, в полусознательном состоянии. Рурук, находившийся до этого времени под его влиянием, как человека с высшим умом, делался понемногу начальником жалкой группы, следствием чего было падение дисциплины, невзирая на его жестокие меры.
Однажды около полудня караван остановился, чтобы пообедать около большой роскошной равнины, настоящей саванны. Гассана клонило ко сну, и он торопил негров раскидывать палатки. Своей суетней они разбудили огромного буйвола, спавшего недалеко от них, за деревьями.
Он жил один в своей берлоге и отличался необыкновенной свирепостью. Эти пустынники — самые опасные из всех диких зверей африканских лугов. Став на ноги и выпрямив свое великолепное тело, он громко замычал и, похлопав себя хвостом, наверное, убежал бы в сторону, противоположную лагерю, как вдруг, к несчастью, один из догов пустился за ним вдогонку с яростным лаем.
Буйвол сделал несколько шагов вперед; потом, разозлившись на назойливость презренного противника, повернулся и вонзил свои толстые рога в собаку. Последняя хотела спастись, но было уже поздно. Буйвол, упершись в землю своими короткими ногами, с пеной у рта и кровавыми глазами поднял дога на рога и подбросил его вверх на семь-восемь метров. Собака повалилась с глухим шумом, но опять была схвачена и вновь подброшена в воздухе как мяч.
Эта игра повторилась от десяти до двадцати раз. Когда буйвол превратил своего врага в висячие лохмотья, он его презрительно понюхал, потом вдруг бросился к лагерю.
Весь караван разбежался в ужасе. Но Лина, обезумев от страха, споткнулась о корень и растянулась на земле во весь рост. Так как Жерар хотел поднять ее, то буйвол бросился на них обоих с опущенной головой.
Жерар и Лина считали себя погибшими. Еще одна секунда, — и рассвирепевшее животное растерзало бы их, но между ними, сломя голову, кинулся Мреко. Буйвол подхватил его как перышко своими рогами и принялся яростно подбрасывать в воздух. Тело несчастного негра падало, вспрыгивало и вновь падало, вызывая каждый раз отчаянный крик у его друзей. Высокие травы оросились кровью несчастной жертвы. Все свидетели этой сцены остолбенели от ужаса.
Вдруг раздался выстрел; пуля попала буйволу в ухо; он повалился на колени. Ле-Гуен, выстреливший из ружья одного араба, прибежал в сопровождении Жерара, Колетты и Марты. Они обступили обезображенное тело Мреко, лежащего без движения. С плачем и рыданием они старались оживить бедного страдальца; но он истекал кровью от двадцати ран, и его верное сердце больше не билось, пронзенное, как копьем, рогом буйвола.
Он открыл глаза и увидел, что Жерар поддерживал его. Улыбка невыразимой доброты оживила на минуту его бледные, помертвевшие черты. Пробормотав слабым голосом: «Брат!.. Брат!..» — он умер, силясь пожать в последний раз руку своего друга.
Это предсмертное прощание бедного негра с молодым парижанином было так красноречиво и трогательно по своей простоте, что даже заронило искру сострадания в темные души Гассана и Рурука, свидетелей этой трагической сцены. Торговцы невольниками смутно почувствовали, что братство не пустой звук. Человек всегда остается человеком, и они не имели никакого права уничтожать его, отрывать от родимого очага для продажи!
Но если им такая мысль и пришла в голову, они оттолкнули ее, как недостойную деловых людей. Они из всего этого только заключили, что останавливаться в лесу опасно, а потому, хлеща кнутами своих рабов, приказали немедленно перенести лагерь на соседний холм.
За мрачным происшествием последовал эпилог. Абруко, которого его сын не без основания считал изменником, увидел в этой внезапной смерти справедливое возмездие. Его уныние перешло в отчаяние, а его унижение обратилось в безмолвное бешенство. Он с отвращением отказывался от пищи. В короткое время он похудел до неузнаваемости; его лицо постарело на десять лет; глаза стекленели; казалось, в них блестела зеленоватая искра, которая поражает вас в диких зверях, когда те блуждают в больших лесах, — особенно она была заметна, когда Гассан начинал говорить с ним и отпускал, по обыкновению, на его счет какую-нибудь грубую шутку.
Его затаенная злоба разразилась в одно утро, в ту минуту, когда караван собирал палатки, чтобы отправиться в дорогу.
Всю ночь Абруко не спал, устремив глаза па звезды; в его воображении смутно проносились события последних месяцев: он вспоминал свою разрушенную деревню, своего умершего сына, потерянную свободу, и во всех этих несчастьях, обрушившихся на него, видел одного виновника — Гассана. К тому же последний имел неосторожность лишний раз хлестнуть его кнутом, когда тот замешкался при утренних сборах.
Вдруг в воздухе раздался бешеный крик. Абруко, как зверь, одним прыжком бросился на Гассана, повалил его и стал исступленно кусать его лицо. Испуганные арабы попробовали освободить своего начальника, но не могли справиться с нечеловеческой силой безумного старого негра.
Тогда один из бандитов приставил к его черепу дуло своего ружья и одним выстрелом убил его.
Гассан, весь изувеченный, с кровавой раной вместо носа, испускал дикие вопли. Его насилу освободили из рук мертвеца, судорожно схватившегося за горло араба.
Противная рана Гассана не представляла опасности, но потрясение и боязнь остаться обезображенным, при его уже ослабшем организме, усилили его болезнь. Приступы лихорадки стали повторяться с ним чаще и приняли зловещий характер. Рурук воспользовался этим, чтобы уговорить его взять немного на запад и поселиться на несколько недель в гористой местности, населенной, по его словам, аккасами, людьми его расы, которые славятся знанием редких растений, излечивающих всевозможные болезни.
Придя в этот край, белые пленники сначала очень удивились, увидев, что земляные хижины, служившие жилищем туземцев, были необыкновенно маленьких размеров; но они удивились еще больше, когда сами жители вышли из своих домиков.
Это были настоящие пигмеи, подобные тем, которых Стенли первым нашел в Африке.
Самый высокий из них был ростом не более метра. Женщины были еще меньше, а дети походили на кукол.
Эти карлики, сложенные непропорционально, поросшие шерстью, как животные, с отталкивающим безобразием, устроили в честь Рурука праздник, так как признали в нем, так сказать, своего двоюродного брата.
Их начальник, Арики, был в восторге от таких знатных гостей; он тотчас пожелал скупить у них большую часть бумажных тканей и, чтобы доказать, что он имеет на это возможность, вынул по неосторожности из своей секретной шкатулки большой мешок с золотым песком.
Этого было довольно, чтобы возбудить алчные аппетиты Гассана, у которого потеря носа далеко еще не уничтожила меркантильных соображений. Он сейчас же начал сговариваться с Руруком, как бы ограбить Арики. Не поступить ли с ним так же, как с Абруко?
Но оттого ли, что Руруку было противно изменять своему народу, или ради своих личных целей, — но аккасам стало известно о замыслах торговца слоновой костью. И на другой же день, под предлогом могущественнейшего противолихорадочного лекарства, их самый искусный врач преподнес Гассану пойло, которое сразу прекратило лихорадку негодяя, а именно, — убило его на месте в какие-то пять минут.
Аккасы славятся во всей Центральной Африке своим знанием растительных ядов.
Такая неожиданная смерть, понятно, всеми была приписана его болезни. Рурук тотчас же объявил пленникам, что с этой минуты их хозяин — он.
Даже более того, он намеревался навсегда поселиться у аккасов, проводить тут счастливые и спокойные дни, заставив их признать себя повелителем, благодаря превосходству своего вооружения, которое у Арики состояло только из луков и стрел.
В заключение своей речи он сказал, что рассчитывает предложить Колетте честь сделаться королевой пигмеев и сделать ее своей законной супругой.
— А Ле-Гуен и ты, вы будете моими министрами, — соблаговолил он добавить, обращаясь к Жерару, который, в качестве брата его будущей жены, должен был иметь особые преимущества. — Мы заставим наших негров обрабатывать землю и заживем в мире и спокойствии!
После этого он удалился, чтобы распорядиться насчет праздника, долженствовавшего ознаменовать новую эру, а пять французов предоставлены были пока самим себе — рассуждать о королевском объявлении.
Из всех унижений, которые они перенесли за девять месяцев, последнее, наверное, было самое возмутительное. Они сначала не могли выговорить ни слова.
— Что меня удивляет, — начал наконец Жерар, — это то, как я мог стерпеть, чтобы не наброситься на этого мерзавца и не задушить его! Подумайте, какое нахальство! И могли ли мы предполагать, что настанет такой день, когда мы будем сожалеть даже о смерти Гассана? Но теперь нам не до жалоб. Надо взглянуть прямо в лицо опасности и победить ее или пожертвовать своей жизнью! Сегодня ночью надо бежать. Как ты думаешь, Колетта?
— Конечно! — ответила девушка, еще бледная от негодования.
— Иес! Но куда мы пойдем? — спросила наивно Мартина.
— Куда глаза глядят! Голиаф может увезти нас всех пятерых. Как только эти скоты заснут, мы выйдем тихонько из палатки, вскочим в седло и… будь что будет!
— Конечно, будь что будет! — повторила Колетта. — Голод, смерть, змеи и львы, все лучше, чем такой позор!
Лина тихо плакала. Мартина прижала ее к своей груди, Жерар сжимал кулаки. Ле-Гуен очень спокойно сказал, набивая трубку:
— Если бы только у нас были ружья, то несдобровать бы этому Руруку!
— Нет, — ответил Жерар, — нам нечего и думать об этом, дорогой Ле-Гуен. Мы не должны прибегать к силе. Надо действовать хитростью. Теперь главная наша забота — воспользоваться первым благоприятным моментом. Но не надо показывать и виду, мы даже не будем разговаривать при них.
Обстоятельства помогли этому умно придуманному плану. С шести часов вечера начался пир, затеянный Руруком. На банкете было всего вдоволь, если не считать отсутствия стола, так как все яства разложили прямо на земле: пироги из маниока, дикие утки, картофель, жаркое из газели, обезьян и попугаев, испеченное под пеплом, целая груда бананов и всевозможных фруктов. В мвенге тоже не было недостатка; оно лилось рекой из многочисленных тыквенных бутылок.
В полночь еще все ели и пили. Колетта с Линой, под предлогом усталости, давно ушли в палатку вместе с Мартиной. Но Жерар и Ле-Гуен не упускали ни одной подробности, делая вид, что и они пьют мвенге наравне с другими.
Все гости, за исключением сторожей, перепились и приступили к бешеным пляскам вокруг пылающего костра.
Луна уже показалась на небе. Жерар, сидевший около Рурука, выждал минуту, когда тот захрапел во все горло; тогда он осторожно снял с его шеи свой компас, который карлик носил как амулет, и сделал знак Ле-Гуену, что теперь пора. Они оба тихими шагами направились к палатке девушек и так же тихо вошли туда. Те уже ждали их, насторожившись.
Момент был прекрасный, больше такого случая не могло представиться, так как сторожа, воспользовавшись опьянением своих хозяев, постарались прикончить оставшееся мвенге.
На соседней лужайке виднелась темная масса Голиафа; он преспокойно срывал спелые фрукты и не спеша наслаждался ими.
Белые проскользнули к нему как тени, а Ле-Гуен принялся освобождать его запутанные ноги; Колетта начала говорить со своим верным другом, гладя его.
— Голиаф, добрый ты мой, дорогой мой, ведь ты возьмешь нас всех? Ты не найдешь непосильной такую ношу, ты увезешь нас? О, мой дорогой слон, мы тебе одному будем обязаны нашей свободой! Ну, скорей, скорей, бери нас!
Голиаф замахал хоботом и ушами в знак своего согласия и, подняв пленников по очереди, усадил их всех к себе на плечи, на спину, до самого хвоста. Потом, бросив прощальный торжествующий взгляд на уснувший лагерь, он тяжелой походкой двинулся вперед, по направлению, указанному Колеттой, тихонько ударившей его по уху тростниковой палочкой.
Этот непривычный шум обратил на себя внимание арабского дога, который начал лаять; тотчас же залаяли и другие собаки. Сторожа опомнились, схватились за ружья, стреляя вдогонку беглецам.
Голиаф, заслышав выстрелы, пустился бежать, а доги бросились за ним. Так как слон в это время бежал по открытой равнине, то арабы увидели его во весь рост, с его драгоценной ношей. Тогда в лагере произошло настоящее смятение, не было конца проклятиям и крикам.
Конечно, собаки притащат обратно пленников, они привыкли к этому!
Но не тут-то было. Доги, прирученные Колеттой, покорные ее голосу, легли перед ней на землю и не подумали хватать слона за ноги. Мало того, по приказанию девушки они вернулись в лагерь и, молча и ворча, посмотрели со злобой на арабов с кнутами и Рурука, очнувшегося от тяжелой спячки.
Карлик наконец сообразил, в чем дело. Он выпрямился и, пьяный от бешенства и выпитого мвенге, схватил кнут и начал стегать им собак и негров, чтобы заставить их пуститься в погоню за пленниками.
Но ни те, ни другие не тронулись с места. Собаки молча продолжали лежать, а один из негров, весь окровавленный от ударов, не побоялся высказать вслух всеобщее настроение своих собратьев.
— Иди за ними, сам и бей их, а наша рука не поднимется на Ниениези. Она нас всех жалела, любила и утешала. Беги сам, попробуй поймать ее! «Отец ушей» бежит скорее ветра. Тебе не поймать его! И пусть я умру на месте, но я буду счастлив, если она больше не попадет в твои руки!
Все невольники захлопали в ладоши на эту речь и громким голосом закричали вслед беглецам одобрительное: «Ой!.. ой!.. ой!..»
Голиаф, скакавший галопом, повторил, как эхо, торжествующий крик, долетевший до ушей изменника Рурука.
ГЛАВА XIII. Золотая руда. Голиаф и носорог
Свободны! свободны!.. Только через час бешеной скачки беглецы наконец уверились, что их освобождение — не сон. Между жалкой судьбой пленника, зависящего от прихотей своего тирана, когда человек совершенно лишен своей воли, силы и власти, и полным освобождением от этого гнета, — такая пропасть, что сразу невозможно поверить в действительность. Нужно время, чтобы «свыкнуться», как выражаются психологи, с новым положением, иначе оно будет казаться сном.
Вокруг слона и его пятерых седоков все было ново. Выйдя из скалистых гор, среди которых приютилась деревня пигмеев, наши беглецы очутились в долине, покрытой лесом. На горизонте показался рассвет. Теперь они уже были далеко от деревни, и никаких признаков погони не замечалось.
Кругом царило глубокое молчание. При слабом свете побледневшей луны они увидели широкую реку; Голиаф, не колеблясь ни минуты, пустился вплавь. Чувство спокойствия и надежды наполняло все сердца. Колетта первая начала говорить, жалея оставшихся несчастных негров, прощальные восклицания которых еще звучали в ее ушах.
— Бедные люди!.. несчастные!.. — сказала она, заплакав. — Как бы я была рада, если бы они были с нами! Это ужасно, что они остались во власти этого грубого, жестокого человека.
— Увы! Мы не могли помочь им, — ответил Жерар, — их судьба такова же, как тысяч и миллионов подобных им на этой земле насилия и рабства. Здесь человек делается волком или тигром для другого человека!
— Надо правильно рассуждать, мадемуазель Колетта! — спокойно заметил Ле-Гуен. — Неграм было бы не легче, если бы мы продолжали оставаться в плену вместе с ними!
— Наверное, — сказала Мартина с ударением. — Вы слишком добры, моя деточка. Вы вот теперь мучаетесь, что оставили их, а разве мы можем упрекнуть себя за это? Если бы еще в нашем распоряжении был бы курьерский поезд, это дело другое! Но у бедного Голиафа и без того тяжелая ноша — целых пятеро на его спине!
— Ты говоришь правду, Мартина, — вздохнула девушка. — Но мысль об этих несчастных отравляет мне всю радость освобождения!
— Конечно, Голиаф не двинулся бы с места, если бы на него посадили еще одного человека, — вмешался Жерар, чтобы рассеять мысли. — Ты, Колетта, Лина и я, — мы сравнительно легкая ноша. Но Ле-Гуен весит более ста пятидесяти фунтов, а Мартина? По меньшей мере двести, не правда ли?
— Двести фунтов! Вот выдумали! Иес! подумайте!
— Э! Да ты уже при отъезде была солидна, — то, что мы называем «бельфамиста», — а теперь жизнь на свежем воздухе еще подкрепила тебя! Я убежден, что ты прибавила в весе на целую треть, и если ты будешь продолжать в том же духе, то Голиаф откажется тащить тебя.
— Голиаф лучше вас! — рассмеялась добродушно Мартина.
— И все-то он тот же, этот нехороший мальчик. Ничто не меняет его. Кажется, попади он в пасть волку, он и там будет шутить. Но скажите мне, — спросила она с любопытством, — куда мы теперь едем?
— К югу, все туда же, ты сама знаешь, — объявил Жерар. — Но теперь пусть Голиаф идет сам, он лучше нас знает дорогу.
— В самом деле, можно подумать, что он чувствует, что наше спасение зависит от него. Вы обратили внимание, какие он делает зигзаги? Луна показывается нам то с правой, то с левой стороны. Я сначала не понимала, почему он каждую минуту меняет дорогу и все ищет ручейков; конечно, он хочет затерять наши следы. Какой умный друг!
— Я сразу заметил это, — сказал Жерар. — У него замечательная сообразительность!
Слон продолжал свой путь с поворотами и зигзагами, стараясь запутать следы. Это новое доказательство его смекалки делало Голиафа еще драгоценнее для беглецов. Теперь уже, наверное, они навсегда избавились от ужасной тирании Рурука, и только одному Голиафу они обязаны этим, — только его удивительному инстинкту и безграничной привязанности.
Таким образом слон шел всю ночь. Когда же взошло солнце и они вступили на красивую лужайку, подле которой протекал ручей под тенью банановых деревьев, Голиаф остановился. По его мнению, настал час отдыха.
Беглецы вскрикнули от радости. Соскочив на землю, они стали ласкать своего избавителя, благодарить его за храбрость. Он весело помахивал хвостиком и ушами; в его умных, блестящих глазах светилась как бы улыбка.
Ему нарвали его любимых фруктов, вычистили его. Потом каждый вымылся у ручья и, позавтракав, все легли отдохнуть часика на два, но никто не мог заснуть. Беглецы были вне себя от радости. Они болтали без умолку, смеялись, шутили, ребячились. Колетта с Линой принялись даже танцевать, и Голиаф, казалось, разделял их восторги, покровительственно поглядывая на них.
Наконец они опять уселись на Голиафа, так как необходимо было как можно дальше уехать от деревни аккасов.
— Мы теперь недалеко от Замбези, не более, чем в трех- или четырехстах километрах! — сказал Жерар, справившись со своей картой.
— Я преклоняюсь перед твоей географией, — сказала Колетта, — и буду очень счастлива, если она приведет нас куда следует!
— Потерпи, сестра моя! Все прекрасно, благо мы приближаемся к югу!..
И действительно, они быстрыми шагами приближались к югу. Голиаф проходил огромные расстояния, не показывая усталости.
Странное путешествие!..
Сидя на своем гиганте, беглецы проезжали неведомые пространства, ехали по горам, долинам и равнинам, заботясь лишь об одном — о направлении к югу. Иногда на них нападало жуткое чувство. Ведь они были совсем одни под этим знойным небом, за сотни и тысячи миль от своих дорогих существ, точно атомы, затерявшиеся в бесконечном мире. Им надо было всего бояться, начиная от зверей и заканчивая человеком, который еще страшнее.
Но молодость, энергия и надежда поддерживали их в этой трудной дороге, опасной даже для людей, вооруженных и снабженных всевозможными припасами.
Пример этих детей с такой нравственной силой действовал и на их спутников. Без них Ле-Гуен и Мартина никогда не решились бы на такой отважный шаг.
Они тщательно избегали деревень, встречающихся им на пути. Но случалось иногда натыкаться на хижины, спрятавшиеся в лесу, в которых скрывались одинокие туземцы, или на берлоги диких зверей. В таких случаях Голиаф принимался так бежать, что ни один рысак не угнался бы за ним. Едва он замечал какое-либо опасное или подозрительное место, он как стрела пролетал мимо него.
Однако в один из вечеров за ними пустили массу стрел; но только одна из них задела слегка бок слона.
Это происшествие еще раз подтвердило, каким опасностям они подвергались ежеминутно.
Дня через два после последней тревоги они остановились около полудня на берегу очень живописной речки. Жерар, по обыкновению, захотел выкупаться. Подойдя к воде, он заметил, что между камешками были такие, которые необычно сверкали. Он поднял два-три из них, чтобы хорошенько рассмотреть. Без сомнения, это были золотые самородки!
В Париже ему часто приходилось видеть совсем такие же камешки в кабинете отца и в минералогических музеях. Жерар знал, что только золото встречается в водяных наносах такими маленькими слитками, отполированными и округленными самим течением. Ни медь, ни слюда не имеют этих характерных признаков.
Находка эта забавляла его, но и только. К чему им было золото, в их положении! Все-таки он выбрал себе около двенадцати самых лучших из слитков — два из них были величиной с орешек, — и принес их показать своим друзьям.
Сначала Колетта не хотела верить, что это золото. Но Жерар объяснил ей, что оно попадается именно в таких местах и в таком виде.
— В таком случае, — сказала она, — если здесь так много слитков, значит, они происходят из ближайшей скалы?..
— Эти горы могут быть и далеко отсюда, но несомненно, что в них-то и находятся главные залежи, и если поискать хорошенько, то их, конечно, можно найти.
— Мне кажется, что ради этого стоит потрудиться!
— И я того же мнения. А так как нам пока спешить нечего, то я вместо купания исследую речку вверх по течению.
Не успел Жерар пройти ста шагов по левому берегу реки, как увидел устье потока, загроможденного камнями, образующими целую гору, среди которой выделялась белая полоса, блестя от солнечных лучей; он теперь ясно различил жилы и как бы разветвления самородного золота. Поток свободно спускался с одной скалы на другую.
Что же касается белой полосы, это была одна из самых красивых рудных жил, состоящая из стекловидного Кварца. Теперь было ясно, что попадавшиеся слитки были именно отсюда.
Жерар поднял камень и с помощью его насилу отколотил кусочек кварца, который спрятал себе в карман. Затем, утомившись этой прогулкой и работой, он вернулся к сестре и показал ей образчик.
Все согласились, что это было действительно золото. Но в данное время оно не имело для них никакого значения, и минуту спустя все забыли о ценной находке.
Жерар вспомнил о купании и, заметив недалеко от лагеря небольшой природный бассейн, окруженный деревьями, пошел к нему и влез в воду. Плескаясь там и кувыркаясь, мальчик наткнулся на какую-то неподвижную массу, которую принял сначала за обломок скалы, торчавший на поверхности. Но предполагаемая скала оказалась громадным носорогом, которому весьма не понравилась такая фамильярность купальщика. Он повернул свою страшную голову, зевнул, разинув отвратительную пасть, и собрался накинуться на незваного пришельца.
Но Жерар не растерялся. Он изо всех сил поплыл к берегу. Борьба была бы слишком неравной, и осторожность никогда не повредит.
Но животное, разлакомившись такой редкой дичью, пустилось за ним в погоню, образуя на воде пену вокруг своей чудовищной головы. Злополучный купальщик почувствовал уже его влажное дыхание у своих ног, когда, сделав последнее усилие, выскочил на берег… В ту же минуту и носорог вылез из воды и уже наклонил голову, чтобы подхватить своего противника. Жерар, видя, что он погиб, машинально схватился обеими руками за рог страшного зверя, который подбросил его как перышко. Жерар выпустил из рук точку опоры, перевернулся в воздухе, как флюгарка, и очутился на мокрой спине животного; между тем носорог, обезумев от непредвиденной ноши, бежал наобум, давя все по пути и оглашая воздух своим рычанием.
Жерар, сидевший на его шее и сжимавший ее своими коленями, как тисками, крикнул своим друзьям, чтобы те береглись, сам же ждал момента спрыгнуть на землю, боясь расшибиться о дерево, на которое носорог мог наскочить, несясь как вихрь со своим всадником.
Наконец Жерару удалось соскользнуть на землю; он не ошибся в своем расчете: носорог по инерции мчался вперед и, будучи в не состоянии остановиться, сильно хлопнулся о дерево и заревел от боли. Затем, повернувшись, он как молния налетел на своего противника.
Но в эту самую минуту показался Голиаф. С поднятым хоботом и налившимися кровью глазами он бежал на помощь к своему другу. Не успел носорог опомниться, как его повалили и затоптали ногами; слон был великолепен в своем гневе и ненависти!
Носорог наконец поднялся и укусил его в грудь. Голиаф еще раз помял его. Слышался треск костей, отрывистое дыхание обоих животных, прерываемое гневным рычанием; земля дрожала под их ногами; на желтом песке образовались пятна крови.
Наконец Голиаф победил. Он выпрямил хобот и испустил резкий торжествующий крик, точно приглашая своих друзей полюбоваться на чудовище с разорванной грудью и размозженным черепом; носорог вздрагивал в последних конвульсиях.
Победитель тоже был опасно ранен; он исходил кровью от укуса в грудь и удара рогом в живот. Колетта, вся в слезах, сделала ему перевязку. Голиаф, дрожавший еще после борьбы, показывал свою радость и гордость маленькими отрывистыми криками. Пришлось отложить путешествие, потому что слону нужно было дать время поправиться.
Отказавшись от пищи, слон углубился в чащу, где среди массы деревьев нашел маленький кустик, листья которого принялся жевать, чувствуя инстинктом, что это растение заключает для него целебные свойства.
Жерару хотелось узнать, какой вкус оно имело; попробовав его, он почувствовал во рту сильную горечь, из чего заключил, что это средство противолихорадочное, подобное хинину, а потому он нарвал его на всякий случай.
Странная вещь, Голиаф точно стыдился своей болезни. Он нарочно стал избегать общества своих друзей, явно показывая им, что хочет лечиться сам. Тогда они перестали тревожить его.
Через три дня он показался, по-видимому, совершенно здоровый. Лихорадка пропала, раны заживали, и вообще по всему было видно, что он хочет отправиться в дорогу; а потому и путешественники двинулись, делая в сутки не более пятнадцати-двадцати километров.
Но здоровье Голиафа сильно пошатнулось. Он не только потерял свою прежнюю веселость, но стал еще худеть с каждым днем и совсем лишился аппетита. Путешественники решили, что с ним сделалась та неизвестная болезнь, от которой гибнет скот в Африке и в борьбе с которой ветеринарное искусство оказывается бессильным.
Чтобы не утомлять его, на него садились только по двое, но Голиаф волновался, когда не видел Колетты около себя и когда она не сидела на его спине, поэтому она должна была все время находиться перед его глазами.
Однажды утром, когда наши беглецы проходили по открытому месту, отделявшему их от леса, где они собирались остановиться, они увидели себя окруженными толпой громадных негров, вооруженных копьями и щитами. Все они разом вскрикнули и бегом устремились на путешественников.
Оставалось одно спасение: не увезет ли их Голиаф с прежней скоростью. Переглянувшись между собой, они все пятеро вскочили на него, и Колетта шепнула ему.
— Еще одно усилие, Голиаф мой, или мы погибли!
Выйдя из своей апатии, животное пустилось бежать во всю прыть. Негры неслись вдогонку за ними, пуская им вслед стрелы, из которых одна попала в бок Голиафа. Жерар тотчас же вырвал ее, но слон как будто и не почувствовал этой раны; он побежал еще быстрее и настолько опередил негров, что те казались маленьким облаком пыли. Беглецы приехали в лес и подумали, что они спасены еще раз.
Но вдруг Голиаф споткнулся, зашатался, замедлил бег и повалился.
Пятеро путешественников, сброшенные сильным толчком, упали на землю; поднявшись, они увидели, что бедное животное издыхает: последнее усилие совсем доконало его.
Колетта, опустившись перед ним на колени, стала звать его, ласкать, силилась приподнять его большую голову. Слон открыл глаза и, устремив их на девушку, точно хотел сказать:
— Мне так хотелось спасти тебя, но ты видишь, я умираю!
Слезы Колетты лились крупными каплями на широкий лоб ее верного друга.
— Да, ты все сделал, чтобы спасти нас, я знаю это!.. — говорила она. — О! Мой Голиаф, я никогда не утешусь, потеряв тебя! Не умирай, умоляю тебя, останься с нами!
Голиаф, сделав последнее усилие, чтобы приподнять свою тяжелую голову, хотел полизать ее руки; но голова упала с почти человеческим стоном, его глаза закрылись и сердце перестало биться.
Беглецы не трогались с места. Они не хотели верить такой внезапной катастрофе.
Одни, без оружия, как они теперь будут бороться с опасностями, окружающими их со всех сторон, как они пройдут то расстояние, которое отделяет их от цивилизованной земли?
Жерар хотел увести сестру от этого душу надрывающего зрелища. Она нагнулась, чтобы поцеловать лоб того, кто столько времени так верно служил ей, как вдруг раздались дикие крики и раздвинулись ветви и травы, чтобы пропустить негров, догнавших беглецов.
На этот раз всякая надежда на спасение была потеряна. В несколько минут толпа дикарей окружила их и поволокла за собой, не взглянув даже на неподвижную жертву, лежавшую на земле.
ГЛАВА XIV. Известия о Лупусе. Дурбан и Клейндорф
В Маюнге Генрих Массей нашел сначала занятие в качестве архитектора на лесопильном заводе господина Валентина, разрушенном пожаром. Молодой архитектор отстроил его в несколько недель. Потом ему поручили постройку литейного завода, на котором он остался директором всех технических работ. Три месяца спустя Генрих стал главным инженером по всему северо-западному берегу Мадагаскара. Ему приносили образцы минералов, просили производить анализы. Господин Хаган не ошибся, говоря ему, что на этом большом острове для него найдется масса дел, что здесь он может приобрести себе громадное состояние.
Но и у его матери, и у него самого было на уме только одно: найти своих родных, а так как они могли встретиться с ними лишь в Трансваале, то и считали только один Трансвааль своей обетованной землей.
Напрасно они спрашивали известий у всех французских консулов Индийского океана. Никто ничего не слышал ни о самом Массее, ни о Колетте, ни о Жераре, ни о Мартине. Одна из лодок «Дюранса» причалила к Сейшельским островам; другая — в Пембо; третья — к острову Альдабра. Но решительно нигде не упоминалось о семействе Массей, о капитане Франкере и докторе Ломонде.
Сколько нужно было иметь силы воли несчастной матери, чтобы скрывать постоянное горе, измучившее ее любящее сердце. Ее Колетта, ее обожаемая дочь, этот ребенок, который ни одного вечера не заснул, не поцеловав ее, — где она находится в эту минуту? Быть может, ей пришлось пережить опасности хуже смерти со дня их разлуки?
Чудесное спасение ее сына было единственным утешительным фактом, поддерживающим надежды мадам Массей несмотря ни на что.
Генрих прекрасно видел душевные муки своей матери. Он сам часто сознавал тщетность всяких надежд, но все-таки надеялся. При его энергичном характере он не мог допустить, чтобы его отец, сестра и брат навсегда были потеряны для него. К тому же непрерывная и трудная работа не давала ему упасть духом.
Между тем до него дошли две новости, одна за другой.
В газете из Лоренцо-Маркеза говорилось о прибытии в этот город одного из потерпевших крушение на «Дюрансе», по пути в Трансвааль. Об этом путешественнике упоминалось, между прочим, что он из Лоренцо-Маркеза отправился в Преторию.
Но даже такое неопределенное известие внесло новый луч надежды. Может быть, это как раз сам господин Массей… Хотя они и убеждали себя, что если бы это был отец, то первым делом он побывал бы у французского консула узнать насчет жены и детей.
Вторая новость была от лорда Ферфильда, находившегося в переписке с Генрихом. Он начал расследование, по поводу которого сообщал:
«Теперь достоверно известно, что виновник катастрофы „Гамбургер“. Это немецкое судно вышло из Маската, находящегося на восточном берегу Аравии, взяв оттуда большой запас европейских орудий и оставив взамен невольников.
Число, когда „Гамбургер“ находился в тех краях, где произошла катастрофа, совпадает с последней. Двенадцать дней спустя оно оставило свой груз на севере Або, прилегающего к Мозамбикскому проливу; затем отправилось в Занзибар для исправления аварии — явного доказательства его виновности. Вся носовая часть его приплюснута и разломана на семь-восемь метров с каждой стороны. Английский консул, по моей просьбе, допросил экипаж, и многие из них дали важные показания».
Итак, предположение лорда Ферфильда относительно катастрофы принимало достоверный характер. С другой стороны, единственная надежда Генриха Массея, что путешественник, отправившийся из Лоренцо-Маркеза в Преторию, — его отец, заставила его решиться собраться вместе с матерью в Трансвааль. Получив из Франции небольшую сумму денег, они расплатились со всеми долгами, — если не считать глубокой признательности агенту и его семейству, — и с первым судном, пришедшим из Дурбана в Маюнгу, они отплыли в Наталь.
Опять они очутились в волнах океана, где все ежеминутно наводило их на горькие воспоминания.
Путешествие на этот раз прошло благополучно. Через пять дней Генрих с матерью подъезжали к Дурбану. Госпожа Массей пожирала глазами его красивую бухточку, которую жители Наталя сравнивают с бухтой Палермо или Неаполя. Ей казалось, что среди этой толпы, ожидающей на набережной прибытия судна, она увидит родные лица, услышит голос своего мужа, своих детей.
Генрих поддерживал ее, переживая те же волнения, хотя и сознавал, что глупо надеяться встретить их здесь. Стараясь улыбнуться своей матери, он крепко сжимал ее руку.
— Вы знаете, дорогая мама, что мы не можем встретить их так вдруг, по пути, — говорил он с напускной веселостью. — Во-первых, им ничего не известно о нашем местонахождении. А потом, ведь мы можем найти их только в Трансваале, вы сами знаете. А здесь им и делать нечего…
— Конечно, конечно, — пробормотала мадам Массей. — Понятно, это еще ничего не доказывает, что их здесь нет… Надо надеяться…
— Успокойтесь, мамочка, — проговорил Генрих, испугавшись такого возбуждения матери. — Что же делать, если наша радость не осуществится еще сегодня! Вы до сих пор были таким молодцом; сколько дней вы провели в неизвестности совсем одна, даже без вашего сына, который бы успокоил вас!..
— Даже без тебя! О! дорогое дитя мое, не думай, что я такая неблагодарная, что я не ценю счастья, что ты со мной, хотя ты один, один из моих потерянных сокровищ. Но твоя бедная сестра… Моя Колетта, дочь моя!.. О! если бы она была на моем месте, под твоей защитой! Чего бы я ни дала, чтобы знать, что она в безопасности!.. Только бы это!.. Только бы знать, что она жива, здорова…
Она закрыла лицо руками и горько зарыдала. Генрих не находил достаточно слов, чтобы облегчить наболевшую рану. Он только мог сильнее сжать руку своей матери, чтобы внушить ей немного твердости.
Через несколько минут мадам Массей подняла голову.
— Прости меня, дитя мое, — сказала она, слабо улыбаясь. — Я сама должна бы была служить для тебя примером мужества, и вот как я исполняю свою роль! Но один вид этой земли… Как только я подумаю, что они, может быть, здесь, совсем близко…
Она замолчала и успокоилась, занявшись трудностями спуска на землю по узенькой лесенке, соединяющей пароход с набережной.
Напрасно ее пламенный взгляд скользил по лицам толпившихся здесь. Тех, кого она искала, здесь не было. Генрих, устроив свою мать в приличном и чистом отеле, побежал во французское консульство, потом на почту, в полицию, побывал у всех негоциантов в надежде получить какие-либо известия о потерпевших крушение на «Дюрансе», но все было безуспешно.
Проходя по городу, Генрих любовался его улицами, комфортом и красотой построек. Дурбан, называвшийся раньше Порт-Наталем, расположен у подножия цепи высоких гор, которые защищают его, но не давят своей гранитной массой. Вокруг домов устроены великолепные сады. Окрестности очаровательны. Со всех сторон виднеются леса, рощи, огромные плантации дубов, елей, эвкалиптов, которые произрастали здесь благодаря предусмотрительности первых голландских колонистов. Жители гостеприимны, просты и образованны; они, конечно, ведут свое происхождение от голландцев, от которых унаследовали спокойствие, кротость и честность в торговле, а потому с ними приятно иметь отношения. Английский элемент, которого тут немало, содействовал повсеместной чистоте.
Если бы Генрих с матерью захотели поселиться в Натале, они могли бы устроиться тут прекрасно. Но убедившись, что здесь не было никого из их родных, они решились покинуть землю Наталя и через несколько дней напрасных розысков отправились вглубь материка.
Они поехали в Преторию, столицу Трансваальской республики; об этом именно городе они раньше много говорили, строя всевозможные планы; здесь именно собирался поселиться господин Массей, а потому было основание надеяться, что все они будут стремиться к этому пункту.
Всем известна история этой части Южной Африки, так недавно вырванной из рук варваров отважными колонистами. Теперь этот богатый край процветает, привлекая к себе тысячи иностранцев; одни стремятся сюда за золотом, которым изобилует эта земля; другие — ради прекрасного климата, здесь стоит только, так сказать, протянуть руку, чтобы нарвать массу прекраснейших фруктов; дичь так и зазывает сюда охотников.
Еще в 1487 году португальский мореплаватель, Варфоломей Диац, выброшенный бурей на островах Альгоа-Бей, основал здесь колонию. Через десять лет после того Васко де Гама обогнул мыс Доброй Надежды.
Но только в 1652 году ост-индская голландская компания завладела Столовой бухтой, на берегах которой красуется ныне город Капштадт. Первые обитатели, которых было всего девяносто восемь человек, назывались сначала бюргерами, потом их стали называть бурами. В конце семнадцатого столетия сюда начали прибывать целые толпы голландских эмигрантов. Отмена Нантского эдикта — это бессмысленное изгнание, лишившее Францию лучших представителей ее, честных и способных тружеников, — способствовала заселению Капской земли новыми колонистами. В архивах Кап-Тоуна на каждом шагу попадаются французские имена: дю Плесси, Малерб, Жубер, Маре, Журдин, Лагранж, де Вилье, дю Туа и прочие, потомки которых рассеялись по всей Южной Африке, но вскоре затерялись среди голландского элемента.
В конце прошлого столетия революционное движение в Европе отразилось и на этих отдаленных краях. Жители колоний, восставшие против голландского владычества, объявили у себя республику. Но принц Оранский, которого победоносные французские войска выгнали из Голландии и который бежал в Англию, выхлопотал у английского правительства посылку флота для усмирения непокорных. Этот флот без всякого труда победил малочисленные и плохо вооруженные войска. Колония, якобы завоеванная принцем Оранским, возвращена была Голландии только после Амьенского договора.
Три года спустя началась вражда между голландцами и англичанами: последние ни за что не захотели расстаться с таким лакомым куском; английский комиссар объявил Капскую землю британской колонией, что было окончательно признано по случаю Парижского мира 1815 года.
Но разногласия между бурами и их новыми хозяевами продолжались; особенно вопрос о домашних невольниках служил поводом раздора, а уничтожение невольничества в 1833 году окончательно вывело из себя колонистов, которые эмигрировали тысячами к северу, с целью основать там самостоятельные государства.
Одни из них основали независимое Оранжевое государство; другие положили начало колонии земли Наталь на восточном берегу; остальные заняли территорию, на которой ныне находится город Потчефстром. Они считали себя вне опасности и вне всякой зависимости от английской короны, но Георг Напьер, губернатор Капской колонии, заявил им, что они не имеют права нарушать присягу подданства Англии, владения которой простираются до двадцать пятого градуса южной широты.
Тогда буры подвинулись к северу; к ним примкнуло большое количество эмигрантов из Капской земли и земли Наталь. В большом собрании (Volksraad), состоявшемся в 1844 году в Потчефстроме, они признали систему правления, известную под названием «Конституции тридцати трех членов».
Один из эмигрантов Наталя, Андриес Преториус, назначенный главнокомандующим над переселенцами, попытался установить соглашение с английским правительством. Его старания увенчались успехом: в 1852 году Сандриверской конвенцией была признана национальная независимость буров. Возникла Трансваальская республика.
Но между бурами и туземцами возникли новые междоусобия, чем опять воспользовалась Англия, не выпускавшая из виду эту богатую землю. В 1877 году английская экспедиция, под командованием Феофила Шепстона, захватила Трансвааль и провозгласила его английской территорией.
В следующем году сюда прибыл, под предлогом усмирения края, генерал Вольселей, командующий английскими войсками. После тяжелой войны в горах англичане с помощью суазисов победили кафров. Тогда, не обращая внимания на недовольство буров, Англия заявила свои права на управление Трансваалем.
13 декабря 1880 года состоялся прежний «Volksraad», или заседание народного парламента. Господа Жубер, Крюгер и Преториус были назначены диктаторами, и буры поклялись защищать свою независимость до последней капли крови. Сначала они напали на все фермы английских колонистов. Как прекрасные стрелки, буры перебили всех английских солдат, высланных против них. В 1881 году генерал Жубер нанес три поражения англичанам: в Ланс-Неке, в ущельях Ингого и на холме Маюба.
15 октября 1881 года между Англией и Трансваалем состоялся договор, по которому Англия признала за бурами право самостоятельного управления под английским верховенством, но после поездки в Лондон Крюгера, дю Туа и Смита в 1884 году Англия наконец согласилась признать независимость Южно-Африканской республики без всяких ограничений.
Несколько месяцев тому назад Генриху Массею и его матери пришлось бы довольствоваться самым первобытным способом переезда из Дурбана в Трансвааль.
Пришлось бы выбирать между бульлокс-вагоном, то есть тяжеловесным сооружением, катящимся на колесах, в которое впрягалось двадцать пар быков, или американскими дилижансами. Но теперь между Дурбаном и Иоганнесбургом проведена железная дорога, соединяющаяся с линией от Капштадта в Преторию. Молодому инженеру с матерью оставалось только взять в кассе билет, как в Европе, и сесть в вагон.
По прибытии в Преторию, столицу Трансвааля, им пришлось разочароваться в своей надежде. Никто ничего не слыхал о французе, господине Массее. После трех дней безуспешных поисков они узнали, что один из потерпевших крушение на «Дюрансе» недавно прибыл в Клейндорф, один из самых отдаленных уголков Трансвааля, находящийся на правом берегу Лимпопо.
Для успокоения совести Генрих с матерью тотчас же отправились туда. Но здесь не было и намека на железную дорогу. Волей-неволей пришлось прибегнуть к бульлокс-вагону.
Трансваальскую республику недаром прозвали садом Южной Африки, — до такой степени здесь мягок климат и роскошна растительность. С точки зрения природных богатств, другого такого края нет. Не говоря уже о массе золота, находящегося в горах и реках, сама почва удивительно плодородна. Пшеница, чай, кофе, хлопчатник, табак, сахарный тростник, рис растут в изобилии; а луга с густой высокой травой, доходящей до четырех метров, служат прекрасными пастбищами для многочисленного скота. Здесь, наряду с африканскими фруктами, произрастают и европейские. Летом созревают яблоки, груши, персики, сливы, земляника, абрикосы и орехи; зимой — мандарины, апельсины, лимоны, бананы, гуаявы и финики. Европейских овощей масса. Климат замечательно здоровый. Не мудрено, что жители большей частью высокого роста, крепкого сложения, служат образцами прекрасного здоровья. Что же касается материальных богатств, то здесь встречается не одно золото; олово, железо, серебро, ртуть и кобальт находятся тут тоже в изобилии.
В другое время для мадам Массей и ее сына было бы настоящим праздником путешествовать по такой чудной стране; но теперь они были слишком поглощены своими личными волнениями. Останавливались они в деревянных домиках, жители которых принимали их очень радушно. Вообще буры довольно гостеприимныйнарод. Они живут многочисленными семьями. Чем больше детей у отца семейства, тем он счастливее и богаче, так как он обладает новыми силами для обработки земли. У них очень часто можно встретить в одном семействе двенадцать братьев и двенадцать сестер; двадцать пять детей от одних родителей — там факт не особенно удивительный.
Ни один фермер ни за что не согласится взять вознаграждение с путешественника за оказанное гостеприимство. Существует испокон века обычай — брать плату только за прокорм быков и лошадей.
Несмотря на свои беспокойства, Генрих с мадам Массей чувствовали благотворное влияние этого путешествия на открытом воздухе, по безграничным лугам и благоухающим лесам. Иногда им попадались навстречу туземцы-кафры, зулусы, приветствующие иностранца своим «сакубоно» (я вижу тебя), или смеющиеся бассутосы, весело кричавшие: «Тумелла!» (будем друзьями). В другой же день не попадалось ни одного живого существа.
Наконец ровным и спокойным шагом быки привезли их в Клейндорф. Это совсем маленький город, где попадаются вперемешку деревянные, железные и глиняные домики, а чаще всего палатки. Постройки там самой разнообразной величины, начиная от хижины для одного человека и кончая постройками солидными — отели, рестораны и церковь.
Генрих первым долгом устроил мать в одной из лучших гостиниц, а сам пошел наводить справки.
Его опасения сразу рассеялись: потерпевший крушение на «Дюрансе», проживающий в Клейндорфе, оказывался не вымышленным лицом. Он действительно существовал и находился здесь, приняв участие в эксплуатации рудника, открытого одним американцем, Гаррисом Линдзеем.
Генрих побежал с бьющимся сердцем по указанному адресу. Ему открыл дверь человек с загорелым лицом, светлыми глазами и седеющей бородой. Но это был не господин Массей, а капитан Франкер!
Какое сердечное пожатие руки!.. Какая радость увидеться друг с другом после того, как каждый отчаивался встретить живым другого! В нескольких словах они сообщили друг другу о своих приключениях. Капитан пошел ко дну вместе с «Дюрансом». Выплыв на поверхность, он ухватился за кусок дерева, который, по счастливой случайности, понесло к лодке, той самой, которая предназначалась Генриху; на ней он доехал до Пембо, оттуда в Лоренцо-Маркез, и наконец в Трансвааль. Он решил воспользоваться свободным временем, чтобы попытать счастья в поисках золота. «Жалкая мысль!» — добавил он в заключение.
Генрих сообщил капитану, кто был виновником катастрофы «Дюранса». Надо было видеть ярость доброго моряка!
— А! Вот как! Его зовут Лупус, и это немец из Гамбурга! Если бы он только попался мне, ему несдобровать!
Потом перешли к разговору о спасенных на лодках. Генрих не скрывал своего разочарования, узнав, что и капитан ничего не знал о его родных. Но уже одно присутствие капитана позволяло надеяться, что и остальные лодки не погибли. Генрих повел его к своей матери.
Этот визит и огорчил, и в то же время обрадовал мадам Массей. Конечно, она была счастлива увидеть капитана. Но почему это был не господин Массей?
Однако они провели очень приятный вечер, рассуждая обо всем, что могло дать повод к надежде.
Добрый моряк всячески старался утешить их.
— По Индийскому океану плавает такая масса судов! — говорил он. — Вы увидите, что все они целы и невредимы, все спаслись, каждый по-своему. Верьте мне, дорогая мадам! Надейтесь и терпите!
Как бедной женщине было не слушать таких советов?! Она только и жаждала их. Давно уже она не засыпала так крепко, как в этот вечер!
А пока, как советовал капитан Франкер, следовало остаться в Клейндорфе и ждать известий. Чего проще дать объявления во всех газетах, сообщить всем и каждому, что семейство Массей проживает в Трансваале, на берегу Лимпопо и ждет остальных членов семьи. Генриху было очень легко найти себе занятие, тем более, что Клейндорф нуждался в хороших химиках. Действительно, дня через два молодого инженера пригласил Гаррисон Линдзей, и он тотчас же приступил к работе.
Стоило только взглянуть на золотую руду, выпускаемую заводом, чтобы убедиться, что работа производилась весьма плохо: в отходах оставалось большое количество драгоценного металла, который не умели извлечь целиком.
Проверив этот факт, Генрих доложил о нем хозяину рудника; затем ревностно принялся изыскивать средства исправить зло и вскоре добился блестящих результатов.
Но он этим не удовлетворился и ввел еще многие усовершенствования в дело добывания золота. Его открытия наделали много шума. К Генриху стали обращаться со всех сторон с просьбами объяснить публике его новые методы, но он отказывался, так как находил, что они еще не вполне разработаны.
Тогда корыстные люди прибегли к мошенническому приему. Они постарались выведать от помощников молодого инженера, какие способы он употребляет в своих изысканиях.
Собственник завода, соседнего с заводом Гаррисона Линдзея, пошел еще дальше: его поймали на месте преступления в ту минуту, когда он намеревался украсть пузырек, в котором, по его мнению, находился новый растворяющий состав. Но это оказался совсем другой реактив. Однако Гаррисон Линдзей и капитан Франкер сочли необходимым привлечь вора к ответственности, в назидание другим. Дело разбиралось в суде Клейндорфа. Подсудимый был немец, недавно поселившийся в этом краю, по имени Гольдбранд.
ГЛАВА XV. Маниту
Итак, Колетта, Жерар, Лина, Мартина и Ле-Гуен опять очутились в руках дикого племени, которое принадлежало к Большому Королевству Баротзе. Это один из самых свирепых и несговорчивых народов всей Центральной Африки. Подталкивая довольно грубо своих пленников к деревне Лиалубо, черные воины заспорили о дележе добычи, — это легко было заметить по их выразительной мимике и некоторым словам, схожим с тем наречием, которое пленники уже понимали.
— Я тебе говорю, что оставляю ее себе! — говорил Иата, предводитель шайки, настоящий великан редкого безобразия. — Моя жена умерла. Я выбираю себе эту!
И его рука тяжело опустилась на плечо Мартины, которая громко вскрикнула.
— Возьми лучше молодую, — ответил с подобострастной гримасой другой негр, не такой высокий и с менее свирепой наружностью. — Она тебе больше подходит, а эту оставь мне.
— Это белое лицо! — воскликнул предводитель. — Ты хочешь, чтобы я сам себе принес несчастье. Разве ты не знаешь, что такие лица табу[1]? Нет, я оставлю себе «Луну». Бери сам, если ты не боишься этой девицы с белым лицом.
Но от такой опасной чести хитрый Нибу наотрез отказался, заворчав как собака на деспотизм своего хозяина.
Разговаривая таким образом, дикари вошли в лес и через час уже вступали в свое селение. Жители с шумом высыпали из своих конусообразных лачужек.
Решив не падать духом и при любых обстоятельствах выказывать свое превосходство, Жерар тотчас же по прибытии в деревню заявил Иате высокомерным тоном, uro он надеется, что с их стороны будет оказано должное уважение их гостям (он не хотел изображать себя пленником), что прежде всего им должны дать приличное помещение, где бы они могли укрыться от назойливого любопытства его подданных.
— Мы желаем иметь дело только с тобой, Иата, а так как ты хочешь взять себе в жены «Луну», то знай, что это зависит только от меня; в противном случае этот маниту, — сказал он, указывая на свой компас, — самый могущественный, какой когда-либо существовал, призовет на твою голову самые страшные бедствия!
Жерар не ошибся в своих расчетах: лицо негра изобразило неподдельный ужас.
— Да сохранит меня небо рассердить твой Маниту! — воскликнул он. — Я не сделаю ничего против его желания. Но мне нужна законная жена, так как моя умерла. Назначь сам цену за «Луну» и будь уверен, что я исполню твои требования, если они окажутся благоразумными.
— Я сначала должен посоветоваться с маниту, — ответил Жерар с напускной важностью, — а он может говорить со мной только наедине. Имей это в виду. И если кто-либо из вас помешает разговору — горе ему, горе всему племени!
Иата почесал ухо, но потом согласился исполнить требования Жерара. Он немедля распорядился о постройке помещения пленникам. Когда приготовления были окончены, он отвесил Мартине глубокий поклон, на что та проговорила:
— Иес!.. Какой он урод!.. Иес!.. Какое чудовище!
— А теперь, — сказал Жерар, оставшись один с друзьями, — как нам выйти из этого положения? Полагаю, что ты, Мартина, не особенно жаждешь сделаться госпожой Иата?
— Иес!.. отчего бы и нет? Но я надеюсь, что вы шутите!
— Нам следует обсудить следующее. Во-первых, цвет лица Колетты пришелся не по вкусу этим идиотам. Во-вторых, они верят в силу нашего маниту. Но сколько времени это продлится? Вот вопрос… Пусть каждый выскажет свое мнение. Вы, Ле-Гуен?
— Я — сказал Ле-Гуен, которого притязания Иаты на руку Мартины приводили в отчаяние, — я скорей согласился бы на все, чем выносить такое существование! Я бы задушил их! Я бы отнял у них их копья и показал бы им, как мы умеем владеть ими!
— Мнение это я весьма одобряю, но оно непрактично. Их двести человек против одного; мы не вооружены. Дать убить себя, значит, предоставить мою сестру, Лину и Мартину в распоряжение этих животных. Нечего и думать об этом.
— Да, правда! Но видеть, как этот негр ворочает своими глазищами, глядя на мамзель Мартину! Это уж чересчур!.. Это может привести в ярость!
— Тэ!.. Да неужели вы думаете, что я допущу продать себя как ягненка? — сказала Мартина. — Не беспокойтесь, я сумею отделаться от этого дьявола.
— А как же ты это сделаешь, извини за нескромность? — спросил Жерар.
— Уж я об этом подумаю! Тэ!.. Я им скажу, что Маниту запретил мне венчаться, пока здесь не покажется третье новолуние, и что я дала обет исполнить это требование. Если же я нарушу его, то маниту нагонит на них саранчу, которая пожрет у них все. Вы ведь знаете, как они верят, что белые способны на все!
— Мысль хороша. Но после третьего новолуния?
— О! тогда мы придумаем что-нибудь другое. Благо у нас будет выиграно время.
— Ну, посмотрим, что будет! — сказал Жерар, вставая. — Тамтам начинает играть, сейчас начнется пиршество. Теперь надо убедить сеньора Иату. Это, пожалуй, будет не так-то легко.
Действительно, издали доносились звуки тамтама. Пленники вышли навстречу Иате, который шел за ними. На нем была надета диадема из перьев попугая. Предложив Мартине свою правую руку, он повел гостей в свой дом, самый лучший из всех построек деревни.
Жерар и Колетта шли вместе. Как только они вошли под королевскую кровлю, они разом вскрикнули от изумления.
Против них, в глубине комнаты, висел прелестный тандем (двухместный велосипед), на который залюбовался бы любитель этого спорта.
Заметив их удивление, Иата пояснил:
— Это мой маниту!
— Как! Но ведь это главный маниту белых! — возразил Жерар, сообразивший, что он может воспользоваться невежеством дикарей, которые, конечно, не имеют понятия об употреблении велосипеда. — Несчастный! Как ты осмеливаешься оставлять его у себя?
— Разве это опасно?.. Он кусается?.. — закричал Иата, пятясь назад.
— Для негров это самая страшная вещь! — сказал Жерар почти шепотом. — Хорошо еще, что он заснул в то время, когда ты его внес сюда. Но откуда у тебя такой страшный маниту?
Иата смутился. Из его неясных объяснений можно было понять, что он достал его издалека, от каких-то маконасов, живущих по ту сторону большой реки.
— Какой реки?
— А той, в которую впадает наша речка.
«Вот как! Это нам совсем на руку! — подумал про себя Жерар. — Маконасы живут на Замбези. Эта речка течет к югу. Надо непременно завладеть этим велосипедом».
— Счастье твое, что маниту заснул! — заговорил громко Жерар. — Но теперь, когда около тебя собрались белые, он непременно проснется, и я тогда не хотел бы быть на твоем месте.
Иата, испуганный такими страшными предсказаниями, попросил Жерара посоветовать ему, что с ним делать.
Жерар ответил не сразу; он сначала подошел к тандему, приложил к нему ухо и затем объявил, что если его перенесут в жилище белых, и ни одна рука негра не дотронется до него, то он готов помиловать и не делать зла.
Иата с радостью согласился на это, а пока, усевшись на почтительном расстоянии от опасного фетиша[2], он начал уплетать кусок кровавого мяса, ворочая глазами, от чего Лина вся задрожала, так как подумала, что Иата — людоед.
Затем он прильнул своими толстыми губами к тыквенной бутылке с мвенге. Напившись, негр передал бутылку Мартине, а равно и свои объедки от мяса, которые та оттолкнула с омерзением. Иата был очень тронут таким достоинством своей невесты и решил, что она не любит объедков, а потому бросил свою кость Нибу, которую тот с жадностью подхватил.
После такой закуски негр набил табаком трубку и объявил Жерару, что желает узнать условия уступки ему Мартины.
Жерар ответил ему придуманной сказкой. «Луна» дала обет, Маниту запретил ей венчаться ранее восьмидесяти четырех дней, иначе на ее мужа и на все племя, в которое она вступит, обрушатся следующие беды: болезни, засуха и саранча. Как выкуп, Жерар потребовал во-первых — большого маниту, висевшего у него в доме, затем хорошую пищу и свободное хождение по деревне для всех белых. Без этого он не получит Мартины!
Иата попробовал возражать, но Жерар так упорно стоял на своем, что тот наконец на все согласился, только взмолился, чтобы ему позволили справить свадьбу теперь же.
Жерар не стал отказывать, боясь рассердить Иату. Церемония была назначена на следующий день. А пока Ле-Гуен принялся отвязывать тандем, и затем все белые торжественно понесли его к себе. Выйдя через некоторое время из своего дома, Жерар сказал, что в награду за то, что маниту — у белых, последний пошлет им обильный дождь. Ле-Гуен по своему ревматизму всегда чувствовал перемену погоды. В то время была сильная засуха во всем краю, а потому это известие всех обрадовало, хотя ему не совсем поверили. Но не прошло двух часов, как появились тучи и на деревню хлынул проливной дождь — авторитет маниту сразу поднялся. Теперь Иата уже не посмеет торопить со свадьбой. Его подданные сами воспротивились бы этому.
После дождя пленники прогулялись, потом пришли к себе и начали советоваться. Невозможно было противиться свадебной церемонии. Иата, по крайней мере, спокойно будет ждать обещанного срока. Все были с этим согласны, кроме Ле-Гуена, становившегося все пасмурнее.
Удивленный его молчанием, Жерар обернулся к нему.
— Что же вы молчите, Ле-Гуен? — воскликнул он. — Что вы имеете против этой дурацкой церемонии? Ведь она нас ничем не связывает и нисколько не помешает нам убежать отсюда, как только представится удобный случай. Мартина ничего не видит дурного в том, чтобы посмеяться над этим негром!
— Конечно! — подтвердила красавица. Ле-Гуен все молчал.
— Я понимаю, что вам противно ломать эту комедию, мой добрый Ле-Гуен! — сказала Колетта своим мягким голосом. — Но, в сущности, для Мартины это единственное средство, чтобы избежать настоящего замужества, что было бы, вы сами знаете, гораздо невыносимее.
— Чтобы его разорвало! — разразился Ле-Гуен. — Чтоб ему не было ни дна, ни покрышки!
Потом, бросив свою шляпу на землю, он скрестил на груди руки.
— Черт побери! Мириться с таким свинством! Э! Тем хуже! Я больше не могу молчать. Я не хочу, чтобы Мамзель Мартина венчалась с этим поганым негром по очень простой причине: я желаю, чтобы она венчаласьсо мной! Вот! Ясно вам теперь или нет?
— А! Так вот в чем дело! — сказал Жерар, поднимая руки кверху. — Но ведь это же не серьезно! Ведь она не будет настоящей невестой! Никто не помешает ей обещать на французском языке никогда не выходить замуж за негра, если хотите, а тот пускай себе клянется ей в верности!
— Иес! — вскричала Мартина, жеманясь, а на самом деле очень польщенная этим занимательным спором. — Вы должны же понять, месье Ле-Гуен…
— Я ничего не хочу понимать! — возразил тот, совсем расстроенный.
— Неужели я жарился по такому зною, шел столько пешком, влезал на слона, я, Ле-Гуен, один из лучших матросов, получивший медаль Тонкина, только для того, чтобы видеть, как мамзель Мартина у меня под носом выйдет замуж за негра?!. И не рассчитывайте, что я соглашусь на это!
— Еще бы, я это вполне понимаю, — сказала Мартина, на которую произвели сильное впечатление доводы ее нового претендента. — Конечно, мы теперь больше не чужие друг для друга, мы теперь помолвлены!
Напрасно старались успокоить Ле-Гуена — ничто не помогало.
— Черт возьми!.. Как они глупы оба! — воскликнул Жерар, выведенный из терпения. — Э! Да женитесь, если хотите! Женитесь хоть завтра, если можете! Но если вы находите, что вы этим выиграете дело, то позвольте вам сказать, что я не разделяю вашего мнения!
— Послушайте, дорогой Ле-Гуен, — сказала Колетта, подойдя к матросу и взяв его за руку. — Отчего бы вам теперь, сейчас же не заручиться согласием Мартины, если и она того же мнения, так как мне кажется, что вы еще не спрашивали ее согласия? Таким образом она будет ваша невеста, а с Иатой это только для формы.
— Вы думаете? — спросил бедный Ле-Гуен, обрадовавшись.
Эта мысль показалась ему блестящей.
— В таком случае, это дело другое! — сказал он, поднимая шляпу.
— Если мамзель Мартина действительно согласна?..
— Тэ!.. Я не говорю, что нет… только бы не расставаться с детьми…
— Да я и сам никогда не попросил бы этого. Итак, мамзель Мартина, значит, теперь решено, мы оба связаны на жизнь и на смерть?.. Мы жених и невеста?..
— Да, решено, — сказала Мартина, отвечая ему крепким пожатием руки. — Теперь мы помолвлены!
— Уф!.. — воскликнул Жерар на следующее утро, когда он остался вдвоем с сестрой. — Хорошо, что ты нашла выход, Колетта! Хотя я не понимаю, чем он удовлетворяет этого упрямца Ле-Гуена.
— Это вполне естественно: раз Мартина его невеста, он будет знать, что та церемония — одна комедия. Как это трогательно, что данное ему слово в его глазах все равно что контракт. Это показывает, до какой степени он честен.
— Честен, да, наверное, но уж и несносен, — сказал Жерар, пожав плечами. — А Мартина-то какова! — рассмеялся он, — это настоящая Пенелопа среди своих претендентов! Только бы Ле-Гуен не выкинул чего-нибудь из-за ревности! Не хватало еще, чтобы мы поссорились с Иатой!
— Ну, нет, мы уговорим его.
Не успела Колетта это произнести, как вошли Мартина и Ле-Гуен.
— А! Деточки, — сказала она, целуя Колетту, — вы небось рады, что у вас велосипед?
— Еще бы, мы в восторге, дорогая Мартина.
— А я возлагаю на него большие надежды, вы оба можете укатить на нем!
— Как укатить! А вас оставить здесь, одних? И не думай об этом!
— Я передаю только то, о чем мы рассуждали с Ле-Гуеном. Он говорит, что сделает маленькую пирогу, втихомолку от негров, и мы поедем в ней по речке, а вы покатите на вашей машине. А если мы отсюда не выберемся, то дело будет плохо.
— Да, мамзель Мартина правильно говорит, — подтвердил Ле-Гуен. — Из-за нас вам нечего оставаться здесь. Как только я увидел эту машину, я сейчас же подумал, что она может сослужить вам службу. Месье Жерар и мамзель Колетта свободно поместятся на ней, а в серединке найдется местечко и для Лины. И поверьте, что мне гораздо легче сделать пирогу для нас двоих, чем для всей компании.
— Слушайте, Ле-Гуен: если бы ваша барка, или, как вы ее называете, пирога, была бы уже готова, я ничего бы не сказал! — возразил Жерар. — Но оставить вас здесь, среди этих зверей, злость которых обрушится на вас одних, — нет!
— Ах! Верите мне или нет, месье Жерар, — просто сказал Ле-Гуен, — но я с радостью согласился бы дать себе отрезать руку и даже обе, чтобы только вас не было здесь, особенно мамзель Колетты! Сердце разрывается на части, когда видишь ее среди этих проклятых варваров.
— Милый Ле-Гуен!.. — только и мог сказать глубоко растроганный Жерар.
— Ах! бедная наша барыня! — вздохнула Мартина с глазами, полными слез. — И подумать, что мы лишились ее!
Колетта закрыла лицо руками, потрясенная тяжелыми воспоминаниями. Все расплакались.
— Ну, довольно… нежные сердца! — сказал Жерар, преодолевая свое волнение. — До сих пор мы благополучно избегали всех опасностей. Значит, и у наших дорогих отсутствующих все слава Богу. Мы непременно разыщем их, я в этом не сомневаюсь ни на одну минуту… Во всяком случае, испытания заставили нас ценить наших верных друзей, Мартину и Ле-Гуена. И я не знаю, решимся ли мы уехать одни на велосипеде. А пока надо постараться сделать сносным наше существование здесь. Влияние Мартины на ее обожателя поможет нам в этом.
— Единственно, с чем я не могу смириться! — воскликнул Ле-Гуен, топнув ногой. — Ведь надо же было случиться такому несчастью! Проклятый негр!
— Несчастье в том, что она слишком прекрасна, — запел Жерар на мотив последней французской шансонетки и, взяв Мартину за талию, начал с нею вертеться. — Все теряют голову, даже дикари! Что же делать: себя не переменишь! Да мне и не хотелось бы, чтобы наша Мартина была другой. Она мне и так нравится!
— Мне тоже она такой нравится! — сказал Ле-Гуен, невольно улыбаясь. — Вся беда в том, что и этот горилла одного мнения со мною!
— Ба! — воскликнула Мартина. — Но надо научить его знать свое место. А пока, как говорит Жерар, воспользуемся его расположением!
Свадебная церемония была устроена с большой помпой при посредстве мбамдуа, колдуна племени. Иата громогласно объявил, что он берет себе в жены Мартину; Мартина, в свою очередь, поклялась по-французски никогда не выходить замуж за Иату и убежать от него при первом удобном случае. Ле-Гуен наконец вздохнул с облегчением и принялся хохотать; к нему присоединились и негры, всегда готовые к быстрым переходам от грусти к веселью и наоборот.
После пира и обычных танцев Иата пожелал узнать о происхождении своей невесты. Напрасно Жерар старался объяснить ему: не имея понятия о море, Иата не мог представить себе чуждого ему края. Среди его вопросов Жерар заметил его беспокойство относительно Колетты. Иата слыхал от мудрецов, что люди, родившиеся с таким светлым цветом лица — духи, что они приносят несчастье… Правда ли это? Может быть, и с Жераром оттого случились такие беды, крушение и затем приключения? Напрасно Жерар отрицал глупые предположения. Иата и его шайка боялись Колетты и решили быть от нее подальше.
Преследуя ту же мысль, Иата осведомился, есть у белых колдуны, которые предсказывают будущее и отгадывают сны. Есть ли у них признаки, по которым можно знать заранее, что нас ждет?
— Мы, — говорил негр тихим голосом, — всегда знаем, что нас ждет: если у порога закричит сова, значит, хозяин этого дома умрет. Пение синей птицы предвещает дождь. Если у двери запоет трясогузка — жди гостей или подарков; если же человек убьет одну из этих птиц, у него будет пожар. Коршуны и вороны — главные из птиц; тот, кто осмелится убить их, непременно захворает. Если ты видишь во сне, что кто-либо из живых людей замышляет что-нибудь против тебя, отделайся от него как можно скорее: только мертвые не кусаются. Если ты видишь мертвого родственника, значит, он требует жертв своей тени. Убивай без жалости всех, кто тебе попадется под руку…
Иата продолжал перечислять монотонным и глухим голосом свои суеверные познания, а прочие негры с замиранием сердца добавляли и свои сведения, ворочая белками глаз при слабом мерцании огня.
Жерар хотел было объяснить им, как глупо придавать такое значение всяким пустякам, но убедился, что это был бы напрасный труд; они даже стали бы относиться подозрительно к иностранцу, не верящему в колдунов и предзнаменования. Чтобы поднять настроение у всех, он начал петь шансонетку, которая, по-видимому, развеселила слушателей. Видя, что его пение понравилось, он попросил и сестру спеть что-нибудь. Она запела прелестную вещицу из «Ифигении», оперы Глюка. Ее спутники слушали с волнением, как раздавался в воздухе ее мягкий и грустный голосок; у дикарей навернулись на глаза слезы. Но когда она кончила, негры все приуныли.
— Эта девушка поет так, как будто бы она сестра птиц! — сказал Иата, — но ее пение — зловещее; посмотрите, мой сын сделался грустный; он плачет как женщина.
Действительно, старший сын начальника, чахоточный молодой человек, закрыл лицо руками.
— Никогда я не видел его таким! — продолжал Иата. — Верно, в голосе твоей сестры есть что-то особенное… Это нехорошо… Если бы нам завтра пришлось идти на войну, это было бы плохим предзнаменованием!
«Черт бы его побрал со всеми его предзнаменованиями!» — подумал Жерар.
Но ему удалось более или менее рассеять странное беспокойство Иаты. Отведя его в сторону, он доказал ему, что, во-первых, их прибытие ознаменовалось дождем, значит, они принесли ему счастье, а не горе. Потом, если их присутствие так беспокоило его, он может отпустить их… Но Иата отрицательно закачал головой и объявил, что, напротив, колдуны велят не выпускать из виду подозрительных особ. Окончательно отчаявшись убедить негра, Жерар решил неустанно следить за своей сестрой и всеми силами защищать ее от фанатизма этих варваров.
Вот когда храбрый мальчик особенно почувствовал весь ужас того положения, в котором они очутились, и всю ответственность, лежавшую на его молодых плечах. Каким способом уберечь его дорогую сестру? С каким лицом он предстанет перед своими родителями, если с ней случится несчастье?
Подумать только, что его Колетту, которая не могла смотреть без слез на невольников, которая так искренне жалела черных женщин и детей, — обвиняли в дурном глазе, боялись ее как ведьмы. Эта мысль возмущала его до глубины души. И его воображению рисовались всевозможные ужасы!..
Между тем первая луна уже прошла: пленники видели, что время летит и приближается тот час, когда Мартина должна сделаться женою Иаты.
Отказ был бы невозможен. Они были во власти баротзеев, и сопротивление их окончилось бы смертью.
Вдруг в деревне разразился пожар, уничтоживший несколько домов. Жерар и Ле-Гуен первые бросились на помощь пострадавшим. Но все-таки, по некоторым взглядам и шепоту, они заметили, что негры приписывали несчастье белой девице. Утром она вошла в один из домов, чтобы навестить там больного ребенка, а вечером в этом самом доме показался огонь. Значит, факт был налицо: причина пожара — ее дурной глаз.
К несчастью, вскоре после пожара, захворал сын Иаты и умер. Хотя он всегда был слаб и болезнен, но в темном уме Иаты зародилась мысль, что виною смерти его сына была опять Колетта. Неужели он и теперь станет еще колебаться, когда преждевременная смерть его единственного сына вопиет о мщении?
Ле-Гуен слышал, как негры, собравшиеся у колдуна, говорили ему, что белая девушка сглазила сына Иаты, и тут же составили против нее заговор, угрожавшей ее жизни. Ле-Гуен стремглав полетел к своим друзьям предупредить их о такой страшной опасности.
— Больше нельзя терять ни минуты! — сказал он. — Вы должны уехать сейчас же, не откладывая, на этой машине, которую сама судьба предоставила вам. Ну, скорей, уезжайте все трое! Лина сядет между вами, на маленьком седле, которое я устроил ей. Что же касается нас с моей невестой, мы сумеем выпутаться из дела. А этим дьяволам скажем, что вас умчал маниту. Да оно и действительно так!
— Но оставить вас, мой добрый Ле-Гуен, и нашу дорогую Мартину, нет, это немыслимо! — ответила Колетта. — Мы останемся с вами! Они ничего с нами не сделают! Не посмеют!
— Мадемуазель, — возразил матрос важным, почти строгим тоном, — я с вами говорю, как с родной дочерью. Вы сами знаете, что Мартина предпочтет перенести все, что угодно, только бы не видеть вас в опасности! Неужели вам приятнее, чтобы нас всех перебили, пока мы будем защищать вас? А потому я говорю вам — вы должны послушаться и ваш брат обязан спасти вас, пока еще есть время. А за остальное я отвечаю!
— Колетта, ты должна это сделать! — сказал Жерар, побледнев. — Поцелуй нашу вторую мать, нашу дорогую и верную подругу! У нас сердце разрывается на части, оставляя вас, добрые наши друзья, но Ле-Гуен прав: долг Колетты — уехать, а мой — увезти ее… Ну, Лина, собирайся!..
Девушки насилу вырвались из объятий Мартины, покрывавшей их поцелуями и слезами. Она помогла им усесться на велосипед, уже заранее вычищенный и смазанный маслом.
Ле-Гуен с силой толкнул его, и трое белых помчались из деревни дикарей.
ГЛАВА XVI. Приток Замбези
Уже больше часа ехали наши беглецы, не переводя дыхания и не смея произнести ни слова. С тяжелым сердцем и сдерживая слезы, они стремились к одной цели: увеличить расстояние между собой и Иатой. Согнувшись над машиной, они быстрым и ровным ходом, подобно полету ночной птицы, спускались вдоль берега реки.
Дорога была прекрасная, точно нарочно устроенная для их бешеной езды.
Среди темной ночи сверкали звезды. Ни один крик, ни один подозрительный шелест не нарушал царившей тишины и не давал повода к беспокойству о преследовании.
Можно было передохнуть, потому что злоупотребление быстрой ездой могло вредно отозваться на их силах. Жерар первый решился нарушить молчание, посоветовав отдохнуть немного, и трое детей, соскочив на землю, спустились тихонько к реке, утолили жажду, обмыли лицо и руки, покрывшиеся пылью, и наконец закусили, воспользовавшись пакетиком, который им сунула на прощанье добрая Мартина. На этот раз Лина взяла его себе на хранение, довольная хоть чем-нибудь быть полезной, и так крепко прижимала его к себе, что большая часть бананов превратилась в кашу. Но Жерар утешил ее, сказав, что они и в таком виде очень вкусны, и что нечего сокрушаться, так как они по пути найдут бананов сколько угодно.
Подкрепившись и отдохнув, путники сели опять на велосипед и помчались дальше. Каждый час Жерар давал знак к остановке, чтобы сберечь силы своих спутниц. Но когда наконец взошло солнце, Лина чуть не падала от усталости, да и Колетта совсем выбилась из сил.
Жерар и сам был не прочь заснуть с ними, но он ни за что не хотел согласиться на это и превозмог всю свою усталость, чтобы сторожить своих спутниц.
Сняв их с тандема и спрятав драгоценный экипаж в кусты, он приказал девушкам ложиться, тоном, не допускающим возражения.
Они не стали сопротивляться, и не успели лечь, как обе крепко заснули. Жерар с умилением смотрел на них: Колетта обняла Лину за шею, а девочка с доверчивостью облокотилась на плечо своей покровительницы. Глядя на них, мальчик почувствовал новые силы для борьбы с усталостью, не забывая ни на минуту своей нравственной ответственности за них.
Было около восьми часов утра, когда Колетта проснулась. В один миг она все сообразила и, встав на ноги, сказала Жерару, целуя его:
— Ну, скорей! Ложись спать, дорогой Жерар, я буду сторожить.
Он, конечно, не заставил себя упрашивать.
Так же, как и его спутницами, сон тотчас же овладел им. Колетта заметила фрукты, которые Жерар нарвал для них; тем временем и Лина проснулась, и они обе закусили с большим аппетитом, поглядывая с любовью на своего предводителя и защитника.
Потом опять двинулись в дорогу. Беглецы неизменно следовали вдоль течения речки.
Куда их вела эта дорога? Конечно, к югу, судя по компасу, а это было главное.
Если, как предполагал Жерар, Лоангуа была притоком Замбези, то, следуя по ней, они достигнут большой реки, которая должна быть в соседстве с Трансваалем, с Преторией, куда стремились дорогие им существа.
Уже шесть дней прошло с тех пор, как молодые беглецы ехали по берегу Лоангуа; дорога вдруг совсем изменилась — берега сделались круче, на каждом шагу стали попадаться холмы и неровности почвы.
После нескольких минут нерешительности и разочарования Жерар сказал:
— Нечего делать, больше нельзя ехать вдоль реки. Поедем другой дорогой! Компас с нами, значит, мы можем держаться по-прежнему направления к югу.
— Все к лучшему, — утешался Жерар. — Посмотрите на компас, теперь мы едем по прямой дороге, тогда как прежде делали разные зигзаги по речке.
— Конечно, — ответила Колетта, старавшаяся не разочаровывать своего брата, — это просто счастье, что мы перестали ехать по речке. Как ты думаешь, Лина?
И девочка, польщенная тем, что спрашивали ее мнение, подтверждала, что это прекрасно, что они больше не едут по речке, что теперь уже, наверное, они приближаются к югу.
Итак, они продолжали свой долгий путь, поддерживая друг друга и находя в этом силу не предаваться ни на минуту отчаянию. Но бывает степень несчастья, перед которым падают духом и самые сильные люди.
Было около четырех часов пополудни. Беглецы с утра ехали по новой дороге и кое-как справлялись с ее неровностями, как вдруг на них обрушилась внезапная непоправимая катастрофа.
Послышался треск. Велосипед погнулся, сломался и вдруг остановился; все трое упали на землю.
К счастью, они собирались остановиться, а потому замедлили ход, вследствие чего толчок оказался не так силен.
Став первый на ноги, Жерар с радостью удостоверился, что девушки не пострадали. Увы! Не то было с велосипедом — остов машины сломался пополам.
При виде такого несчастья у бедного мальчика опустились руки. Он, которому нипочем были все опасности, усталость и ответственность этого мучительного путешествия, воскликнул теперь в отчаянии:
— Все потеряно!
Но он тотчас же закусил себе губу до крови, жалея, что выдал себя, и замолчал, остановившись с неподвижным взглядом и стараясь унять внезапное волнение; его лихорадочному воображению рисовались все ужасы такого безвыходного положения.
Обе девушки тоже молчали, боясь хоть одним словом прибавить каплю к переполненной чаше горечи. Но каждая из них взяла руку Жерара и этим немым пожатием постаралась утешить его.
Наконец Колетта сказала твердым голосом:
— Жерар, с нами случилось большое несчастье: свобода, встреча с нашими, все наши надежды отодвинулись надолго; это жестоко, но что же делать. Остается покориться. Теперь нам никто не может помочь, но у нас остается наше единственное оружие защиты — это наше мужество. Будем утешать себя; могло бы быть еще хуже!
— Хуже! — воскликнул Жерар. — Но как мы теперь будем бороться с усталостью? Перенесут ли ваши бедные ноги такую трудную ходьбу?
— Ну, да, — сказала Колетта, — я так и знала, что если ты огорчен до такой степени, то это из-за нас. В сущности, вся наша беда сводится к одному — теперь нам придется идти пешком.
— Ну, что ж, я хороший ходок, а Лина крепнет теперь с каждым днем, кажется, ни один доктор не поправил бы так ее здоровье, как эта жизнь на свежем воздухе.
— О, Жерар! — воскликнула девочка с жаром, — я очень рада идти пешком; пока я с вами, я всегда счастлива!
— Она говорит правду! — сказала Колетта. — Пока мы вместе, пока ничто не разлучает нас, мы можем смело смотреть в глаза всякому несчастью.
Жерар был не из тех, которые надолго падают духом. Стойкость его сестры ободрила его.
— Ну, ладно, — сказал он, — Нечего унывать! Пока мы живы, нечего признавать себя побежденными.
Отвязав от велосипеда походные инструменты, он спрятал его в небольшую яму, прикрыв ее ветками и сухими листьями, потом сделал значки на деревьях и сосчитал их, чтобы впоследствии можно было найти машину. Наконец, когда все приготовления были окончены, путники опять двинулись в дорогу.
Но какая разница с предыдущими днями! Вместо пятнадцати-двадцати километров в час беглецы едва успевали пройти три-четыре километра.
Но их неутомимая энергия была вознаграждена.
При закате солнца, когда они вышли из одной долины, их глазам представилось неожиданное зрелище.
Внизу, на двести или триста метров под ними, по краю огромной равнины, протекала большая река, извилинами текшая к западу.
Замбези!.. Это могла быть только Замбези, в чем Жерар и Колетта не сомневались. Такое спокойное величие могло только быть у «отца рек» Южной Африки. Значит, тут близко и Трансвааль.
«Но как теперь быть?» — подумал Жерар.
Оставив свою сестру и Лину в тени, у большой скалы, он сам спустился на берег.
Не видно было ни одного человеческого следа, ни одной лодки.
Река протекала спокойно по песчаному руслу. Жерар бросил в нее пучок травы и заметил, что течение реки совсем слабо. Это было весьма важно, так как подавало надежду одолеть препятствие простым способом.
Толстый гнилой ствол дерева, выброшенный водой на берег, подал Жерару мысль воспользоваться им как лодкой. Хотя это было трудно, но отчего же не попробовать?
Он сообщил эту приятную новость своим спутницам, и на другой день, выспавшись ночью как следует, все трое принялись за работу. В несколько часов они настолько выскоблили имеющимися у них инструментами внутренность дерева, что свободно могли все поместиться в нем. Затем они зажгли охапку сухих ветвей и с помощью их отпалили лишнюю часть ствола, так что у них получилась настоящая пирога, правда, совсем первобытная, но все же годная для употребления.
Теперь оставалось выбрать на деревьях большие толстые ветки, которые могли бы заменить весла; скоро и с этим покончили.
Затем с большим трудом они спустили в воду импровизированную лодку. Жерару пришлось сначала идти в воде, подталкивая пирогу сзади.
Наконец они принялись грести и вскоре наткнулись на корень дерева у противоположного берега. Замбези была преодолена! Все выпрыгнули на землю. Увидев маленькую рощицу, они решили отдохнуть в ней и переговорить обо всем. Жерар привязал пирогу к дереву с помощью сухих сплетенных трав.
Ехать по течению было немыслимо: их на открытой реке всякий легко мог заметить, да, кроме того, такое путешествие было бы слишком утомительно. Обсудив все, беглецы решили идти опять пешком по направлению к югу.
Увы! Судьба не замедлила представить беглецам новые неожиданные опасности.
Не успели они пройти и одной мили, как увидели на равнине опустошенную деревню. Это был крааль, или готтентотская деревня, с куполообразными хижинами, разрушенными пожаром. Здесь всюду видны были следы отчаянной борьбы. Человеческие кости валялись наряду со скелетами быков.
При появлении путешественников в воздух со зловещим криком взвилась хищная птица. Лина лишилась чувств от такого ужасного зрелища, так что пришлось унести ее с поля битвы.
Бедные дети еще не успели прийти в себя от этого испуга, удалившись на полмили от крааля, как их сердца забились от нового испуга.
В ста шагах от них показалось войско негров со свирепой наружностью.
Все знали, что можно было ожидать от этих дикарей…
Неужели они освободились от баротзеев, чтобы попасть в еще худшие руки?
Эти люди казались ужасными. Их было около тридцати человек; вооруженные щитами, они продвигались медленной и ровной походкой. Их громадные головы придавали им особенно страшный вид.
По мере того, как они приближались, Жерар рассмотрел, что их головы были увеличены искусственно, как у прежних саперов, носивших особенный головной убор. Теперь уже нечего было рассчитывать на спасение. Волей-неволей пришлось остановиться и ждать, что выйдет из этой встречи.
ГЛАВА XVII. Большие головы и белые лица
Черные воины все приближались. Они были уже на расстоянии не более пятидесяти-шестидесяти метров.
Вдруг Жерар сказал:
— Удивительно! Мне кажется, что среди них белые лица. Или это мое воображение? Посмотри-ка, Колетта!
В ответ на это Колетта громко вскрикнула и, как стрела, бросилась бегом в объятия того самого белого человека, на которого ей указывал ее брат и в котором теперь и сам Жерар узнал господина Массея! В ту же секунду раздался второй такой же крик, и Лина очутилась в объятиях своего отца!
Словами не выразить всего восторга и счастья этой встречи. Обе группы европейцев стояли без слов, точно застигнутые ударом молнии, между тем как окружившие их туземцы бессмысленно вращали глазами и гримасничали, не понимая в чем дело. Колетта и Лина, повиснув на шеях своих отцов, рыдали, не будучи в состоянии объяснить себе такую чудесную встречу; они инстинктивно все крепче и крепче сжимали руки, боясь лишиться отцовской защиты, чтобы дорогие им существа не скрылись бы как привидения. Наконец Колетта очнулась.
— Я совсем завладела вами и Жерару не оставила места, — сказала она, улыбаясь сквозь слезы. — Ах, папа! Дорогой папа! Поцелуйте его покрепче!..
— Если бы вы знали, какой он был добрый для нас, как он спасал нас! О, бесценный папочка!.. Неужели это правда?.. Неужели это не сон?
И бедная девушка опять обнимала и целовала своего отца, любуясь обожаемыми чертами, которых она не надеялась более увидеть. Потом на нее точно напал столбняк от такого внезапного перехода от горя к радости. Прошло несколько минут…
— Мадемуазель Колетта, вы узнаете вашего старого друга?
Колетта вздрогнула при звуках знакомого голоса.
— Месье Ломонд! Ах, доктор, как я рада увидеть вас! — сказала прелестная девушка, дружески протягивая ему руку.
— А вот и господин Брандевин, тоже старый знакомый, которому вы будете рады, наверное.
— Еще бы! — сказала Колетта, ласково здороваясь с ним.
— Представляю вам в его лице Его Сиятельство главного эконома племени Больших Голов, знаменитой ветви народа матабелов! — сказал торжественно доктор, который, по обыкновению, старался вывести бедную девушку из слишком сильного и продолжительного волнения.
— Ну-с, а узнаете ли вы нашего доброго Вебера?
— О, да! Месье Вебер, вы себе представить не можете, как я счастлива увидеть опять отца моей дорогой маленькой Лины!
— Ах, мадемуазель! — сказал Вебер, глядя на нее с нежностью. — А я-то как счастлив, что снова могу любоваться вашим очаровательным личиком! Это точно небесная роса на иссохшей земле! А этот ребенок, моя бедная сиротка, которая твердит мне, что она всем обязана вам, что вы для нее были более, чем родная мать! И вы мне возвращаете ее крепкой, выросшей, похорошевшей, неузнаваемой!.. Как вам выразить все мои чувства признательности!..
Бедный Вебер заплакал.
— Поверьте, дорогой месье Вебер, — сказала Колетта, ласково взяв его за руку, — что мы с Линой обе обязаны друг другу. Необходимость поддерживать ее, подавать ей пример терпения содействовали тому, что я и сама не падала духом. Дорогая моя Лина! Ни за что на свете мне не хотелось бы расстаться с нею, разве, если бы я была уверена, что она в полной безопасности.
Под впечатлением неожиданного счастья мысли Колетты совсем рассеялись, потеряли свою обычную уравновешенность. Вдруг ее сияющее лицо сделалось грустным.
— А… другие? — спросила она нетвердым голосом, вглядываясь в Большие Головы, как будто между ними она надеялась найти любимое лицо.
— Других тут нет, увы! — сказал доктор.
— Мамы? Генриха?..
— Их нет с нами!
Колетта застонала в невыразимой тоске.
— О, Колетта! — тихо умолял ее Жерар, — крепись, не смущай радость папы! Как раз он только что говорил… Не надо же так отчаиваться. Подумай, кого мы нашли! Значит, и остальных найдем! Колетта, дорогая, перестань. Колетта, я не узнаю тебя, где твоя твердость духа?
— Прости!.. — сказала девушка, — я больше не буду расстраивать вас.
— Но где мы теперь? — спросила она громко, чтобы переменить тему разговора, — объясните мне, что это за люди, которые не оставляют вас?
— Это наши телохранители, — сказал доктор, — их обязанность всюду сопровождать нас, так как мы, собственно говоря, пленники, хотя нас и снабдили важными титулами. О Брандевине я уже говорил вам; Вебер здесь — главный мастер огнестрельных орудий, я — врачеватель племени, но отгадайте, мадемуазель, в какой сан возведен ваш отец?
— Возведен в сан? — удивились Жерар и Колетта.
— Ни более ни менее, как в сан короля!
— Короля! — повторили они оба.
— Именно. Павел Массей — первый владыка племени Больших Голов, генералиссимус всего большого народа (их наберется около трехсот храбрых людей, не считая мелюзги), с правом верховного суда. Ему предоставлен дворец, доставка провианта: сто голов скота, дичь, фрукты и прочее, и все привилегии, соответствующие его сану.
— Исключая, к несчастью, главного — свободы! — со вздохом заметил господин Массей.
— Но, мой милый друг, надо быть справедливым. Есть ли на свете хоть один деспот, который имеет право пользоваться свободой? Весь мир знает, что настоящие пленники — это цари!
Путешественники в это время находились у подошвы холма, который мешал им разглядеть окрестность деревни. Не прошло и часу, как они поднялись на возвышение; новые пришельцы разом вскрикнули от восторга.
Природа изменилась точно по волшебству. Дорога, по которой шли последнее время Жерар и девушки, представляла из себя ровную, песчаную, иссохшую землю. Всюду был один желтый песок; ни один кустик, ни одна травка не ласкали взора, разве кое-где попадалось одинокое жалкое деревцо.
И вдруг они на спуске холма увидели прелестную долину, всю в зелени: банановые, пальмовые деревья и огромные магнолии свешивались над прозрачной речкой и отражались в ее зеркальной поверхности.
С противоположного холма поток спускался водопадом, неся обильную дань воды в речку; там и сям виднелись островки, густо поросшие папирусом; стада коз и баранов мирно паслись, заканчивая собою этот дивный пейзаж.
— Наполняйте ваши взоры красотой природы, — сказал доктор, — любуйтесь, пока вы еще не приблизились к жилищам; невообразимая грязь крааля заставит вас позабыть сию божественную картину.
— Как! — воскликнула Колетта, — эти хорошенькие хижины, такие оригинальные, которые кажутся обиталищем эльфов и фей, грязны и содержатся неопрятно? Даже не верится!
Издали действительно эти хижины казались очень красивыми, но они не все были одинаковой величины, и среди них особенно выделялась одна: хотя ее крыша, так же, как и у других хижин, была конусообразна и сделана из сплетенных сухих листьев, но имела правильную четырехугольную форму и была выше и больше всех прочих. Это и был дворец, предназначенный монарху.
— А вот этот домик, направо, — сказал доктор, — принадлежит мастеру огнестрельных орудий, Веберу, пребывающему здесь телом, но душою парящему, без сомнения, в своих далеких мастерских. Он устроил здесь наковальню и разрабатывает всевозможные планы, внушаемые ему его изобретательным гением. Когда мы явились сюда, у нас решительно ничего не было; пришлось сначала довольствоваться более чем скромной утварью смелых матабелей: тыквенной бутылкой для воды и молока, звериной шкурой для спанья и вилкой Адама для еды.
— Что же касается принадлежностей туалета, то о такой роскоши они и понятия не имели. Они довольствовались тем, что встряхивались утром после сна, как дворняжки, вылезшие из будки; о мытье же у них не было и речи.
— Вот кто настоящие философы, но следовать их примеру не так-то легко. После того, как с детства привыкнешь к комфорту цивилизации, к зубной щетке, мылу и прочему, когда привыкнешь садиться за стол, покрытый чистой скатертью, к стакану, ножу и вилке, когда вас родители не приучили есть сырое мясо, то на африканской земле почувствуешь себя не очень-то хорошо!..
— О, доктор! — сказала Колетта, — я уверена, что вы на самом деле не такой гастроном, как говорите; в этой стране такие вкусные фрукты, к чему вам еще кухонная стряпня? Что касается нас, то мы ни на минуту не чувствовали этого лишения!
— Говори за себя, Колетта, — не согласился Жерар, — мне же порядком-таки надоели кокосовые орехи и бананы, — я бы все их с удовольствием отдал за хороший кусок бифштекса.
— Который вы скоро и получите, — сказал доктор. — В этом у нас не было недостатка с самого начала, только не хватало посуды!
— Но Вебер выручил нас, наготовив нам всевозможных кастрюль и сковородок, а гений Брандевина развернулся во всей своей силе; благодаря ему мы не только имеем вкусные обеды, что далеко не последняя вещь, в чем согласится со мною и мадемуазель Колетта лет через двадцать, — но его таланты приобрели огромную известность, а это много содействовало нашему престижу у матабелей.
— Ну нет, доктор, вы ошибаетесь, — сказал главный эконом, которого обстоятельства сделали скромным. — Если наше положение среди матабелей приобрело такой вес, мы этим обязаны скорее вашему влиянию на них, а не моим ничтожным талантам.
— В домике направо, — продолжал доктор, — живет Брандевин; здесь он и создает свои шедевры.
— А ваш домик где, доктор? — спросил Жерар. — Как только я узнаю дорогу в него, я опять начну посещать вас, как на «Дюрансе». Как это было давно! Как я тогда надоедал вам! — добавил мальчик конфузливо. — Меня папа всегда останавливал. Право, я, кажется, был тогда несноснее Больших Голов!
— Приходите опять надоедать мне, сколько хотите, — ласково сказал доктор, обнимая Жерара, — даже еще больше: поселитесь вместе со мной.
— Что же касается мадемуазель Колетты и ее маленького друга, то для них найдутся во дворце две прелестные комнаты.
Между тем, пройдя долину, они вступили в деревню, у околицы которой их поджидала толпа негритят, собравшихся поглазеть на свиту, до чего ребятишки всех народов большие охотники. Они тотчас же заметили новых пришельцев и, после первого изумления, стремглав пустились к деревне возвестить всем о такой важной новости. Все жители высыпали навстречу европейцам, а некоторые показались на корточках у дыр своих берлог, так как ни о дверях, ни об окнах они не имели понятия. Любопытство было особенно возбуждено при виде Колетты и Лины; женщины, совсем обезьяны, застрекотали вокруг них со смешными жестикуляциями. Более смелые близко подходили к ним, щупали их волосы, руки, щеки, материю. Но их тотчас разогнали телохранители ударами кнута; Колетта и Лина очень огорчились таким грубым самоуправством, но доктор утешил их, сказав, что справедливая расправа в этом роде только скрепляет их взаимные отношения, что туземные женщины относились бы с меньшим уважением к своим мужьям, если бы те время от времени не пробовали бы на их спинах силу своего кнута.
После этого инцидента Большие Головы опять сомкнули свои ряды и возобновили прерванное шествие. Скоро приблизились к воротам дворца, и господин Массей дал им знак удалиться; бедняги должны были повиноваться; они поплелись к своим очагам, хотя им очень хотелось выказать обычные любезности именитым гостям.
Дом был довольно вместительный, с проделанными окнами (так как он строился под наблюдением самого господина Массея) и замечательной чистоты. Обе девушки вскрикнули от радости и восхищения. Сколько дней, сколько месяцев прошло с тех пор, как они не вступали в жилище цивилизованных людей! Зал был с четырьмя правильными углами, симметрия эта действовала приятно на глаз. Маленькие скамеечки были размещены рядами вдоль стен, в середине комнаты был стол из белого дерева, у которого можно было сидеть. Какая прелесть!.. Они совсем умилились и почувствовали, что теперь наконец прошли дни их скитаний.
— Вы еще ничего не видели! — воскликнул доктор, доброе сердце которого угадывало волнение девушек. — Пусть господин Массей покажет вам произведения великого мастера, тогда вы скажете нам свое мнение. А мы с Жераром пойдем пока ко мне, если позволите…
Господин Массей открыл дверь в соседнюю комнату и, предоставив ее в распоряжение Колетты и Лины, оставил их там одних. Они бросились друг другу в объятия и долго плакали, но это были слезы счастья и облегчения. Прекрасный отец и проницательный доктор поняли, что им необходимо дать время на чувствительные излияния, чтобы они успокоились от пережитых волнений, а потому они и придумали уважительный предлог, чтобы оставить их вдвоем.
К тому же эта заботливость оказалась далеко не излишней. Им нужно было привести себя несколько в порядок после таких долговременных блужданий по лесам, горам и пустыням.
Наплакавшись вдоволь, девушки вздохнули с облегчением. Оглянувшись тогда вокруг себя, они, как говорил Ломонд, пришли в неописуемый восторг.
В этом далеком краю, в такой дикой стране они увидели комфорт цивилизованного человека, созданный благодаря силе воли, терпению и вкусу. Больше всех этому содействовал Вебер, и все единогласно признавали за ним его достоинство; его изобретательность была неистощима. Под его руководством трое спутников его сделались искусными работниками и убедились на практике, что для человека нет ничего невозможного, лишь бы было здоровье, голова на плечах да крепкие руки.
Мебель была самая обыкновенная, утварь совсем простая, материя и инструменты тоже не представляли из себя ничего особенного, но во всем виднелся отпечаток вкуса, во всех мелочах не было ничего банального.
Первая зала, служившая для банкетов, приемов и государственных дел, отличалась так же, как и в цивилизованных странах, строгим и официальным стилем. Вторая же комната, куда воспрещался вход подданным, была святилищем господина Массея. Сюда он удалялся подумать о своих дорогих отсутствующих, помечтать о способах освобождения или просто отдохнуть. Стены были здесь обтянуты матами, на фоне которых, среди роскошной зелени, ослепительных цветов и огромных фруктов, красовались охотничьи трофеи; коллекции редких бабочек, жуков, насекомых, всевозможных цветов, все, что было замечательного в этой стране из царства флоры и фауны.
В окнах не было стекол; их заменяли широкие прозрачные листья папируса, но закрывать их не представлялось надобности, так как воздух был необыкновенно мягок и вид на озеро — восхитителен.
В углу была кровать, сооруженная из двух шкур пантеры, прекрасно выделанных и дубленых благодаря стараниям Вебера. Над изголовьем кровати Колетта с нежностью заметила портрет своей матери, нарисованный ее отцом на листочке папируса. Но восторженные возгласы Лины заставили ее обернуться в другую сторону.
— О! Колетта, Колетта. Посмотрите, что за прелесть этот туалетный столик! Здесь есть все, все. И какие смешные вещи: умывальная чашка из большой тыквы, снаружи она разрисована… мыльницы из черепашьей кости, а вот и мыло, настоящее!..
— Мыло! Ах, какое счастье! — воскликнула Колетта, обрадовавшись.
— О! Посмотрите-ка на эти щеточки, — продолжала восторгаться девочка, — а этот гребешок, какой он чистенький, беленький! Да ведь это никак рыбий хребет!.. А этот кувшин из тыквы, точно амфора; как все красиво, как будто в сказке о феях!
— Но меня больше всего удивляет замок в двери, — сказала Колетта. — Сколько времени мы не видели его, Лина!
— О! — сказала девочка, — это уж, конечно, дело папиных рук!
ГЛАВА XVIII. Изобретения господина Вебера
Королевский дворец был окружен большим парком из магнолий. Когда девушки вышли, они нашли господина Массея с доктором и Жераром; вскоре и Вебер присоединился к ним. Что же касается Брандевина, то он остался в своей кухне, занятый предстоящим торжеством.
Начались расспросы, рассказы, прерываемые подробностями, которые повторялись сотни раз. Столько нужно было сказать друг другу, что не знали, с чего начать. Наконец более или менее удалось установить некоторую связь между фактами.
Жерар и Колетта узнали, что господин Массей и его друзья попали в одну из двух последних лодок, спущенных с «Дюранса»; они не знали, успели ли Генрих и капитан Франкер отплыть на остававшейся лодке, или же они остались на судне. В тумане невозможно было ничего разглядеть. Лодку господина Массея и его спутников понесло и выбросило на берег Мозамбикского пролива. Потерпевшие крушение решили тотчас же направиться в Трансвааль, но после утомительного пути, измученные, они попали в плен к одному из племен матабелей.
— Племя Больших Голов воевало в то время с кифарами, которым покровительствовали немцы, снабжая их ружьями и водкой.
Большие Головы были убеждены, что мы немцы, а потому можете себе представить, какими глазами они смотрели на нас. Мы ежечасно должны были ожидать, что нас перебьют и превратят в котлеты и бифштексы.
— Как! Неужели матабелы — людоеды? — воскликнула Колетта. — Это невозможно, у них тогда была бы наружность гораздо свирепее!
— Не всегда можно доверяться внешности, — возразил доктор. — Большинство диких племен делаются людоедами в известный момент. Это еще не значит, что они всегда питаются человеческим мясом, или что они нарочно убивают людей с этой целью. Но когда представляется удобный случай, редко кто из них устоит от искушения…
— Одним словом, нам бы пришлось весьма плохо; к тому же нас не понимали; но тут подвернулось счастливое обстоятельство, убедившее дикарей в наших добрых намерениях.
— На матабелов внезапно напали, выскочив из оврага, человек двадцать кифаров. Хотя Больших Голов было столько же, но они растерялись от неожиданности и хотели бежать.
— Тогда господин Массей явился их избавителем. Вырвав топор из рук одного из беглецов, он закричал громким голосом:
— Нас больше! Как вам не стыдно отступать! У кого есть хоть капля совести, пусть идет за мной! Заметьте, что в критические минуты всякий язык делается понятным, поэтому всем стал ясен смысл речи господина Массея, — и все без исключения пошли за ним. Очертя голову, точно двадцатилетний юноша, он бросился в самую гущу кифаров и начал махать топором направо и налево, каждым ударом кладя на месте человека. Кифары же, взявшие вместо своих простых боевых орудий немецкие ружья, совсем растерялись при вмешательстве белых.
— Конечно, мы разбили их наголову, и наше положение сразу упрочилось. Вместо подозрительных людей мы вдруг сделались благословенными гостями, посланными каким-нибудь добродетельным маниту!
— Нас с триумфом повели в деревню, как избавителей, и после такой услуги за нас, разумеется, уцепились всеми силами.
— Первой нашей заботой было ознакомиться с местным наречием.
— О! Это совсем нетрудно, — воскликнул Жерар. — Их речь и образ мышления совсем просты. Достаточно изучить какую-нибудь сотню слов, и при соответствующей мимике вы всегда будете поняты.
— Да, я согласен с вами, — сказал доктор с улыбкой. — Итак, пока мы изучали их язык, Вебер принялся за исправление и усовершенствование ружей, отнятых у неприятеля, потом наготовил новых, еще более усовершенствованных, и, таким образом, понемногу положив прочное начало будущим победам, мы добились расположения к нам матабелов. К тому же, в самое короткое время мы приобрели на эти темные умы большое нравственное влияние и наш авторитет окончательно установился. Затем наши познания и опытность сыграли тоже немаловажную роль. Довольно было двух-трех вкусно приготовленных блюд, и Брандевин сделался в их глазах великим человеком. А когда, благодаря артиллерии, изготовленной нашим изобретателем, господину Массею удалось разрушить неприятельский лагерь, престиж белых людей достиг своего апогея. Только королевская власть могла вознаградить такой подвиг, и ваш отец волей-неволей вынужден был согласиться на королевские почести.
— И мои таланты как чародея тоже оказались весьма кстати. Меня здесь почитают то за бога, то за дьявола. Не успею я покончить с лечением, как меня просят поколдовать; потом пристают с фокусами и, к довершению всего, я имел неосторожность рассказать им однажды несколько басен и сказок, когда наше положение еще не совсем упрочилось. Легенда о «Всесильном Адамасторе, короле бурь», произвела на них очень сильное впечатление. Вряд ли когда-либо оратора слушали с большим благоговением. Все их круглые глаза устремились на меня как загипнотизированные; эти грубые лица перестали гримасничать и, под влиянием поэтических грез, озарились чем-то духовным… Но, к несчастью, эти разбойники пристрастились к моим рассказам, и с тех пор они не дают мне ни минуты покоя.
— А знаете, доктор, — сказал Жерар, — что еще до матабелов у вас и на «Дюрансе» были ревностные поклонники?
— О ком вы говорите?
— Из всех, кто имел счастье слушать вас, особенно выделялась Мартина, невеста Иаты.
— Она постоянно изливалась мне на ваш счет: «Иес! Он знает все, этот удивительный человек, — говорила она. — Я бы за ним пошла на край света!..»
— Мартина честная, прекрасная девушка! — воскликнул господин Массей при упоминании о верной прислуге. — Как жаль, что ее нет с нами!
— Но я не считаю это дело проигранным! — сказал Жерар. — Наш долг освободить ее!
— А бедный Ле-Гуен! Я уверен, что он тогда только успокоится, когда найдет нас.
— Ты забываешь, голубчик, что мы сами-то — пленники!
— Как! Король?
— Такой же пленник, как и все короли, но в данном случае приходится еще считаться с особенной привязанностью подданных. Они ни за что не выпустят таких замечательных людей, которым известны всевозможные искусства цивилизации.
— А знаете, господа, какая мысль мне пришла в голову? — сказала Колетта. — Есть одно средство избавиться от несносного почитания ваших обожателей: надо найти себе заместителей!
— Что именно вы подразумеваете под этим?
— А вот, например, пусть господин Брандевин научит одного из них, которого он признает способным, как надо готовить кушанья, пусть он его заставит справиться без своей помощи в нескольких торжественных случаях, чтобы удостовериться в его опытности. Другому папа может показать военную тактику и научить секретам управления. Третьему господин Вебер откроет секрет делать орудия. И, наконец, доктор Ломонд сообщит своему ученику необходимые сведения о хирургии, гигиене… и даже по колдовству, — добавила Колетта, улыбнувшись, — и я уверена, что после таких благодеяний для края и подготовив достойных себе преемников, вы будете иметь полное право просить своей отставки!
— Прекрасная мысль, — сказал доктор после минуты раздумья. — Однако, мадемуазель Колетта, я и не подозревал за вами таких политических способностей!
— А! Колетта не только замечательный политик, но могла бы быть и генералом во главе армии. Если бы вы ее видели в этих огромных равнинах, в непроходимых лесах, — там она нам всегда давала хорошие советы и находила способы выйти из тяжелого положения, и все так спокойно, не теряясь в трудных обстоятельствах… Ле-Гуен часто говорил:
— Мамзель Колетта! Да она нам командир; ей повинуешься охотно не только потому, что ее глубоко уважаешь, но и потому, что знаешь, что она не ошибается в своих суждениях!
И добрый парень всегда заканчивал так:
— Жаль, что она девушка! Какой бы славный капитан вышел из нее со временем!
— Нет, нет, нечего сожалеть! — воскликнул господин Массей, кладя руку на белокурую головку дочери. — Пусть наша Колетта остается для нас такой, какова она есть!
— А пока, — сказал Жерар, — я вижу, что моя сестра совсем забыла обо мне в своем прекрасном плане. Нельзя ли и мне найти какую-нибудь работу или должность?
— Не беспокойтесь, и вашими трудами воспользуются, — сказал доктор. — Во-первых, если хотите, то с сегодняшнего же вечера вы будете моим помощником, как на «Дюрансе».
— Ах! Как я рад! — воскликнул Жерар. — Что может быть интереснее фокусничества!
— А Колетта и Лина что будут делать?
— Для них достаточно бы было служить украшением нас всех, что тоже не последняя вещь. Но если барышни пожелают заняться чем-нибудь, то они могут принести большую пользу туземным женщинам, внушив им идеи порядка, чистоты, домашнего хозяйства и прочего.
— Мы согласны от всей души, не правда ли, Лина? — спросила Колетта.
— О, да! — ответила девочка. — Я сделаю все, чего захочет Колетта!
— В таком случае вот что я вам посоветую для начала, — сказал господин Массей, — устройте мастерскую шитья. В этих местах произрастает масса деревьев, так называемый «лен матабелов», волокно которых так же крепко, как нитки лучшего голландского полотна. Заметив эти деревья, мы уже кое-что сделали.
— Вебер приготовил ткацкий станок, хотя совсем простой, но вполне отвечающий цели. Потом его гениальный ум сообразил, как обращаться с ним, и тогда, выбрав из этих обезьян четырех самых понятливых, их засадили к станку. Дело пошло недурно. Теперь уже наткано несколько дюжин метров полотна. Остается только кроить и шить. И мне кажется, это для вас самое подходящее занятие, как вы думаете, девицы?
— Ах, Боже мой! — воскликнула Лина, — но ведь у нас нет ни ножниц, ни иголок! У Мартины был рабочий несессер, но он остался у нее!
— Ну, ну, об этом-то вам нечего тревожиться, Лина, — сказал господин Массей. — Разве вы забыли, чья вы дочь? Не так ли, месье Вебер?
— Э!.. Что? — спросил изобретатель, прерванный в своих мечтаниях.
— Ничего, ничего. Извините, что я помешал вам. Но дело в том, что эти барышни очень были бы рады иголкам, ножницам, наперсткам и прочему. Ведь вы наготовили всех этих вещей, как будто предчувствуя, что они скоро понадобятся!..
— О, да! Конечно! — сказал Вебер, думая совсем о другом. — Я к вашим услугам. — Порывшись в своих карманах, он вытащил оттуда связку всевозможных инструментов и, выбрав пару щипцов и коробку с гвоздями, с любезной улыбкой предложил их Колетте; потом, заметив, что он ошибся, он подал ей пробочник и связку ключей. Десять раз начинал он сызнова искать, нисколько не смущаясь, после чего опять погрузился в свои мечты о новых изобретениях и усовершенствованиях.
Колетта с Линой были в восторге. Иголки, ножницы, наперсток, — все это драгоценности для каждой рассудительной девушки, любящей опрятность. Но надо пожить в пустыне, чтобы понять, какое важное значение приобрели эти вещи в глазах девушек.
Поэтому добродетельные иголки они сочли за самое важное изобретение Вебера, а когда доктор принес им еще клубочек ниток, изготовленных из «льна матабелов», восторгу их не было пределов: они сейчас же начали зашивать на себе все дыры.
Между тем послышались звуки бубнов.
— Это сигнал к обеду, — сказал доктор. — Пойдемте! Брандевин положительно превзошел самого себя.
Суп из черепахи, крокетки из ужей, котлеты из антилопы, жареные попугаи, не говоря уже о целой горе превосходных фруктов, — все было на столе, даже посуда из тыкв всевозможной величины. Были тут и цветы, размещенные с большим вкусом.
— После обеда будет спектакль! Как видите, мы совсем светские люди, — сказал доктор, объясняя в это время Жерару, что он должен будет делать, как его помощник в фокусах.
— Вы в этой зале устраиваете спектакль? Но здесь не поместиться всему племени!
— Нет, но мы устроимся: их будут приглашать группами, и каждое приглашение они должны считать как награду за какую-нибудь оказанную услугу…
— Ну-с, за работу; уже пора начать приготовления к торжественному сеансу!..
ГЛАВА XIX. Фокусы доктора Ломонда. Свадьба Мии-Мии
Залу разделили на две неравные половины. С одной стороны устроили места для публики, а на другой — водворили стол и все необходимые аксессуары фокусника.
Вскоре начали появляться приглашенные и, как только европейцы заняли почетные места, матабелы стали входить по одному, почтительные и проникнувшиеся чувством торжественности. По мере того, как они проходили, доктор представлял тех, которых хотел вы делить своим особенным вниманием.
— Вот Мбололо — это достойный молодой человек, признательное сердце, помнящее добро; у него ловкие руки, голова дельная… Самое лучше место для Мбололо!..
— Нгаи-Аи — неблагодарная и несимпатичная личность, но влиятельная особа, которую следует беречь. Пусть Нгаи-Аи встанет подле Мбололо!..
— А вот Мака-Ту — невеликий ростом, но с прекрасным сердцем; Бра-Шита — обладатель самой большой головы из всего племени; Угого — человек хитрый и коварный. Но все они хороши для своего народа. Хорошие места всем троим!..
— А!.. Почтенный Мзи-Шеше — отец многочисленного семейства. Честь и слава патриархам. Посторонитесь и дайте место Мзи-Шеше!..
— Но, кажется, я ошибся! Там как будто протискивается Сугаро, который третьего дня украл обед одной бедной вдовы и хотел высосать черепашьи яйца, приготовленные ею!.. И тебе не стыдно, Сугаро, показаться здесь? Ну, уж так и быть, я тебя прощаю на этот раз! Но пойди, спрячься подальше! Чтобы мои глаза не видели такого бессовестного человека!..
Понемногу все ряды заполнились. Как только за последним гостем захлопнулась дверь, доктор встал перед своим столом и тотчас открыл сеанс.
— Я узнал, — сказал он, — что между вами есть дурные люди, которые сомневаются в могуществе белых людей, благодаря которым ваше племя теперь благоденствует. «А ведь доктор не мог бы отрубить нос и сделать другой?» — говорят эти скептики.
— А заставить вырасти выдернутые зубы? А если бы какому-нибудь воину снесли голову, небось он не мог бы заменить ее? Ха-ха! Раз он ничего этого не может сделать, значит, он не всемогущий!..
— Конечно, эти люди говорят так по невежеству, и им можно простить. Нет ничего легче доказать им, как они ошибаются. Но если и после моих операций найдутся еще недовольные и ворчащие, то пусть с этими несчастными расправятся «добрые духи».
Эти «добрые духи», то есть уверовавшие в могущество белых людей, остались очень довольны речью оратора, другие же чувствовали себя пристыженными.
— Кто хочет, чтобы я вырвал ему все зубы? — продолжал доктор, потрясая страшными щипцами.
По всему собранию пробежал трепет; даже самые убежденные в силе белых не решились подвергнуть себя такому страшному испытанию.
— Я вижу, что из Больших Голов никто не соглашается предоставить себя для опыта. Но белых людей ничто не испугает. Наш великий изобретатель огнестрельных орудий, наверное, не откажет оказать свое содействие.
Вебер, у которого все зубы до единого были вставные, поднялся с места и с геройским видом предоставил себя в распоряжение оператора.
— Простите, великий мастер, мою вольность, — продолжал доктор, — но необходимо, чтобы сначала все посмотрели в каком состоянии ваши челюсти.
Приоткрыв рот, Вебер показал матабелам свои прекрасные искусственные тридцать два зуба, потом сел в кресло перед доктором с видом жертвы, обреченной на страдания.
Лина заткнула себе рот платком, чтобы громко не расхохотаться.
Доктор раскрыл щипцы, все затаили дыхание. Затем он направил их в рот Вебера, уперся ногами и, повернув руку, как бы с большим усилием… торжественно вытащил обе челюсти — шедевр самого изобретателя.
Восхищенные зрители вскрикнули от восторга.
— Но это только еще начало, — сказал доктор спокойно. — Теперь, дорогой месье, потрудитесь показать ваш рот почтеннейшему обществу.
Перед удивленными матабелами раскрылся совершенно беззубый рот.
Когда все хорошо разглядели его, пациент терпеливо занял свое прежнее место перед доктором, который продолжал помахивать щипцами, державшими его трофей.
— Теперь смотрите хорошенько — результат операции впереди!
Доктор наклоняется над пациентом, закругляет руку, вставляет челюсти, слышится только легкий треск… и фокус готов: у великого мастера появляются безукоризненные зубы.
Последовал взрыв радости. Топанье ногами, восторженные возгласы, крики ужаса, громкий хохот не умолкали. Теперь все соглашались вырвать свои зубы.
Но доктор отказался.
— Время уже прошло! — сказал он. — Но пусть это послужит вам уроком и навсегда отучит вас не верить могуществу белых!
— Но, так и быть, — добавил снисходительно господин Ломонд, — я согласен принять содействие одного из вас для следующего опыта. Пусть желающий выйдет вперед. Я готов отрубить ему голову!
Сказавши это, он взял из рук Жерара наточенную саблю и потряс ею в воздухе.
Во всех рядах воцарилось унылое молчание. Конечно, вера среди зрителей была велика, и, если бы зашла речь о том, чтобы отрубить нос, многие предложили бы свои услуги при том экстазе, в котором находились. Но голову!.. Это был вопрос, требующий размышления! Хотя у матабелов были безобразные головы, но они весьма дорожили ими. Все смутились от нерешительности.
Тогда доктор выказал великодушие.
— Я понимаю, — сказал он, — что прошу у вас слишком многого. Эта операция такая трудная, что я не могу обратиться даже и к белым с просьбой предоставить голову для опыта, — хотя вы сами знаете, что наши ничего не боятся. Нет! Уж если чьей-либо голове суждено пасть здесь, то пусть это будет моя собственная!
В толпе послышался гул, среди которого выделялся сдавленный голос Мбололо, самого ревностного обожателя доктора: он предлагал свою голову!
— Нет, сын мой, нет, оставь себе твою башку! — сказал доктор Ломонд, — но я всегда говорил и теперь повторяю: Мбололо — преданный малый! А теперь нечего мешкать! Жерар Массей, вот сабля, рубите мне голову!
Жерар, держа под рукой все нужные аксессуары, подошел к Ломонду с правой стороны. Не колеблясь ни минуты, он схватил роковое оружие и, взмахнув им в воздухе три раза, нанес решительный удар.
У всех захватило дух. Жилы вздулись на лбу и пот покатился крупными каплями. Не только на дикарей, но даже на людей цивилизованных этот любопытный фокус производил большое впечатление.
Однако доктор, нисколько не растерявшись от нового положения, схватил в руку свою отрезанную голову и повернул ее перед пораженными зрителями.
Когда все насытились этим необыкновенным зрелищем, голова заговорила:
— Жерар Массей, помогите мне водворить голову на место!
Жерар набросил на плечи обезглавленного доктора большой капюшон, спустившийся ниже талии.
— Хорошо так? — спросил мальчик.
— Теперь готово! — ответил глухой голос. Жерар снял капюшон, и доктор показался с головой, жив и невредим!
Теперь о недоверии не могло быть и речи. Шепот и восторг сливались в общий гул. Каждому хотелось удостовериться, что голова действительно была на месте; доктор всем показывался и любезно раскланивался в разные стороны.
В довершение всего возобновили опыт, показанный на «Дюрансе», в котором силачи племени оказались неспособными приподнять самую незначительную тяжесть под влиянием внушения; а потом, после овладевшего им ужаса, к ним снова возвращалась потерянная сила. Брандевин особенно радовался этой шутке.
— А теперь, милые друзья, — сказал доктор, — всему бывает конец, и нам пора расходиться. Хотя сеанс был сегодня и невелик, но мы все устали; днем у нас было слишком много волнений. Вы понимаете, что я должен быть утомлен.
Все рассудительные люди согласились, что человеку, пробывшему некоторое время без головы, необходим отдых, а потому Большие Головы мирно пошли по домам, спеша сообщить не попавшим сюда об удивительных зрелищах этого вечера.
Утром вокруг королевского дома все пришло в веселое оживление. После крепкого и спокойного сна путешественники собрались к завтраку, приготовленному Брандевином; прислуживал им верный Мбололо, встававший раньше всех, чтобы угодить доктору, предмету его обожаний.
Закусив, все принялись за обсуждение новых проектов работ и разных усовершенствований.
Первым долгом решено было сделать пристройку к дому господина Массея для Колетты и Лины.
Затем отправились в помещение великого мастера. Здесь они увидели молот и наковальню, на которой Вебер изготовлял иголки, ножницы, наперстки и прочее способом, практиковавшимся до употребления плющильных машин и других новейших изобретений. Все работы — ткачество, плетение корзин, резьба ножом, изготовление досок и бревен — производились туземными мужчинами и женщинами.
Колетта, Жерар и Лина попробовали заговорить с ними и благодаря уже приобретенному навыку к африканским наречиям вскоре стали понимать местный язык и свободно объясняться на нем. Большие Головы не были так бессмысленно суеверны, как баротзеи: они сразу оценили Колетту и почувствовали к ней доверие и симпатию.
Первые дни казались очень длинными, несмотря на массу занятий, нескончаемых разговоров и тысячи неожиданностей в совершенно новом для них краю. Потом же время полетело незаметно; все успокоились и привыкли к приятной новизне быть вместе, только одного не могли забыть, — это дорогих отсутствующих. Не проходило ни одного часа, чтобы господин Массей не думал о них; ни одного дня, в который он не порассуждал бы со своими детьми и друзьями о планах освобождения.
Так прошли два месяца; трудовая деятельность кипела: производились постройки, преподавалось шитье, садоводство, внутреннее устройство жилищ. Колетта и Лина, вошедшие во вкус новой жизни, и не думали ни о каких празднествах, как вдруг получили приглашение. Одна из туземных девушек, которая занималась ткачеством и с которой они подружились, собиралась выходить замуж и попросила их присутствовать на церемонии. Ее отец, Мзи-Шеше, почтенный старик, явился сам приглашать их; его приняли очень ласково.
Когда наступил час свадьбы и приглашенные подходили к хижине Мзи-Шеше, солнце высоко поднялось на небе, что считалось благоприятным признаком при вступлении в супружество. Отец невесты стоял у входа и, устремив глаза на небо, выжидал, когда солнце будет в зените, чтобы в этот момент исполнить обряд великого жреца.
— Миа-Миа уже готова? — спросили девушки после первых приветствий.
— Ее наряжают! — торжественно сказал ее отец. — Вы можете войти.
Предложение было не очень-то заманчиво. Но приглашенные, не желая обижать его отказом, пробрались как могли через неудобное отверстие в жилище своей молодой подруги.
В первую минуту они ничего не могли рассмотреть, так как комната была без окон: воздух был наполнен испарениями конюшни. Матабелы живут по-братски со своим скотом. Понемногу глаза привыкли к темноте, и при тусклом свете огня они наконец могли различить героиню праздника, которую наряжали.
Невеста, так же как и ее отец, была среднего роста, с черной кожей и довольно хорошо сложена. Узкий лоб и выдающиеся затылок и челюсти придавали ее лицу бессмысленное выражение.
Но в общем во всех чертах ее лица была какая-то мягкость, располагавшая в ее пользу.
Узнав Колетту и Лину, Миа-Миа дружески кивнула им головой. Но тотчас же позабыла об их присутствии, занявшись опять своим туалетом: даже девушки дикого племени матабелов обожают наряжаться.
Невесту в это время намазывали толстым слоем жира, что у них составляет первое условие нарядного туалета. Это косметическое средство не только пачкает волосы и делает их липкими, но издает отвратительный запах, невыносимый для непривычного человека, но зато его боятся насекомые, отравляющие существование в этих краях.
Между тем одевание невесты приближалось к концу. Прическа принимала все более и более внушительный вид. Мода была на большие лбы, а потому голову Миа-Миа выбрили кружком, как у францисканского монаха. На верхушке же возвышался пучок волос, которые крепко закрутили и смазали. На этот бастион насадили целую коллекцию перьев и султанов, а выбритый лоб обвязали ремешком, на который повесили всевозможные кольца, амулеты и брелки. Уши, проткнутые в нескольких местах, отвисли от тяжести украшений; ресницы все выдернули; нос проткнули двумя кольцами; не забыли также и про зубы. Местная эстетика не требовала, чтобы они были черные, как в других африканских краях, но они должны были быть острыми, а потому их подпилили с двух сторон, вследствие чего у Миа-Миа сделалась крокодилья улыбка, необходимая для такого торжественного события.
Покончив с головой, убранство которой все одобрили, приступили к украшению туловища, навешав массу ожерельев, браслетов, колец, нарукавников, кушаков и всевозможных висюлек.
Гостям особенно понравился широкий кожаный кушак бледно-лилового цвета, с которого свешивались бледно-голубые и бледно-желтые бусы.
В общем, костюм Миа-Миа был безупречен. Конечно, он не понравился бы непривычному глазу, не умеющему ценить такую красоту. Но у нее все гармонировало одно с другим; ни одна мелочь не нарушала общего местного стиля. Миа-Миа была очень довольна своей прической и в восторге вертелась, гремя побрякушками.
Хорошо, если бы она сумела сохранить навсегда традицию своих предков!.. Но, увы! Гордость и тщеславие способны все испортить!
Настал момент обетов, не вечных, но по решению судьбы. Отец сел на курган, поросший зеленью и расположенный напротив его жилища. Все гости стали парами и торжественно прошли мимо него; Миа-Миа заключала собой шествие под руку с женихом, который был не кто другой, как Мбололо. Дойдя до Мзи-Шеше, молодые остановились, между тем как прочие разместились около них полукругом. Маленький негритенок поднес старику раковину. Мзи-Шеше взял ее, поднял руки и с силой бросил на камень, нарочно положенный здесь. Раковина разбилась, негритенок поднял осколки и передал старцу, который тут же сосчитал их. Всего было семь кусков: значит, супруги повенчаны на семь лет. Дело совсем простое!
Теперь могли наслаждаться прелестями еды. Бараны, козы, буйволы «натурой» и обжаренные, всевозможные фрукты, — таково было меню банкета. Но хитрый Мзи-Шеше отлично знал, что делал, приглашая белых на праздник; он был уверен, что знатные гости не придут с пустыми руками!
И он не ошибся в расчете. Теперь можно было распаковать таинственную корзину; в ней оказались всевозможные печенья и яства, приготовленные Брандевином, до которых так лакомы Большие Головы; со всем этим новобрачной преподнесли полный столовый сервиз.
Да, Миа-Миа выходила замуж при счастливых обстоятельствах, тем более, что число семь считается хорошим предзнаменованием. Прибавьте ко всему этому присутствие важных иностранцев; о ее свадьбе долго будут судачить местные кумушки.
ГЛАВА XX. Старые друзья найдены
После свадебного обеда принято всей компанией совершать прогулки в окрестностях, — совсем как в Париже, где молодые из церкви отправляются со своими гостями в Булонский лес.
Когда процессия обошла по очереди соседние хижины и все полюбовались элегантным костюмом Миа-Миа и ее гостями, решили отправиться в ближайший бамбуковый лес.
Войдя туда, Жерар и Колетта опять вскрикнули от восторга. Хотя они уже бывали в африканских лесах, состоящих из пальмовых, гранатовых, манговых деревьев, видели леса из сикомор и папирусов, любовались и на колоссов-баобабов, — в общем, казалось, привыкли к чудесам африканской флоры, но перед этой новой прелестью замерли от восхищения.
Бамбуковый тростник от природы рос такими правильными рядами, как будто над ним работали сотни плотников; на его безукоризненных прямых и гладких стволах не виднелось сбоку ни одной веточки, ни одного сучка. Деревья вытянулись вверх на тридцать-пятьдесят метров; только наверху их ветви переплелись между собою, образуя густой непроницаемый свод, под которым Царствовали прохлада, полусвет и величественная тишина, точно в большой пустой церкви.
Компания расположилась кругом под этими громадными деревьями. Миа-Миа робко попросила Колетту спеть что-нибудь, сказав:
— Белая девица поет как небесная птичка. Миа-Миа была бы очень счастлива послушать ее в день своей свадьбы.
— А я буду очень рада доставить тебе удовольствие, моя милая! — отвечала Колетта.
И она начала одну песенку, которую пела давно, в прежнее беззаботное время.
Ее голос, такой же чистый и с тем же приятным тембром, теперь звучал сильнее и увереннее, чем на спектакле на «Дюрансе».
Все были очарованы. Когда она закончила петь, продолжалось молчание, более лестное, чем аплодисменты.
Потом ее попросили спеть еще что-нибудь, потом еще, и она с удовольствием соглашалась. Вдруг среди одной из песен все слушатели вздрогнули и на лице их изобразился ужас.
Розовые щеки певицы побледнели, глаза наполнились слезами и она прервала песню громким криком.
Среди полной тишины леса послышался слабый, но правильный и глухой шум, как будто от тяжелых шагов, давящих траву.
Один из матабелов, приложивший ухо к земле, чтобы лучше расслышать, поднялся с исказившимся от страха лицом.
— «Отец ушей»! — сказал он сдавленным голосом. — Если это «пустынник», то горе нам!.. Зачем мы не взяли оружия!.. Теперь мы пропали!..
— Нет! — воскликнула Колетта дрожащим голосом. — Вы напрасно боитесь, уверяю вас. Это друг идет — самый лучший и верный из друзей!.. Жерар, Лина, это Голиаф!.. Я узнала его шаги.
— Голиаф! — повторил Жерар, думая, что его сестра бредит. — Что ты говоришь, Колетта. Увы!.. Разве ты забыла, что он издох?
— Голиаф остался жив!.. Вот ты увидишь. Я уверена, что он услышал мой голос и пошел на него сюда!..
— В таком случае, — сказал Жерар, всегда рассудительный, — пой опять, чтобы он не сбился с дороги.
Девушка запела сперва тихо, потом все громче и громче. Шаги животного делались все слышнее. Наконец издали обрисовался его силуэт, длинные уши и большой хобот.
Слон летел со всех ног. В самом деле — это был Голиаф! И Жерар, и Лина узнали его… А он-то раньше угадал их присутствие и направлялся прямо к своей любимице. И что же все увидели? О, чудо из чудес!
На его широкой спине сидели две человеческие фигуры — Мартина и Ле-Гуен!
Через несколько минут безмолвный лес огласился радостными восклицаниями. Мартина душила в своих объятиях детей, Ле-Гуен пожимал всем руки, Голиафа осыпали ласками, поцелуями и слезами, — просто ураган, циклон безумной радости.
Большие Головы, успокоившись относительно намерений «Отца ушей», смотрели с любопытством на эту странную сцену, сознавая в душе, что у их белых гостей неистощимый запас интересных зрелищ.
Все пошли к деревне, и шествие продефилировало перед восхищенными туземцами. Голиаф шел впереди, гордо неся на своих клыках молодых девушек.
Трудно изобразить всю радость господина Массея при виде верной служанки и честного Ле-Гуена — этих добрых сердец, так геройски доказавших преданность его детям. В избытке чувств он прижал их обоих к своей груди, сердечно благодаря за все.
— А ты, дорогой мой Голиаф, — воскликнул счастливый отец, — ты, незаменимый друг, разве не обнимешь меня?
На это господин Голиаф весело заворчал, замахал хоботом и всячески старался выказать свою радость.
Между тем путешественникам принесли закусить всего, что было лучшего в доме. Перед Мартиной и Ле-Гуеном поставили стол, а те просто не верили своим глазам, видя такой комфорт.
Когда они утолили свой аппетит, вымылись и немного отдохнули после дороги, все приступили к расспросам, каким чудом они спаслись. Дело оказалось нелегким для Мартины, так как она, при всех своих прекрасных качествах, совсем не умела рассказывать.
Однако из ее несвязных речей узнали, что после исчезновения детей положение ее с Ле-Гуеном оказалось критическим. Иата решил, что этот побег предвещает бегство его невесты, и потому приступил к Ле-Гуену со страшными угрозами, если тот не скажет ему, куда скрылись дети.
Ле-Гуен, озаренный прекрасной мыслью, объявил ему, что их ночью умчал «злой маниту» и навряд ли принесет обратно к баротзеям.
Против воли маниту Иата не нашел возражений.
Он вдруг успокоился, очень довольный, что дело приняло такой оборот, и немедленно приступил к приготовлениям свадьбы. Она должна была справляться с невиданной доселе пышностью.
Со всех сторон стали привозить в изобилии великолепные фрукты, овощи, дичь, коз, баранов и прочее.
Но по мере того, как день свадьбы приближался, становилось все труднее избежать ее. Ле-Гуен упал духом. Однажды эти черные дьяволы подстерегли его, когда он уже оканчивал свою лодочку, и сломали последнюю.
Добрый матрос, выведенный из терпения, предложил своей невесте последнее средство к спасению:
— Бросимся вместе в реку, Мартина, — это единственное средство вырваться из когтей этой гадкой обезьяны!..
Это романтическое предложение у Мартины не имело никакого успеха. Самоубийство не прельщало ее; она была воспитана в здоровых и честных лангедокских традициях.
— Иес! Покончить с собою как язычники!.. Да вы шутите! Неужели же вы серьезно?.. Что сказал бы на это мой бедный отец?..
Поневоле пришлось отказаться от этого отчаянного плана и ждать, скрепя сердце, что будет.
Все казалось потерянным, но счастье повернуло в их сторону. Пока баротзеи готовились к оргиям, их соседи — калобмсы, или обезьяны, не переставали следить за ними. Хитрый Карено, их предводитель, выбрал удобный момент. И как раз в ту минуту, когда кипели котлы и уже раздались звуки тамтама, возвещавшие, что пора произносить роковой обет, одним словом, когда все и вся ликовали, за исключением Мартины и Ле-Гуена, Карено во главе своей шайки выскочил из леса с дикими криками, напал на пирующих, забрал всю заготовленную провизию, и, как Навуходоносор, увел в плен все племя.
Мартина и Ле-Гуен, как пленники Иаты, были пощажены завоевателем, на которого, вследствие легко доставшейся добычи, напало великодушие, и он отпустил их на все четыре стороны.
Ле-Гуен, не теряя времени, приступил к постройке новой лодки, как вдруг неизвестно откуда появился Голиаф. Сделав наскоро необходимый запас, они уселись на верного животного и толково объяснили ему по-французски, чтобы он шел по следам Колетты.
— Голиаф! — воскликнула Колетта. — Ведь мы думали, что он давно издох! Мы оставили его так далеко. Но, Ле-Гуен, вы мне ничего не говорите, как он нашел вас? Каким чудом он вылечился?
— Это, мамзель Колетта, надо спросить у него, я ничего не знаю. Мартина все время повторяла ему: «Бедный мой Голиаф, как же это ты выздоровел?» И, конечно, Голиаф ничего не мог ответить. Вот уж истинно можно сказать: у этого животного не хватает только дара слова!
— Но каким образом он, не колеблясь, пошел прямо к нам? — говорила Колетта, не переставая восхищаться поразительным умом своего друга.
— Надо сказать правду — я приказал ему: «Голиаф, надо найти мамзель Колетту». Значит, он знал, куда идти, — заметил Ле-Гуен, никогда ничему не удивлявшийся. — У животных, знаете ли, замечательный нюх. А у Голиафа особенный.
— Без сомнения, — сказал доктор, — следуя раньше с вами по притоку Замбези, он узнал то место, где переправлялся с вами на другой берег; а в лесу для него довольно было малейшего признака, чтобы следовать по вашей дороге.
— Да, — сказала Мартина, — когда мы подходили к этим местам, он вдруг поднял хобот и стал обнюхивать воздух со всех сторон. Потом вдруг вошел в этот лес. Я подумала: верно, он ищет берег, так как Жерар говорил, что он хочет ехать водой. Но Голиаф все углублялся в лес. Тогда Ле-Гуен сказал: «Пусть идет куда хочет, он знает лучше нашего».
— Потом, — вмешался Ле-Гуен, — он вдруг остановился, прислушался и затем побежал как сумасшедший. Совсем как поезд-молния!
— Тогда, значит, Колетта и узнала его шаги! — сказал Жерар. — У нее замечательно тонкий слух!
— И мы тогда тоже узнали голос нашей голубушки.
Я даже затаила дыхание, а Ле-Гуен и говорит мне совсем спокойно: «Это щебетанье может быть только мамзель Колетты, Голиаф не ошибся». Я так и залилась слезами, а он даже и не удивился.
— Чего ж тут удивительного, — сказал Ле-Гуен. — Ведь я сказал же Голиафу: «Надо найти мамзель Колетту!» Понятно, Голиаф и пошел к ней. Это благородное животное исполнило приказание.
— Да, это великий пример в жизни, — сказал доктор. — Матабелы могли бы поучиться у него, не говоря уже об европейцах!..
ГЛАВА XXI. Освобождение
В скромном уголке матабелов настал период кипучей деятельности, закипели всевозможные работы, стали процветать культура и прогресс, точно в эпоху Перикла.
Несмотря на то, что Большие Головы стояли на низкой ступени развития, и у них была способность к усовершенствованию, свойственная каждому человеческому существу.
Просветить этих бедных людей, показать им на деле благодетельные результаты наук и искусств, было искренним стремлением великодушного вождя, избранного ими; все спутники господина Массея от души помогали ему в этом добром деле.
Образовалось нечто вроде министерства, образцовое правление, где каждый занял соответственную должность и добросовестно относился к исполнению ее, а начальник правления пользовался безграничным всеобщим доверием.
Вебер взял на себя руководство арсенальными работами; Ломонд заведовал народным образованием, а господин Массей заведовал гражданскими и военными делами.
Ле-Гуена, мастера на все руки, господин Массей взял к себе в помощники по военным делам, а Брандевину была поручена новая обязанность — заведование военным продовольствием; наконец, Мартина, Колетта и Лина водворяли среди женщин чистоту и порядок, они также были очень заняты.
Понемногу, не спеша, не прибегая к насилию, а действуя главным образом убеждением, нашим европейцам удалось достигнуть блестящих результатов.
Прежде, чем устраивать внутренний порядок, необходимо было перестроить жилища туземцев, пробить в стенах окна, сделать двери, через которые можно было бы входить, а не вползать, наконец, отгородить помещения для скота. Но раньше чем приступить ко всем этим нововведениям, пришлось употребить немало труда, чтобы уговорить дикарей согласиться на них.
Но Большие Головы очень скоро отвыкли вползать к себе на корточках; им стало гораздо больше нравиться входить прямо, с поднятой головой.
Между тем Колетта целыми днями расхаживала по деревне, окруженная негритятами, которые в ней души не чаяли.
Она их мыла, наряжала гирляндами из цветов и зелени; научила их делать мячики из диких бледно-желтых цветочков. А какова была радость ребятишек, когда она показала им, как надо играть этими мячиками. Любовь малюток к Колетте доходила до обожания. Матери тоже не отставали от своих детей. Раз установилось взаимное доверие, то девушка спокойно звала их к себе и показывала им, как она, Мартина и Лина ведут хозяйство. По утрам у нее стал собираться своего рода класс, состоящий из туземных женщин и девушек, старавшихся до смешного подражать всему, что они видели у своей наставницы. Мартина первым долгом смастерила из листьев метлу, и каждая дикарка захотела сделать то же.
Лина, изучившая в совершенстве их язык, научила ребят французским словам, которые они презабавно коверкали, но все же запоминали.
Убедившись в удобстве дверей, они согласились и на окна. А когда солнечные лучи, проникая сквозь эти отверстия, осветили их внутреннюю грязь и неприглядную обстановку, они устыдились, как это они могли жить в таких противных конурах. В домиках европейцев было все так чисто, красиво, и они могли бы так же украсить свои бедные жилища.
И вот, после того, как однажды Мартина, давая урок подметания полов, воспылала на них благородным негодованием, даже самые апатичные взялись за ум.
— Иес! Иес! Какая грязь! Срам какой! — повторяла она, бросая молниеносные взгляды на неопрятных хозяек. — Можно подумать, что находишься у свиней!..
В каждой хижине устроили стол, прибранная кровать должна была стоять в углу; для скота отвели смежное помещение, научили употреблению посуды. Затем везде появились камины с крюком для вешания котла над горящими углями. Господин Массей мог теперь наслаждаться, его мечты исполнились — в каждой хижине по вечерам варилась в горшке курица.
Между женщинами стали процветать многие ремесла, особенно всевозможное ткачество, так что большинство матабелов имели одежду.
Вся деревня приняла вид деятельного улья. Под руководством таких учителей Большие Головы скорыми шагами выходили из темноты невежества.
Оборотная сторона медали состояла в том, что чем более они убеждались в своем благосостоянии, тем крепче держались белых и ни за что не согласились бы расстаться с ними.
Господин Массей даже заметил, что Большие Головы, воспользовавшись их уроками, установили над ними более строгий надзор, гораздо строже прежнего.
Но бедному королю становилось все труднее сдерживать свое возрастающее нетерпение и тоску, сосавшую его сердце, при мысли о страданиях и опасностях, которым могли подвергаться его возлюбленная жена и сын. Благодаря своей силе воли он всегда казался веселым и любезным, деятельным и готовым дать всякому хороший совет. Но такая нравственная борьба час от часу становилась для него мучительнее.
Однажды, когда решили отпраздновать подобающим образом благоденствие и мир страны, на деревню обрушилось одновременно два несчастья: неприятель неожиданно напал на племя с западной стороны, и господин Массей серьезно захворал.
Запущенная простуда, а может быть, и постоянное тяжелое состояние его духа, подорвали его силы, и, несмотря на свое мужество, он вынужден был лечь в постель; с ним сделался полный упадок сил, при изнурительной лихорадке, как определил доктор болезнь; в душе же он назвал его недуг «разбитое сердце».
Большие Головы совсем растерялись: в такую критическую минуту они лишились своего предводителя, который два раза спасал их в затруднительных обстоятельствах. Со всех сторон прибегали послы умолять доктора Ломонда помочь им, за отсутствием их начальника, умоляли пустить в ход его волшебство, чтобы разбить врага. Но он даже и слушать их не хотел и наотрез отказался помогать им своим вмешательством, говоря, что кифары вовсе не так страшны: ведь раньше же Большие Головы справлялись с ними.
— Никто из нас ни на одну минуту не покинет вашего предводителя! — объявил наконец доктор Ломонд собравшимся представителям племени; он был очень зол на упрямство матабелов. — Постарайтесь сражаться, как подобает настоящим воинам, и убирайтесь отсюда вон, не то я пошлю на ваши головы семь египетских язв!
Эта угроза сильно подействовала на дикарей, тем более, что они не вполне ясно понимали ее значение. Испуганные послы молча направились к выходу.
— Если же вы хотите моего совета, — закричал им вслед смягчившийся доктор, — поручите команду Мбололо; из всех вас это самый дельный и умный парень.
Совет доктора Ломонда был принят единогласно, не говоря уже о том, что Большие Головы придавали громадное значение мнению доктора. Мбололо слыл в их племени за храброго молодого человека; всем были известны его сила и ум. Дикари в этом отношении стоят выше нас: во время войны они предоставляют команду самому отважному и достойному и боятся вверить судьбу своего народа старому или неспособному человеку. Мбололо блистательно исполнил возложенное на него поручение.
Наслушавшись рассказов Жерара о том, как поступали великие полководцы в таких случаях, и выстроив свои войска правильными рядами, он в громкой и восторженной речи объявил им, что уверен в победе.
Приняв все меры предосторожности и тщательно осмотрев, все ли вооружение в порядке, он двинулся со своим войском к южной части долины, рассчитывая занять там узкое ущелье, где бы они были в полной безопасности и не боялись армии, в сто раз многочисленнее их собственной. Только бы успеть занять вовремя позиции!
Но, увы! Не успели они подойти к ущелью, как кифары уже прошли его и двигались им навстречу. Мбололо, не колеблясь, скомандовал атаку.
— Смелее, храбрецы мои! Бейте кифаров, непобедимые Большие Головы! Это все трусы! Вспомните, как мы разбили их!.. А теперь они опять лезут!.. Цельтесь вернее, неустрашимые матабелы, победа за нами!
Первые выстрелы пропали даром: расстояние до неприятеля было еще слишком велико. Между тем проницательный Мбололо заметил, что враги стреляли лучше прежнего; да и в войске их было больше дисциплины; кроме того, кифаров было по крайней мере пятьсот человек, гораздо больше, чем у него, так как вследствие неожиданности нападения он не успел мобилизовать всех своих сил.
Но Мбололо был не из робкого десятка, чтобы струсить.
Стрельба возобновилась, и на этот раз с обоих сторон потеряли по нескольку воинов. А как кифары научились теперь стрелять! Они запаслись новыми ружьями, и, пока их считали бессильными, втихомолку готовились к мщению!..
Преподавая Большим Головам стрельбу из новых ружей, господин Массей требовал, чтобы они не забывали употребление старого национального оружия — дубины и ассагаев, кроме этого матабелы были прекрасные бегуны; Мбололо сообразил, что кифары, не имея умных руководителей, совсем отвыкли от прежних африканских орудий. А потому, изменив тактику, он громко скомандовал своим людям: «Вперед! Но увидим, чья возьмет!..»
— Оставьте ружья! Шагом марш!.. Вперед!.. Берите дубины!..
Такой способ нападения всегда имел поразительный успех. Пробежав в несколько секунд расстояние, отделявшее их от кифаров, Большие Головы налетели как ураган на своих противников, которые, растерявшись, вступили с ними в рукопашный бой. Мбололо во главе своего отряда колотил дубиной направо и налево, заряжая всех своим примером и наводя ужас на неприятеля. Кифары стали отступать, все поле битвы осталось за Большими Головами; вдруг произошло нечто совсем неожиданное.
Из ущелья показалась дюжина белолицых. Эти люди катили какую-то неизвестную машину с трубой и дулом. И вот эта машина со страшным шумом начинает изрыгать на несчастных матабелов целый град пуль.
Радостный крик кифаров слился с воплями бессильных теперь матабелов, которые падали, как снопы, убитые зарядом.
Мбололо ожидал своей смерти в мрачном молчании. Но пальба прекратилась. Начальник белых выступил вперед и сделал знак, что желает говорить.
— Я — капитан Виллис, — отчетливо произнес он, — командир английского войска Ее Величества… Я мог бы убить всех вас до единого, вы сами видите, что сопротивляться мне невозможно. Мы пришли сюда не затем, чтобы отнять у вас вашу землю и свободу, но затем, чтобы признать вашу территорию собственностью королевских владений и взять вас под покровительство наших законов. Знайте, что эти законы дадут вам счастье и мир, так как нашу власть должны признать также ваши противники. Единственно, чего мы будем требовать от вас, это верного исполнения наших законов.
По мере того, как капитан Виллис произносил речь, кафрский переводчик переводил ее на местное наречие, на котором он объяснялся совсем свободно.
«Что делать? — задавал себе вопрос бедняга Мбололо. — Сопротивляться? Немыслимо. Тут стояла страшная машина, готовая уничтожить всех до последнего воина. Распрощаться навсегда с независимостью — и это в ту минуту, когда они храбро отстояли себя? — было слишком тяжело. Но, может быть, иностранец прав. Большие Головы видели столько благодеяний от белых; весьма возможно, что и эти не станут притеснять их».
Посоветовавшись с главными представителями своего племени, Мбололо объявил англичанам, что готов оказать им гостеприимство, чтобы переговорить о постоянном мире, но с тем условием, чтобы капитан приказал кифарам немедленно удалиться. Требование Мбололо было исполнено тотчас же; затем капитан со своим войском и пушкой направились в сопровождении Мбололо в деревню матабелов.
Капитан выбрал себе королевский дворец и сейчас же водворил на нем английское знамя. Каково же было его удивление, когда, войдя в дом, он очутился во французском семействе. Еще более его удивился и обрадовался доктор Ломонд, когда из объяснений капитана он увидел возможность освобождения, а значит, и выздоровления его дорогого пациента.
Но еще один сюрприз довершил счастье доброго доктора. Разговор происходил в приемной зале с помощью англичанина и француза; и тот, и другой были прескверными переводчиками. Доктор, не понимавший и половины из сказанного, вызвал к себе на помощь Жерара, не покидавшего, так же как и Колетта, своего больного отца.
— Ради Бога, придите на минуту, будьте ненадолго нашим переводчиком… Позвольте представить: капитан Виллис… Жерар Массей…
— Массей? — повторил офицер. — Уж не родственник ли вы Генриху Массею, инженеру из Клейндорфа, изобретение которого нового способа обработки золотой руды наделало столько шума в Трансваале?
— Я брат его! — воскликнул Жерар. — Если только это тот самый молодой человек, который потерпел крушение на «Дюрансе»… Вы наверное знаете, капитан, что он в Трансваале? О! Скажите нам скорее все, что вы знаете о нем! Мы не виделись с ним уже больше года.
— Я очень счастлив объявить вам, что он живет в Клейндорфе, что я видел его не более десяти дней тому назад. Он устроился вместе со своей матерью и пользуется всеобщим уважением… Но простите! — добавил англичанин, заметив, что бедный мальчик побледнел как полотно, — может быть, вас слишком волнуют эти известия?
— О! Нет! Нет! — сказал Жерар, не помня себя от счастья. — Доктор, дорогой доктор, можно передать это папе? Это не повредит ему?
— Не только не повредит, но он тотчас же выздоровеет от такой радости! — утвердительно отвечал доктор. — Это главное лекарство, которого ему и не хватало и которого при всем желании я не мог достать для него. Бегите, бегите скорее, Жерар, к нему и к вашей сестре сообщить им эту новость. Клянусь вам, что она принесет ему только пользу!
Доктор, обладавший необыкновенно чутким сердцем, понимал, что никто посторонний, ни даже он сам, не должны были присутствовать при этой семейной радости, а потому и остался с капитаном Виллисом, которому начал рассказывать, каким образом его друзья и он сам попали в руки матабелов.
Стоит ли описывать радость отца, Колетты, счастливые слезы Мартины и удовольствие славного Ле-Гуена? Быстрое выздоровление господина Массея, согласие капитана Виллиса на их немедленный отъезд, уступка им бульлокс-вагона, собственного экипажа капитана и наконец их счастливое переселение?
Голиаф, конечно, принимал участие в общей радости и шествовал сбоку колонны.
Только матабелы оплакивали эту разлуку, так как знали, чего они лишались.
Стоит ли говорить об их торжественном въезде в Клейндорф, о благополучном окончании этого шестидневного путешествия, о соединении всей семьи, о счастье встретиться здоровыми и невредимыми после такой томительной разлуки и в то самое время, когда считали навсегда потерявшими друг друга?
Но пусть они предаются семейным восторгам; ни один посторонний взор не должен смущать святости этого вполне заслуженного счастья.
ГЛАВА XXII. Заключение. Конец бандита
На первое вознаграждение, полученное за свое важное открытие, Генрих Массей приобрел матери прелестную дачу в швейцарском стиле, которую ему продал за бесценок один из разорившихся рудокопов. В Южной Африке такие жилища весьма ценятся, так как доски в этих новых краях считаются предметом роскоши.
Дом, купленный Генрихом, оказался очень удобным и вместительным, с роскошной мебелью, хотя и несколько безвкусной. При доме находился великолепный сад.
Все соединившееся семейство поселилось на этой даче, и несколько недель все они наслаждались полным спокойствием и безоблачным счастьем. Колетта, сбросившая наконец с себя (и с какой радостью) роль ментора и начальника, висевшую так долго на ее молодых плечах, превратилась опять в любимого ребенка, беспрекословно повинующегося своей матери. По ее примеру, и Жерар, освободившийся от тяжелых обязанностей, с наслаждением предался своим прежним забавам, свойственным мальчику его возраста.
Незаменимая Мартина, или «мам Ле-Гуе», как ее прозвали готтентотские служанки, вверенные ее управлению, часто рассказывала своей госпоже о каком-нибудь эпизоде из их страшного путешествия, где Колетта выказывала столько мужества и рассуждала как взрослая особа.
Бедная мать не уставала слушать все подробности этого странствования по Экваториальной Африке; она чувствовала, каким опасностям подвергались ее дорогие дети, и теперь, когда все несчастья окончились, тихое блаженство овладело ее измученной душой.
Голиаф всегда занимал важное место в домашнем кругу семьи.
Пресмешно было смотреть на Колетту, поливающую цветы с помощью своего колоссального друга. Лишь только лейка опустошалась, он осторожно брал ее из рук своей любимицы, шел к реке, наполнял водой и приносил обратно. Каждое утро он приходил к окну Колетты и ждал, когда она откроет его; если же она медлила, он тихонько шевелил вьющимися растениями, украшавшими ее окно; он привык брать завтрак только из ее рук, и ему всегда припасали спелые фрукты и соленые пирожки, которые Мартина пекла нарочно для него.
Господин Массей наслаждался возвратом счастья среди дорогих ему существ, привязанность которых была ему столь же необходима, как воздух, и его здоровье расцветало с каждым днем.
Генрих опять погрузился в свои опыты и административные работы. Доктор Ломонд и капитан Франкер остались друзьями семьи и ежедневными посетителями дома.
В силу самих событий, не только в Клейндорфе, но и во всем Трансваале обыкновенной темой разговора были золотоносные руды и способы их эксплуатации. Это большое дело, если не сказать — единственное в этом крае. Волей-неволей подпадаешь под общее настроение и проникаешься им.
Однажды вечером, когда заговорили об этом предмете в присутствии Жерара, он позволил себе иронические замечания относительно золотых руд Клейндорфа.
— Вы все толкуете о содержании металла в руде и употребляете нечеловеческие усилия, чтобы извлечь из бочки кварца золота, на несколько сантиграммов больше соседа, — сказал он с презрением. — Значит, кварц Клейндорфа ничего не стоит! Если бы это была моя специальность, я бы не удовольствовался таким ничтожеством, а выбрал бы себе такую руду, из которой драгоценный металл получился бы тысячами килограммов с бочки, или плюнул бы на это дело!
— Ты говоришь глупости, — возразил ему брат. — Разве ты не знаешь, что извлечение пятидесяти граммов чистого золота из бочки кварца считается почти невероятной вещью.
— Только-то? — сказал Жерар. — Я не инженер и не химик, однако моя руда будет побогаче ваших.
— Твоя руда?.. Так ты обладатель руды, вот как?
— В некоторой степени… И настоящей, хорошей руды… Не такой, из которой извлекается металл потом и кровью… Моя руда нечто солидное, основательное… Вот посмотри, если ты не веришь.
Сказав это, он вытащил из кармана образчики золотых самородков и куски кварца с золотыми жилами.
Генрих, очень заинтересованный этим сообщением, попросил Жерара рассказать ему, при каких обстоятельствах произошла такая находка.
— И ты говоришь, что по всему склону горы такие же золотоносные жилы, как на твоем образчике? — спросил он брата.
— Я серьезно подтверждаю тебе это. Мне пришлось сделать не более пятисот шагов, чтобы добраться до этой горы вверх по течению. Эта рудная жила даже режет глаза, до такой степени она бела и богата.
— И ты можешь найти это место?
— Еще бы!.. Это не более как в пяти-шести днях ходьбы от Замбези, следуя вверх по течению притока, да еще около тридцати километров рядом с владением Иаты.
— Ах! Да Иата и ему подобные могут помешать разработке руды. Но нечего делать. Во всяком случае, это вещь любопытная, и ею стоит заняться. Я в первый раз встречаю такую богатую руду. Если она действительно такова, как этот образчик, значит, дорогой Жерар, ты сделал небывалую доселе находку!
Генрих сказал отцу о своем решении, и господин Массей одобрил его, так как самородки и кусок кварца служили неоспоримым доказательством, что Жерар не ошибался. Самому Массею необходимо было побывать в Претории, чтобы переговорить с корреспондентами французского банка, с которыми он прекратил всякую переписку среди своих сухопутных и морских приключений. Решили торопиться, чтобы не упустить случая завладеть такой богатой рудой. И Жерара согласились взять с собою. Они достали себе экипаж, род крытого кабриолета, на двух крепких колесах, запряженный парой лошадей.
Когда отец с сыновьями собирались выехать, явился капитан Франкер, сильно взволнованный.
— Я пришел к вам с большой просьбой, — сказал он господину Массею. — Не подвезете ли вы меня в вашем кабриолете до Претории? Мне надо там быть по очень важному делу, а так как вы туда едете, я был бы вам очень благодарен, если бы вы захватили и меня.
— Да, мы в восторге! — совершенно искренно обрадовался господин Массей, между тем как Жерар прыгал от радости, что его дорогой капитан будет их спутником.
Капитан улыбнулся, но у него был очень озабоченный вид, на что все обратили внимание. Мадам Массей не спускала с него глаз.
— Капитан, — воскликнула она, повинуясь внутреннему голосу, — позвольте напомнить вам все страдания, которые я перенесла в разлуке с моим мужем и детьми… Могу ли я отпустить их теперь спокойно?.. Дело, из-за которого вы едете в Преторию, не представляет опасности для них… и для вас?
— Неужели вы думаете, сударыня, — воскликнул капитан, — что я решился бы сопровождать их, если бы знал, что им грозит какая-либо опасность?.. Наверное нет. Все, чего я прошу, это место в экипаже, который повезет их в Преторию. Когда же мы будем там, то я распрощаюсь с моим дорогим другом, господином Массеем… и займусь тем делом, которое требует моего немедленного присутствия.
— В самом деле, милая моя, — сказал господин Массей, удивленный волнением жены, — я не понимаю, отчего ты беспокоишься? Что может быть естественнее хлопот капитана Франкера? Конечно, я весь к его услугам, и готов не только подвезти его, но буду очень счастлив помочь ему там, если он пожелает. Я надеюсь, что вы не сомневаетесь в этом? — добавил он, обращаясь к капитану, лицо которого выражало сильное беспокойство.
В нем, по-видимому, происходила борьба, но, обернувшись к мадам Массей, он сказал:
— Мадам, у вас удивительное чутье!.. Я буду с вами откровенен: да, я еду в Преторию, так как надеюсь найти там того, кого преследую столько времени, подлеца капитана Лупуса!
— Как! — невольно вырвалось у Генриха, — вы все еще гоняетесь за этим призраком?
— Нет, я гоняюсь теперь за действительностью и надеюсь очень скоро схватить этого мерзавца за горло! Неужели вы думаете, что я добровольно застрял в Трансваале, где, до вашего прибытия, ничто не прельщало меня? Неужели вы думаете, что я бросил свою любимую работу без всякой уважительной причины? Или вы меня считаете пустым мечтателем?
— Что вы, дорогой друг! — проговорила мадам Массей. — Но согласитесь сами, как кажется странным, что злодей очутился как раз в ваших руках!.. Так странно, что даже не верится этому.
— Ничего тут странного нет, так как я остался здесь с целью выследить негодяя.
— Знайте же, что я пожертвовал этому предприятию не только своей карьерой, но и своим состоянием, и даже отдам мою жизнь, если понадобится. С того самого момента, когда я понял, что этот разбойник бросил нас на произвол судьбы, распоров «Дюранс», мое решение было принято. Ради этой цели я телеграфировал своему нотариусу, чтобы он освободил все мои деньги до последнего сантима, и тотчас же приступил к работе.
Ваш друг, лорд Ферфильд, потерял следы Лупуса у озера Танганьики; я же, с помощью моих агентов, выследил его дальше; я знал, что он входил в сделку с торговцами слоновой кости и невольниками; что он сначала скупил кость и условился, что возьмет невольников с берега Мозамбикского пролива. Я знал, что, боясь ареста за это, он бежал в Трансвааль под именем Розенбаума. Некоторые признаки навели меня на мысль, что он в Клейндорфе; я поселился здесь, приобрел себе долю в приисках и стал терпеливо ожидать. И вот я только что получил депешу от одного из моих агентов в Претории. Вот что в ней говорится:
«Я сейчас видел Лупуса своими собственными глазами, именно здесь. Приезжайте немедленно».
— Так вот вы зачем едете! — воскликнула мадам Массей. — Но, дорогой друг, что вы можете сделать? Чем вы докажете, что он виновник катастрофы? Чем вы подтвердите свои обвинения?
— Что я могу сделать, спрашиваете вы, — ответил грозным голосом капитан Франкер, — а то, что я обещал себе пятнадцать месяцев тому назад: схватить этого мерзавца за горло и задушить его, если не найдется другого средства заставить его искупить свое преступление… Конечно, вы, друзья мои, спаслись благодаря счастливой случайности. Но всех тех, которые пропали без вести, тех, которые погибли, оставив свои семьи без средств к существованию благодаря этому подлецу, вы думаете, я забыл? Он скрылся и воображает, что избегнул заслуженного наказания, но он ошибается, клянусь вам. Теперь он не уйдет от меня…
Лицо честного офицера перекосилось. Его друзья с беспокойством смотрели на него.
— Ах, капитан! — воскликнула Колетта с глазами, полными слез, — прошу вас, не говорите так! Вы такой добрый!.. Вы, который даже мухи не обидит! Простите этому человеку. Бросьте его! Он наверное и без вас достаточно наказан угрызениями совести за свой скверный поступок! Неужели вы думаете, что он в состоянии спокойно спать при мысли, что он сделал несчастными столько человек? Останьтесь с нами и забудьте о мщении!
Капитан замолчал, глядя на плачущую девушку.
— Мадемуазель, — сказал он наконец, — если я преследую негодяя, то поверьте, что моя личная ненависть к нему не играет тут никакой роли. Но я жажду справедливости. Неужели вы предпочитаете, чтобы я выпустил его, не сказав ему ни слова, чтобы он завтра же мог совершенно свободно возобновить свои славные подвиги? — воскликнул капитан в волнении.
— Но… ведь вы не судья, это не ваша специальность! Останьтесь же с нами, оставьте этого злого человека на произвол судьбы! — упрашивала его Колетта.
Франкер задумался.
— Послушайте, — сказал он наконец. — Я сознаю, что вы отчасти правы. Но я должен действовать для спокойствия совести… — добавил он, ласково глядя на Колетту. — И если мое присутствие не стеснит вас, дорогой друг, я поеду с вами, я постараюсь вывести это дело на чистую воду! Обещаю вам, что я ничего не сделаю зря, а поступлю сообразуясь с обстоятельствами. Но поймите, что я должен расследовать все, что гибель моего бедного «Дюранса», — не говоря уже о том страдании, которое мне причинила ужасная смерть моих бравых матросов, — моя рана, всегда открытая! Надо же принять какие-либо меры против этого человека; пусть он сознается в преступлении, или я буду не я.
— Действительно, сама справедливость требует этого! — сказал господин Массей.
— Только бы он сохранил хладнокровие, только бы не вышел из себя при виде врага, — добавила мадам Массей, протягивая ему руку, которую честный моряк пожал с чувством. — Ну, Бог с вами, поезжайте, но не забудьте того, о чем вас просила Колетта.
Капитан молча раскланялся; потом все они сели в экипаж, господин Массей взялся за вожжи, и лошади скорой рысью увезли их.
Путешественники приехали в Преторию через десять дней. Представьте себе удивление Жерара после долгах месяцев, проведенных среди дикой природы, с каким жадным любопытством он осматривал этот город, столицу Трансвааля. Маленький парижанин с презрением смотрел на небольшие и малочисленные памятники: скромный городок казался ему деревней в сравнении с Парижем.
— И это столица! — повторял он. — Да вся Претория поместилась бы на площади Согласия…
Но надо сказать правду, такое суждение было несправедливо. В Претории насчитывалось тридцать тысяч жителей; везде в изобилии была свежая вода, великолепные деревья росли по краям прямых улиц; вечером город освещался электричеством, так что в общем Претория далеко не производила жалкого вида.
Поместив экипаж в сарай и лошадей в конюшню и наняв себе комнаты в гостинице «Трансвааль», путешественники разбрелись каждый по своим делам. Господин Массей сделал визиты своим кредиторам, затем разузнал об условиях приобретения земли, находящейся на одном из притоков Замбези; Жерар и капитан Франкер отправились на розыски Лупуса.
Дело было в начале весны. Вербы, эвкалиптовые и персиковые деревья, насаженные вдоль улиц Претории, были в цвету. Из садов, окружающих почти каждый дом, распространялся аромат, наполнявший воздух.
Жерар узнал, что воздух Претории особенно хорош зимой, тогда он очень здоров и свеж. Но летом — в январе, феврале и марте — там температура убийственная, а во время дождей, которые льют безостановочно с сентября по декабрь, климат города делается нездоровым от своей сырости; впрочем, тоже бывает и во всех этих краях.
На третий день по приезде в Преторию капитан и Жерар, не разлучавшиеся друг с другом, отправились на почту за письмами; вдруг перед дверцей им загородил путь какой-то господин и грубо оттолкнул Жерара, повернувшись к нему лицом. Мальчик распетушился, собираясь ответить на дерзость; в это время капитан Франкер узнал нахала: это был Гольдбранд, тот самый ремесленник из Клейндорфа, который пытался завладеть секретом изобретения Генриха.
Отойдя в сторону, этот господин, казавшийся вне себя от злости, уронил свой сверток бумаг и пачку денег, полученных им заказной посылкой. Золотые монеты рассыпались и покатились во все стороны по большой зале; никто не тронулся с места, чтобы помочь подобрать их; также и бумаги разлетелись. Капитан Франкер машинально наступил на одну из них. Гольдбранд, чертыхаясь и ругаясь, собирал разрозненные листы, а когда дошел до капитана, последний отнял ногу, чтобы тот мог поднять конверт, очутившийся у него под каблуком. Капитан остолбенел от удивления: ему бросились в глаза слова, написанные на конверте:
«Капитану Лупусу. До востребования. Претория».
— Капитан Лупус! Вы его знаете? — воскликнул пораженный капитан Франкер, удивившийся и обрадовавшийся в одно и то же время, и остановился, — да что же я говорю! Да ведь это ваше имя… Ведь эти письма вам адресованы? — продолжал он, разгорячась. — Отвечайте! Вы это или нет?
— А если бы и я! — ответил тот нахально.
— Если это вы, то вы последний негодяй, — закричал капитан, бледнея от злости, — и должны дать мне отчет в ваших действиях!
— Каких действиях?.. Дайте мне собрать мои бумаги и оставьте меня в покое! — грубо сказал Гольдбранд, повысив голос.
— Я вас оставлю в покое, когда мы с вами сведем счеты, — ответил Франкер. — Знайте, что вы имеете дело с капитаном Франкером, командиром «Дюранса», который из-за вас погиб и который вы так подло бросили в Индийском океане! Я вас считаю подлецом и убийцей, и вот чего вы заслуживаете…
Капитан дал негодяю звонкую пощечину.
Все столпились при шуме и окружили двух противников. Гольдбранд, опьянев от бешенства, вытащил из своего кармана револьвер, но Жерар одним прыжком очутился около него и схватил его за руку; оружие выстрелило в воздух.
Разъяренный Гольдбранд хотел наброситься на Жерара, но присутствующие не допустили этого, и Лупус вынужден был спрятать револьвер, ворча как собака.
— Убийца! — повторил Франкер. — Торговец людьми!.. Наконец-то настал момент вашей расплаты со мной! Способны ли вы еще стать лицом к лицу с честным человеком? В таком случае выбирайте секундантов среди этих господ!.. Я сделаю то же. Идем…
Дело скоро устроилось. Многие из присутствующих предложили свои услуги и даже револьверы. Для поединка посоветовали Ботанический сад, как наиболее близкое и удобное место. Оба противника тотчас же отправились туда в сопровождении свидетелей и Жерара.
Ботанический сад Претории открыт недавно; это в то же время и зоологический сад; масса работников занималась здесь устройством места для помещения новых хищных зверей. Они только что окончили отделывать огромную яму, предназначенную для медведей, по образцу парижского музея; перила еще не были выстроены, и их временно заменяла простая решетка, ограждающая любопытных от падения в яму, в которой уже поселили двух огромных медведей в надежде акклиматизировать их.
Рядом с ямой находилась большая площадь, совсем пустая в эту минуту. Здесь-то и решено было драться.
Противников поставили на двадцать шагов друг от друга, осмотрели оружие и затем кинули жребий. По знаку секунданта они имели право на шесть выстрелов в течение тридцати секунд.
Раздалось почти одновременно два выстрела. Ни тот, ни другой из сражающихся не был ранен.
Они опять начали целиться, как вдруг сзади Лупуса раздалось страшное рычание, так неожиданно, что все вздрогнули: великолепный лев с черной гривой высунул из клетки свои ужасные когти, показывая неудовольствие своим пленом.
Лупус инстинктивно повернулся назад, но при этом движении споткнулся о камень, потерял равновесие, попробовал удержаться и со всей силой облокотился на решетку. Но решетка подалась под его тяжестью, и он упал в яму.
Это внезапное исчезновение ошеломило всех в первую минуту. Потом все устремились к яме посмотреть, что сделалось с негодяем. Он лежал на дне, метров на десять ниже площадки, и два медведя уже набросились на него с яростным ревом, готовые выместить на своей жертве всю злость, которую он возбудил в людях своими подлыми поступками. Лупус испускал отчаянные крики, блуждающим взглядом ища средства к спасению.
— Веревку! Бросьте ему веревку… — кричали свидетели этой трагической сцены.
— Ах!.. Несчастный!.. несчастный!.. — повторял капитан Франкер.
У Лупуса началась агония в объятиях двух страшных зверей. Он хрипел и что-то невнятно говорил. Эта агония была ужасна!..
В эту минуту работники бежали с веревками. Но капитан Франкер не дождался их. Положив в карман револьвер, который оставался в его руке не разряженным, он спрыгнул в яму.
— Ура!.. ура!.. — кричали зрители, бледные от волнения.
Он подбежал к обезображенному окровавленному Лупусу и двум медведям. Один из них тотчас же повернулся к нему, показывая свои страшные зубы, потом, встав на задние лапы, раскинул передние, чтобы схватить и сдавить его.
Но капитан, остановившись на месте, выстрелил ему прямо в пасть два раза подряд. Медведь свалился. Тогда выступил его рассвирепевший товарищ. На этот раз капитан прицелился в сердце, но не успел еще выстрелить, как зверь набросился на своего противника, смял его и повалил на землю. Кровь потекла ручьем. Человек с животным бились, лежа на бесформенной массе Лупуса. Испуганные зрители не различали более живых от трупов, все смешалось. Но вдруг раздался последний выстрел. Медведь выпустил свою жертву, капитан Франкер поднялся, весь в крови и лохмотьях, но все же уцелевший.
Громкие возгласы приветствовали его победу. Жерар с пятью-шестью людьми бежал ему на помощь. У капитана оба бока были разбиты, левая рука вывихнута, а на лице и груди — большие раны. Его понесли на руках.
Что же касается Лупуса, он был мертв, раздавлен и растерзан обоими зверями; но в своих предсмертных судорогах он видел и узнал человека, рисковавшего своей жизнью, чтобы спасти его.
Таков был конец бандита, погубившего «Дюранс», и таково было мщение командира Франкера.
Жерар и господин Массей все время ухаживали за ним. Доктора Ломонда вызвали депешей. Он принял на себя лечение больного и был очень счастлив, когда капитан стал поправляться.
Месяц спустя все четыре друга возвратились в Клейндорф, где выздоравливающий судья был окружен заботами преданных ему людей. Теперь никто из них не мечтал о новых приключениях: все были счастливы пожить в мире и спокойствии, приобретенными такой дорогой ценой.
Примечания
1
Приносят порчу посредством колдовства.
(обратно)2
Фетиш — идол у дикарей.
(обратно)


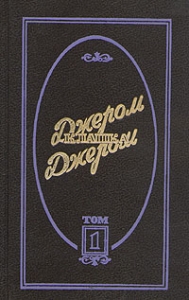

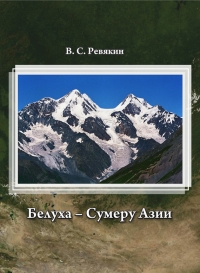
Комментарии к книге «Искатели золота», Андре Лори
Всего 0 комментариев