Часть первая. РОКОВОЕ КОЛЬЦО
I
Оливье Лорагюэ д'Антрэг. — Полковник Иванович. — Таинственная записка. — Галлюцинации. — Тайный трибунал. — Отъезд в Париж.
В конце апреля в доме, занимаемом молодым атташе Французского посольства, графом Оливье Лорагюэ д'Антрэгом, был большой съезд: молодой граф давал прощальный холостой обед своим друзьям, так как на другой день должна была состояться его свадьба с прелестной дочерью генерала Васильчикова. Весь цвет петербургской блестящей молодежи был здесь налицо.
В конце обеда, за шампанским, начались тосты. Последний был провозглашен отставным казачьим полковником Ивановичем.
— Я пью, господа, за здоровье счастливейшего человека, которого когда-либо знал, — проговорил он, смотря на жениха, — и да ниспошлет ему Бог дальнейшей удачи во всех делах!
Если бы кто-нибудь обратил внимание на тон, усмешку и загадочный взгляд, которыми сопровождалось это доброе пожелание, тот был бы поражен. Но никому до таких тонкостей не было дела, и все усердно пили вино, радушно разливаемое хозяином.
Да и действительно, молодой граф Лорагюэ мог считаться баловнем судьбы. Владетель хорошего состояния, аристократ по рождению, он едва имел двадцать шесть лет; здоровый, хорошо сложенный, сильный и ловкий во всех телесных упражнениях, симпатичной наружности и одаренный прекрасным характером, Оливье всегда был украшением того кружка знакомых, где вращался.
Не мудрено, что он быстро пленил сердце дочери генерала, гордой и непобедимой доселе красавицы.
Когда все гости разъехались, молодой граф поспешил в дом своей невесты. Молодая княжна Васильчикова была одна из красивейших девушек Петербурга и чуть ли не первая по уму, образованию и сердечным качествам при петербургском дворе. Она, можно сказать, являлась олицетворением мечты любого молодого человека, думающего избрать себе подругу жизни. Но из числа всех ее многочисленных поклонников выбор княжны пал на молодого графа Оливье д'Антрэга, а ее отец, дав дочери свободу выбора, не противился ее желанию стать женой молодого дипломата.
Последний вернулся домой в этот вечер сильно озабоченный, так как его невеста показалась ему менее веселой, беспечной, нежели обыкновенно. Какое-то облачко легло на ее лицо, и он напрасно старался рассеять его, развеселить ее своими шутками, дружеским разговором и мечтами о близком счастье и предстоящем браке.
Войдя в свою спальню, Оливье заметил на маленьком столике у кровати запечатанный конверт; сердце его забилось под влиянием какого-то тревожного предчувствия, когда он дрожащей рукой сорвал конверт, и взгляд его упал на большой лист бумаги, украшенный необычайного вида печатью, в центре которой ясно выступали два скрещенных между собой кинжала. Письмо содержало всего несколько слов, написанных печатными буквами, очевидно, для того, чтобы замаскировать почерк.
«Французский коршун еще не держит в своих когтях русскую голубицу.
Невидимые».
Эта фраза, очевидно, относилась к его будущей свадьбе.
Как конверт попал к нему в комнату? Кто и с какою целью желал помешать ему жениться? Эти вопросы вереницей закопошились в голове графа. Но сколько он ни напрягал свою память, никак не мог разгадать этой тайны. Чтобы получить какие-нибудь сведения, граф позвонил своего слугу.
Лоран тотчас явился на зов.
— Кто принес это письмо? — спросил его граф.
— Никто не приходил к нам с вашего отъезда после обеда.
— Ты твердо уверен в этом?
— Так же твердо, как в том, что теперь очень поздно и что графу пора спать!
— Хорошо, Лоран, оставь меня!
Затем, оставшись наедине с собою, Лорагюэ снова задумался о мистификации, которой неожиданно подвергся.
При других обстоятельствах он, быть может, не придал бы этой записке особого значения, но в связи со странным невеселым настроением его невесты записка эта приобретала какой-то таинственный, недобрый смысл.
Кто, в самом деле, мог положить ее сюда, в его спальню, и сделать это, не будучи замечен? Конечно, существовали разные тайные общества, прибегавшие к подобным приемам угроз, но он не имел с ними ничего общего и не мог даже предполагать, что навлек на себя чье-либо неудовольствие или гнев.
Разобрав вопрос со всех сторон, граф пришел наконец к заключению, что то была простая шутка со стороны кого-нибудь из его друзей, бывших у него на обеде. Спальня его находилась подле курительной комнаты, и ничего не могло быть легче, как забросить незаметно записку на его столик.
Мысль заподозрить Лорана ни на одну минуту не приходила ему. Этот верный слуга вполне заслуживал безграничного доверия своего господина. Еще его отец, дед и прадед служили семье д'Антрэг и считались как бы членами семьи; безграничная преданность Лорана молодому человеку не позволила бы ему принять участие в шутке, которая хотя бы на минуту могла встревожить молодого графа. Раньше, чем поступить на службу к Оливье д'Антрэгу, Лоран служил в кирасирах, где усвоил себе чисто военное прямодушие и строгое исполнение своих обязанностей. Что же касается подкупа или каких-либо других способов воздействия на него, то об этом нечего было и думать: его неподкупность и честность были вне всякого сомнения; также нельзя было подействовать на него и силой, так как человек этот обладал геркулесовским телосложением. В бытность свою на военной службе он не раз, ради забавы, схватывал сзади телегу за задние колеса, и пара дюжих упряжных лошадей не могла сдвинуть ее с места. Когда он уезжал в Россию, сопровождая молодого графа, старый маркиз сказал ему:
— Лоран, я поручаю тебе моего сына; помни, что это последний из д'Антрэгов!
И верный слуга всегда помнил это, не спуская, как говорится, с глаз молодого графа.
Таким образом, последнее предположение Оливье являлось наиболее вероятным: в числе его гостей было много молодых людей в том возрасте, когда шутки еще простительны; и эта записка, так сильно встревожившая его в первый момент, в сущности, не выходила из пределов позволительной шутки.
Несколько успокоенный этими рассуждениями, граф почувствовал некоторое облегчение; тем не менее пережитое волнение отозвалось на нем: он ощущал известное возбуждение и томительную сухость во рту. Подле него на столике стоял графин с водой, вазочка с сахарным песком и флакон флердоранжа. Он протянул руку к графину, приготовил себе питье и стал пить его большими глотками с видимым наслаждением. Утолив свою жажду, граф, полулежа на диване, предавался мечтам, которые унесли его далеко от действительности, и вскоре, сам того не замечая, погрузился в легкую дремоту; но едва он задремал, как что-то странное стало совершаться в его организме: голова его отяжелела, руки и ноги как будто налились свинцом, а силу воли точно сковало железным кольцом. В этот момент ему показалось, что одна стена его спальни раздвинулась и из нее вышли четыре человека. Они приблизились к нему, надели ему повязку на глаза и подняли его на воздух. Графу казалось, что его куда-то несут.
Наконец это беспомощное чувство прошло. Граф очнулся, открыл глаза и увидел себя в совершенно незнакомой комнате. Он вскочил на ноги и тут только заметил, что он не один: в нише, совершенно защищенной от света, сидела какая-то тень.
— Граф Лорагюэ, — послышался из ниши голос, — вас привели сюда, чтобы вы сейчас дали торжественное слово формально отказаться от руки вашей невесты.
Несколько минут граф, пораженный событием, молчал, затем, успокоив свое волнение, отвечал:
— Ради чего я должен это сделать? Ради того, может быть, чтобы на ней мог жениться один из мошенников вашей шайки и воспользоваться ее богатством? — спросил граф, стараясь придать словам как можно более насмешливый тон.
— Вы угадали, граф, вы избавили нас от труда вам разъяснять. Богатство дочери князя мы не можем упустить и не можем добровольно отказаться от вашей невесты.
— А если я не откажусь? — спросил граф.
— Вы откажетесь, мы вам дадим сроку подумать три месяца, и благоразумие подскажет вам последовать нашему совету.
— Так я вас могу уверить, что вы не получите моего отказа, — вскричал граф, — ни теперь, ни завтра, ни через три месяца! Неужели вы думаете, что граф Лорагюэ испугается каких-нибудь шантажистов?
— Все это слишком сильные выражения, молодой человек. Могу вас уверить, что обстоятельства заставят вас отказаться, но мы рассчитывали сделать это теперь и полюбовно. Как знаете в таком случае!
— Напрасно вы рассчитывали на это! Вот все, что я могу вам сказать! Делайте что хотите, но я никогда не откажусь от своей невесты!
— В таком случае это будет борьба не на жизнь, а на смерть, борьба без пощады, помните это!
— Я принимаю вызов! Борьба так борьба! — воскликнул молодой граф.
— Вы будете побеждены!
— Пусть так, но не без сопротивления.
— Я хочу все-таки предупредить вас, что, каково бы ни было ваше решение, наши меры приняты и ваш брак не состоится.
— И это вы воспрепятствуете этому?
— Да, мы! Вы бы поступили благоразумнее, если бы покорились добровольно неизбежному, иначе вам придется исчезнуть!
— На это я готов!
— Но ваш час еще не настал. Великий Тайный Совет дает вам три месяца срока на размышление. Если до истечения этого срока вы не покоритесь нашим требованиям, то получите извещение о своем приговоре!
— К смерти, не так ли?
— Да, это единственное средство заставить исчезнуть человека, который мешает нам, и никакая власть в мире не может вас спасти от приговора Верховного Совета!
— Я удивляюсь только, почему, если вы можете помешать моему браку, вы еще добиваетесь моего отказа?
— Это тайна, и я ничего не могу сообщить вам об этом. Теперь нам ничего более не остается сказать вам, и вы будете доставлены обратно в вашу спальню точно так же, как были доставлены сюда. Будьте любезны, позвольте завязать вам глаза!
— А если бы я вздумал не позволить?
— Нам пришлось бы употребить силу.
— В таком случае пусть будет, как вы желаете! — сказал Оливье.
Но в тот момент, когда ему собирались завязать глаза, он вдруг вырвался из рук окружавших его людей и, подойдя к столу, за которым заседал таинственный ареопаг, громким и уверенным голосом произнес, обращаясь к председательствующему:
— Полковник Иванович, мы еще с вами увидимся и поговорим!
— Я не полковник Иванович! — возразил совершенно спокойным и ровным голосом тот, к кому были обращены эти слова.
— Так сбрось маску! — крикнул Оливье.
— Я не властен в своих поступках, но, чтобы ты не мог усомниться в правдивости моих слов, я испрошу разрешение открыть перед тобой мое лицо.
С этими словами председательствующий поднялся со своего кресла; остальные же товарищи последовали его примеру и, сойдясь в кучку, некоторое время довольно оживленно совещались между собой. Затем все заняли свои прежние места.
— Граф Лорагюэ д'Антрэг, дайте мне слово дворянина в том, что никогда, нигде, ни при каких обстоятельствах, даже и ради спасения вашей жизни, не признаете меня, в случае если бы мы с вами когда-нибудь встретились!
— Что вы понимаете под этим? Что, встречаясь с вами вне этих четырех стен и зная, что вы принадлежите к преследующему меня тайному обществу, я должен в силу данного слова отказаться от справедливой мести по отношению к вам?
— Нет, я только требую от вас, чтобы вы ни перед кем не выказывали, что знаете меня; что касается вашей мести, то я ее не боюсь, и вы вольны поступать, как желаете и как знаете!
В последних словах говорившего слышалось столько пренебрежения, что вся кровь бросилась в голову молодому графу.
— Даю вам слово в том, что вы требуете. Но с другой стороны, объявляю, что, если, действительно, как вы говорите, мой брак не состоится, я ставлю на карту против вас и все свое состояние, и все свои силы, и все свое мужество! До последнего издыхания у меня не будет иной задачи в жизни, иной цели, как только месть!
Резкий злобный смех был ответом на слова Оливье, после чего неизвестный председатель медленно приподнял свою маску, и глазам молодого графа представилось старчески бледное бесцветное лицо, обрамленное густой серебристой, как иней, седой бородой. Оливье д'Антрэг жадно впился глазами в это лицо, наполовину скрытое чересчур густой бородой, стараясь запечатлеть в своей памяти эти черты. Но в лице этом не было ничего характерного, ничего выражающего недюжинную силу, ум и энергию; оно скорее напоминало собою восковую маску, обрамленную театральной окладистой бородой, нечто, скорее напоминавшее ряженого, чем живого человека в его естественном виде.
Но прежде, чем молодой граф успел взвесить и сопоставить все эти впечатления, неизвестный уже снова надел маску, лампа погасла, и вся зала вместе с присутствующими погрузилась во мрак.
На графа снова надели повязку, затем подняли на воздух и понесли. Вероятно, в повязке заключалось что-нибудь наркотическое, потому что молодой человек снова впал в забытье, а когда проснулся, то уже было около двенадцати часов ночи.
— Это был сон, кошмар! — уверял себя Лорагюэ.
Но мелочи и подробности всего происшедшего убеждали его в противном. Прежде всего граф вскочил с дивана и исследовал ту стену, которая казалась ему раздвинувшейся этой ночью. Ни малейшего признака какого бы то ни было механизма.
«Да наконец соседний дом принадлежит князю Барятинскому, этому блестящему джентльмену, — думал граф. — Во всяком случае, мошенники и шантажисты не могут заседать у него в доме».
Эта мысль показалась ему до того дикой, что он улыбнулся и в конце концов приписал все происшедшее галлюцинации, вызванной странной запиской, которую он нашел на своем столе в спальне.
Позвонив Лорану, Оливье приказал разбудить себя в девять часов, так как он должен был рано явиться во Французское посольство и оттуда вместе с посланником, предложившим ему заменить отсутствующего отца во время брачной церемонии, отправиться прямо в церковь.
После ухода Лорана граф разделся и лег спать. Спустя несколько часов легкий стук в дверь разбудил его.
— Кто там? — спросил Оливье.
— Это я, Лоран! Сейчас прибыл нарочный от французского посла; вас просят немедленно прибыть туда!
В одну минуту молодой человек оделся, вскочил в экипаж и помчался к своему начальнику. Тот встретил его словами:
— Будьте тверды, мой юный друг, я имею сообщить вам нечто чрезвычайно важное, иначе я не стал бы беспокоить вас в такое неурочное время!
— Я на все готов, господин посланник, говорите, я слушаю!..
— Так вот, сегодня ночью князь Васильчиков, ваш будущий тесть, был увезен в Сибирь, а его дочь, ваша невеста, отправлена в монастырь!
— В Сибирь… в монастырь! — пробормотал молодой граф после некоторого молчания и готов был уже сообщить о странном предостережении, полученном им в таинственной записке, но удержался, подумав, что это могло быть пагубно для него и для близких, дорогих ему лиц, и потому, умолчав обо всем, что его смущало в данный момент, молодой человек, собравшись с силами и подавив свое волнение, обратился к своему начальнику с просьбой сообщить ему причины всего случившегося, если только они ему известны.
— Говорят разно, — ответил посланник, — но разобраться в истине очень трудно, будьте только осторожны, Бога ради, не допустите какой-нибудь опрометчивости. Если позволите дать вам добрый совет, то уезжайте скорее отсюда. Я охотно дам вам отпуск, и вы можете немедленно выехать в Париж.
— Я подумаю о вашем любезном предложении и, быть может, воспользуюсь им!
— Да, но у вас нет времени на размышления; вам необходимо сегодня же покинуть Петербург и через двадцать четыре часа переехать границу!
— Так значит, это приказание, а не совет? Ваше превосходительство настаиваете на моем немедленном отъезде?
— Да, мой друг, для вашего же блага, и если хотите, я скажу вам, что сам получил предписание от высших властей выдать вам немедленно ваши бумаги, хотя мне достоверно известно, что в высших сферах к вам по-прежнему очень расположены. Опасаются только какого-нибудь необдуманного поступка с вашей стороны под влиянием постигших вас огорчений, поступка, который мог бы иметь самые пагубные для вас и для ваших друзей последствия. Поезжайте с Богом и верьте мне: ваше отсутствие и время больше сделают для осуществления ваших планов, чем все, что вы могли бы предпринять в настоящее время.
— Да, но уехать так, не повидав ее, не услыхав от нее ни единого слова утешения, не проникнув в эту ужасную тайну…
— Что же делать?! Отданы строжайшие предписания; вы никаким образом не можете видеть ее!
— Прекрасно, я покорюсь! Когда должен я выехать из Петербурга?
— Через два часа!
— Но это невозможно: я не успею собраться!
— Оставьте все в том виде, как оно есть, и дом, и штат прислуги, словом, как будто вы уезжаете на самое короткое время. Я твердо уверен, что ваше отсутствие не будет продолжительным!
— Будем надеяться! — со вздохом сказал граф, стараясь подавить свое горе и отчаяние. — Теперь позвольте мне откланяться!
С этими словами он простился со своим начальником и поехал домой.
«Пусть так, — мысленно решил он, садясь в карету, — я уеду, но вернусь свободный… и тогда!..»
Возвратясь к себе, Оливье позвал Лорана и сказал ему:
— Лоран, неожиданные обстоятельства вынуждают меня отсрочить мою свадьбу на некоторое время. Через два часа мы уезжаем в Париж по делам службы. Я не беру ничего из своих вещей, кроме самого необходимого; позаботься, чтобы к назначенному времени все было готово!
Верный слуга, привыкший к такого рода неожиданностям, хотя и озадаченный внезапной отсрочкой предстоящего брака, без возражений принялся за сборы в дорогу.
Оливье д'Антрэг со своей стороны прошел в свою спальню, чтобы захватить с собой те предметы, которыми он особенно дорожил и которые не хотел оставить, и остановился как вкопанный: на камине лежал точно такой же конверт, как накануне на ночном столике. Схватив этот конверт, он дрожащей рукой вскрыл его и прочел содержание записки:
«Помни, что через три месяца один из наших явится к тебе за ответом в Париж.
Невидимые».
В первый момент молодой граф был принужден прислониться к камину, чтобы не упасть: до того сильно было его потрясение, но вскоре он овладел собой.
— О, я знал, что то не был сон! Я в этом был уверен! — сказал он. — Но как могли эти люди унести меня из спальни без малейшего сопротивления с моей стороны? — Тут ему вдруг вспомнился стакан сахарной воды с флердоранжем, выпитый им перед тем, как он задремал. Не долга думая, он подошел к столику и, захватив с него часть сахара и флакон с флердоранжем, сунул их в свой чемодан, а также и немного воды из графина, которую он отлил в небольшой пузырек, решив произвести в Париже, на свободе, анализ всех этих веществ. Затем он стал торопить Лорана, спеша покинуть эти места, где в течение одной ночи разбиты были все его надежды на счастье и радость жизни. Он собрал самые необходимые свои документы, бумаги и кое-какие сувениры, особенно дорогие ему, когда Лоран уведомил его о приходе какого-то незнакомого человека, настоятельно требовавшего видеть графа.
Каково же было удивление молодого графа, когда он узнал в этом человеке доверенного слугу князя Васильчикова.
— Что такое случилось у вас, Сергей? — спросил он вне себя от волнения. — Быть может, ты сумеешь объяснить мне это? Я ничего не знаю, ничего не понимаю!
— Мы также ничего не знаем, ваше сиятельство, — ответил пришедший. — Сегодня ночью княжна призвала мою жену и сказала ей, чего она требует от меня. Она поручила мне передать вам вот это кольцо! — И Сергей передал графу громадный золотой перстень наподобие тех, какие носят восточные властители. — Княжна просила также передать следующие слова: «Пусть граф д'Антрэг продолжает верить в меня и не дает воли своему отчаянию. Если ровно через два года, в это самое время и в этот самый день, он не свидится вновь со мной, то пусть надавит камень в этом перстне, и тогда он узнает, чего я жду от его преданности и от его любви ко мне!» Вот и все, что мне было поручено передать вам, граф! Бедная княжна не имела даже пяти минут в своем распоряжении, когда ей было доставлено приказание немедленно отправляться в монастырь; ей даже не дали времени проститься с отцом.
Молодой человек отвернулся на мгновение, чтобы стереть украдкой слезу, навернувшуюся ему на глаза; когда он обернулся, Сергея уже не было в комнате.
Час спустя Оливье де Лорагюэ д'Антрэг сидел, удобно расположившись в спальном вагоне международного общества, и мчался на всех парах к немецкой границе. Он не бежал от грозившей ему опасности, а только, покоряясь своей участи и силе обстоятельств, уезжал в изгнание под благовидным предлогом отпуска.
II
Прогулка в Булонском лесу. — Послание Невидимых. — «Помните, что это борьба не на жизнь, а на смерть». — Состязание. — Князь Урусов. — Ограбление.
Прошло три месяца после описанных событий. Граф Оливье Лорагюэ все это время жил со своим отцом в родовом отеле на улице Св. Доминика, в одном из самых уединенных кварталов шумного Парижа. Почти отрешившись от светской жизни, молодой человек вел затворническую жизнь, и друзья видели его только изредка в залах жокей-клуба и на скачках. Верховая езда и спорт были страстью графа, которую он унаследовал от целого ряда поколений.
15 июля, спустя три месяца после отъезда из Петербурга, Оливье Лорагюэ, сидя на своем любимом коне Баярде, объезжал Булонский лес. Это был час встречи; аллеи парка пестрели множеством всадников и амазонок парижского света и полусвета, и графу ничего не оставалось, как свернуть в одну из темных и одиноких аллей. Опустив поводья, молодой человек мечтал о далеком и все-таки милом Петербурге, о бедной девушке, которую связала какая-то роковая тайна. В эту минуту ему хотелось снова вернуться в Россию и отправиться на поиски невесты и ее отца.
— Граф Лорагюэ, если не ошибаюсь! — раздался голос за спиной молодого человека.
Граф обернулся и увидел подъехавшего к нему элегантного джентльмена на красивом коне.
— С кем имею честь говорить, милостивый государь? — спросил граф, оглядывая с любопытством и недоверием молодого и очень изящного джентльмена.
— Быть может, ночь накануне вашего отъезда из Петербурга, граф, напомнит вам и объяснит настоящую встречу! — отвечал незнакомец.
Эта новость до такой степени была неожиданна для графа, что он вздрогнул и дернул лошадь в сторону.
— О, не бойтесь, граф, — с улыбкой остановил его незнакомец, — ваша жизнь не в опасности.
Эта фраза была сказана так едко и обидно, что Лорагюэ поднял Баярда на дыбы и бросился на оскорбителя.
— Ни с места! — крикнул тот и направил на графа дуло пистолета.
— Я забыл, — сказал граф, — что мошенники играют только с верными картами. Что же вам нужно от меня? Неужели вы не оставите меня в покое и в Париже?
— Сейчас же после того, как вы дадите формальное отречение от руки вашей невесты.
— Я сказал уже однажды, что вы его не получите!
— Вы его дадите, граф; благоразумие прикажет вам это! Поймите, что с этого момента вы являетесь для нас препятствием, которое должно быть устранено — как и когда, об этом мне ничего не известно. Удовольствуется ли Совет тем, что доведет вас до полного бессилия, или же решит покончить с вами раз навсегда — это будет зависеть главным образом от вас самих, от того, что вы намерены делать и как будете себя держать в будущем! Я же лично могу вас уверить, что не питаю к вам никаких враждебных чувств и вплоть до вчерашнего дня не только не знал вас, но даже не подозревал о вашем существовании!
Слова эти были произнесены незнакомцем мягким, почти растроганным голосом. Это внушило молодому графу мысль постараться разузнать что-нибудь о его друзьях от этого человека.
— Как вижу, вы, милостивый государь, принадлежите к кругу тех людей, у которых порядочность и воспитанность являются наследственными, — заметил он. — Так скажите же мне, почему вы принимаете на себя роль исполнителя чужой воли по отношению к человеку, который никогда не сделал ничего, чтобы заслужить ваше недоброжелательство!
— Этого вы никогда не поймете… И я ничего не могу сказать! Прощайте, мое поручение исполнено. Мне остается теперь добавить еще только одно: если мы встретимся с вами где-нибудь в обществе, в театре или на гулянье, и вы узнаете меня, то я прошу вас в ваших же интересах не подавать вида, что вы меня узнали!
— На это я должен вам сказать, что если мне представится случай встретиться с вами, то я не буду слушать иного голоса, кроме голоса моей личной безопасности, и поступлю так, как мне подскажет мое чувство самосохранения.
— Как вам будет угодно, это было простое предостережение! — сказал незнакомец.
— В таком случае я также считаю нужным предостеречь вас, что по отношению к таким врагам, которые действуют тайно и под личиной, я считаю все средства борьбы законными. Вы вызвали меня на борьбу, борьбу дикарей, и я готов поддерживать ее и бороться с вами тем же оружием; для начала, так как мне во всяком случае необходимо знать, с кем я имею дело, я предупреждаю, что не отстану от вас ни на шаг до тех пор, пока не сумею открыть вашего имени: скакун у меня добрый, и вам едва ли удастся уйти от меня!
Звонкий пренебрежительный смех был ответом на эти слова графа.
— О граф, вы делаете мне слишком много чести! — насмешливо сказал незнакомец, потрепав по шее своего коня.
Оба всадника пустили лошадей рысью. Они пересекли главную аллею и углубились в маленькую, узенькую и, кроме того, запрещенную для лошадей. Незнакомец как будто нарочно туда направился, потому что в конце аллеи был барьер. Достигнув его, он даже не пришпорил коня, который прекрасно взял барьер. Баярд взял его гораздо тяжелее и начал немного отставать. Граф пришпорил его и снова выравнялся. Тогда началась борьба, продолжавшаяся минут двадцать. Баярд, не знавший соперников на быстром бегу, отдал несколько корпусов коню незнакомца.
Скачка эта привела всадников к озеру. Незнакомец дал легко шпоры своему коню, и тот, с размаху бросившись в воду, поплыл с легкостью утки. Напрасно граф пришпоривал и даже хлестал своего Баярда: конь пугливо фыркал, бил задом, к великому смеху собравшегося народа, а в воду все-таки не пошел.
Граф был побежден, сконфужен, уничтожен. Он повернул лошадь домой, и в это время до его слуха донесся отдаленный крик с того берега:
— До скорого свидания, граф!
Приехав вне себя от злобы, Лорагюэ тотчас пошел в кабинет отца, чтобы рассказать ему свое приключение и спросить совета. Старика графа не было дома, и, зная, что его легче всего застать в клубе, молодой человек отправился туда. Действительно, старый аристократ восседал в игорной комнате клуба. Граф подошел к нему и только что начал рассказывать ему свое поражение, как онемел от изумления: за одним из столов сидел его утренний незнакомец и преспокойно играл в карты с генералом Буало. Поборов свое волнение, граф обстоятельно рассказал отцу свое приключение.
— Так это, значит, продолжение твоей истории в России? — спросил отец.
— Да, и, что всего интереснее, виновник моего утреннего поражения находится здесь, в клубе.
— В клубе? Ты с ума сошел.
— Это так же верно, как я вас люблю и уважаю, отец.
— Где же он? Не мучь меня, покажи.
— Партнер генерала Буало.
— На этот раз я окончательно пугаюсь, что ты болен, — сказал старик. — Да знаешь ли ты, кто это такой?
— Нет, не знаю.
— Это князь Урусов, один из самых веселых и милейших иностранцев, которых я видел когда-нибудь в Париже. Чтобы рассеять все твои сомнения, пойдем, я тебя познакомлю с ним.
Старик потащил сына и представил его князю.
— Очень рад познакомиться, — сказал князь и вслед за этой банальной фразой сумел завязать чрезвычайно интересный разговор, продолжавшийся очень долго.
Он говорил, как умный, сведущий и бывалый человек, владея в совершенстве французским языком.
«Он, он», — думал граф, слушая князя, но минуту спустя ему уже казалось, что он ошибся.
Незаметно прошел вечер. Молодые люди поужинали вместе, и так как старик уехал, то князь предложил графу подвезти его.
— Мы почти соседи, — говорил он, — вам грешно будет отказать мне!
Граф сел, и пара чистокровных английских лошадей помчала карету.
Выходя, граф поблагодарил князя за приятно проведенный вечер и затем собственноручно захлопнул дверь кареты. Вдруг стекло двери опустилось, и князь тихо сказал:
— Помните, граф: завтра вечером будет уже поздно, откажитесь лучше теперь.
— А, так значит, это…
Граф бросился было, но карета уже умчалась.
Когда граф рассказал отцу конец своего знакомства с князем, старик призадумался. Ему казалось, что сын его окончательно сошел с ума. Он посоветовался с доктором и через несколько дней выдумал поездку в Италию. Под предлогом, что ему скучно одному, он увез с собой и сына.
Прошло два месяца. Графы Лорагюэ вернулись домой. Отель был разграблен, и касса взломана. На дне ее было письмо.
«Мы вынуждены путем разорения лишить Вас возможности действовать. Ваше состояние будет возвращено Вам в тот день, когда Вы окончательно откажетесь навсегда от руки Вашей невесты, княжны Васильчиковой.
Невидимые».
III
Австралийский буш. — Лесные бродяги. — Каторжники и искатели золота. — Тидана Пробиватель Голов.
Южное солнце было близко к закату. Тропический лес нахмуривался и темнел, а трое запоздалых путешественников приютились под деревом у пылающего огня, на котором жарилось филе кенгуру, распространяя кругом аппетитный запах, который более всего дразнил прекрасного черного пса, прохаживающегося вокруг огня.
От времени до времени один из путешественников отходил от костра и, пробравшись через кустарник на опушку, осматривал окрестность посредством бинокля, после чего все трое совещались. Предосторожность эта была нелишней, так как в то время, к которому относится наш рассказ, австралийский материк был полон беглыми каторжниками, которые для честного человека были страшнее дикарей. В то время едва ли насчитывали сто тысяч жителей в этой части света; но ни в одном человеческом обществе не было столько дурных элементов, как здесь, столько зла, вражды и коварства благодаря английским колониям преступников.
Цивилизованное население Австралии делилось на две категории, именно на переселенцев-спекулянтов, людей более или менее порядочных, явившихся сюда с целью наживы, и на каторжников, которые в свою очередь подразделялись на каторжников, отбывающих наказание, и каторжников, окончивших срок наказания и отпущенных на волю; они быстро превращались в лесных бродяг, «буш-рэнджеров», как называли их. Последние, можно сказать, переходят в дикое состояние и живут хуже самих дикарей, не признавая ни чести, ни закона, промышляя грабежом и охотой; а так как эти занятия обеспечивают им средства к существованию, то они предпочитают грабить фермы, чем работать над их процветанием и заводить новые. С туземцами они обыкновенно живут довольно дружно, поставляют им ром, коньяк, джин и другие спиртные напитки. Но горе скваттеру или путешественнику, прибывшему сюда с честными намерениями — возделывать землю и завести хозяйство, — если он натолкнется в пути на этих людей! Не задумываясь, они убьют и ограбят его, тем более что такие преступления в Австралии в то время всегда оставались безнаказанными.
Количество этих мародеров или лесных бродяг было тогда так велико, что двое европейцев при встрече обыкновенно разговаривали друг с другом не иначе, как держа ружье на взводе, так как нельзя было ни при каких обстоятельствах поручиться за свою безопасность или предугадать намерения собеседника.
В числе этих буш-рэнджеров были, конечно, и порядочные, честные люди, но это были лишь редкие исключения, относившиеся к канадцам, жившим жизнью трапперов, то есть охотой на кенгуру и опоссумов, мясо которых они употребляли в пищу, а кожи продавали колонистам-поселенцам, изготовлявшим из них сбрую, гетры, шапки, куртки и всевозможные необходимые в их обиходе предметы. Также охотятся они и на черных лебедей, которыми изобилует Австралия и которые дают им вкусную пищу, а пух представляет собою предмет торговли, всегда находящий покупателя. Кроме того, этих трапперов часто нанимали владельцы золотых приисков из Сиднея для провозки золота, а также и переселенцы для сопровождения транспортных товаров, клади или сельских продуктов во время пути к месту назначения, для охраны от грабителей, особенно если местом назначения являлся какой-нибудь отдаленный пункт. Другие лесные бродяги, именно настоящие буш-рэнджеры, жившие только разбоем и грабежом, ненавидели канадцев и не стесняясь, пристреливали их всякий раз, когда им представлялся случай сделать это, но вместе с тем они и боялись их, потому что канадцы были люди рослые, сильные, смелые и решительные и в совершенстве владели и ружьем, и ножом.
Их нанимали также, за известное вознаграждение, в качестве проводников как единичные путешественники, так и целые караваны скваттеров-дровосеков или фермеров, так как во многих случаях присутствия одного такого канадца-траппера было достаточно для того, чтобы отдалить целые шайки дикарей или лесных бродяг. И те и другие прекрасно знали, что ни один канадец не поленится пройти 400 и даже 500 миль, чтобы собраться в числе человек 20-30 и беспощадно отомстить за смерть одного из своих, если только можно напасть на след убийц.
Несчесть числа тем преступлениям, которые были отомщены или предотвращены этими австралийскими трапперами в те годы, когда еще не существовало ни настоящих властей, ни полиции, ни суда в этой обширной стране, кроме, быть может, только двух больших центров, Сиднея и Мельбурна.
Отбывшие срок наказания преступники в свою очередь разделялись на две категории: на «чистых» и «нечистых» в зависимости от новых приговоров, которым они подвергались за свои преступления, сделанные во время отбывания ими наказания в месте ссылки.
Нечего и говорить, что все эти люди ненавидели друг друга и даже презирали, так как, с их точки зрения, существовала громадная разница в степени их преступности и позора. Так, например, тот, кто не подвергался никакому осуждению, кроме приговора суда, произнесенного над ним в Англии, немедленно считал себя стоящим неизмеримо выше других товарищей каторжников. Такие люди считали даже особым преимуществом свою ничем не запятнанную в Австралии репутацию: до того редки были случаи, чтобы кто-нибудь из каторжников не оказывался виновным и здесь, на месте ссылки, в целом ряде всевозможных преступлений и не подвергался целому ряду взысканий и наказаний во время отбывания им срока наказания.
В Европе какими-то судьбами держалось убеждение, что эти ссыльные преступники становятся по прошествии некоторого времени образцами добродетели и что Австралия стала тем, что она есть, только благодаря им, и приписывали это благодетельному влиянию английской системы наказаний. Однако все это — жестокое заблуждение, которое даже местные статистики с неопровержимыми данными в руках опровергают окончательно.
Число преступников, превратившихся с течением времени в мирных и трудолюбивых граждан, до такой степени незначительно, что о них не стоит даже и говорить, и по отношению к числу преступников, которые, отбыв срок наказания, превратились в самых отчаянных негодяев и злодеев, в закоренелых преступников и развратников, продолжавших идти по пути порока, является положительно каплей в море. Большинство из них, получив свободу, совершали целый ряд преступлений и избегали новых наказаний лишь тем, что бежали в буш и скрывались там, где могли, в течение долгих лет, давая волю своим преступным наклонностям, неуловимые и недоступные закону.
Канадцы-трапперы часто преследовали их и, во имя закона Линча, положительно охотились за ними, стараясь очистить страну от этой язвы. Мы, конечно, вызовем всеобщее удивление, утверждая, что Австралия ничем не обязана Англии, ни своим расцветом, ни своей культурой, ни своим прогрессом, что, напротив, Англия делала все, что могла, чтобы парализовать политический рост и развитие этой страны, и современные австралийцы утверждают, что Англия опасалась основать крупную и могущественную колонию, которая, подобно Северо-Американской, могла бы отложиться от нее.
Как бы то ни было, но начиная с 1877 года Великобритания стала отказывать в субсидиях эмигрантам, переселяющимся в Австралию, тогда как переселяющимся в другие ее колонии продолжала оказывать поддержку. Мало того, она стала продавать землю в Австралии не иначе, как только очень большими участками, с той целью, чтобы они были доступны только людям богатым, а бесплатные колонии совершенно уничтожила, даже и для того, кто мог считать это своим неотъемлемым правом, — для отставных военных и моряков.
Такая политика могла, конечно, только уменьшить число честных работников-хлебопашцев и других порядочных людей, переселяющихся в Австралию. Кроме того, следует еще заметить, что из громадного числа ссыльных лишь очень немногие принадлежали к земледельческому классу; большинство же составляли подонки городского населения, фабричные, ремесленники, не имевшие ничего общего с землей и только по принуждению работавшие над расчисткой и разработкой казенных участков; отбыв срок наказания, они тотчас же бежали сперва в город, где совершали новые преступления, затем скрывались в буш, увеличивая собою полчища лесных бродяг и грабителей.
Только золотым приискам обязана Австралия своим быстрым ростом и развитием. Приманка, какою служил драгоценный металл, привлекла сюда тысячи людей, тысячи рабочих рук, и необходимость для каждого охраны его личных интересов естественно породила известные строгие порядки и законы; образовалось общество, и урегулировалась жизнь.
Но в то время, о котором мы говорим, в Европу только что были посланы первые образцы золота; приток настоящих рабочих еще не начался, а слухи о золоте только еще более развратили буш-рэнджеров и всякого рода низких авантюристов, которые еще более осмелели, почуяв новую добычу. А потому ни одна группа людей, даже и более многочисленная, чем та, о которой мы упомянули в начале этой главы, не решилась бы расположиться лагерем в пустынях буша без соблюдений всевозможных предосторожностей.
С первого взгляда все собравшиеся у костра люди, казалось, принадлежали к одному классу общества и стояли на одной ступени общественного положения. Все трое были одеты в толстые куртки из грубого сукна, тяжелые американские сапоги и вооружены, кроме дальнобойных ружей, громадными охотничьими ножами и только что изобретенными Кольтом револьверами, оружием, еще чрезвычайно редким и не виданным в ту пору в Австралии, позволявшим им с успехом отстаивать себя против врагов, численностью раз в пять превосходивших их.
При более близком знакомстве, однако, становилось ясно, что эти трое спутников, в сущности, не имели между собой ничего общего. Один из них, который, по-видимому, всем распоряжался, но, как видно, лишь в силу своей большей ознакомленности с этой страной, был рослый красивый канадец, Дик Лефошер, образцовый стрелок, убивавший на лету ласточку на расстоянии 80 шагов; он был одинаково уважаем и ненавидим всеми лесными разбойниками, бродягами, придорожными грабителями, которыми кишел тогда австралийский буш.
Название «австралийский буш» соответствует, в сущности, названию индийских джунглей или американских прерий и пампасов; это громадная пустыня, населенная только бродягами, кочующими с места на место, да кое-где дикарями-туземцами.
Охотясь и рыбача или сопровождая то караваны товаров, то путешественников в течение целых десяти лет, Дик Лефошер изучил буш во всех направлениях; его знали все лесные бродяги, все мародеры, а также фермеры под именем траппера Дика, а все туземцы и дикари — под именем Тинирдан или, иначе говоря, Тидана Пробиватель Голов, вследствие того, что пули Дика всегда пробивали голову его врагу, так как стрелял он без промаха и целил всегда в голову. Кроме того, туземцы его знали и потому, что он был усыновлен великим вождем племени нагарнуков, наиболее могущественных и многочисленных во всей стране; в силу этого он считался как бы ближайшим родственником каждого нагарнука, и это давало ему то преимущество, что в случае открытой вражды все нагарнуки до единого становились на его сторону, точно так же, как и в случае войны или враждебных действий между туземными племенами, он был обязан встать в ряды защитников усыновившего его племени.
И в Сиднее, и в Мельбурне не было ни одного крупного торговца или банкира, который бы не знал Дика и не счел за особое счастье поручить ему свой транспорт или караван. Среди этих людей он был известен под именем Честного Дика, именем, вполне им заслуженным.
IV
Мельбурн. — Находка золота. — Три пионера. — Встреча в «Oriental-Hotel». — Митинг. — Новые друзья.
Когда были найдены первые образцы золота, значение Дика возросло еще более, так как он однажды похвастал, что знает место, где столько золотоносной породы, камней и даже самородков величиной с его кулак, что если бы он захотел, то наполнил бы ими целый вагон.
С этого момента ему стали делать самые блестящие, самые заманчивые предложения, но он отклонял их все одно за другим, и вскоре люди начали думать, что Дик просто подшутил над ними. В сущности же, дело обстояло совсем не так: у него был свой план, которым он ни с кем пока не делился.
Было ли это на самом деле золото? Залежи его были до того громадны, что Дик сам боялся поверить возможности такого несметного богатства. Но так как необходимо было прежде всего выяснить этот вопрос, то он решил подыскать себе двух честных и добросовестных товарищей, из которых хоть один был бы достаточно сведущ в горном деле, чтобы не ошибиться в определении металла; подыскав их, он предполагал отправиться к тому месту, где видел залежи, и затем обсудить, как использовать свою находку. Желтого металла там было так много, что он охотно готов был поделиться со своими товарищами: золота там хватило бы на всех.
Подыскать себе двух надежных товарищей он хотел еще и по другой причине, именно: с тех пор как он проговорился о своей находке, Дик не мог сделать ни шагу без того, чтобы за ним не следовали по пятам целые отряды лесных бродяг или иных искателей приключений с видимым намерением разузнать его тайну. Два хорошо вооруженных опытных стрелка могли бы помочь ему сбить со следа этих мародеров, а в крайнем случае отбиться от них. Один человек, как бы ловок, привычен и опытен он ни был, всегда может легко попасть в ловушку, особенно когда те, кто ее расставляет, тоже хитры, ловки и, главное, многочисленны.
Но найти таких двух товарищей было не так легко; людей честных, мужественных, решительных, кроме того, образованных и сведущих в минералогии, людей, которым можно было бы безнаказанно доверить столь важную тайну, и в Сиднее, и в Мельбурне было немного.
Но Дик был воплощенное терпение; он не спешил обогатиться и потому решил ждать, пока случай не столкнет его именно с такими людьми, каких он искал. А в ожидании этого случая он продолжал жить своей прежней жизнью скромного траппера.
В тот момент, когда мы его встречаем у костра, неподалеку от Рэд-Ривер (Красной реки), он, очевидно, уже нашел желанных товарищей в лице тех двух мужчин, с которыми он теперь расположился у огня. Вероятно, все трое направлялись теперь к тому месту, где Дик нашел залежи драгоценного металла, так как тот, кто вздумал бы следовать за ними с самого момента их отправления из Мельбурна, несомненно, заметил бы, что они путешествовали с величайшими предосторожностями и только ночью, а днем скрывались в самых укромных тайниках буша.
Тот из двух товарищей Дика, который сейчас сидел ближе всех к огню и отличался благородством физиономии, свободной грацией и изяществом манер, был несомненный француз; это можно было сказать по первому взгляду. Немного выше среднего роста, стройный, сильный, хорошо сложенный, ловкий и выносливый, с коротко остриженными черными волосами и небольшими усиками, закрученными кверху, он походил на офицера, прикомандированного к какой-нибудь кругосветной экспедиции. Но мы можем сказать, что он не был офицером и никогда не служил в военной службе.
Дик называл его просто Оливье, точно так же, как тот звал его Диком. Третий же товарищ их относился к молодому французу с известной почтительностью, обличавшей в нем слугу; звали его Лоран. Этот воинственного вида человек был плотный, сильно сложенный мужчина, не столь крупный с виду, как рослый канадец, но по силе мускулов едва ли уступавший ему. Словом, Дик не мог подобрать себе более подходящего и надежного в случае нападения товарища, чем этот Лоран. Они вдвоем могли бы при рукопашной схватке без особого труда управиться с дюжиной противников.
Граф Оливье д'Антрэг прибыл месяца три тому назад в Австралию со своим верным слугой Лораном с пакетботом, отправляющимся из Ливерпуля в Мельбурн, и остановился в «Oriental-Hotel» («Восточной гостинице») на Иерра-стрит, являвшейся тогда в Мельбурне единственной перворазрядной гостиницей, куда съезжались все окрестные фермеры для своих дел, скваттеры, занимающиеся животноводством, и торговые люди. Здесь улаживались все коммерческие дела, устанавливались цены на товары и продукты, производились спекуляции; здесь же была вместе с тем и биржа, на которой котировались разные ценности, и дельцы-биржевики играли на повышение и понижение. При этом нередко человек, не имеющий ни одной пяди земли и не могущий назвать своим ни одного куля зерна и ни одной охапки сена, покупал или продавал, в счет будущего урожая, сто тысяч кулей зерна или несколько тысяч пудов сена, и все это в расчете на повышение или на понижение цен. Эти фиктивные купли и продажи положительно разоряли настоящих хозяев, порождая целые толпы спекулянтов.
В силу всего вышесказанного «Восточная гостиница» на Иерра-стрит являлась весьма и весьма оживленным центром, где можно было встретить всяких людей. Здесь же образовалось и несколько обществ для добывания золота на основании немногих образцов, доставленных лесными бродягами или трапперами.
Нечего и говорить, что здесь каждый вечер собирались по этому вопросу целые толпы людей, обсуждавших различные предприятия по разработке золотоносных участков.
Оливье, приехавший в Австралию также с целью обогатиться на приисках, не пропускал ни одного из этих собраний, внимательно прислушиваясь ко всему, что здесь говорилось. Кроме небольших остатков своего былого состояния, он обладал еще достаточными сведениями по минералогии и металлургии, для того чтобы руководить хорошо и очисткой кварца. Но так как он недостаточно хорошо владел английским языком, то ему было трудно объясняться на предварительных митингах. Но, будучи однажды приглашен как европейский инженер-специалист высказать свои взгляды перед всем собранием, он осведомился, нет ли кого, говорящего по-французски настолько, чтобы служить ему переводчиком в случае надобности, и так как в числе присутствующих находился Дик, то он и вызвался сыграть эту роль. Честный, прямодушный и знающий дело Оливье сразу приобрел общее расположение. Он говорил после одного приезжего немца, выдававшего себя за знаменитого будто бы профессора. Герр Путкамер, как звали его, вместо того чтобы познакомить малообразованных трапперов с внешними признаками отыскивания золота и с элементарными сведениями по минералогии, углубился в непонятные и головоломные тонкости и увлекся даже до того, что стал утверждать, будто золото — германский металл! ибо любимый народный герой Барбаросса имел золотистую бороду, так же как любимый напиток, пиво, золотого цвета.
Когда профессор кончил, трапперы очнулись и, убедившись, что не поняли ровно ничего из всей галиматьи, начали шикать. Оливье Лорагюэ взошел на трибуну и спокойно, понятным языком возместил пробел в лекции ученого. Благодарные трапперы проводили его аплодисментами.
С этого вечера и завязалось знакомство между Диком и Оливье. Судя по тому, что говорил молодой человек, умный траппер понял, что молодой француз, помимо основательных научных знаний, обладает еще и достаточной дозой практического ума и в связи с благоприятным впечатлением, какое он произвел на всех, и на Дика в том числе, последний решил, что Оливье как раз тот товарищ, какого он себе искал, и потому решил при первом удобном случае открыться ему и предложить стать его товарищем.
Чтобы разузнать ближе, с кем он имеет дело, Дик решил вызвать молодого человека на откровенность и узнать, что именно привело его сюда; с этой целью однажды, сидя на террасе отеля, он рассказал своему новому знакомцу всю свою жизнь с самого раннего детства, когда, еще совсем ребенком, он охотился с отцом, также траппером, в лесах Канады, затем, оставшись один на свете, захотел повидать иные страны, добрался до Сан-Франциско, потом на небольшом судне плавал несколько лет между островов Океании и, наконец, добрался до Австралии, где и зажил своей прежней жизнью траппера.
— Присоединив к этому вашему главному занятию попутно и золотоискательство, — добавил Оливье, — по крайней мере я так слышал здесь: вы нашли где-то большую залежь золота, но держите вашу находку в тайне.
— Я действительно нашел золото, но я его не искал, — отвечал Дик, — это произошло совершенно случайно; я никогда не думал искать золото!
— Ну, а что касается меня, то я приехал сюда именно для того, чтобы найти золото, — заметил Оливье и затем, не входя в излишние подробности, рассказал своему собеседнику о том, что поклялся вернуть себе и любимой девушке то счастье, которое бессердечные враги вырвали из их рук; что для этого ему нужно много-много денег, чтобы путем подкупов и наград восторжествовать над своими могущественными и сильными врагами. Он рассказал, что был очень богат, но враги разорили его, чтобы лишить его возможности бороться с ними. Теперь ему необходимо было прежде всего вернуть себе состояние, и, чтобы подготовиться к деятельности золотоискателя, он нарочно посещал лекции в Парижской горной школе, изучая теорию и практику приискового дела. Затем он сообщил Дику, что запасся всеми необходимыми орудиями лучшего качества для разработки руды, химическими снарядами для ее очистки и ящиком, вмещающим 12 револьверов, этого вновь изобретенного усовершенствованного оружия.
— Теперь мне остается только найти подходящий участок, чтобы приступить к его разработке, — закончил Оливье. — Но это, конечно, не так легко, и до сих пор я положительно ничего не имею даже в виду. Вероятно, придется немало поискать!
— Ну, искать вам не долго придется, — весело возразил Дик, — в этом я могу помочь вам: я здешние места все хорошо знаю!
— Неужели вы согласитесь указать мне!..
— Лучше даже, чем указать… Но я не хочу обольщать вас гадательными надеждами, а лучше расскажу вам все, как есть, и вы сами увидите, дело я вам говорю или нет.
V
Рассказ Дика. — Золотой грот. — Прииск самородков золота. — Уговор. — Шпион.
— Год тому назад, — начал Дик, — один негоциант из Мельбурна предложил мне свезти значительную сумму денег фермеру, жившему далеко на юге. Я, разумеется, согласился и отказался от спутников, которых мне прочил негоциант. «Возить с собою деньги, — сказал я ему, — вещь не совсем приятная и не совсем спокойная. Если я отправлюсь во главе целого отряда, то непременно навлеку подозрение беглых каторжников или других бандитов. Между тем одинокого меня сочтут простым охотником и оставят в покое». Негоциант согласился с моим мнением, и я расстался с ним. На другой день, ночью, он привез мне в своей карете золото, которое я при нем запрятал в глубину своего ящика, прикрыв его провизией. Шестьдесят дней я пробыл в дороге, и ни одна случайность не нарушила моего спокойствия. Только двадцать дней отделяли меня от цели путешествия. Однажды с восходом солнца я оседлал своего мула и двинулся в путь. Переходя через ручей, животное поскользнулось и взрыло своими копытами песок со дна. Я нечаянно нагнулся над водой и заметил, что она имеет странный золотистый оттенок. «Неужели это золото?» — мелькнуло у меня в голове, но я сам с недоверием отнесся к этому предположению, так как ничего не слышал о существовании золота в Австралии, хотя меди добывалось повсюду большое количество. Взрыв в нескольких местах песок, я убедился, что металлические крупинки рассеяны в изобилии. Следуя далее вверх по ручью, я видел, как он постепенно суживался и наконец исчез в скале. Тогда, вооруженный своим топором, я начал работать им, чтобы расширить отверстие, дававшее начало ручью. Через четверть часа упорного труда мне удалось отломить целую глыбу. Неожиданное зрелище представилось моим глазам: образовавшийся вход осветил внутренность небольшого грота, залитого желтоватым блеском. Сомнения больше быть не могло: это было золото, потому что только благородный металл не почернел бы в воде. Лихорадка стала бить меня, и, признаюсь, я первый раз в жизни потерялся. Что делать? Уйти — значит оставить сокровище мародерам; оставаться — значит без цели подвергать себя опасности, так как одному справиться с добычей нельзя. Рассудив хорошенько, я решил продолжать свой путь, исполнить поручение и затем вернуться для разработки рудника. Скрыв как можно лучше все свои следы и розыски, заделав снова отверстие, я пустился в дальнейший путь.
— Разумеется, захватив образец золота? — спросил Лорагюэ, с лихорадочным интересом следивший за рассказчиком.
— Да, конечно. Но беда в том, что этот образчик у меня пропал в Мельбурне, где я хотел дать его для исследования.
— Вы подозреваете кого-нибудь в краже? — спросил с беспокойством Лорагюэ.
— Не знаю. Очень может быть. Конечно, лучше, если бы он затерялся, потому что порода камня в умелых руках может облегчить отыскание местности.
— В чем же теперь состоит ваша задача, Дик?
— В том, чтобы, пригласив вас, господин Оливье, и Лорана, отправиться немедленно для отыскания Золотого грота. Там хватит для нас всех с излишком.
— Вы великодушны, Дик! — вскричал Оливье, пожимая руку трапперу, который поделился с ним своим драгоценным секретом.
Этот разговор происходил в гостинице за день до того, как новые приятели пустились в путь. Когда они вышли на улицу, чтобы пройтись по набережной, уже было темно. Они не заметили, что какой-то человек, подслушивавший их разговор, крался за ними и затем, свистнув, присоединился к шайке оборванцев, исчезнувшей в улице Иерра-стрит. Черный пес Оливье чуял что-то недоброе в воздухе и злобно ворчал.
VI
Отправление. — Рэд-Ривер. — На страже.
На другой день, как мы знаем, путники двинулись на розыски Золотого грота, как окрестил россыпь Дик. Когда мы встретились с ними, они уже сделали две трети пути, двигаясь вперед с невероятными предосторожностями. Впрочем, с самого начала путешествия не произошло ровно ничего такого, что бы могло укрепить подозрения канадца. Тем не менее в тот день, когда мы с читателями встретили путников у огня собиравшимися ужинать, Дик был далеко не спокоен.
— Пойдем, Блэк, со мною, — свистал он беспрестанно собаке и, вскидывая свою винтовку, отправлялся для обозрения окрестности; и умный пес, точно благодаря за честь, оказанную ему, усердно тянул воздух по всем кустам.
Так как местность, которой достигли путники, изобиловала дичью и водой, а следовательно, стоянка нескольких дней была обеспечена, то Дик предложил друзьям отпустить его на экскурсию.
— Поблизости здесь обитает усыновившее меня племя нагарнуков. Я пойду и попрошу у вождя полдюжины здоровых ребят, которые увеличат наши силы в случае атаки.
План был одобрен, и искатели золота уселись вокруг огня, чтобы отведать наконец филе кенгуру, для которого канадец ухитрился приготовить и гарнир из диких кореньев.
После ужина ночь была разделена по-морскому на три вахты, и друзья дали слово друг другу не дремать. Лоран первый начал свою службу. Когда Оливье и Дик улеглись у костра, он снова нагрузил все вещи на мула, чтобы быть готовым при первых признаках тревоги.
Луна еще не всходила на небе, и вокруг царствовала глубокая, молчаливая и таинственная австралийская ночь. Северные страны обладают множеством птиц, которые поют свои бесконечные песни по заходе солнца; это пение соединяется с ревом диких зверей, с кваканьем лягушек, и получается грандиозный концерт природы, который гонит тишину и мрак. Напротив, ночь в австралийских бушах тиха, мрачна и безмолвна: ни крики, ни пение, ни шелест деревьев не разрывают покрова гробовой тишины.
Оставшись наедине в этой мрачной обстановке, Лоран почувствовал, как в душу его стало забираться незнакомое доселе жуткое чувство. Ему казалось, что силы его оставляют, что с ним совершается галлюцинация и он скоро потеряет сознание.
VII
Тревога. — Крик австралийской совы. — На разведке. — Черный орел. — Лесовики. — Джон Джильпинг, эсквайр. — Пасифик.
Не пробыв на страже и одного часа, Лоран начал желать, чтобы поскорее настало утро. Он стоял, прислонившись к дереву, и не решался будить своего господина, который должен был сменить его с караула. Раздумывая о тех странных и таинственных приключениях, которые забросили его и Оливье чуть не на край света, он не обратил ни малейшего внимания на раздавшийся вдруг в тишине ночи жалобный крик гопо, австралийской совы. Но вот крик повторился снова, и на этот раз канадец проснулся от своего крепкого сна.
— Ты слышал, Лоран? — спросил он, тихонько подымаясь с ложа из листьев, чтобы не разбудить Оливье.
— Слышал; это, кажется, сова.
— Очень похоже, но только это не настоящая сова. Я уверен, что это перекликаются бандиты, лесовики. Они следят за нами, и очень может быть…
— Неужели вы хотите сказать, что они напали на ваш след?
— Утверждать этого я не могу, но очень вероятно. Наш поспешный уход из Мельбурна непременно обратил на себя внимание разбойников, и они, наверное, пустили в ход все свои средства, чтобы выследить нас.
Крик совы послышался в третий раз, и уже гораздо ближе.
— Теперь я окончательно не сомневаюсь, что это человек! — сказал Дик.
— Как вы это узнали?
— Этого нельзя объяснить. Чтобы это понять, нужно провести столько же времени в австралийских лесах, сколько я, одним словом, по тысяче признаков, неуловимых для неопытного уха. Впрочем, я могу убедиться на опыте. Оставайтесь тут, а я пойду на разведку.
— Но вас могут поймать…
— Я не далеко отойду.
— Не разбудить ли барина?
— Не нужно. Пускай себе спит.
Канадец осторожно пробрался в кусты. Не прошло и минуты, как Лоран с удивлением услыхал новый крик гопо так близко от себя, что, подняв голову, стал вглядываться в темноту, надеясь увидеть птицу. Через несколько секунд послышался издали в ответ точно такой же крик. И тогда Лоран понял, что первый крик принадлежал Дику.
Началось беспрерывное перекликание между канадцем и неизвестным человеком, который отвечал Дику, как верное эхо. Этот человек, очевидно, приближался к привалу наших друзей.
Из-за леса выглянула луна, только что появившаяся на горизонте, и бледным светом озарила окрестность.
Траппер, продолжая подражать совиному крику, понемногу отступал назад к своим товарищам, стараясь завлечь незнакомца под выстрелы трех винтовок.
— Разбудите своего барина! — сказал он Лорану.
Но тот уже сам проснулся и вскочил на ноги.
— Что тут такое? — спросил он, видя, что Лоран и канадец взводят курки.
Ему не успели ответить. Из соседних кустов выскочила чья-то тень и бросилась прямо к пионерам. При свете луны можно было разглядеть, кто такой этот неожиданный посетитель. То был пестро татуированный и с ног до головы вооруженный воин-австралиец. Он смело приближался к привалу, не боясь направленных на него винтовок. Оливье и Лоран прицелились, но дикарь сделал еще прыжок и крикнул:
— Иора, Тидана! (Здравствуй, друг.) Дик узнал австралийца, поспешно отвел ружья товарищей и отвечал:
— Иора, Виллиго!
Он подал дикарю руку, которую тот дружески пожал, и представил Виллиго товарищам как своего названого брата и одного из вождей племени нагарнуков. Затем он сказал Виллиго несколько слов на туземном языке. Дикарь живо обернулся и подал им руку; когда те протянули ему свои, Виллиго приложил их сначала ко лбу, потом к сердцу, и знакомство состоялось. Оливье и Лоран приняты были в число друзей нагарнукского племени.
Канадец горел нетерпением расспросить дикаря, зачем он прибежал к нему, но этикет требовал, чтобы Дик сначала осведомился о здоровье родных Виллиго и обо всем племени. Лишь после этой формальности решился он заговорить о том, что его интересовало.
Виллиго рассказал ему, что, находясь в войне с соседним племенем — дундарупов, — он отправился со своими воинами на рекогносцировку. Дорогой ему встретился какой-то бродячий европеец, которого он принял за шпиона враждебного племени и потому велел своим воинам связать его и взять. Ведя его в свою деревню, Виллиго повстречался с толпою человек в десять лесовиков, которые, видимо, отыскивали чей-то след. Желая узнать, чей именно след они отыскивают, названый брат Дика оставил пленника под караулом своих двух воинов, а сам, скрываясь в высокой траве, пополз за лесовиками, чтобы подслушать их разговор. Каково же было его удивление, когда он услыхал, что лесовики отыскивают след его брата Тиданы, что они хотят выследить его до того места, где скрыт огромный клад. Тогда Виллиго поспешно вернулся к своим воинам, чтобы с ними вместе идти к Тидане и предупредить его об опасности. Посоветовавшись с ними, он влез на высокое эвкалиптовое дерево, чтобы окинуть взором всю окрестность. Вдали он заметил, что в одном месте горизонт как будто неясен, и заключил, что это и должен быть привал Тиданы, где разложен костер, отстилающий облако дыма. Дождавшись ночи, он приблизился к привалу, подавая своему брату сигналы криком совы.
Известие о лесовиках не удивило канадца. Он был готов к этому. Горячо поблагодарив своего названого брата, он спросил, какие с ним воины и где он их оставил.
— Это молодые воины Коанук и Нирроба, — отвечал Виллиго. — Они ждут внизу, у реки. Я сказал им, что подам сигнал, когда понадобится.
— Ну так позови их. Мне нужно повидать и допросить пленника.
Австралиец издал двукратный резкий крик. Такой же крик послышался в ответ через несколько секунд. Дикари поняли и пошли к привалу.
Канадец в кратких словах передал друзьям содержание своего разговора с Виллиго. После непродолжительного совещания условились как можно скорее идти к нагарнукам и, взяв там человек двенадцать самых храбрых воинов, постараться сбить лесовиков со своего следа, так как их ни в каком случае не следовало допускать до россыпи.
Между тем подошли и воины Виллиго, которые привели с собой пленного. Полный месяц освещал теперь, как днем, маленькую поляну, на которой расположились наши пионеры. В Европе не имеют понятия о том, как ярко светит луна в южных широтах. При ее свете там можно совершенно ясно видеть предметы почти как среди белого дня.
По приказанию Виллиго Коанук и Нирроба стали на часы немного впереди привала, а сам Виллиго принялся распутывать пленного.
Предполагаемый шпион, услыхав звуки европейской речи, страшно заволновался, начал мотать головою и шевелиться, насколько позволяли путы. По костюму и по наружности это был совершенный англичанин; карманы его были набиты какими-то лондонскими брошюрками; оружия при нем не было никакого, кроме палки, а весь багаж состоял из небольшой сумки через плечо.
— Это какой-нибудь проповедник из евангелического общества! — сказал, улыбаясь, Оливье.
Боясь, что он будет кричать и тем привлечет лесовиков, пленному развязали сначала глаза и руки; тогда он указал рукой на рот, давая этим знать, что желает говорить.
— Это дело другое, сэр, — сказал англичанину Дик. — Мы нисколько не виноваты в вашем плене. И если вы будете кричать, то повредите нам. Дайте нам слово не шуметь, тогда мы развяжем вам рот.
Англичанин кивнул головою в знак согласия.
Виллиго развязал пленнику рот. Несчастный вздохнул с облегчением.
— Уверяю вас, сэр, — сказал Оливье, — что мы тут ни при чем. Вас дикари приняли за шпиона.
— О!.. С кем имею честь говорить? — с уморительной важностью спросил англичанин.
— Меня зовут Оливье, а это мои друзья, Дик и Лоран.
— Очень хорошо. А я — Джон Вильям Джильпинг, эсквайр, член Лондонского королевского общества.
Оливье и его товарищи поклонились, а англичанин продолжал:
— Я был послан от ботанического отделения для изучения австралийской флоры. Я, кроме того, член миссионерского общества и потому хотел на пути проповедовать. Согласитесь, что со мной очень дурно поступили.
— Вы напрасно путешествуете один.
— Со мной были два проводника, которых я нанял в Мельбурне, но они ушли от меня с полдороги, и я продолжал путь с одним Пасификом.
— Но дикари нашли вас, кажется, одного. Где же был Пасифик?
— О, я привязал его к дереву, а сам занялся собиранием растений, когда они, негодяи, набросились на меня.
— Вы привязали своего спутника к дереву?
— Пасифик вовсе не спутник, это просто мой осел. Где-то он теперь? Как я боюсь, что его украдут! Пропадет мой багаж и сумка с книгами!
Едва он это сказал, как где-то не очень далеко раздался ужаснейший ослиный рев.
— Ах, черт возьми! — вскричал канадец. — Этот осел привлечет, пожалуй, лесовиков! Виллиго, пойди поймай его и заставь замолчать во что бы то ни стало!
Виллиго моментально скрылся и через несколько времени вернулся на привал, ведя в поводу осла, к величайшей радости англичанина. Во время отсутствия хозяина осел отвязался и пошел бродить по лугу. Тут его и нашел Виллиго. Джон Джильпинг, убедившись в целости своего багажа и брошюр, загнусил благодарственную песню.
— Что нам делать с этим чудаком и его длинноухим спутником? — на ухо спросил Оливье канадца.
— А я и сам не знаю! — отвечал тот. — Оставлять его одного нельзя, потому что его застрелит первый встречный лесовик, польстившись на его осла. С другой стороны, и дикари встретят его не лучше, чем Виллиго. Предложим ему идти с нами к нагарнукам, а оттуда, взяв себе проводников, возвратиться в Мельбурн. Впрочем, лучше спросить его самого, что он хочет делать, и если он пожелает с нами расстаться, то не надо его удерживать. Он нас только стеснит.
Англичанин, разумеется, принял предложение пионеров и остался при них, настояв, чтобы Виллиго возвратил ему отнятую при взятии в плен палку и сумку.
VIII
Дундарупы. — Схватка. — Ружье Тиданы. — Окружены врагами.
Снова нагарнукский вождь издал резкий крик, призывая к себе своих двух воинов. Захрустели сухие листья и валежник, и появился Коанук, один, без товарища.
— Где же Нирроба? — спросил Виллиго.
— Он пошел к привалу лесовиков, чтобы выследить их.
— Как он смел? Ведь я же говорил вам не уходить далеко?
Коанук вместо ответа показал вождю на свое окровавленное копье.
— Что же случилось?
— За нами шпионил дундаруп, Коанук пронзил его своим копьем. Он упал без стона. Тогда Нирроба сказал Коануку: «Стой здесь, а я пойду к их лагерю». И Нирроба ушел.
— Что ж мы не двигаемся? — спросил, подходя, Дик.
— Коанук убил шпиона, — отвечал Виллиго, — а Нирроба ушел к их лагерю. Нужно подождать Нирробу.
Пришлось подождать еще несколько времени. Наконец на поляну выбежал Нирроба, громко крича тревогу.
— Что случилось? — спросил канадец.
— Нирроба очень молод, — сентенциозно заметил Виллиго. — Он очень горяч. Пусть он сначала успокоится.
— Мы с Коануком были убеждены, что лесовики вошли в союз с дундарупами. Так и вышло. Лесовиков десять человек, а дундарупов двести. Они собираются идти против нас, окружить и взять в плен.
— Нужно сейчас же в путь! — вскричал канадец.
— Так, — холодно заметил Виллиго. — А куда же мой брат думает идти?
— Как куда? В твою деревню. Ведь мы же решили!
— До нашей деревни два дня пути. Нас успеют десять раз убить, прежде чем мы до нее доберемся.
— Так что же нам делать? Не можем же мы оставаться здесь!
Переговорив с Виллиго, канадец обратился к путешественникам.
— Вождь требует, — сказал он, — чтобы вы оставались здесь, пока он сходит сам и узнает точное число врагов. Главное же, он хочет разведать их намерения. С вами останутся Нирроба и Коанук.
— А вы сами?
— Я пойду с Виллиго. Ум хорошо, а два лучше, да, наконец, и моя винтовка не будет лишнею. Впрочем, мы не долго проходим. Вернемся скоро.
Виллиго полагал, что лесовики встретились с дундарупами случайно. Общих интересов у них, по его мнению, не могло быть, и они, наверное, скоро разойдутся в разные стороны. Но во всяком случае следовало хорошенько ознакомиться с ближайшими намерениями этих случайных союзников.
Итак, названые братья бесшумно скользнули в кусты. Оливье и Лоран остались одни с Джоном Джильпингом и двумя нагарнукскими воинами, которые на досуге занялись подновлением своей яркой татуировки, для чего у каждого воина во время похода всегда имеется в запасе рог с красками. Солнце взошло уже давно, наводняя золотыми лучами широкую равнину, покрытую кустами желтой сирени, этого типично австралийского растения. Кроме них, на равнине пестрели и другие яркие цветы, образуя вместе с зеленью роскошный пестрый ковер, отливавший нежным бархатом.
Не зная, куда деваться от тоски ожидания, Оливье и Лоран вышли на край опушки, где под защитою деревьев можно было обозревать всю долину; но вскоре приставленные к ним воины позвали их назад, энергическими жестами выговаривая им за неосторожность.
Джон Джильпинг тем временем напевал себе под нос псалмы царя Давида.
Так прошло два часа самого томительного ожидания.
Временами нашим путешественникам слышались вдали как будто крики и выстрелы; но на все их вопросы туземцы отвечали лишь знаками, что не понимают их, и в свою очередь знаками же успокаивали их, чтобы они не боялись ничего под защитою храбрых нагарнукских воителей.
Тем не менее эти отдаленные, глухие звуки сильно смущали пионеров. Оливье и Лоран не были трусами, но эта тягостная неизвестность, эта отдаленная угроза невольно как-то действовали на нервы, тем более что нашим друзьям приходилось волноваться уже от одного мучительного ожидания. Им гораздо приятнее было бы подвергнуться открытому нападению, увидать врага прямо в лицо и сразиться с ним в решительном бою, чем толпиться в скучной засаде.
От времени до времени дикари ложились на траву и прикладывались к земле ухом. Вставая на ноги, они всякий раз встречали безмолвно-вопросительный взгляд путешественников, но отвечали на него только улыбкой.
Они обращались с европейцами совершенно как с детьми, точно боясь их напугать и не желая тревожить.
Эти улыбки татуированных рож больше походили на скверные гримасы, чем на улыбки, так что, не будь Оливье непоколебимо уверен в преданности молодых воинов, он, вероятно, отнесся бы к ним не так спокойно.
Зато бедному Джону Джильпингу при виде некрасивых, улыбающихся лиц Нирробы и Коанука делалось совсем жутко, и он бормотал про себя с усиленным жаром библейский текст: «Не заключайте союза с неверными, ибо что общего между вам и?»
Произнося эти слова, он искоса взглядывал на австралийцев, которые в конце концов порешили, что он колдун и произносит заклинания.
Одно время сцена дошла до высшей степени комизма. Джон Джильпинг вдруг вспомнил, что сегодня воскресенье, и решил, что нужно достойно справить праздник. С ним был толстый английский псалтырь с нотами для пения и игры на церковном органе. Вытащив книгу из сумки, он положил ее на спину своему ослу, достал из багажа великолепный кларнет и, встав перед этим удивительным пюпитром, начал наигрывать псалом.
Дикари, услыхав торжественные звуки, пришли в ужас и бросились ничком на траву, крича:
— Кораджи!.. Кораджи!.. (Колдун! Колдун!) Несчастные не шутя вообразили, что белый колдун произносит против них заклинание. Все сверхъестественное имеет такую власть над умом и чувством первобытных людей, что те же самые сыны природы, которые за минуту перед тем не сморгнули бы в виду самых ужасных физических пыток, теперь дрожали, как дети, от безобидных звуков кларнета.
Оливье, спрятавшись за куст, чтобы смехом своим не сконфузить и не обидеть наивного англичанина, счел своим долгом в интересах общей безопасности вступиться в это дело и избавить бедных нагарнуков от страха, который мог им помешать обратить внимание на сигналы Виллиго.
Подходя к Джону Джильпингу, он объяснил ему на английском языке, что звуки его инструмента могут открыть их убежище и привлечь врагов, что во всякое другое время такое благочестивое дело вполне заслуживало бы похвалы, но при данных обстоятельствах оно нарушает распоряжение канадца, который, удаляясь, пуще всего наказывал не шуметь. Дундарупы и лесовики близко; они могут прийти на звуки музыки и забрать в плен всю компанию.
Член евангелического общества повиновался очень охотно, но австралийцы оправились от испуга и заняли свое место на часах не прежде, чем убедились, что книга и кларнет снова упакованы в багаж религиозным, но наивным англичанином, которого не менее наивные дикари так искренне приняли за опасного колдуна.
В поступке Джона Джильпинга не следует видеть чего-нибудь особенного или проявления свойственного англичанам на чужбине оригинальничания. Нет, туземцы почти всех островов Полинезии и Австралии питают природное пристрастие к музыке, пристрастие, которое Лондонское евангелическое общество сумело учесть в свою пользу для успеха своей пропаганды. Вот почему с давних пор все распространители миссионерских брошюр и священных книг, отправленные Англией в эти страны, всегда снабжаются каким-нибудь музыкальным инструментом, назначение которого — собирать толпы слушателей.
Когда миссионерское судно совершает свое плавание, то заходит по пути на каждый остров и оставляет там, смотря по значительности населения, двух или трех распространителей миссионерских брошюр. Едва сойдя на берег, эти господа поселяются в первом попавшемся селении туземцев, и в то время как один из членов евангелического общества наигрывает что-нибудь на своем музыкальном инструменте, тираня какую-нибудь шарманку или безбожно надсаживая тромбон, другие его товарищи раздают толпе Библии, напечатанные на их родном языке.
Не смейтесь! В этом громадная сила, и Англия пользуется этим средством для расширения своих колоний, простирая, подобно громадному полипу, свои длинные щупальца, вооруженные присосками, по всей поверхности земного шара. Вслед за скромным распространителем Библии и миссионерских брошюр на смену им прибывают миссионеры, строят храмы, и вокруг этого нового здания немного спустя группируются десять, двадцать или тридцать торговых контор, складов, торговых учреждений, и вот вся внутренняя и внешняя торговля данного острова монополизуется в руках Джона Буля.
Молодыми, младенческими народами можно управлять только посредством религии; вот почему Англия и в Африке, и в Австралии, и всюду, где она решила водвориться, прежде чем отправлять туда свои тюки с товарами, предварительно посылает распространителей Библии.
Хотя и пришедшие в себя после первого момента неописуемого волнения и смущения, нагарнукские воины все же продолжали недоверчиво посматривать на бедного мистера Джильпинга, который и не подозревал о впечатлении, какое он произвел на своих слушателей. Видя, что туземцы при первых звуках его инструмента кинулись лицом на землю, досточтимый член Лондонского евангелического общества принял это за признак их религиозной растроганности, что разом изменило его мнение о них, и он собирался уже приступить к раздаче миссионерских брошюр, как вдруг издали послышались крики: «Ага! Ага!» (Тревога! Тревога!). Почти вслед за тем на опушке появился канадец и объявил, что за ним гонятся по пятам человек тридцать дундарупов.
Вдали по равнине бежали татуированные дикари, преследуя убегавшего от них Виллиго.
Европейцы, с Диком во главе, выдвинулись вперед и втроем открыли по дундарупам губительный огонь из своих магазинных винтовок Кольта. Дикари остановились, потеряв человек пятнадцать убитыми и ранеными, а ружья-револьверы продолжали свое смертоносное действие. Тогда дундарупы, подхватив своих убитых и раненых, ударились в бегство, преследуемые громкими криками нагарнуков.
Все это произошло в несколько минут. Дик и Виллиго нарочно заманили дундарупов в засаду притворным бегством, чтобы подвести их под выстрелы винтовок. Во время этого бегства над Виллиго и Диком летали тучи стрел, но ни одна, по счастью, не задела их.
Урок дикарям был дан хороший, и пионеры решили воспользоваться временем их замешательства, чтобы поскорее улизнуть от опасности. Весь небольшой отряд немедленно снялся с привала и двинулся к берегу Рэд-Ривер (Красной реки), протекавшей неподалеку.
Реку без труда перешли вброд и вышли на широкую, местами холмистую и усеянную рощицами долину. Отсюда было уже недалеко до нагарнукских поселков.
Не успели, однако, пройти они и двухсот сажен, как их вдруг окружили несколько сот дикарей, которые, держась на почтительном расстоянии, вдруг закружились в диком воинственном танце.
Канадец немедленно приложился и выстрелил. Один из дикарей подскочил и упал мертвый. Дундарупы подались немного назад, думая, что их уже не достанут выстрелы из винтовок, и снова принялись за прерванный танец. Европейцы продолжали идти вперед, невзирая на то, что они были окружены кольцом, которое двигалось вместе с ними, не расширяясь, но и не суживаясь. Несмотря на свою многочисленность, дундарупы боялись усовершенствованных винтовок.
— Уж не задумали ли они извести нас голодом? — заметил Оливье, следивший за врагами с некоторым любопытством. — Они, право, смотрят на нас, как на осажденный город.
— Нет, они, наверное, не станут-таки долго дожидаться для того, чтобы сыграть с нами какую-нибудь скверную штуку, — ответил Дик, — и в эту же ночь, если нам не удастся уйти от них, ползком подкрадутся, чтобы напасть врасплох, во мраке ночи; я должен вам сказать, как ни хочется мне не нагонять на вас преждевременно страха, что, право, не знаю, как нам удастся избавиться от них!
— Что ж, мы, во всяком случае, дорого продадим им наши шкуры! — заметил Оливье.
— О, до этого, пожалуй, не дойдет! — проговорил Дик. — Я хотел только сказать, что нам грозит серьезная опасность в случае ночного нападения. Но, в сущности, это ловушка слишком простая, чтобы Виллиго не нашел средств обойти ее. Ну, что ты скажешь, вождь? Каково наше положение?
— Дундарупы более трусливы, чем жалкий опоссум, который прячется в дуплах деревьев. Они держатся на значительном расстоянии, потому что боятся ружей белых людей. Это несомненно! — сказал австралиец с самодовольной усмешкой.
— Да, но тем не менее они окружили нас сплошным кольцом копий и стрел!
— С каких это пор жалкий ночной хоко, который только и знает, что выть жалобы среди ночи, может рассчитывать заманить в западню воинов? Перед закатом солнца мы будем уже на пути к земле моего племени, и тогда я вернусь во главе моих воинов, и кровь дундарупов окрасит листья деревьев леса и траву лугов!
Маленькая горсточка друзей стала двигаться вперед, невзирая на то, что она была окружена со всех сторон кольцом врагов, двигавшихся вместе с ними, держась на расстоянии 3-4 сажен, которое они считали, очевидно, достаточным, чтобы обезопасить их от ружей европейцев.
Вдруг Виллиго, который предводительствовал своими друзьями, тщательно исследовав местность, приказал остановиться в нескольких шагах от густой заросли кустов австралийской сирени, заросли столь густой, что человек не мог бы пробраться сквозь нее, не пустив в ход топора. Такие заросли довольно обычны на этой равнине, где они несколько нарушают однообразие местности. Но все-таки здесь едва шесть-семь человек могло укрыться; никто не думал, что Виллиго найдет нужным временно раскинуть лагерь в этом месте.
Необходимо, однако, было принять какое-нибудь решение; нельзя было продолжать подвигаться вперед посреди кольца неприятелей, которые каждую минуту могли накинуться на маленький отряд и уничтожить его благодаря своей превышающей численности.
Такой печальный исход казался до того неизбежным, что Оливье мысленно решил проститься с жизнью.
— Кажется, мой бедный Лоран, мы не увидим с тобой больше Франции!
— Что же, на все Божья воля, граф! Во всяком случае, мы перебьем немало этих черномазых чертей раньше, чем простимся с жизнью! — отвечал бравый слуга.
Прежде чем отдать распоряжение остановиться, Виллиго трижды огласил воздух своим вызывающим и грозным боевым криком «Вагх! Вагх! Вагх!», который тотчас же был подхвачен и его молодыми воинами. Дундарупы отвечали на него своим воинственным криком, и в течение нескольких минут только и слышались эти своеобразные возгласы и завывания дикарей, столь грозные и страшные, что могли бы нагнать страх и на самых смелых. Затем дундарупы принялись плясать и петь, сопровождая все это самыми вызывающими жестами и гримасами, но не отваживаясь подойти ближе.
Выведенный из терпения канадец не выдержал и воскликнул: «Пусть же не говорят, что я позволил этим ребятам смеяться над нами и не проучил их за это!» И, пробравшись позади своих товарищей, он незаметно присел и пополз, крадучись в высокой траве, по направлению к дундарупам.
Сначала можно было без труда проследить за его направлением по колыханию трав на его пути, но по мере того, как он удалялся, движение трав становилось сходным с их колыханием от ветра, подувшего с востока, так что его товарищи полагали, что он остается неподвижно на месте, между тем как он продолжал подвигаться вперед.
Прошло еще несколько минут. Дундарупы продолжали плясать и кривляться, сопровождая свои движения разными выкриками, и ветер время от времени доносил до слуха Виллиго самые грубые оскорбления, какими только можно было уязвить самолюбие австралийского туземца.
Доблестный вождь с величайшим трудом сдерживал свое бешенство. Ах, если бы у него только было здесь хоть пятьдесят человек его воинов, как бы он показал им! Как бы он заставил бежать этих горлопанов, которые не осмеливались даже напасть на него одного! Не будь здесь его друзей белых, жизнь которых была поручена ему, он не задумался бы кинуться в самую их гущу со своими двумя юными воинами Коануком и Нирробой и показал бы им, как умеет умирать воин нагарнуков. Он избил бы десятки этих подлых трусов прежде, чем погибнуть, а затем радостно затянул бы песнь смерти, стоя у столба пыток, гордый и надменный, как победитель.
Среди этого воя и воинственных криков дикарей почтенный Джон Джильпинг вдруг затянул своим гнусавым, монотонным голосом 17-й псалом Давидов, с полным спокойствием и благоговением, как будто он пел где-нибудь в церкви у себя на родине.
Вдруг из высокой травы поднялась, словно выросла из земли, высокая мощная фигура канадца; в тот же момент грянул выстрел, и вождь дундарупов, сраженный насмерть, упал лицом вперед на землю за то, что неосторожно выдвинулся несколько вперед, желая поддразнить своих врагов. Смерть вождя страшно поразила дундарупов, и песня торжества и издевательства разом уступила место одному общему крику ужаса и недоумения. Имя Тиданы Пробивателя Голов разом облетело всех.
Действительно, пуля канадца прошла и на этот раз между бровями вождя, пробив ему череп.
Вслед за первым моментом ужаса и недоумения последовали крики ярости и жажды мщения! Дикари подняли труп своего убитого вождя и отнесли его на небольшой пригорок, вокруг которого все собрались и стали держать совет, это было очевидно из их оживленных прений и возбужденных голосов. Более молодые настаивали на немедленном нападении, чтобы отомстить за убитого и разом уничтожить и нагарнуков, и их белых друзей. Но более старые стояли, видимо, за соблюдение необходимой осторожности и разумный образ действий. Не подлежало сомнению, что, решив пожертвовать тридцатью своими воинами, дундарупы в несколько минут могли бы уничтожить своих врагов. Но такое решение вопроса, над которым ни минуты не задумались бы европейские военачальники, было совершенно противно традициям австралийских племен, хотя их нельзя упрекнуть в трусости или недостатке мужества. Так, например, никогда не было видано, несмотря на страшные, ужасные пытки, неизбежно ожидающие воинов в несчастье или в случае неудачи, чтобы хоть один из них, когда-либо попав в плен, старался спасти свою жизнь каким-нибудь неблагородным поступком, или изменой своему племени, или отречением от него. Война в глазах туземцев — это скорее всего борьба, соревнование в хитрости, ловкости и умении провести друг друга, причем каждый старается спасти свою жизнь и жизнь своих одноплеменников, чтобы тем самым досадить врагу и уничтожить возможно больше неприятелей.
Благодаря такому взгляду на дело они прежде всего тщательно высчитывают выгоды, которые им может даровать победа, и всякий раз, когда, по их расчетам, что называется, «овчинка выделки не стоит», иначе говоря, победа обойдется дороже того, что она может дать, и им придется потерять больше людей, чем убить или захватить в плен, не было примера, чтобы при таких условиях туземцы не отказались от такой победы. Таковы, в сущности, чрезвычайно разумные традиции страны.
IX
Скальпы. — Австралийские туземцы и их войны. — Столб пыток. — Хитрости туземцев. — Отравленные источники. — Обмен крови, или кровный союз.
Австралийские туземцы точно так же, как краснокожие Америки, снимают скальпы с убитых врагов и уносят их в родные деревни, как славный трофей войны. Но этого недостаточно: они, кроме того, должны еще принести с собой и всех своих убитых, чтобы семьи тех могли должным образом оплакать их и воздать надлежащие почести во время погребения. Если бы число убитых воинов оказалось превышающим число кровавых трофеев, взятых с неприятеля, отряд, вернувшийся с таким уроном, считался бы даже своими единоплеменниками потерпевшим страшное поражение, хотя бы в действительности они и одержали блестящую победу и обратили в бегство всех своих врагов. Такой отряд должен был бы подвергнуться поруганию и издевательствам женщин и детей при своем возвращении в родное селение. А родственники убитых стали бы преследовать их неустанными проклятиями, издевательствами и насмешками, обвиняя их в том, что они бежали, как трусы, с поля сражения, не отомстив за своих павших на поле брани братьев.
Уже из одного этого видно, что мы очень заблуждаемся, полагая, что дикари сражаются врассыпную, без всякого определенного порядка. У австралийцев война ведется согласно строго установленным правилам и традициям, укоренившимся законам и требованиям, которых не осмелится нарушить ни один вождь, не возбудив всеобщего негодования со стороны своего племени.
Если же нарушение традиций и обычаев войны было бы слишком явным и повлекло за собой неудачу или несчастье, то начальствующие, которые одни могут являться ответственными, ввиду беспрекословного повиновения им подчиненных во время войны, предаются на волю семей погибших на войне воинов. А эти женщины и дети, привязав недостойных вождей к «столбу пыток», предают их самой страшной смерти путем ужаснейших пыток, какие они только могут придумать. Прежде чем нанести им последний смертельный удар, их мучители вырывают у них куски мяса, клочья волос, жгут их тело смоляными факелами, отрезают куски тела осколками кремня, словом, относятся к ним даже хуже, чем к военнопленным-врагам.
Почти не меньшим позором считается для вождей, вернувшись с войны, не принести с собой всех своих погибших воинов. Даже самая блестящая победа не может возместить этого позора; можно даже сказать, что такая победа почти не считается победой, с точки зрения туземцев, так как принести с собой всех своих убитых — это первое доказательство победы в глазах как своих единоплеменников, так и врагов.
Так как все эти туземные племена ведут образ жизни полукочевой, то и не имеют представления о завоевательных войнах; также не имеют они понятия о возможности обложения данью или военной контрибуцией побежденного племени. Войны их возгораются по самым разнообразным мотивам, в большинстве случаев совершенно незначащим; и самым блестящим доказательством своего торжества над врагом, доказательством того, что враг был обращен в бегство, является то, что победители имели возможность подобрать с поля битвы всех своих раненых и убитых и помешать врагам сделать то же по отношению к своим.
Ввиду всего этого вожди, на которых всецело падает ответственность за всякую неудачу, обыкновенно действуют крайне осмотрительно, тогда как юные воины, которые считаются еще не получившими крещения крови до тех пор, пока не принесли по меньшей мере хоть одного скальпа врага, всегда рвутся в бой, желая добыть почетный трофей и покрыть себя славой настоящего воина, хотя бы даже это должно было стоить пожара и поругания их вождей и кровавого поражения.
Вот эти-то взгляды туземцев и могут служить объяснением, каким образом маленькие отряды хорошо вооруженных европейцев, численностью в пять человек, могут пройти из конца в конец Австралийский материк и выдержать десятки схваток и столкновений с туземцами и все же не быть уничтоженными или перебитыми ими. Как только австралийцам становилось ясно, что эти пять-шесть пришельцев держали в своих руках благодаря своему усовершенствованному оружию жизнь нескольких десятков из них, можно было быть уверенным, что ни одно туземное племя не согласится пожертвовать таким числом своих воинов, числом, превышающим в несколько раз число их врагов, ради удовольствия покончить с ними. Но это еще не значило, что с этого момента европейцы могли считать себя вне опасности. Нет, вместо открытой войны и явных нападений начинались тайные козни — засады, ловушки и предательства. Горе неосторожным, которые вздумали бы расположиться на ночлег, не расставив достаточного числа бдительных часовых: прежде чем они успели бы очнуться, всех их перерезали бы, как глупых цыплят, неслышно подкравшиеся дикари. Поэтому в австралийском буше приходится есть, спать, совершать переходы и стеречь имущество и товарищей не иначе, как с ружьем наготове и револьвером у пояса. Малейшая оплошность — и все неминуемо погибнут.
Однажды был такой случай: после первой схватки, в которой европейцы перебили от 25 до 30 человек туземцев, пионеры могли в течение многих месяцев безбоязненно странствовать по австралийскому бушу, не опасаясь увидеть ни одного туземца. Не видя перед собой никакой опасности, успокоенные полной тишиной и бесплодием австралийской пустыни, европейцы были не столь осмотрительны и осторожны, как вначале.
Только этого и ждали туземцы, и в первый же раз, как усталые путники расположились на ночлег без соблюдения обычных предосторожностей, ни один из них не дожил до утра: все они были беспощадно зарезаны в ту же ночь неслышно подстерегавшими их туземцами.
Ничто не может сравниться с терпением австралийцев, даже американские краснокожие в этом отношении далеко уступают им: индейцы часто нападают в открытую, мало заботясь об опасности и о своем самоохранении; австралиец же будет месяцами следовать за вами по пятам, на расстоянии 10 сажен, спать, когда вы спите, шагать за вами следом, когда вы делаете переход, и все время не спускать с вас глаз, прислушиваясь к каждому вашему движению и вздоху, питаясь чаще всего остатками вашей пищи, обыскивая ваши стоянки до того момента, когда какая-нибудь случайная неосторожность предаст вас в его руки.
Хотя Австралия не знает недостатка в больших и прекрасных реках, но ручьев и мелких речонок здесь сравнительно мало. Здесь совершенно своеобразные гидрологические условия. Здесь почти повсеместно много подземной воды, и стоит в любом месте порыть землю на каких-нибудь полсажени глубины, чтобы встретить прекрасную воду. Этим объясняется, что почти каждая ложбинка, окруженная небольшими холмами или пригорками, имеет один или несколько ключей, представляющих собою ряд опрокинутых конусов глубиною в два-три фута, то есть род воронок, наполняющихся водою снизу.
Эти ключи, встречающиеся на каждом шагу, являются спасением как для туземцев, так и для путешественников: их всегда холодная вода, прозрачная и светлая, как кристалл, отличается превосходнейшим вкусом и лучше всего утоляет мучительную жажду, томящую людей в этих местах. Но горе тому, кому вздумается напиться этой воды без соблюдения необходимых предосторожностей! Туземцы, преследуя намеченную жертву, нередко забегают вперед злополучного путника и отравляют по пути все ключи листьями, кореньями и цветами ядовитых растений, свойства которых им хорошо известны и которые сами по себе, помимо злого умысла, являются постоянной грозной опасностью для неопытного путешественника, встречаясь положительно на каждом шагу в дебрях австралийского буша. Едва только неосторожный отведает этой прекрасной на вкус студеной воды, как им овладевает мучительная, неутолимая жажда; он пьет все больше и больше и с каждым глотком вливает в себя смертельную отраву; вскоре его охватывает дрожь, затем наступает бессознательное состояние и бред; в бреду ему кажется, что над ним склоняется чудовищная образина, безобразно размалеванная, подползает к нему, глядит сквозь листву кустов и вдруг вырастает в рост человека. Умирающий думает, что это плод его больного воображения, отвратительный кошмар; он хочет кричать, звать на помощь, но образина накидывается на несчастного беззащитного путника и душит его или, схватив его одной рукой за волосы, перерезает ему ножом горло и затем завладевает его скальпом.
Кроме того, часто, даже очень часто случается, что эти ключи отравляют случайно попавшие в него листья и цветы ядовитых растений, и тогда несчастный, отведавший этой отравленной воды, умирает сам в жесточайших мучениях. Существует только одно средство безнаказанно пользоваться этой чудесной ключевой водой; это предварительно основательно очистить самый приемник, то есть воронку, вмещающую эту воду. Для этого прежде всего вычерпывают всю воду, что занимает не много времени, так как воронка невелика и неглубока в большинстве случаев. Затем тщательно вычищают все листья, корни и всякую зелень, встречающуюся по краям или на дне воронки, после чего вода мало-помалу начинает снова наполнять снизу воронку; тогда этой водою и эвкалиптовыми листьями основательно вычищают воронку и снова вычерпывают воду, проделывая эту операцию вторично для большей безопасности; после вторичного обмывания и протирания эвкалиптовыми листьями можно уже без опаски пить воду из ключа.
Ввиду такого громадного числа разных опасностей, подстерегающих здесь чужестранца на каждом шагу и происходящих главным образом от недоброжелательства и враждебности туземцев, есть только один способ жить среди дебрей австралийского буша, если не в полной безопасности, то хоть относительно безопасно; это постоянно иметь при себе одну или двух хорошо выдрессированных собак, приученных никогда не отходить ни на шаг от своего хозяина, чтобы их не убили невидимые враги, и также одного или двух преданных туземцев. Собаки всегда извещают своим глухим рычанием о присутствии поблизости нежелательных людей, а туземцы одни только способны предугадать и предотвратить коварные замыслы своих соплеменников. Но чтобы обеспечить себе преданность австралийца, недостаточно подкупить его дарами, или держать его у себя на постоянном жалованье, или прельщать его постоянно обещаниями новых щедрот: австралиец всегда нарушает по отношению к европейцу и данное обещание, и всякое обязательство; при случае он, не задумываясь, бросит вас среди пустыни, предварительно ограбив вас, и даже поможет вашим врагам зарезать вас, если представится случай. Такой образ действий не считается постыдным и предательским по отношению к чужестранцу. Нет, единственный способ привязать к себе австралийца так, чтобы он был предан вам до самой смерти, — это учинить с ним обмен крови, то есть вступить с ним в кровный союз, или, что то же, «побрататься».
Этот исконный австралийский обычай, существующий здесь с незапамятных времен, спас жизнь большинству скваттеров, которые одними из первых рискнули переселиться в Австралию.
Обычай этот состоит в следующем: когда европеец и какой-нибудь туземец придут к соглашению «побрататься» между собой и учинить «обмен крови», то туземец уводит своего приятеля к своим единоплеменникам, в свою родную деревню, и церемония происходит между европейцем и отцом туземца, согласившегося побрататься с ним. Оба они, вооружившись шипом акации, делают себе довольно глубокий укол на руке повыше локтя и затем переплетают между собою эти руки так, чтобы оба накола пришлись непосредственно один на другой и чтобы кровь из раны одного смешивалась с кровью другого; затем каждый из двоих прикладывает свой рот к ране другого и высасывает из нее несколько капель крови, которую и проглатывает. После этого европеец становится членом семьи туземца, отец его побратима становится его отцом, мать — его матерью, их дети — его братьями и сестрами, словом, он в полном значении этого слова становится приемным сыном этой семьи и не только этой семьи, но и всего племени.
И не было случая, чтобы австралиец когда-нибудь погрешил против этого обета или изменил своему приемному брату в минуту опасности. Такой союз считается священным у всех австралийских племен.
Такой-то обряд был некогда совершен и над отцом Виллиго и канадцем, и теперь этот кровный союз Дика с Виллиго являлся главною силой и главным оплотом наших путешественников против осаждающих их дундарупов; теперь они могли быть вполне уверены в преданности им нагарнукского вождя и его двух воинов, не опасаясь возможной измены с их стороны. От тех теперь только и можно было ожидать спасения, так как те одни знали все военные хитрости и предательские штуки, на какие способны были туземцы. Кроме того, и вышеупомянутый обычай, равносильный закону среди австралийских племен, — не нападать, то есть не вступать в бой даже с самым незначительным по численности отрядом, если это нападение требовало многих жертв, также играл немалую роль в том, что наши путники до сего времени еще не расстались с жизнью.
После долгого и бурного совещания, очевидно, мнение старейших дундарупов восторжествовало, и решено было только оцеплять противников, чтобы помешать им уйти, а нападение отложить до наступления следующей ночи, когда окружающий мрак не позволит европейцам видеть, куда стрелять.
Круг осаждающих плотным кольцом окружал маленький отряд со всех сторон; куда ни погляди — мелькали черные курчавые головы дундарупов, и казалось совершенно невозможным, несмотря на всю опытность и хитрость Виллиго, чтобы ему удалось вызволить его друзей из этой ловушки, в которой они очутились.
Оливье, осмелившийся высказать вслух эту мысль, получил от Дика следующий ответ:
— Я глубоко убежден, что Виллиго как-нибудь вызволит нас, но как, этого сказать не могу; в настоящее время нам остается только положиться на него и ждать!
Таким образом, даже канадец, знаменитый Тидана Пробиватель Голов, которого боялись дундарупы и все другие племена туземцев, равно как и лесные бродяги, и он не знал, каким образом прорвать эту цепь туземцев, окружающих их со всех сторон.
— Меня смущает только одно, — заметил Дик по некотором размышлении. — Для меня совершенно ясно, что эти черномазые черти направлены на нас лесовиками с целью взять нас живьем. Между тем с сегодняшнего утра дундарупы ищут случая истребить нас!..
— Или же захватить нас в плен! — заметил Оливье.
— Это одно другого стоит: захватив нас, они, несомненно, привяжут нас к столбу пыток; туземцы никогда не оставляют пленных в живых, так как с кочевым образом жизни пленных нет возможности устеречь; они непременно сбегут, а каждый беглый пленник — это лишний непримиримый враг. Теперь я вот чего не могу понять: если лесовики следят за нами, желая выведать нашу тайну о месте нахождения прииска, то зачем натравили они на нас этих черномазых? Ведь они меня достаточно знают, чтобы быть уверенными, что даже и у столба пыток я не выдам им своего секрета.
— Но, быть может, дундарупы преследуют нас против их воли!
— Нет, не думайте этого, мой юный друг!
— Вы видите, однако, Дик, что лесовики не показываются, тогда как им было бы так нетрудно уравнять шансы туземцев; их, по словам Виллиго, человек десять, а нас ведь только четверо, хотя и с огнестрельным оружием!
— Да, но у нас шестиствольные револьверы, а у них простые одноствольные ружья!
— Это так, но на их стороне несколько сот дундарупов; это, кажется, с лихвой уравновешивает силы!
— Не в такой мере, как вы это думаете! Туземцы потеряли уже достаточно народа и теперь ни за что на свете не согласятся светлым днем двинуться на нас! Они будут опозорены, если пожертвуют еще пятнадцатью человеками для того, чтобы овладеть нами. С другой стороны, теперь, когда нами пролита их кровь, когда нами убит их вождь, они не посмеют вернуться к своим, не отомстив за своих убитых, а потому, несомненно, сделают все возможное для достижения своей цели. Но вот чего я не могу понять, каким образом этот отряд, который, несомненно, представляет собою или авангард главной армии дундарупов, выступившей в поход против нагарнуков, или же отдельный корпус, откомандированный с какой-нибудь определенной целью, мог уклониться в сторону и, пренебрегши своей миссией, преследовать нас, когда мы решительно ничем не вызвали их неудовольствия!
— Ну, а присутствие среди нас Виллиго разве не может служить достаточным оправданием их действий? Поимка такого великого вождя нагарнуков — завидный подвиг!
— Вы были бы правы, Оливье, если бы Виллиго был с нами с самого начала, но припомните, что ведь он присоединился к нам только после того, как ему удалось случайно узнать, что отряд дундарупов, соединившихся с лесовиками, преследует нас. Как видите, мое недоумение ничуть не уменьшается, и вплоть до завтрашнего утра я буду говорить, что не могу объяснить себе роль лесовиков. Их дело было, скрываясь сколько возможно, проследить нас до самого прииска, а затем перебить в открытом бою или подстроить нам западню, чтобы всецело завладеть прииском. Вместо того, они действуют так, как будто ищут отмщения, словно для них важно перебить нас, не принимая в этом убийстве явного участия, не обнаруживая своей личности. Это что-то странное! Разбирайтесь в этом как знаете, но что касается меня, то я положительно перестаю понимать наших лесовиков! Как, они хотят заставить убить нас и допустить, чтобы мы унесли с собой в могилу нашу тайну, могущую дать им несметные богатства?! Между тем каждый из них готов десять раз рисковать жизнью из-за каких-нибудь жалких грошей! Нет, воля ваша, это что-то невероятное! Здесь кроется какая-то тайна, которую мы, вероятно, раскроем впоследствии, если только останемся живы! Если бы у меня были враги, которые искали бы моей гибели, то я готов поручиться чем угодно, что скорее таковые найдутся здесь, среди этих лесных бродяг буша, чем на улицах Сиднея или Мельбурна! — сказал Дик после некоторого раздумья.
При этом Оливье невольно вздрогнул: перед ним пронеслись, как во сне, различные минуты его жизни и последние события, предшествовавшие его отъезду из Франции.
— А если это… — начал он. — Но нет, это бред расстроенного воображения… Нет, этого не может быть!..
— Ничто, милый мой Оливье, нельзя считать невозможным в нашем буше, если только дело идет о мести! — проговорил канадец, полагая, что молодой француз возражает на его последние слова. — Вы сами знаете, что мы находимся в стране, где нет ни чести, ни совести, ни справедливости, ни законов; здесь грубая сила царит полновластно, помните это!
X
Страшное оскорбление. — Воинственный гимн. — Джон Джильпинг играет «God save the Queen». — Корраджи. — Страх и трепет нагарнуков. — Австралийские суеверия. — Кра-фенуа. — Бегство.
Вдруг крики и шум в дундарупском лагере заметно усилились. Видя, что европейцы не отвечают на их вызов, туземцы придумали новое средство поддразнить врага. Воткнувши в землю свои копья, они взялись за руки и начали плясать спиной к неприятелю, что привело Виллиго в неописуемую ярость. Такое положение дикарей было в высшей степени оскорбительно для чести вождя: оно означало, что дикари считают его за труса и не ставят ни во что.
Дундарупы знали, что делали. Они надеялись, что нагарнукский вождь не вытерпит и сделает какую-нибудь неосторожность. И действительно, Виллиго с трудом удерживался, чтобы не кинуться на врагов; однако все-таки удержался и отвел душу только тем, что произнес страшную клятву испепелить жилища дундарупов, истребить их жен, детей и стариков, — одним словом, всячески отомстить им за оскорбление, нанесенное в его лице всему племени нагарнуков.
Потрясая оружием, с пылающими глазами и пеной у рта, он запел вместе с двумя своими воинами песню, в которой оскорблялись дундарупы:
— Ваг!.. Ваг!.. Дундарупы трусы: они прячутся, как опоссумы, когда заслышат голос воина. Они бегут от нагарнуков, когда те наступают на них, потрясая копьями и бумерангами.
— Ваг! Ваг! Дундарупы трусы, — подпевали вождю молодые воины Нирроба и Коанук.
В этом роде было пропето несколько куплетов с подобным же припевом. Песня продолжалась с час, и под конец три нагарнукских воина дошли до крайней степени воинственного задора. Глаза их горели, руки выделывали энергичные жесты. Экстаз сообщился даже европейцам, так что и те начали показывать кулаки дундарупам. Джон Джильпинг тоже позабыл свою роль мирного проповедника и, взобравшись на своего Пасифика, чтобы лучше быть видимым, начал посылать дундарупам всевозможную брань, называя их нечестивцами, демонами, детьми Вельзевула и пр.
Под конец на него нашло как бы вдохновение свыше. Он взял свой кларнет и резко, пронзительно заиграл британский народный гимн «God save the Queen». Едва только эти странные звуки долетели до лагеря дундарупов, как там сейчас же произошло невообразимое смятение. Вид проповедника, дующего в трубу и сидящего на невиданном в Австралии длинноухом животном, произвел на туземцев действие совершенно неожиданное. Подобно Нирробе и Коануку, дундарупы упали на землю и завопили:
— Кораджи!.. Кораджи!.. (Колдун!.. Колдун!..) В одну минуту ни единого туземца не стало видно в густой траве.
Европейцам сейчас же пришло в голову, нельзя ли воспользоваться этой минутой, чтоб улизнуть, и они обратились к Виллиго, чтобы поговорить с ним об этом. Виллиго не было: он и его воины точно так же лежали пластом, уткнувшись носом в траву.
Оливье и Лоран не могли удержаться от улыбки, а Дик только плечами пожал. Канадцу было досадно на друга и совестно за его суеверие. Он подошел к вождю, взял его за плечи и поднял на ноги, как малого ребенка.
— Не стыдно ли тебе, вождь? — сказал он. — Не стыдно вам всем? Ну какой же он колдун? Ну разве дался бы он вчера в плен, если б это было так?
Последний аргумент подействовал на Виллиго, тем более что Дик от него подошел к Джону Джильпингу и потребовал, чтобы тот прекратил свою музыку, потому что дикари принимают его за колдуна.
— За колдуна!.. Боже мой! — в смущении воскликнул член евангелического общества, с сокрушением воздевая к небу руки. Однако музыку прекратил.
Дундарупы, полежав в траве, выглянули снова и, убедившись, что колдун против них ничего не предпринимает, стали еще смелее и задорнее прежнего. Таким образом, смешной случай с Джоном Джильпингом не внес никакой перемены в относительное положение обоих лагерей. Теперь даже Дик начал сомневаться, удастся ли его названому брату вывести пионеров из опасных тисков. Это сомнение проскользнуло у него как-то в разговоре. Виллиго улыбнулся и сказал:
— Брат мой, отчего ты мне не доверяешь?
— Я доверяю, но мои товарищи беспокоятся, и я не знаю, чем их успокоить!
— Так скажи им, что мы будем далеко отсюда прежде захода солнца.
— Как, несмотря на дундарупов?
— Несмотря на них. Мы уйдем тихонько, и они не успеют нас хватиться.
— Не понимаю. Ты сам, должно быть, кораджи.
— Дундарупы — глупые воины… Здесь неподалеку есть кра-фенуа (трещина в земле), прикрытая ползучими растениями. Хочешь, взгляни сам!
Слово «кра-фенуа» требует объяснения.
В Австралии сохранилось множество следов различных геологических переворотов и, между прочим, много трещин и расселин в земной коре, происшедших, вероятно, от взрыва газов. Эти трещины на поверхности земли имеют обыкновенно очень небольшие отверстия, но по мере углубления в землю расширяются и образуют иногда довольно удобные подземные ходы. Глубина их достигает иногда 15-20 метров, ширина 8-10 метров, а длина доходит иногда до нескольких миль.
Но мы не советуем неопытному углубляться в подобные ходы, не зная хорошо свойств каждого из них в отдельности. Может случиться так, что человек, вступивший в кра-фенуа через узкое отверстие, сначала идет благополучно, но потом вдруг нога его обрывается, и он стремглав летит в неведомую бездну. Нужно спускаться в глубину трещин осторожно по веревке, привязанной к дереву на земле, и быть каждую минуту наготове схватиться за нее при малейшем неверном шаге.
Через такую кра-фенуа Виллиго и собирался вывести европейцев из отчаянного положения.
Для исполнения своего плана нагарнукский вождь выбрал то время, когда дундарупы станут обедать, потому что тогда внимание их будет сильно развлечено гастрономическим наслаждением.
Канадец отправился с Виллиго смотреть трещину и вернулся назад сияющий, довольный. План действия был живо разработан и сообщен европейцам. Даже осла проповедника и мула Дика являлась возможность взять с собою, отправив их предварительно в кра-фенуа с Коануком и Нирробой. Молодые воины, сведя животных в трещину и привязав их там где-нибудь, должны были вернуться назад и снова присоединиться к остальной компании.
Мистер Джон Джильпинг не без колебания расстался со своим ослом. Слезши с него, он нежно обнял его за шею и долго ласкал, как будто прощался с ним навсегда, а потом, когда осла повели, долго глядел ему вслед со слезами на глазах.
Через несколько минут оба воина скрылись вместе с ослом и мулом, не замеченные дундарупами.
Канадец высек огонь и зажег большой костер из сухих листьев и ветвей. Пламя весело разгорелось, давая знать осаждающим, что осажденные преспокойно собираются обедать, не заботясь о своем опасном положении.
Между обоими лагерями состоялось как бы безмолвное перемирие для обеда. Для дикаря нет выше наслаждения, как еда. Обжорство его доходит до невероятности. Ему мало утолить голод, он должен так наесться, чтобы дышать было трудно, не только что двигаться или говорить. По этому поводу у австралийских дикарей существует весьма характерная поговорка: на-кра-гура-пена, то есть счастлив тот, у кого живот расперло от пищи. Буквально: на — желудок, кра — распоротый, расколотый, гура — деепричастие от глагола «есть», пена — счастливый.
Такое перемирие между двумя враждующими армиями очень обыкновенно. Воюют-воюют, а потом вдруг сядут обедать друг против друга, и никогда не случается, чтобы военные действия возобновились ранее обоюдного насыщения.
Поэтому Виллиго знал, что делал, когда выбрал для бегства обеденное время. Дундарупы совершенно погрузились в приготовление пищи и оставили лишь несколько часовых для наблюдения за осажденными. Они настолько увлеклись, что даже и не заметили ухода молодых нагарнуков. Последние вскоре вернулись и доложили вождю, что мул и осел спрятаны в надежном месте.
До сих пор против европейцев и их союзников действовали одни дундарупы. Лесовиков не было видно. Те не показывались, предпочитая, должно быть, действовать тайно, и это чрезвычайно заботило и тревожило канадца. Он знал, что тайный враг еще хуже и опаснее явного, от которого все-таки можно уберечься.
Но ему и невдомек было, что не он служит предметом их злобы, что не его они преследуют, что, одним словом, не его гибель ими решена и подписана.
XI
Кра-фенуа (расселина в земной коре). — В недрах земли.
Солнце стояло в зените. То был час, когда все на суше спит: самые цветы устало склоняют свои чашечки на ослабевших стебельках, перестав издавать свой нежный, одуряющий аромат; крикливые попугайчики смолкают и стараются укрыться в прохладной тени широколистых папоротников. Пушистые кенгуру тоже отдыхают в самой глухой чаще леса, а робкие, трусливые опоссумы еще раньше успели укрыться в этих укромных местечках; только панцирные ящерицы виднеются кое-где. Дундарупы расположились вокруг своих костров, и из-за высокой травы их совсем не видно, да и сами они перестали видеть осажденных. Лишь по временам кто-нибудь из воинов выставлял голову и, убедившись, что в лагере пионеров тихо, снова скрывался в траве.
Виллиго подал знак. Европейцам предстояло идти вперед, а австралийцы хотели идти после, когда выяснится, заметили что-нибудь дундарупы или нет.
До рощицы, где находилось отверстие кра-фенуа, было не более десяти метров, но добираться до нее приходилось ползком, чтобы не слишком колыхалась трава.
Траппер пополз с ловкостью дикаря, за ним поползли тоже довольно удачно европейцы, но бедный Джон Джильпинг никак не мог справиться со своей задачей благодаря своему обширному брюшку. Он беспомощно ерзал руками и ногами, почти не двигаясь с места, точно несчастная черепаха. Видя это, Виллиго подкрался к англичанину, лег рядом с ним в траву и знаком предложил ему взобраться к нему на спину. Бедный проповедник, не понимая, что от него требуется, положительно обмер от страха; но, к счастью, Дик в это время обернулся назад и увидел всю сцену. Он успокоил англичанина, объяснив ему, что нужно делать, и Виллиго быстро пополз по траве, таща на себе дородного эсквайра… Вскоре вся компания дотащилась до рощи, где Виллиго собрался их на время покинуть.
— Спускайтесь поскорее в кра-фенуа! — сказал он.
— Как? Разве тебя ждать не нужно? — спросил Дик.
— Нет, я вас догоню! Нужно сделать так, чтобы дундарупы как можно дольше не замечали нашего отсутствия.
Тогда Дик раздвинул кусты и обнаружил отверстие, все поросшее мхом. Оливье и Лоран спустились первые, за ними, бормоча приличные случаю тексты, боязливо спустился англичанин, подхваченный в низу трубы сильными руками Лорана, и, наконец, Дик, в несколько прыжков догнавший ушедших вперед товарищей. Сделав несколько шагов по траншее, путешественники наткнулись на осла и мула, мирно лежавших рядышком поперек дороги. Дно траншеи было ровное, гладкое, точно хорошая грунтовая дорога. Сверху над головами путников в достаточном количестве проникали в трещину солнечные лучи, пронизывая густую зелень, закрывавшую верхнее отверстие. Беглецы быстро подвигались вперед, убегая от опасности.
Спустя минут десять после спуска в трещину сзади европейцев раздался легкий шорох листьев; они обернулись назад и увидали перед собою Коанука.
— Так скоро? — сказал Дик. — Что случилось?
— Вождь забыл сказать своему белому брату, что на пути ему встретятся три источника; так пусть он идет по той дороге, которая начинается против третьего источника. Это подлинные слова вождя.
— Хорошо, понимаю. Ты останешься с нами?
— Виллиго ничего об этом не сказал.
— Так возвращайся к нему и скажи, что мы ждем его с нетерпением.
Воин поклонился и бегом пустился назад.
Маленький отряд подвигался очень быстро. Чтобы тяжелый на подъем Джильпинг не задерживал остальных, ему позволили сесть на осла, которого Дик повел в поводу. Трещина постепенно углублялась, и в ней становилось все темнее и темнее. Пришлось зажечь фонарь. Хотя последний освещал подземную галерею на достаточное расстояние, тем не менее европейцам под конец сделалось несколько жутко идти по неведомому подземелью, не зная, где оно кончается и куда, собственно, ведет. Мрачные мысли овладевали понемногу не только французами, но и более привыкшим Диком, а Джон Джильпинг перешел с псалтыри на Апокалипсис и стал бормотать оттуда таинственные тексты.
Чем более шли они, тем тревожнее становился канадец. Его тревожило, во-первых, то, что дно трещины шло хотя с незначительным, но заметным уклоном, все больше и больше удаляясь от почвы; во-вторых, его беспокоило, что Виллиго со своими товарищами что-то долго не показывался в трещине, и, наконец, он смущался последним предостережением нагарнука. Это предостережение указывало на возможность заблудиться, что было очень неприятно и даже опасно.
Времени прошло с добрый час. Трещина стала суживаться, хотя идти еще не было тесно. Уклон сделался круче. Осел, везший Джильпинга, стал спотыкаться и скользить на каждом шагу, так что пришлось его взять под уздцы, а британец вынужден был слезть и снова идти пешком.
Но, спустившись с крутого склона, беглецы невольно вскрикнули от восторга. Они очутились посреди обширной полукруглой пещеры, раскинувшейся метров на триста или четыреста и накрытой великолепным сталактитовым сводом. В самом центре пещеры, на расстоянии нескольких метров друг от друга, били из почвы три горных источника, шипение и плеск которых были единственным шумом, нарушавшим глубокую окрестную тишину.
Свет фонаря, тысячу раз отраженный прозрачным хрусталем сталактитов, водяными столбами и брызгами гейзеров, довершал фантастическую прелесть картины.
Даже Джон Джильпинг расчувствовался и, улыбаясь, завел первый псалом. Потом, не помня себя от восторга, англичанин опять развернул свою книгу с нотами, положил ее на спину осла, достал кларнет и затрубил этот же самый псалом при свете фонаря, который Лоран услужливо подвесил ему к нотам.
Затем, кончив псалом, он непосредственно после того заиграл «Rule Britania». Неизвестно, долго ли бы еще услаждал англичанин свой собственный слух, если бы к нему не подошел Дик и не потребовал прекращения музыки. Как и в первый раз, англичанин послушно спрятал свою трубу в футляр, не говоря ни слова.
XII
Лабиринты кра-фенуа. — Обед. — Запасы Джона Джильпинга. — Отец Дика и дед Оливье. — Дружественная беседа.
После первых минут восторга канадец вспомнил предостережение Виллиго.
У основания пещерного свода виднелось множество трещин, до крайности похожих одна на другую. Которая же из них служила продолжением кра-фенуа?
Виллиго велел выбирать то отверстие, которое приходилось напротив третьего источника. Но который же из гейзеров был третьим? Это зависело от того, с которой стороны считать, справа или слева. Недоумение разрешил Оливье. Он заметил Дику:
— Мы обыкновенно читаем слева направо и точно таким же способом считаем обыкновенно предметы. Скажите, как в подобном случае поступают дикари?
— Затрудняюсь вам отвечать, — возразил Дик. — Признаться, я никогда не обращал на это внимания.
— А между тем это очень важно знать.
— По-моему, Виллиго считал первым фонтаном просто тот, который поближе к выходу.
— Значит, справа налево?
— Да. Я в этом уверен. Но, знаете, я теперь открыл новое затруднение. Если считать третьим последний гейзер, то ведь против него, взгляните сами, два отверстия. Которое же нам выбрать?
— Я предлагаю решить этот вопрос на вашем же основании. Правое отверстие, как ближайшее, вероятно, и есть то, на которое хотел указать Виллиго.
Дик согласился с доводом Оливье. Решено было выбрать первую расселину, но сначала сделать небольшой привал и пообедать, тем более что тем временем мог подойти и Виллиго с товарищами. В последнем случае недоумение разрешалось само собою.
Мула развьючили, достали скромную закуску, состоявшую из соленых мясных консервов и сухарей, и пир начался. Оказался недостаток в питье; в багаже пионеров и англичанина имелось несколько бутылок джина и виски, но ведь этим нельзя было утолить жажду.
Канадец предложил попробовать воду гейзеров.
— Теплую-то! — с гримасой возразил Оливье.
— Прибавьте в нее коньяку, и выйдет грог, — со смехом сказал Дик. — Все же лучше, чем ничего. Наконец, ведь можно дать остыть… Подождите!
Канадец встал, захватил с собой жестяную кружку и направился к ближайшему источнику. Подставив под падающую струю кружку, он набрал воды и попробовал ее на вкус.
— Ничем не отзывается и не очень горяча! — объявил он. — Право, мне кажется, можно напиться.
На сталактитовом дне пещеры замечалось несколько углублений, в которых собиралась вода, лившаяся из гейзеров. Вода в этих ямах была чистая и с виду совершенно годная для питья. Путники с наслаждением утолили жажду, возбужденную быстрой ходьбой и соленой закуской.
Между тем Виллиго все еще не приходил. Друзья начали беспокоиться.
— Что-нибудь важное его задержало, — задумчиво произнес канадец. — Я знаю Виллиго: он без надобности мешкать не станет. Мы ждем его уже более часа. Боюсь, что случилось несчастье. Дундарупы, наверное, заметили наше бегство, кинулись всею толпой на Виллиго и его воинов и убили их…
— О, они, наверное, бросились бы в кра-фенуа. Долго ли им добежать до нее? — возразил Оливье.
— Вы не знаете нагарнукского вождя. Утром он сдерживался, когда дундарупы его дразнили, но потом терпение у него могло лопнуть…
— И вы не боитесь, что он кинулся с ними в бой, втроем против целой толпы?
— Нет, я этого не думаю, но вот что могло случиться. Вождю могла прийти фантазия отплатить им тою же монетой, танцуя к ним спиной, и в это время к нему могли подкрасться сзади…
— Это было бы ужасным несчастьем…
Оливье не договорил. Его отвлекло ворчание его черной собаки.
— Что с тобой, Блэк? — спросил он, подходя к своему верному псу.
Умная собака поглядела на хозяина и усиленно потянула в себя воздух чутким носом, но потом успокоилась и легла.
— Должно быть, это Виллиго, — сказал Дик, делая несколько шагов по траншее и прислушиваясь.
Кругом все было тихо.
— Ложная тревога, — заметил он, возвращаясь в пещеру. — И на собак находят капризы.
Но тут, словно желая доказать Дику, что он ошибается, собака встала и, ворча, прошлась по подземелью.
— Что с ней? Должно быть, ей не нравится в подземелье, — предположил Оливье. — Иначе как же это объяснить?
— Не нравится в подземелье, — протяжно повторил канадец. — Очень может быть. В таком случае я ей вполне сочувствую. Мне здесь тоже не очень по себе.
— А меня так эти своды просто давят, гнетут! — вскричал Оливье. — Скажите, долго ли мы здесь будем еще сидеть?.. Впрочем, как вы решите, так и будет.
— Подождем еще полчаса. Если к тому времени Виллиго не подойдет, то мы так и будем знать, что с ним случилось несчастье. Тогда и решим, что нам делать.
— Хорошо, — согласился Оливье, — а эти полчаса я употреблю на отдых. Спать хочется ужасно…
…Полчаса прошло. Дик подозвал Лорана, чтобы тот разбудил своего барина. Лицо преданного слуги было расстроено и заплакано, что не могло укрыться от канадца.
— Что с вами, Лоран? — спросил он. — Давно я смотрю на вас и вижу, что у вас что-то тяжелое на душе.
— Ах, сударь, — отвечал старый слуга, указывая на безмятежно спящего Оливье, — ведь я на руках его носил мальчиком… Ведь он мой воспитанник… Каково же мне видеть его в таком положении… Вы подумайте только: ведь он последний потомок графов Лорагюэ д'Антрэгов!..
— Лорагюэ д'Антрэг? Что вы говорите! — вскричал Дик так, что своды пещеры дрогнули.
— Последний из этой фамилии…
— И вы мне не сказали этого раньше!.. И он скрыл от меня свое имя! — продолжал восклицать канадец. — Он назвал себя просто господином Оливье… Я знал, слышал, что он разорившийся аристократ; я и сам, наконец, догадывался об этом, но мне и в голову не приходило, что он Лорагюэ д'Антрэг… Ах, зачем, зачем он так сделал!.. А с вашей стороны, Лоран, это просто грешно!
— Он сам мне не велел, как же я мог ослушаться? — оправдывался верный слуга.
— Слушайте же, что я вам расскажу. В 1780 году, во время войны за независимость Северной Америки, мой отец, родом француз, как и все канадцы, записался в отряд Лафайета, командира французских вспомогательных войск. Он дослужился до капитана в полку, которым командовал полковник Лорагюэ д'Антрэг.
— Это был дедушка моего барина!
— Однажды мой отец попался в плен во время аванпостной стычки. Так как он был канадец и английский подданный, то англичане признали его изменником и приговорили к смерти. Узнав об этом, полковник Лорагюэ решился во что бы то ни стало спасти своего офицера. Действуя без разрешения своего начальства, рискуя навлечь этим на себя неприятность, помимо опасности предприятия, полковник самовольно выступил с своим полком в поход, напал ночью на лагерь того английского отряда, при котором содержался под арестом мой отец, разбил его и освободил узника… Впоследствии мой отец постоянно говорил мне: «Дик, если ты встретишь кого-нибудь из Лорагюэ, помни, что я обязан жизнью одному из них». Если бы я знал, что вашему барину фамилия Лорагюэ, я не пустил бы его в такое рискованное путешествие, я выписал бы из Канады целую толпу своих друзей, бегунов по лесам, и с ними мы разом раскопали бы прииск…
— Ах, как мне теперь жаль!.. Но вы еще не знаете всего!.. — воскликнул Лоран и тут же рассказал Дику все таинственные приключения своего барина.
Странная догадка мелькнула в уме канадца.
— О, теперь я понимаю, кого преследуют! — вскричал он. — До сих пор я никак не мог себе объяснить, что нужно лесовикам, но теперь это для меня ясно… Враги графа проникли в Австралию; они следят, они охотятся за ним. Но ничего, Лоран, не бойтесь. Мы все уладим. Если графу нужно золото, оно будет у него; нужны ему отважные телохранители — я только клич кликну, и они к нему явятся защищать и оберегать его от всяких покушений.
— Как мне вас благодарить!.. — заговорил было Лоран.
— Нечего меня благодарить. Я только плачу семейный долг. А графа все-таки нужно предупредить, что мне все известно. Я сделаю это сам. Поверьте, он на вас сердиться за откровенность не станет…
XIII
Пробуждение Джильпинга. — Вулканические перевороты. — Сын и внук героя независимости. — На жизнь и смерть. — Потерянный бумажник. — Заблудились. — Взрыв в недрах земли.
Оливье проснулся свежим и бодрым, с новым запасом сил и энергии. Зато пробуждение Джона Джильпинга было весьма уморительное. Выпив за обедом не в меру крепких напитков, он спал так крепко, что Дик насилу его добудился; проснувшись, он с тупою злобой взглянул на канадца и, приняв его, должно быть, за нечистого духа, воскликнул:
— Vade retro, satanas; отыди, сатана!
Когда Дик объяснил проповеднику, что нужно сниматься с привала как можно скорее, англичанин начал тереть себе глаза и бормотать что-то под нос, так что Дик принужден был ему заметить:
— Как вам угодно, мистер Джильпинг, но мы вас ждать не можем. Даем вам еще пять минут; если вы не будете к этому времени готовы в путь, то не прогневайтесь. Мы уйдем без вас!
— Ужасные эгоисты эти англичане, — сказал Дик, отходя от проповедника.
— Они воображают, что весь мир создан только для них.
Это вызванное досадой замечание было как нельзя более справедливо.
Действительно, бездушный эгоизм, своекорыстие и крайняя недобросовестность в отношении к другим составляют отличительную черту британского характера. Это народ, способный бомбардировать среди глубокого мира Копенгаген, воевать с китайцами за несогласие их отравляться опиумом, обратить в пепел Александрию только для того, чтобы повредить иностранной торговле, и вообще способный в международных отношениях на всякое предательство.
Но стоит только в разговоре с англичанином повысить тон, как он сейчас же сделается мил и податлив, особенно если убедится, что за этим повышенным тоном скрываются действительная сила и серьезная решимость не уступать.
Так было и с Джоном Джильпингом. После слов Дика он сейчас же вскочил и живо собрался в дорогу.
Посоветовавшись еще раз между собою, Дик и Оливье окончательно решили выйти из пещеры тем выходом, который приходился против третьего источника. Проход был довольно широк и с хорошим, ровным песчаным дном, по которому было очень легко идти.
Впереди двинулись Оливье и Дик с мулом, за ними Джильпинг с Пасификом, в арьергарде Лоран.
Шли они довольно долго и вполне благополучно; только охмелевший англичанин спотыкался на каждом шагу и ворчал на тяжелые обстоятельства. Вместе с тем Оливье заметил какую-то странную перемену в обращении Дика. Канадец, говоря с Оливье, почему-то стал держать себя необыкновенно почтительно и кланялся чуть ли не при каждом слове.
— Что с вами, Дик? — заметил ему наконец Оливье, потеряв терпение. — Я замечаю в вас какую-то церемонность. Это меня пугает!
— Нет, ничего, это вам только так кажется… — отвечал канадец и чуть-чуть не прибавил: «ваше сиятельство», но вовремя удержался.
Помолчав с минуту, он продолжал:
— Были вы когда-нибудь в Америке, господин Оливье?
— Нет, никогда не бывал, но заочно питаю большую симпатию к этой стране. Мне бы очень хотелось посетить ее, потому что, надо вам сказать, мой дед участвовал в войне за независимость Соединенных Штатов, он служил под начальством Лафайета.
— Вот совпадение! — воскликнул Дик. — Мой отец тоже служил в его корпусе. Он был ротным командиром в пенсильванском полку.
— В пенсильванском! — проговорил Оливье, заинтересовываясь все сильнее и сильнее.
— Да. Мой дед рассказывал, что он попал в плен и его хотели повесить, но командир полка выручил его, завязав с англичанами битву под Йорктауном…
— А как звали этого командира?
— Маркиз Лорагюэ д'Антрэг.
— Это мой… — начал было Оливье и закусил себе губы.
— Договаривайте, граф, я все знаю: это ваш дед, а я сын спасенного им капитана Лефошера, готовый отдать за вас последнюю каплю крови.
— Вы знаете?.. Что вы знаете?
— Все ваши приключения и в России, и в Париже, все причины, побудившие вас уехать в Австралию…
— Ах, Лоран! Лоран! Ведь я же тебе говорил не болтать! — с упреком обратился граф к своему слуге.
— Простите меня, граф, — оправдывался, подбегая, Лоран, — это случилось как-то нечаянно. Мне сделалось очень грустно, а господин Дик выказал такое сочувствие…
— Не браните его, граф, — вступился Дик. — Вы спали; бедный Лоран плакал. Мы разговорились и открыли друг другу душу. Право, это очень хорошо, что я знаю. Я только жалею, что не знал этого раньше! Я пригласил бы своих канадских товарищей, и мы уже давно были бы на прииске.
Оливье дружески сжимал руки старого канадца; по загорелому лицу его текли горячие слезы умиления.
— Это моя вина! Как я не сообразил, что вы совсем не похожи на заурядного авантюриста, который ищет золото ради золота… Но не все еще пропало. Я еще успею поправить дело. Только бы отсюда выбраться поскорее…
Между тем путники продолжали идти подземельем, свод которого постепенно понижался, так что даже Джон Джильпинг вынужден был слезть со своего осла, на которого он уселся за несколько времени перед тем, и продолжал путь пешком. Вместе с тем дорога шла не подъемом, а спуском, так что в конце концов у Дика зародилось беспокойство, о котором он решился заявить Оливье.
— Не посоветоваться ли нам с англичанином? — предложил граф.
— С пьяницей-то с этим! Ну что от него может быть путного? — возразил Дик.
— Вы не смотрите, что он любит выпить. Все англичане более или менее таковы, а между тем всякий согласится, что они дельные люди. Ведь Джильпинг
— геолог, он наверное знает толк в интересующем нас вопросе.
Когда к англичанину обратились за мнением, он внимательно оглядел почву и объявил, что, по его мнению, трещина, в которой они находятся, представляет результат вулканического переворота, что подземный ход может продолжаться до бесконечности, что нет оснований полагать, чтобы он имел где-нибудь отверстие на земной поверхности.
— Я давно уже видел, что дело неладно, — закончил свое заключение англичанин, — но думал, что вы хорошо знаете дорогу, и молчал. Теперь, когда вы меня спросили, я должен вам посоветовать как можно скорее возвращаться назад. Моя геологическая опытность предупреждает меня, что где-нибудь недалеко отсюда находится нефтяное озеро, в которое мы можем совершенно неожиданно полететь. Я даже положительно слышу запах нефти…
Не успел Джильпинг договорить, как раздался ужасный взрыв, потрясший своды и опрокинувший на землю всех путешественников. Фонарь выпал из рук Лорана и потух.
Когда прошло первое ошеломление, путешественники встали на ноги. Оказалось, что никто не пострадал. Лоран поспешил высечь огонь и зажечь фонарь.
Когда темное подземелье осветилось, все разом вскрикнули:
— Что это такое?
— Мистер Джильпинг, — спросил Оливье, — как вы думаете, не взрыв ли это каких-нибудь газов?
— Совсем нет, — авторитетно возразил геолог. — Сотни и тысячи лет прошли с тех пор, как все здесь смолкло и замерло в гробовой тишине. Эти вулканические перевороты, какие мы здесь имеем перед глазами, принадлежат вторичному периоду; и эти внутренние излияния лавы, эти потоки ее прошли сюда издалека, так как в Австралии нет ни малейших признаков вулканов! Есть вероятие предполагать, что эта лава нашла себе выход лишь в океане, чем и объясняется это невероятное количество скал и островов у восточных берегов Австралии.
— Так вы полагаете, что эти подземные ходы могут тянуться на протяжении нескольких сот миль, вплоть до самого моря?
— В этом нет ничего невероятного! Кора земная тверда и плотна на поверхности; а по мере того, как мы углубляемся на значительную глубину, все больше встречается в ней пустот, образовавшихся вследствие сжатия газов и водяных паров в момент охлаждения расплавленной массы. Кроме того, если бы это был взрыв подземных газов, то все бы мы непременно задохлись. Затем, обратите внимание, что порыв ветра, опрокинувший нас всех, пронесся не из глубины недр земли, а из длинного хода, которым мы шли!
— Это правда! — воскликнул канадец. — Я тоже это заметил!
— Что касается меня, — продолжал Джильпинг, — то я твердо убежден, что взрыв этот — дело рук человеческих, произведен с помощью нескольких фунтов пороха, взорванного в некотором расстоянии от нас, под сводами этого подземного хода, вероятно, с целью лишить нас возможности вернуться обратно на поверхность земли!
Произнесенные невозмутимо спокойным тоном, эти слова англичанина словно громом поразили его спутников. Несмотря на свое несомненное мужество, Оливье с легкою дрожью в голосе спросил:
— Вы уверены, что не ошибаетесь?
— Вполне уверен, да заметьте, уже и запах пороха начинает постепенно доходить до нас. Разве вы не слышите?
Действительно, запах пороха ясно чувствовался в воздухе; теперь уже не могло больше быть сомнения.
— Значит, мы погибли?! — воскликнул Оливье.
— Это еще неизвестно; я утверждаю только, что был произведен взрыв в подземелье, и нам теперь остается обсудить, что делать!
— Но кому это могло быть нужно? — воскликнул Оливье.
— Кому?! — повторил удивленно канадец. — Неужели вы не догадываетесь? Те, кто преследовал вас и в Петербурге, и в Париже, последовали за вами и в Австралию и с самого момента нашего отправления из Мельбурна идут по нашему следу вместе с лесовиками, которые, очевидно, у них на жалованье. Это они натравили на нас дундарупов, рассчитывая убить нас, оставаясь сами в стороне, а когда это не удалось, они прибегли к этому последнему средству — к взрыву! Кажется, это достаточно ясно!
XIV
Невидимые. — Убеждение Джона Джильпинга. — Обсуждение. — Непреодолимые препятствия. — Обвал. — Что сталось с Черным Орлом.
Оливье не сразу согласился с канадцем; он никак не мог допустить, чтобы враги его были до такой степени могущественны. Но потом, припомнив все события, сопровождавшие его путешествие по Австралии, сопоставил их с парижскими и петербургскими происшествиями и невольно пришел к убеждению, что старый Дик прав.
Горько было молодому человеку сознавать, что он побежден, что враги восторжествовали над ним.
— Неужели мы умрем в этом подземелье?! — вскричал он в невыразимом отчаянии.
— Успокойтесь, граф, еще не все пропало, — уговаривал его Дик. — Нет такого положения, из которого бы не было выхода. Я не теряю надежды вырваться отсюда и употреблю все усилия, чтобы вас спасти. Я вечно помню завет отца, который постоянно твердил мне: «Дик, если кому-нибудь из Лорагюэ д'Антрэгов понадобится твоя жизнь, отдай ее не колеблясь».
Оливье, обливаясь слезами, молча обнял своего друга. Лоран тоже протянул графу руки и сказал с чувством:
— Возьмите и мою жизнь, граф! Я с радостью пожертвую ею ради вас!
Эта сцена тронула даже толстокожего Джона Джильпинга. Он смотрел на трех друзей во все глаза и посапывал носом, бормоча про себя:
— Кажется, они люди порядочные, джентльмены. А я-то принимал их за беглых каторжников! Надо им помочь, тем более что я и сам не имею ни малейшего желания погибать так нелепо!
Случайно расслышав эти слова, Дик сказал вполголоса своим друзьям:
— Я готов переменить свое мнение об этом англичанине. Он, оказывается, вовсе не такая скотина, какою я его считал!
Он подошел к англичанину и молча протянул ему руку. Тот взял ее и пожал. Лед был сломан. Оливье и Лоран тоже подошли к Джону Джильпингу и обменялись рукопожатиями. Дружба была заключена. Заметим, что геолог-проповедник пожал руку Дику и Лорану с гораздо большею сдержанностью, чем графу Лорагюэ, который сказал ему свое настоящее имя. Но это различие нисколько не укололо искренних друзей графа.
Не прошло и десяти минут с момента взрыва, как произошел феномен, явившийся естественным следствием взрыва и предвиденный Джоном Джильпингом.
Как уже было сказано, сильный запах пороха распространился в подземелье в той его части, где теперь находились путешественники; и мало-помалу образовалось густое облако, охватившее всю подземную галерею с тем более упорной медлительностью, что в этом подземелье не было ни малейшего движения воздуха; последнее явилось несомненным доказательством, что впереди ход был завален земляным обвалом. Теперь пороховой дым распространялся только в силу своей эластичности и должен был в конце концов рассеяться вследствие охлаждения газов и поглощения их почвой. Вскоре он до того сгустился в той части подземелья, где находились несчастные, что дышать стало трудно, и даже фонарь их, за отсутствием притока свежего воздуха, грозил ежеминутно погаснуть, а сами они рисковали задохнуться.
Наконец по прошествии ужасного получаса давление, ощущаемое в груди, стало постепенно ослабевать, а свет фонаря становиться ярче. Но быть может, еще более страшная смерть ожидала их, мучительная смерть от голода? Однако человека никогда не покидает надежда на спасение, даже и в самые ужасные моменты, а потому беглецы почувствовали себя теперь почти счастливыми, хотя в действительности положение их почти не улучшилось.
Расположившись на обломке скалы, наши приятели принялись обсуждать свое положение. Решено было немедленно двинуться к месту взрыва и освидетельствовать состояние обвала. Мул был нагружен всеми необходимыми орудиями для производства раскопок, и в сердцах этих обездоленных людей шевельнулась надежда: быть может, обвал не столь серьезен, чтобы четверо энергичных людей не могли проложить себе путь при усердной работе в течение нескольких часов или даже нескольких дней.
При проверке съестных припасов оказалось, что их могло хватить дней на десять, не считая нескольких десятков фунтов сухарей, которые решено было предоставить обоим животным; с последними постановлено было покончить только в случае величайшей крайности.
Им не грозили также мучения жажды, так как, не считая пяти или шести ящиков бренди, находившихся в запасах почтенного мистера Джильпинга, свежая, чистая вода светлыми, тонкими струйками сбегала со сводов подземелья, и ее можно было собирать в сосуды для питья.
Оба животных тотчас получили свой рацион сухарей и были напоены досыта водой, а наши друзья, закусив мясными консервами и знаменитым честером, пустились в обратный путь.
Не прошло четверти часа, как раздался новый взрыв, слабее первого.
— Негодяи! — вскричал Джильпинг. — Они решили погубить нас во что бы то ни стало. Они взорвали почву в другом месте, чтобы образовался не один обвал, а целых два.
— Все равно, идемте вперед! Будь что будет! — отвечал Оливье.
И друзья продолжали путь.
Это новое доказательство беспощадности «невидимых» врагов графа только возбудило энергию и решимость четверых спутников преодолеть во что бы то ни стало все воздвигаемые на их пути препятствия. Правда, Оливье боролся за себя, за свои собственные интересы, и это было естественно. Лоран и Дик готовы были бороться до последнего издыхания, один — за своего обожаемого господина, порученного его попечению, другой — за внука спасителя его отца. Но Джон Джильпинг, попавший совершенно случайно в эту передрягу, совершенно чуждый всякого интереса в этой страшной драме, являлся положительным героем. Он примирился с данным трагическим положением с холодным стоицизмом настоящего англичанина. Не следует, однако, приписывать эти чувства его благородной, рыцарски великодушной натуре, так как предоставь ему выбор — он, вероятно, не шевельнул бы пальцем для спасения Оливье и ни за что на свете не вмешался бы в историю, которая его не касалась. Нет, им руководила мысль о британском престиже, о чести британского имени перед лицом двух французов и канадца, которых он в душе считал неизмеримо ниже себя только потому, что не имели чести быть природными британцами.
Ему казалось, что британский леопард и галльский петух стоят лицом к лицу в данный момент и британский флаг вьется у него над самой головой, что целая Англия с гордостью взирает на него, требуя, чтобы он не посрамил английского имени. Этот забавный псалмопевец и проповедник, этот член евангелического общества черпал в сознании, что он англичанин, ту силу и смелость, какую другие черпают только в своих высоких душевных качествах.
И почти все англичане таковы. Этим объясняется, что эти грубые, себялюбивые эгоисты, эти лицемеры, мистики и пьяницы при случае проявляют примеры истинного героизма и мужества, побудительные причины которого всегда чисто национальные — английские, а не общечеловеческие.
Для всякого истинного англичанина человечество начинается и кончается там, где начинается и кончается Англия; все остальные народы, по их мнению, люди низших рас, которых Англия вправе эксплуатировать, кромсать на куски, давить и угнетать по своему усмотрению.
Англия никогда не жертвовала собой ради другого народа, и ни один англичанин никогда не пожертвовал собою ради другого человека; этот свирепый, черствый эгоизм — сила, которая ломает все на своем пути.
После двухчасовой ходьбы наши пионеры дошли до первого обвала.
Действие взрыва было ужасно. Стены и своды подземелья были буквально разрушены, и громадные обломки их совершенно завалили проход. Джон Джильпинг осмотрел это разрушение с видом знатока и покачал головою, говоря:
— Здесь не пройдешь!
— Так что же нам делать? Неужели умирать? — спросил Оливье.
— Я этого не говорю… Но посмотрите, какой ужасный взрыв!.. Нам нужно посоветоваться. Пусть каждый выскажет свое мнение.
— Первым по обычаю подает мнение младший, — сказал Оливье. — Поэтому я прямо говорю: я не вижу никакого средства!
— Ваше мнение, мистер Лоран?
— Я… я одного мнения с графом.
— Ваше, мистер Дик?
— О, у меня одна надежда на Виллиго. Он догадается и выведет нас как-нибудь отсюда. Он созовет своих воинов и отроет обвал.
— Ну, а если Виллиго убит? — спросил Оливье.
— Я не допускаю этого, — отвечал Дик. — Я уверен, что он спасется, если уже не спасся. Ведь против него действуют только дундарупы.
— Но как же нагарнуки нас отроют?
— Не знаю как, но уверен, что сумеют.
— А сколько, по-вашему, понадобится на это времени?
— Не знаю.
— Если несколько недель, то что мы будем делать?
— У нас провизии достанет на десять дней. Убавим порции наполовину, вот мы и обеспечены на двадцать. Только уж животными придется пожертвовать.
— А мой верный пес?! — вскричал Оливье. — Бедный Блэк!
— Успокойтесь, граф, — обратился к нему Дик. — Я уверен, что до этого не дойдет. Избавление придет гораздо раньше. Что-то говорит мне, что наш последний час еще не настал! Таково мое внутреннее убеждение, и я ему верю!
XV
Мнение Джильпинга. — Выбоины, выемки и трещины без конца. — Безвозвратно погибли. — Возвращение Блэка. — Последние попытки. — Туннель. — Дик не возвращается!
Пришла очередь Джона Джильпинга сказать свое мнение.
Во время разговора Оливье с Диком он что-то сосредоточенно обдумывал, потом встал, попросил у Лорана на время фонарь и прошелся несколько раз по подземелью.
Кончив осмотр, он подошел к графу и сказал улыбаясь:
— Теперь моя очередь, граф, сказать свое мнение! — Затем продолжал, возвышая голос и обращаясь ко всем: — Я полагаю, джентльмены, что нам не понадобится помощь нагарнуков: мы гораздо раньше выберемся на свет!
Все три пионера недоверчиво взглянули на проповедника и потом переглянулись между собою, как бы спрашивая друг друга, в своем ли он уме. Англичанин заметил произведенное им впечатление и сказал:
— Я сейчас вам все это объясню! — и передал им результат своих наблюдений.
Дело в том, что он заметил в стенах прохода множество трещин, которые вели в какие-то боковые ходы, по всей вероятности составляющие разветвление главного и сообщающиеся между собою. Углубившись в эти ходы, можно было дойти до пещеры, в которой путники отдыхали утром. Последнее было тем вероятнее, что в пещере Джильпинг заметил, кроме трех главных, еще несколько меньших отверстий.
Внимательно выслушав заключение геолога, Оливье сказал:
— Следовательно, мистер Джильпинг, если замеченные вами боковые ходы сходятся в пещере, то вы полагаете, что мы спасены?
— Именно так, граф!
— Следовательно, мы вполне можем считать вас своим спасителем.
— Не меня, не меня… Это все наука; лишь ею руководился я при своих выводах; только она одна и могла нам здесь помочь.
— Пусть так, мистер Джильпинг, но вы здесь ее представитель, через вас она нас спасает! Примите же нашу сердечную благодарность!
Лоран и Дик молчали, с нескрываемым восторгом глядя на англичанина.
Джон Джильпинг, видимо, наслаждался своим торжеством. В упоении он затянул псалом, потом, не удовольствовавшись пением, достал кларнет и начал играть. Звуки гулко раздавались под темными сводами, и на этот раз фигура проповедника была уже не смешна, а только оригинальна.
Впрочем, великое и смешное постоянно перемешиваются во всяком англичанине.
В то время когда Оливье с некоторым недоумением смотрел на своего странного спутника, до слуха донесся странный шум, как бы далекий собачий лай.
— Слышите? Слышите? — сказал он, побледнев, Дику и Лорану, стоявшим подле него.
Дик внимательно прислушался.
— Как будто собака идет по следу!.. — заметил он.
Все стали напряженно прислушиваться, даже Джон Джильпинг прекратил свою музыку и пение. Звуки точно замирали, то доносились как будто откуда-то сверху.
— Это, несомненно, собачий лай! — подтвердил свое первое предположение канадец, привыкший лучше других различать звуки во время своей бродячей жизни.
— Это Блэк! Мой любимый пес! — воскликнул Оливье. — Я узнаю его голос: его, как и нас, засыпало в этом подземном ходе, и, вероятно, он очутился как раз между двумя обвалами и теперь старается вернуться к нам!
Лай животного заметно приближался; теперь уже не оставалось никакого сомнения. Не имея возможности вернуться обратно тем же путем, каким оно удалилось от своего господина, умное животное возвращалось по одной из побочных трещин. Теперь оставалось только узнать, удастся ли Блэку добраться до них. Если да, то спасение несомненно, и предположения англичанина, что все эти трещины выходят к большой пещере, где находятся гейзеры, несомненно подтвердятся.
Теперь же лай слышался так близко, что через какие-нибудь две минуты, если на пути не встретится какой-нибудь препоны, собака бросится к ногам своего господина.
В этот момент Оливье схватил золотой свисток, висевший у него на цепочке, и дал три свистка, которыми он обыкновенно призывал Блэка.
Громкий, радостный лай был ответом на этот призыв, и почти в тот же момент умное животное одним прыжком очутилось подле своего господина. Мокрый, грязный, с всклокоченной шерстью, Блэк выскочил из той самой трещины, которую всего за несколько минут до того осматривал Джон Джильпинг.
— Блэк! Блэк! Мой любимый, хороший пес! — восклицал Оливье, не помня себя от радости, и собака уже не лаяла теперь, а визжала от радости, извиваясь вокруг него.
Возвращению Блэка радовался не только его хозяин, но и всех остальных охватило безумно радостное чувство при виде вернувшейся собаки, так как ее появление было несомненным доказательством того, что они спасены от почти неизбежной, как им казалось, смерти в этом подземелье.
Довольный результатом своих предположений и успокоенный относительно грозящей ему и его товарищам участи, Джон Джильпинг предложил прежде всего закусить.
Достав свои лучшие консервы, он на славу угостил приятелей, не забыв, разумеется, и себя, причем совершил обильное возлияние виски и джином. Наевшись и напившись, он грузно растянулся возле своего осла, предавшись приятным грезам.
Около часа спал англичанин, и пионеры с нетерпением дожидались, скоро ли он проснется. Наконец желанное событие совершилось, и мистер Джильпинг поднялся со своего ложа.
— Мистер Джильпинг, — сейчас же обратился к нему Дик, — я думаю, что животных нужно оставить покуда здесь. Они едва ли пройдут по трещине.
— Совершенно верно, — согласился с ним Джильпинг, — но и мы сами не через всякую трещину пройдем… Нужно сначала исследовать ширину всех этих боковых ходов и выбрать тот из них, который окажется просторнее.
Это мнение было так убедительно, что все приняли его без возражений.
Теперь оставалось только приготовиться в путь. Из багажа было взято лишь самое необходимое, мула и осла привязали в пещере и принялись выбирать новую трещину.
Внимание друзей остановилось на ближайшем отверстии, хотя англичанин сомневался, чтобы оно было проходимее других.
Дик пошел осмотреть проход, чтобы исследовать, насколько он действительно представляет удобств.
Прошло около часа, а канадец не возвращался. Оливье начал беспокоиться. Вдруг Блэк заворчал, залаял и кинулся по следам Дика. Пионеры подождали, не подаст ли собака голос, но не расслышали никакого звука.
— Тут что-то не так! — заметил Оливье англичанину. — Как вы находите, мистер Джильпинг?
— Я с вами согласен и, откровенно говоря, допускаю возможность несчастья.
— Не пойти ли мне?..
— О нет, подождите… Я требую, чтобы вы подождали еще десять минут, и тогда скажу, что нужно делать.
XVI
На помощь к Дику. — Уход Лорана. — Застрял в туннеле.
Не прошло и десяти минут, как Блэк вернулся в пещеру, неся в зубах какой-то лоскуток.
То был лоскуток от куртки Дика.
— Дик! Он умер, умер из-за нас!.. — вскричал Оливье и зарыдал, как женщина.
Молодой человек хотел сейчас же броситься на поиски, но англичанин властно остановил его и сказал, что должен идти Лоран. Преданный слуга взял фонарь и бесстрашно углубился в темный и опасный проход. Долго он шел под низким сводом, согнувши спину и задыхаясь от недостатка воздуха в узком ущелье. Наконец через несколько времени ему послышался какой-то отдаленный гул, но так как у него вместе с тем шумело в ушах, то он подумал, что ему так кажется. Однако еще через несколько времени он убедился, что гул действительно слышен.
— Эй! Дик! Ау! — крикнул он наудачу.
— Ау, Лоран! — было ответом. — Это вы?
— Да, я. Я иду к вам на помощь. Что с вами случилось? Где вы?
— Здесь, в туннеле, впереди вас. Я застрял в таком узком месте, что не могу выбраться ни вперед, ни назад. Блэк прибегал сюда, вы это знаете? Он, бедняжка, пробовал меня вытащить за куртку и только оторвал от нее лоскуток. Сказать по правде, я вас ждал к себе!
— Граф хотел сам идти, но мы с англичанином его не пустили. Как он плачет о вас!
— Славный он человек, наш граф!
Лоран хотел что-то сказать, но так и остался с открытым ртом, изумленный неожиданностью: по голосу он думал, что Дик находится от него довольно далеко, а тут вдруг он в двух шагах от себя увидал его ноги.
— Вот как! Вы здесь! — вымолвил он, наконец, — я никак не ожидал, что вы от меня так близко!
— Очень понятно: мои ноги в туннеле, а верх туловища вне туннеля, который выходит в довольно широкое углубление. Оттого мой голос так и глух… Однако нужно же мне помочь!
— Что же мне делать?
— Если вы достаточно сильны, то вталкивайте мои ноги вперед, в отверстие, где я завяз. Оно дальше довольно широко, и я уверен, что через него можно дойти до пещеры с тремя гейзерами. Я слышу отсюда шум падающей воды… Только вот что: если я пролезу, то вы с графом и подавно, потому что вы оба тоньше меня; но как же с мистером Джильпингом?..
— Ну, он и до этого-то места не долезет…
— Так нечего об этом говорить. Тащите меня назад!
Лоран сильными руками обхватил ноги Дика, поднатужился и вытащил его назад.
— Вы очень сильны! — сказал Дик. — Благодарю вас. Теперь давайте отступать.
Возвращение было трудное. Приблизившись к месту, где их ждали друзья, Дик и Лоран стали кричать и стучать в стены туннеля, чтобы поскорее оповестить о своем благополучном возвращении.
Присоединившись к друзьям, Дик подробно изложил результат своей рекогносцировки. Выслушав все, англичанин хладнокровно заметил:
— Так что же? Отлично. Выход найден. Я советую вам воспользоваться им!
— Но ведь я же сказал, что этот выход для вас… слишком… узок, не в обиду будь вам сказано!
— Вы можете идти втроем, а я поищу другой выход.
— Ни за что! — с живостью вскричал Оливье.
Дик и Лоран с не меньшим жаром подхватили восклицание графа.
Снова англичанин был тронут.
— Спасибо! — сказал он с чувством. — Спасибо, друзья мои!
Известно, что англичанин никогда никого по-пустому не назовет другом.
После небольшого отдыха исследования возобновились. На этот раз было условлено довериться только одному Джильпингу и не предпринимать без него никаких исследований.
— С этого следовало бы и начать, — заметил Оливье, — тогда мы не потеряли бы даром времени, а вы, друзья мои, оба не пережили бы таких скверных минут…
Дик ничего не ответил на этот дружески-ласковый упрек; но когда Оливье заговорил с англичанином, траппер наклонился к уху Лорана и сказал:
— Скажите, Лоран, вы тоже недовольны нашим путешествием?
Тот взглянул канадцу прямо в глаза и понял его мысль.
— Я вас понимаю, Дик, — отвечал он так же тихо трапперу, указывая глазами на графа, — если другого выхода не найдем, то…
Он не договорил и замолчал. Собеседники и без лишних слов поняли друг друга.
Джильпинг принялся снова исследовать трещины. После долгого осмотра он выбрал наконец одну, говоря:
— Если эта широкая трещина не выведет нас отсюда куда-нибудь в хорошее место, то, значит, вся моя наука — вздор и природа сама перевернула все свои законы. В путь, господа! Менее чем через час мы придем в пещеру.
Доверяясь предсказанию, путники вступили в проход, который был широк настолько, что позволял им идти всем в ряд.
Этот широкий проход представлял настоящую находку для ученого. Геологические редкости встречались на каждом шагу. Джон Джильпинг не переставал издавать восторженные восклицания и сыпал всевозможными учеными терминами; разумеется, его объяснения с интересом слушал только один Оливье.
— Вся история строения земного шара, как в книге, написана здесь, на этих стенах!
— Какая превосходная наука геология! — воскликнул Оливье.
— Да! Это первейшая изо всех наук, требующая, кроме того, основательного знания и всех других естественных наук. Посмотрите, — продолжал он рассказывать, приближая свой фонарь к одной громадной глыбе, которая казалась как бы составленной из множества частей разнородных каменных пород, — видите этот оттиск, напоминающий собою оттиск бородки пера, в глыбе камня? Это, так сказать, могила некогда живого существа, тело которого оставило свой отпечаток на этом камне, и вот по прошествии десятков веков мы еще видим точный оттиск его на этом известняке; научное название этого животного — графолит. А вот тут, немного подальше, это эвкрина, род морской звезды, прикрепленной длинным стеблем к почве; странное существо, полуживотное, полурастение, представляющее собою переходную ступень от одного царства к другому!
— А это что за черная блестящая масса, несколько выдающаяся вперед? — спросил Оливье. — Можно подумать, что это глыба каменного угля!
— Вы не ошиблись! Это действительно пласт антрацита, образовавшийся из растительных отложений! — И, говоря это, геолог отколол кусок черного пласта. — Вот смотрите, — продолжал он, указывая на различные слои раскола,
— видите? Вот это папоротники, а это лепидодендроны… Геологический, или, вернее, вулканический, переворот застиг этот пласт антрацита в самый период его создания. Таким образом этот лист папоротника, попавший сюда еще живым, путем постоянного на него давления двух пластов известняка с течением времени переродился из живой растительной материи в минерал, то есть в антрацит, пропитываясь постепенно субстанцией сдавливающих каменистых слоев. Точно таким же образом мы видим и рыб, превращенных в известняк. Это изменение или перерождение субстанции под влиянием среды и силы давления мы, геологи, и называем метаморфизмом. Ах, какой великолепный доклад я мог бы сделать обо всем этом по возвращении в Европу! Но я замечаю, однако, что задерживаю вас, заставляя терять драгоценное время! Идемте и не станем более любоваться всеми чудесами этого подземного геологического музея!
— О, я еще когда-нибудь вернусь сюда! — бормотал про себя англичанин,
— и пробуду здесь деньков 10-15 один: необходимо узнать, до каких пределов достигают эти подземные пещеры! — Но, несмотря на сильное искушение, мистер Джильпинг не стал более увлекаться интересовавшими его образчиками геологических слоев и бодро пошел впереди во главе своего маленького отряда.
Так прошло более часа. Путники продолжали идти, но пещеры все еще не было. Однако они нисколько не приходили в отчаяние, потому что безусловно доверяли расчету Джильпинга, который сказал, что проход должен непременно вести в пещеру. В последнее время для них всякое слово ученого геолога сделалось свято. Тот факт, что пещера еще не показывалась, они объясняли весьма правдоподобным предположением, что туннель идет не по прямой линии, а изворотами. Энергия путников не ослабевала, и они бодро шли вперед.
Пришлось, однако, сделать привал. Путники не спали уже несколько ночей. Оливье насилу держался на ногах, хотя крепился и шел, не показывая вида, что выбивается из сил. Дик заметил, что граф устал до изнеможения, и предложил отдохнуть, говоря, что не может идти от усталости.
— Спасибо, Дик, — заметил ему граф. — Это вы нарочно приняли на себя почин, чтобы не заставить меня стыдиться своей слабости.
— Извините, граф, я действительно очень устал. Это стояние в трубе, покуда меня не вытащил Лоран, меня чрезвычайно утомило. Я с таким удовольствием поужинаю и лягу спать…
— Ну, ну, уж хорошо…
Остановились. Едва Оливье опустился на землю, как сейчас же заснул сном праведника, позабыв даже закусить. Мистер Джильпинг не упустил перед сном основательно подкрепиться и выпить стаканчика три бренди.
XVII
Непреодолимый сон. — Грозное привидение. — Предотвращенная опасность. — Ужасное положение. — Всеобщее отчаяние и безнадежность.
Закусив на ночь, канадец и Лоран закурили свои трубки и расположились немного поодаль своих спящих товарищей, чтобы не мешать им своею беседой.
— Бедняжка! — проговорил старый траппер. — Как я упрекаю себя за недосмотр!..
— На беду мы с этим толстяком встретились! — продолжал сетовать Дик. — Без него мы отлично выбрались бы отсюда.
— Ну, будет, Дик, будет, — возразил Лоран. — Кто мог это предвидеть?
— Знаете что, Дик? У меня есть предчувствие, что мы отсюда никогда не выберемся.
— Нет, я так далеко не захожу, но думаю, что этот ученый причинит нам еще порядочно хлопот. И охота графу слушать его!.. Ну да мы еще посмотрим, чья возьмет.
— Право, я все более и более убеждаюсь, что он подосланный шпион!
— Если это так, то ему самому не сдобровать. Живой он у нас не уйдет ни в каком случае. Только я все-таки не думаю, чтобы вы были совершенно правы, Лоран, хотя присматривать за ним следует.
А бедный Джильпинг спал сном невинности, не предчувствуя, какое страшное возводится на него подозрение.
Дик и Лоран тоже порядком утомились и потому недолго боролись с настоятельною потребностью отдохнуть. Они легли рядом и заснули как убитые.
В эту минуту из соседнего углубления высунулась татуированная голова дикаря. Держась в тени, чтобы на него не упал свет от фонаря, дикарь осмотрел спящих и крадучись направился в их сторону. Он был совершенно гол и держал во рту нож.
Что ему было нужно? Неужели он собирался заколоть спящих одного за другим? Нет, это было бы слишком рискованно.
Близко прижимаясь к стене, дикарь дошел до Лорана и протянул руку к его фонарю, но вдруг отдернул ее, подумал немного и повернул назад. Вскоре он снова исчез в том самом углублении, из которого явился.
Все это произошло тихо и быстро.
Вернее всего, что он хотел украсть у путешественников фонарь, но, убедившись, что у них у каждого по фонарю, хотя зажжен был только один фонарь Лорана, отказался от своего намерения и поспешил убраться.
Едва дикарь скрылся, как проснулся Оливье. Он не привык спать на жестком, и потому короткий отдых на голой земле нисколько не подкрепил, а, скорее, еще более утомил его. Один за другим проснулись и его спутники. В путь тронулись довольно мрачно. Англичанин шел задумчивый и молчаливый; Лоран все думал о своем барине, который насилу передвигал ноги; один только неутомимый траппер был бодр и свеж, как всегда.
Компас Джильпинга хотя и не показывал, чтобы путешественники удалились в противоположную сторону от пещеры, однако по положению его стрелки следовало заключить, что туннель, по которому они шли, описывает около пещеры круговую линию. Во всяком случае, этот ход в конце концов должен был привести к пещере, и потому достижение цели было, по расчету Джильпинга, лишь вопросом времени.
Подбодряемые этой надеждой, друзья все шли и шли вперед. Наконец Дик вышел из терпения и заявил таким твердым тоном, какого Оливье от него еще не слыхал:
— Господа, наука вещь хорошая, но ведь она не всесильна. Я полагаю, что нам следует снова обсудить положение и решить большинством голосов, что дальше делать.
— Зачем такая торжественность, Дик? — возразил Оливье. — Пусть каждый выскажет свое мнение, и довольно.
— Нет, граф, уж позвольте мне настоять на своем! — отвечал канадец с почтительной твердостью.
Лоран горел нетерпением поддержать траппера. Оливье сам подал ему к этому повод, спросив его:
— А ты что на это скажешь, Лоран?
— О, я вполне разделяю мнение Дика, граф! — отвечал слуга.
— Да у вас точно заговор! — засмеялся Оливье, сам не подозревая, насколько верно он угадал.
— Отчего бы не сделать так, как он хочет? — вступился Джон Джильпинг.
— Только как же нам поступить, если голоса разделятся поровну?
— Кинуть жребий, — отвечал Дик, — а предварительно дать клятву подчиниться решению.
— Опять, Дик, зачем такая торжественность?
— О граф, не препятствуйте мне! Я, ей-богу, хлопочу больше о вас.
— Вижу, вижу, что все вы хотите спасти меня во что бы то ни стало.
— Но с вами спасаемся и мы!
— Хорошо, Дик. Я, граф Оливье Лорагюэ д'Антрэг, присягаю и клянусь подчиниться решению большинства или жребия, не предъявляя никаких возражений. Довольны ли вы?
— Да, граф.
И они пожали друг другу руки. Затем точно такую же клятву произнесли и остальные путешественники.
Совещание открылось.
— Я, — заявил Джон Джильпинг, — остаюсь при своем прежнем мнении, что нужно идти вперед по тому туннелю, где мы находимся.
— Я согласен с мистером Джильпингом! — сказал Оливье.
— Мне нечего сказать, — заявил Лоран. — Я ничего не знаю.
— А я вот что предлагаю вам, — заговорил Дик. — По-моему, идти дальше бесполезно. Я убежден, что туннель, по которому мы идем, составляет круг, описанный около пещеры, как около центра. Идя этим путем, мы никогда не дойдем до пещеры. По-моему, нам следует вернуться назад и пойти тем ходом, где я завяз.
— Но, Дик…
— С вашего позволения, граф, я предвижу ваше возражение. Но дайте мне договорить… Мы втроем, то есть вы, я и Лоран, опираясь на взаимную помощь, можем пролезть через узкий проход. Остается мистер Джильпинг… Не думайте, граф, что я собираюсь покинуть его на произвол судьбы. Я неспособен на такой поступок. Но ведь мистер Джильпинг, как вы, я думаю, сами слышали, так прельстился красотами кра-фенуа, что изъявил согласие посетить ее еще раз и побыть в ней подольше. Поэтому для него не будет большим лишением пробыть в ней одному несколько лишних часов после нашего ухода. Выйдя на свет Божий, мы отыщем Виллиго, который поможет нам вывести мистера Джильпинга из-под земли другим, более удобным для него, ходом. Вот мое мнение, граф. Я долго его обдумывал и пришел к убеждению, что это самый лучший путь.
— Я принимаю ваш план без малейшего возражения, — поспешил заявить Джильпинг. — Мне даже очень приятно будет побыть здесь одному.
— Принимаю!.. Принимаю и я! — вскричал Лоран.
— Вам остается только подчиниться, граф, — обратился канадец к Оливье, улыбаясь довольною улыбкой. — Против вас большинство.
— Это нехорошо, Дик, — упрекнул его граф. — Это ловушка с вашей стороны. Но я попался, и делать нечего!
Итак, вопрос был решен окончательно. Но бедные путники еще не знали, что трещина, в которую проникли Дик и Лоран, была слишком узка для прохода и что все другие подобные ей трещины тоже не могли служить дорогой, хотя и сообщались с подземной пещерой. Если бы они это знали, то, вероятно, при всем своем мужестве упали бы духом.
Но кто же, в самом деле, был виновником всех этих бед?
Все те же враги графа, Невидимые. От них в Австралию был послан лазутчик, чтобы следить за графом Оливье, и этот лазутчик не смел показываться назад в Петербург, не привезя с собою неопровержимых доказательств смерти графа.
Этот самый лазутчик и организовал экспедицию лесовиков, которые под его руководством выслеживали Оливье и его товарищей с самого момента их отправления из Мельбурна. Почему только он так тщательно скрывался от Оливье, станет само собой понятно читателю, когда он узнает, что это был не кто иной, как полковник Иванович, который в вечер накануне назначенного дня свадьбы молодого графа произнес за его столом такой странный и многозначительный тост. В буше маленький отряд лазутчика случайно столкнулся с дундарупами, находившимися на «военной тропе» с нагарнуками, и Ивановичу удалось заручиться их содействием, обещав им в свою очередь свое содействие против их врагов. Это ему удалось тем легче, что дундарупы знали о присутствии канадца в числе тех европейцев, которых Иванович преследовал, и, зная о его кровном родстве с нагарнуками, были уверены, что Дик Пробиватель Голов и его приятели-европейцы спешили на помощь к их врагам.
Вопреки тому, что думал Виллиго, среди дундарупов находился один воин, который, будучи принужден скрываться в течение нескольких месяцев от своих личных врагов, поклявшихся отомстить ему за что-то, целых три или четыре месяца скитался в этой самой кра-фенуа и потому не только знал о ее существовании, но и успел изучить все ее подземные ходы во всех направлениях.
Кроме того, предположения канадца относительно Виллиго также оправдались с удивительной точностью. Едва только гордый нагарнукский вождь счел своих друзей в полной безопасности в недрах земли, как не мог более удержаться от потребности отплатить своим врагам за их издевательства и оскорбления той же монетой. Вместе со своими двумя юными воинами он принялся также отплясывать свой военный танец, воткнув свои копья в землю, и вошел в такой экстаз, так увлекался своими ответными поношениями врагов и издевательствами над ними, что не заметил, как отряд дундарупов, прокравшись через кусты, отрезал ему путь в кра-фенуа.
В тот момент, когда юный Коанук выбирался из трещины, исполнив поручение Виллиго, он чуть было не попал в руки дундарупов, засевших у самого входа в подземелье, и только благодаря своей необычайной ловкости и хитрости ему удалось уйти от них.
Окруженный со всех сторон, Виллиго мог только кинуться в кусты вместе со своими воинами, условившись встретиться с ними в своем селении; все трое бросились врассыпную и точно провалились сквозь землю.
Долго искали их дундарупы по всем направлениям и немало были удивлены, когда в конце концов им пришлось убедиться, что нагарнукский вождь и его двое воинов бесследно исчезли.
Тогда лазутчик Невидимых спустился с горстью лесовиков и десятком туземцев в кра-фенуа под предводительством того самого дундарупа, который знал эти подземелья; звали его Вилль-Менах (Старый Кенгуру). Остальные туземцы и несколько человек лесовиков расположились у входа в кра-фенуа, чтобы встретить беглецов перекрестным огнем.
Затем Ивановичу пришла мысль запереть им выход посредством взрыва туннеля в двух местах, рассчитывая схоронить свои жертвы живыми в этом подземелье. Но из полученных им от Вилль-Менаха сведений он узнал, что есть еще другой выход, но что Оливье и его товарищи все равно не найдут его среди сотен подобных ему трещин и ходов, и, желая насладиться всеми мучительными перипетиями их гибели, этот жестокосердый человек прежде, чем взорвать второй ход, спустился в подземелье сам, желая, кроме того, завладеть письмами и документами молодого графа, которые были ему необходимы как несомненные доказательства смерти последнего.
Дундарупы и лесовики остались в большой пещере, чтоб наблюдать за всеми выходами, а Иванович, руководимый Вилль-Менахом, спустился в подземные ходы галереи и туннели; захватить с собой еще несколько человек было бы опасно, так как Иванович ни за что на свете не хотел бы быть узнан или вступить в рукопашную схватку с молодым графом, тем более что он не был уверен ни в дундарупах, ни в лесовиках: и те и другие питали неимоверный страх и почтительный ужас к гиганту-канадцу.
Когда наши путешественники, утомленные своими бесплодными поисками выхода, легли отдохнуть, ловкий Вилль-Менах наконец напал на их след и по приказанию Ивановича подкрался к их лагерю с целью похитить у них фонарь и тем лишить их возможности освещать свой путь. Но, убедившись, что у путешественников не один фонарь на всех, а у каждого свой, рассудительный дикарь поспешил вернуться обратно, не тронув ничего из имущества наших друзей.
Таково было взаимное положение враждующих сторон в тот момент, когда канадец принудил, так сказать, своих спутников согласиться с его планом. Что же касается Виллиго и его двух воинов, то мы сейчас увидим, как они воспользовались этим временем.
XVIII
Расследования Дика. — На страже. — Совет лесовиков. — Возвращение Черного Орла. — Выступление из кра-фенуа. — Наконец спасены!
Как было условлено, Дик взял фонарь и пошел осматривать отверстия. Вскоре он вернулся назад без всякого успеха; трещины оказались слишком незначительны, и пройти по ним не было возможности. Однако Дик не пал от этого духом: он был готов к подобному результату, так как уже давно успел потерять веру в научное всемогущество Джильпинга.
Оставалось возвратиться назад и выполнить вторую часть программы. Но ввиду слабости графа д'Антрэга Дик потребовал, чтобы это исполнение было отложено до другого дня. Конечно, если бы канадец знал о близости врагов, об их присутствии в подземелье, то не подлежит сомнению, что вместо того, чтобы настаивать на отдыхе, он бы, наоборот, скомандовал немедленно двинуться в путь. Пусть даже ввиду крайнего утомления и слабости графа они не могли бы двигаться быстро, все же на ходу и с ружьем наготове борьба была бы равная, особенно если принять во внимание непреодолимый ужас, какой он внушал как туземцам, так и лесовикам. Но, именно зная это, Дик был далек от мысли, что лазутчик Невидимых мог пробраться сюда, в подземелье, да и кто указал бы ему дорогу? Разве Виллиго не говорил ему, что дундарупы не подозревают о существовании этой кра-фенуа? Кроме того, уже одни произведенные врагами взрывы свидетельствовали о том, что они не могли преследовать их далее.
Было около десяти часов вечера. То был третий день блуждания наших путников по подземелью. Три друга Дика улеглись спать и заснули сном праведников. Он один остался бодрствовать.
А в это время в пещере велось совещание между лазутчиком Невидимых и лесовиками, его случайными союзниками.
— Нас одиннадцать человек, почти трое на одного, неужели вы все еще боитесь? — убеждал лесовиков лазутчик.
— Мои товарищи не согласятся напасть на Дика, даже если нас будет четверо на одного! — возразил старший из лесовиков, беглый каторжник.
Лазутчик внимательно поглядел на бандитов и подождал, что они скажут. Но те молчали. Тогда он убедился, что старый каторжник знает, что говорит.
— А между тем мне необходима смерть графа д'Антрэга. Только под этим условием я заплачу вам за труды.
— Хорошо. Но в таком случае нам нужно подкрасться к ним как можно тише. Для этого нужно пригласить в путеводители какого-нибудь дундарупа, знающего кра-фенуа. Нужно позвать Вилль-Менаха.
Вилль-Менах был один из дундарупских начальников.
— Приглашайте кого хотите, но знайте, что вы не получите ни копейки, если граф не будет убит!..
Тем временем Дик печально сидел около спящих товарищей и все думал. Тяжелые предчувствия теснили ему грудь, а в душе вставали воспоминания минувшего отрочества, проведенного на берегах Великих Озер (в Северной Америке), где отец его охотился за бобрами и бизонами. Вдруг он встрепенулся. Вдали ему послышался как будто крик гопо… Неужели?.. Но нет, не может этого быть!
Он подождал, прислушиваясь к малейшему шороху. Ничего. Только дыхание спящих товарищей нарушало тоскливую тишину подземелья.
Вдруг вдоль левой стены подземелья скользнула чья-то тень и направилась к Дику. Канадец моментально схватил винтовку, но в ту же минуту услыхал знакомое слово, произнесенное громким шепотом:
— Ваг!
То был военный клич и вместе лозунг нагарнуков.
Канадец опустил ружье. Перед ним стоял Виллиго.
— Это ты?! — вскричал Дик с лихорадочной радостью. — Я не ожидал тебя.
— Мой белый брат начал выживать из ума! — наставительно заметил воин.
— Разве нагарнуки покидают когда-нибудь своих друзей в беде?
— Но я думал, что тебя убили дундарупы!
— Что могут сделать орлу трусливые опоссумы?
— Уже три дня мы…
— Тише! Довольно. Нужно идти. Враги близко. Они идут.
Лоран и Джильпинг, разбуженные приходом дикаря, разом вскочили на ноги. Канадец бросился будить Оливье, встряхнул его раз, другой, но граф не просыпался.
— Ну что ж делать, я его понесу! Только это нас, пожалуй, задержит.
— Тише, мой брат! — заметил Виллиго. — Не так важно то, чтобы идти скорее, как то, чтобы не шуметь. Ступайте за мною и потушите даже фонарь. Я знаю дорогу твердо!
Дикарь пошел вперед, за ним Дик с графом на руках, сзади Лоран и Джильпинг. Несмотря на темноту, Виллиго уверенно вел их по непроходимому лабиринту. Он шел, держась за стены, по счету выбирая трещины, в которые нужно было поворачивать, считая углы и закоулки извилистого хода.
Через полчаса ходьбы нагарнук остановился.
— Теперь вы можете зажечь фонарь! Здесь на нас никто не посмеет напасть.
Лоран поспешил воспользоваться разрешением Виллиго, и бледный свет озарил прихотливые узоры подземелья.
Дик осторожно положил на землю свою драгоценную ношу.
— Где мы? — спросил Оливье, открывая глаза.
— Мы спасены, дорогой граф, нас спас Виллиго!
— А как же я сюда попал?
— Вы спали. Мы вас несли…
— Несли!.. — вскричал граф, конфузясь и краснея. — Как вам не стыдно! Вы обращаетесь со мной, как с барышней! — И он хотел привстать, но не мог: ноги все еще отказывались служить ему.
— Спасибо, Дик! Я не знаю, как и благодарить вас. Скажите, чем мне вам отплатить?
— О граф, полноте! Я счастлив уже тем, что мог оказать вам услугу!
Оливье со слезами на глазах кинулся в объятия своему другу. Все были взволнованы и тем, что спаслись, и этой трогательной сценой. Долго никто не мог вымолвить ни слова. Наконец канадец произнес:
— Дорогой Виллиго! Тебя-то мы и позабыли поблагодарить, а ведь мы всем тебе обязаны.
Дикарь сделал величественный жест и сказал, указывая на графа:
— Молод еще, слаб! Он не может идти. Я схожу и приведу для него животных!
— Бедный Пасифик! — вздохнул при этом англичанин.
— Да разве ты знаешь, где мы оставили животных? — спросил Дик.
Виллиго презрительно улыбнулся.
— Я открыл ваши следы всюду, где вы прошли! — сказал он.
— Мой брат искусный вождь! Не проводить ли кому-нибудь из нас тебя с фонарем?
— У меня есть глаза. Фонарь белых мне ни на что не нужен! — С этими словами Виллиго исчез в темноте, как призрак.
Дикарь отыскал своих друзей благодаря своему замечательному инстинкту. Прорвавшись хитростью сквозь тесный круг осаждавших его дундарупов, он сейчас же сообразил, что белые подвергаются страшной опасности. По многим признакам для него стало ясно, что дундарупы знают кра-фенуа и могут провести по ней лесовиков. Поэтому он решился как можно скорее догнать своих друзей и вывести их из подземелья через один из бесчисленных известных ему ходов. Дойдя до известной пещеры, он застал в ней совещание лесовиков. Подслушав, что они говорили, он пустился дальше. Одним словом, он спас не только своих друзей, но даже и принадлежащих им мула и осла, с которыми и явился спустя не более четверти часа после своего ухода.
— Теперь, — сказал он Дику, — нужно скорее идти. Дундарупы убедились, что им нас не поймать, и прекратили преследование!
Оливье посадили на мула и двинулись в путь. Воздух в подземелье становился все свежее и свежее, с каждою минутою сказывалась близость земной поверхности.
Наконец в низу одного довольно крутого подъема Виллиго остановился и сказал своим друзьям:
— Посмотрите!
Все подняли головы, взглянули вверх и с восторгом увидали над собою видневшийся из отверстия клочок темно-голубого неба, сиявшего звездами.
— А далеко еще до выхода? — спросил канадец.
— Еще часа два ходьбы, но дело в том, что выход стерегут дундарупы. Нужно выйти из кра-фенуа в том самом месте, где мы находимся.
— Мы-то выйдем, мы можем вылезть по веревке, но животные как?
— Мы и для них проложим дорогу!
Приготовили веревочную лестницу. Дик сел на мула, Виллиго вскочил на плечи Дика, вылез из трещины и укрепил лестницу на краю отверстия. Беглецы один за другим выбрались из подземелья, которое едва не сделалось для них могилой.
Выйдя на свет, Джильпинг первым делом достал из кармана кларнет и, глядя на сиявший перед ним Южный Крест, заиграл благодарственный псалом.
Но увы! Дик опять остановил музыкальное упражнение англичанина, поставив ему на вид, что звуки кларнета могут привлечь дундарупов.
Вооружившись железными щупами, Виллиго, Лоран и Дик очень быстро расширили отверстие и сделали довольно отлогий подъем, по которому и вывели из трещины животных.
Было два часа утра. Стояла чудная лунная ночь. Луна уже склонялась к горизонту, бросая серебристый свет на высокую траву и кусты. Жадно вдыхая в себя живительный воздух, беглецы тихо крались по безмолвной широкой равнине.
XIX
Отправление в страну нагарнуков. — Уртика австралис (Urtica australis). — Западня. — Пленники.
Под предводительством Виллиго маленький караван направился прямо в земли нагарнуков, что в переводе значит «пожиратели огня». Так называлось это племя потому, что эмблемой его служила горящая головня, и жрецы, или колдуны, племени обязаны были поддерживать священный огонь. Всякий нагарнукский юноша, подвергаясь испытанию на звание мужа, воина, полноправного гражданина, в числе других задач должен был исполнить следующее: взять в рот кусок от зажженной священной головни и пробежать с ним определенное пространство, не потушив огня. Если это ему не удавалось, то юноша оставался еще год в разряде неполноправных, хотя бы и вполне удовлетворял всем прочим условиям для перехода в разряд мужей.
Беглецы в молчании следовали за Виллиго, который несколько раз просил их быть тише. Он, очевидно, был чем-то встревожен.
Впрочем, утро настало без всяких приключений. Местность, по которой шли наши пионеры, переменила характер. Вместо ровной травянистой степи показались холмистые возвышения; ковыль и кусты сменились густым лесом эвкалиптов, казуаринов, капустных и фиговых пальм и других австралийских деревьев. Пейзаж открылся такой прелестный, что усталые путники невольно забыли свои страдания. Даже Виллиго, казалось, с удовольствием поглядывал вокруг себя.
Вдруг Лоран, шедший несколько поодаль от товарищей, громко вскрикнул и тяжело упал на зеленый мшистый ковер луга. Оливье и канадец кинулись к нему на помощь.
— Ви-вага! Ви-вага! — крикнул Виллиго, тоже подбегая к несчастному Лорану.
Он торопливо обнажил ему руку до плеча и начал крепко тереть ее пучком захваченной травы.
Оливье подумал, что Лорана укусила змея, и сообщил свою догадку канадцу, но Дик сейчас же его успокоил.
— Исходите хоть всю Австралию, — сказал он, — и нигде вы не встретите ни одной ядовитой змеи. Лоран просто обжегся ви-вагой, австралийской крапивой. Опасности нет никакой, и Виллиго сейчас его вылечит; вы сами увидите.
— Это urtica australis! — сказал Джильпинг, рассматривая лист растения, причинившего такую беду.
Все столпились около раненого, которому Виллиго продолжал энергично тереть плечо. С Лорана градом катился пот. Лицо посинело, как у мертвеца.
Прошло с полчаса. Понемногу лицо раненого начало принимать более жизненный оттенок; он стал заметно приходить в себя. Вскоре миновала всякая опасность.
Отдышавшись, Лоран рассказал, как было дело. Проходя мимо одного дерева, он задел рукою за один из его листков и сразу упал, почувствовав во всем организме сотрясение, как бы от электричества. Дальше он ничего не помнил и, очнувшись, первого увидал около себя Виллиго, который растирал ему руку.
— Да, — сказал канадец, — если бы не вождь, вы бы так и не встали. Вас спасли его быстрота и сообразительность!
— Но что же это за дерево? — спросил Оливье, глядя, как Виллиго доканчивал лечение, поливая Лорану грудь и плечи водою, взятою из ближайшего источника.
— Туземцы, — отвечал канадец, — называют его ви-вага, или «птичье дерево», потому что на него может безнаказанно садиться только одна птица очень странной породы. Ученые, кажется, называют его австралийской крапивой.
— Urtica australis! — повторил Джильпинг, утвердительно кивая головою.
— Только я, как вам угодно, мистер Джильпинг, — продолжал Дик, — совершенно не понимаю, как можно называть крапивою дерево, достигающее иногда семи или восьми метров в обхвате. Как же это, дерево — и вдруг крапива?!
— Да, но оно по многим признакам принадлежит к одному семейству с обыкновенной крапивой. Представители этого семейства у нас в Европе суть мелкие растеньица с травянистым стеблем, а в других частях света вырастают в большие деревья. Укол крапивы в Европе вызывает самую мимолетную боль, а укол urtica australis убивает человека. Что ж в этом странного?
— Где же мне спорить с учеными?! — ограничился замечанием Дик.
— Какою травой Виллиго лечил Лорана? — поинтересовался узнать Оливье.
— Очень простою травой, растущею у корней этого самого дерева!
— Неужели она растет подле каждой ви-вага?
— Да, она только там и растет; природа, должно быть, хотела поместить лекарство поближе к недугу.
Приключение с Лораном и последовавшая за ним небольшая лекция по ботанике дорого обошлись путешественникам.
Пустившись бежать к раненому, они побросали на землю свои винтовки; даже осторожный Виллиго, чтобы удобнее было натирать Лорана, сложил с себя оружие и остался только при одном бумеранге, который был страшен на расстоянии, но не в рукопашном бою.
Стоя около Лорана и увлекшись разговором, европейцы и не заметили, как к ним подкрались дундарупы и окружили их. Со всех сторон послышался громкий вой, гулко прокатившийся под зелеными сводами леса. Виллиго, канадец и прочие кинулись к винтовкам, но — увы! — они уже были захвачены дундарупами. Татуированные уроды обступили их, грозя своими копьями и отравленными стрелами.
Сопротивление было бесполезно. Друзья поняли это с первого взгляда. Конечно, канадец мог смело рассчитывать на то, что ему удастся кулаком убить с дюжину дикарей, но в конце концов он все-таки пал бы, пораженный ядовитыми стрелами. Будь он один, он, несмотря даже на это, не сдался бы без боя, но с ним был граф Лорагюэ, жизнь которого он желал спасти во что бы то ни стало.
Даже Виллиго, видя себя окруженным, презрительно сложил на груди руки и не сделал ни малейшей попытки избавиться от плена.
Дик подошел к Оливье и торопливо сказал ему:
— Ради Бога, граф, не сопротивляйтесь. У них отравленные стрелы. Лучше потом убежим от них.
Только Джильпинг вел себя как бесноватый. Он ругался и кричал:
— Не смейте трогать английского подданного! Горе вам, если вы осмелитесь! За это правительство дорого заставит вас поплатиться!
По десятку дундарупов кинулось на каждого из товарищей Джильпинга, и в одну минуту все четверо были крепко связаны веревками, но так, чтоб они могли идти.
— Негодяи! — гремел неугомонный англичанин. — Как вы смеете с нами так обращаться?
Не имея другого оружия, он вытащил свой кларнет и отчаянно отмахивался им. Дундарупы, держась в стороне от Джильпинга, кричали:
— Кораджи! Кораджи! Кораджи паппа! (Белый колдун!) Так они его и не взяли, остальных же пленников увели. Джильпинг остался один в обществе мула и осла. Блэк, разумеется, последовал за своим пленным хозяином.
— Что, не посмели? — кричал торжествующий Джильпинг. — Побоялись поднять руку на британского подданного? Но постойте, я вас догоню и заставлю освободить моих друзей…
Отъехав немного, он снял шляпу и, сидя на осле, торжественно проиграл «God save the Queen»…
Он подбежал к Пасифику, вскочил на него и кончил тем, что поехал в противоположную от дундарупов сторону.
А мул, оставшись один, постоял несколько минут в раздумье, куда ему идти, и кончил тем, что пошел за Блэком, который следовал за пленниками издали, так как дундарупы его прогнали, пригрозив бумерангом.
XX
Австралийские племена. — Нравы и обычаи. — Верования и суеверия. — Столб пыток.
Трудно описать радость, какую испытывали дундарупы, разом завладев двумя такими врагами, как Виллиго и канадец, и потому они теперь шли ускоренным маршем в главную свою деревню, чтобы похвастать своей блестящей поимкой, не стоившей им ни одной человеческой жизни, ни одной жертвы. Впрочем, эти двое пленников отлично знали, что их ожидало в случае, если помощь не успеет подоспеть вовремя, если друзья не смогут освободить их раньше, чем наступит роковой час казни.
После того как любопытство женщин и детей и всех тех, кто знал этих двух пленников только понаслышке, будет удовлетворено, после того как все вволю наглядятся на них, осмотрят и ощупают их со всех сторон, их привяжут к столбу пыток и, наконец, умертвят, применив все ужаснейшие мучения, какие только в состоянии придумать человеческий мстительный и жестокий ум.
Длительность пытки соразмеряется соответственно степени уважения, внушаемого побежденным врагом своею смелостью и мужеством.
В то время Австралия насчитывала еще до 500000 туземного населения, разбросанного на всем протяжении австралийской территории в виде многочисленных мелких племен, насчитывающих от 500 до 600 воинов, что с женщинами, старцами и детьми составляло от 3000 до 4000 душ в каждом племени.
Хотя все эти племена были, несомненно, одного происхождения, все же их нельзя назвать всех одинаково уродливыми и безобразными. Так, например, три главнейших племени, живущие в восточной части Австралии, — племена нагарнуков, дундарупов и нирбоасов — не походят на тех австралийских туземцев, какими их вообще любят изображать. Как мужчины, так и женщины этих племен роста среднего, прекрасно сложены, некоторые даже довольно стройны и вообще представляют собою тип далеко не отталкивающий. Это, вероятно, объясняется тем, что эти племена живут в лучшей части страны, наиболее плодородной и изобилующей разной дичью и плодами, следовательно, хорошо и вкусно питаются, тогда как дикари Нового Уэльса, южной части Австралии, бродящие вдоль песчаного, бесплодного побережья, где они с трудом находят себе пищу, несомненно, вырождаются под влиянием неблагоприятных условий жизни. Эти несчастные дикари, действительно, омерзительны и стоят в своем умственном развитии немного выше животных, так что даже попытки привить им некоторые блага цивилизации всегда оставались бесплодными. Даже если их брать в самом раннем возрасте и воспитывать с величайшим тщанием в течение нескольких лет, обращаясь как можно ласковее и бережнее, все же они воспользуются первым случаем, чтобы сбежать, сбросить с себя всякую одежду и вернуться в свои леса.
Кусок полуразложившегося тюленьего мяса, поджаренные, а часто и живые ящерицы, попугаи и опоссумы, которых они ловят в силки, являются для них лакомыми блюдами. Прибрежные жители питаются исключительно одной рыбой, которую они бьют примитивной острогой, а в лесах они лазают по деревьям и ловят белок и летучих мышей, вампиров, опоссумов и других животных.
Кенгуру, встречающаяся в таком изобилии в восточной части Австралии, является здесь редким кушаньем, ради которого местные жители устраивают настоящий пир.
Питаются они также, когда их одолевает голод, и кореньями разных папоротников, и пауками, и гусеницами, и личинками белых червей, а также и древесной корой, и особого рода глиной, которая хотя и не питает их, но создает иллюзию сытого желудка.
При таких тяжелых условиях эти несчастные худеют до того, что начинают походить на скелеты, обтянутые кожей, и становятся невероятно жалкими и вместе отвратительными. Ведут они бродячий образ жизни, но постоянно толкутся в одной и той же побережной полосе, никогда не углубляясь внутрь материка.
Они не имеют иного оружия, кроме жалких копий с наконечниками из железного дерева; единственная и вечная их забота — это забота о пропитании. Едва насытившись, они уже начинают готовить припасы для нового изготовления пищи. Каждое из этих племен имеет свое наречие, но никаких религиозных верований; они не имеют даже представления о какой-либо высшей силе, которой они, по примеру африканских дикарей, приписывали бы все непонятные для них явления. Они приписывают все злые веяния — голод, мор, засуху и даже смерть — луне, которая в их представлении есть жилище мертвецов. Мертвецы внушают им невероятный страх; они думают, что по ночам умершие являются с луны, чтобы мучить живых. Кораджи, или колдуны, по их мнению, имеют власть призывать или отгонять «каракулов», то есть выходцев с того света, а также по желанию причинять смерть людям и посылать на них всякие беды и невзгоды.
По их понятиям, болезни, смерть и всевозможные несчастные случаи не естественные явления жизни, а напасть, навлекаемая колдунами. А потому последние являются единственными исключительными индивидами, которым живется сравнительно легко благодаря всякого рода приношениям и дарам, которые каждый туземец считает себя обязанным приносить им из опасения навлечь на себя и на своих близких всевозможные беды и злоключения.
В сущности, это все та же печальная история всех первобытных народов; везде и всюду колдуны жили за счет внушаемого ими страха, эксплуатируя простодушных и наивных людей, легковерных и боязливых; это своего рода власть сильного над слабым, присущая всему человечеству.
Но три вышеупомянутых нами племени стоят на значительно высшей степени развития, и это, быть может, только потому, что условия жизни легче и лучше, что у них есть в избытке всякая дичь, и птицы, и плоды. Эта лучшая пища сразу сказалась на физическом развитии этих племен: их формы и строение тела заметно правильнее и приятнее, чем строение и формы папуасов Меланезии, мало чем отличающихся по своему телосложению от обезьян.
По своему характеру эти австралийские дикари довольно близко напоминают американских краснокожих: тот же бродячий или кочевой образ жизни, те же междоусобные войны, та же охота и рыбная ловля, даже те же скальпы как трофеи войны и та же беспощадная жестокость к пленникам, тот же суеверный страх перед колдунами и та же неподатливость к принятию прогресса цивилизации.
Они также не ассимилируются, а быстро исчезают, уступая натиску белых людей. Поэтому особенно ценно ознакомиться поближе с этими представителями вымирающих племен, которых вскоре совсем не останется на земном шаре. Мы хотим, кроме того, доказать нашим правдивым рассказом, что племена австралийцев, населяющие центральную часть Австралии, совсем были не похожи на жалких обитателей прибрежной части этой страны, что они стояли уже на известной степени развития, руководствовались известными твердо установленными обычаями, традициями и узаконенными постановлениями, словом, имели свою нарождающуюся цивилизацию. Эти племена были также не чужды лучших чувств великодушия, благородства, признательности, даже известного рыцарского чувства и чувства поэзии, которое ставило их, конечно, неизмеримо выше их ближайших сородичей, дикарей Меланезии.
Так, например, нельзя читать без удивления нижеследующие стихи, которые обычно пели по вечерам, танцуя на лугу, молодые девушки и юноши нагарнукского племени:
Джелало лиа лана?
Мангада, мангада!
Джелало иульс лана?
Вугада, вугада!
Ката гаро!
Манга!
Гваб-ба рино Роола.
Яр диг бо, Манга!
Гваб-ба рино Роола.
Ката гаро!
Манга!
Пойдем ли мы плясать?
Пойдем, пойдем!
Пойдем ли мы плясать и петь?
Идем, идем!
Красавица в лесу!
Пойдем!
Цветы и поцелуи там Найдем.
Если сердце есть в тебе, Идем!
Цветы и поцелуи там Найдем.
Красавица в лесу!
Пойдем!
Ну разве это не поэтично? И племена, где распевают такие песни, конечно, не могли быть омерзительными дикарями, мало чем отличающимися от животных.
В этой песне слышится что-то нежное, красивое, как бы отголосок нравов, не лишенных известной утонченности, и чувств, не чуждых поэзии. Но европейцы, ворвавшись в их жизнь в лице беглых каторжников, преступников и авантюристов худшего типа и дав волю своим худшим инстинктам и наклонностям, поспешили эксплуатировать честность, доверчивость и добросовестность этих дикарей, проявили на них свою жестокость и несправедливость и вместо цивилизации привили им свои отвратительные пороки и полную деморализацию.
При первом появлении европейцев в центральной части Австралии в уме туземцев сложилась о них следующая красивая легенда: не видав судов, на которых прибыли эти белые люди, они решили, что они спустились к ним с луны, чему придавал известное вероятие и самый цвет кожи незнакомцев. Луна же, по мнению этих туземцев, представляет собой жилище умерших воинов, нечто вроде австралийской Валгаллы. Поэтому они приняли их за своих давно умерших предков, вернувшихся на землю после того, как им удалось похитить тайну громов небесных в образе усовершенствованного огнестрельного оружия. В силу этой легенды туземцы вначале смотрели на европейцев с благоговейным трепетом и относились к ним, как к божествам.
Какое громадное влияние могло бы дать это наивное и поэтичное сказание честным, порядочным и добронамеренным европейцам на умы пораженных удивлением туземцев! В ту пору австралийцы с радостью подчинились бы требованиям европейцев и были бы самыми деятельными пособниками в деле разработки почвы, корчевания лесов, охраны стад, стали бы работниками на фермах, словом, рабочей силой, с помощью которой без труда можно было бы преобразовать всю страну и все ее население.
Но вместо того все подонки английского общества, выброшенные сюда и обеспеченные в полной безнаказанности, воспользовались своим авторитетом для насилий, грабежей, жестокостей и даже убийств по самому незначительному предлогу. Не осмеливаясь оказывать сопротивления этим английским скотинам, несчастные туземцы бежали в глубь лесов, в самые непроходимые дебри, скрываясь от жестокости и издевательств белых людей. Но когда однажды в схватке один из туземцев случайно убил англичанина и для них стало ясно, что эти белые люди также могут умереть, престиж европейцев сразу упал. Австралийцы осмелели, и началось взаимное истребление, одинаково ожесточенное и беспощадное с обеих сторон.
Позднее, когда явились честные колонизаторы с самыми благими намерениями и хотели исправить содеянное зло, то было уже поздно: туземцы изверились в европейцах и видели в них беспощадных и жестоких врагов, а потому поджигали фермы, разгоняли и перебивали стада, избивали скваттеров и их семьи.
Тогда пришлось организовать для защиты поселенцев целые экспедиции, и во имя цивилизации пошла настоящая резня, настоящая охота за чернокожими, причем беспощадно избивали старцев, женщин и детей, все во имя того бесчеловечного закона, придуманного бессердечными и бессовестными людьми, закона, который гласит, что люди, противящиеся цивилизации сильнейшего, должны или ассимилироваться, или исчезнуть, и что краснокожие уроженцы Америки и чернокожие австралийцы должны уступить место белой расе.
Закон истребления и избиения слабейшего сильнейшим является, говорят, результатом борьбы за существование, и этот умилительный закон даровала нам Англия; в силу его она угнетает Ирландию, избивает сипаев, новоисландцев и австралийцев и кричит: «Дорогу британскому спруту!», потому что весь мир недостаточно велик для его щупалец.
В отместку за их жестокости туземцы в свою очередь не щадили попадавшихся в их руки европейцев, причем, однако, оказывали им честь, равную своим воинам, и привязывали их к столбу пыток, давая им этим возможность выказать свое мужество среди самых ужасных мучений.
Именно в этой области Центральной Австралии, где живут нагарнуки, дундарупы и нирбоасы, встречаются великолепные леса казуаровых деревьев, colidris spiralis, других разновидностей эвкалиптов и всевозможных видов дерев. Здесь же растут в диком состоянии многочисленные виды съедобных растений, например, капустные пальмы, таробананы и др. Флора здесь тоже отличается необычным богатством, а потому остается только пожалеть, что первые европейцы не сумели воспользоваться добрым расположением туземцев для колонизации этой прекрасной, богатой страны и развили в них только инстинкт кровожадности и всякие пороки.
Таким образом, канадец и его спутники очутились в руках людей, не знающих ни жалости, ни пощады и озлобленных недавними экспедициями, предпринятыми против них сиднейским правительством. Племя дундарупов славилось особенно своим пристрастием к грабежам и убийствам; они почти исключительно жили грабежом и хищением стад и другого имущества фермеров, и, быть может, потому с дундарупами всего больше сходились лесовики, всегдашние участники в грабежах и постоянные, верные союзники дундарупов в экспедициях такого рода. Преследуемые наравне с дикарями, эти лесные бродяги сделались с течением времени их естественными союзниками из бывших врагов и жили в мире с туземцами. Что же касается нагарнуков, то, живя в местности, изобилующей дичью, рыбой и всякими плодами, они жили почти исключительно только охотой и рыбной ловлей и не имели надобности грабить фермы или нападать на торговые караваны, а потому нагарнуки пользовались репутацией наиболее миролюбивого племени, которому многие скваттеры и колонисты, пасшие свои стада по соседству с ними, поручали даже охрану своего имущества и скота.
Дундарупы почти постоянно враждовали с нагарнуками и потому охотно дружили со всякими лесными бродягами, рассчитывая на их помощь и содействие против нагарнуков.
Для дундарупов пленение канадца и Виллиго явилось необычайным, можно сказать, почти невероятным счастьем: эти двое всегда поспевали первыми на защиту каждой осажденной грабителями фермы, и много раз все такие попытки заканчивались ничем, потому что нагарнукский вождь и его приемный брат отбивали нападение.
Все почти скваттеры и фермеры, обитавшие в 400 или 500 милях от Сиднея или Мельбурна, ежедневно требовали себе из этих крупных центров большие транспорты товаров и припасов, и тогда целые караваны повозок, в 20 и более, отправлялись из Сиднея и Мельбурна на фермы под конвоем достаточного числа смелых и решительных людей, способных в случае надобности отстоять караван от нападения. Обратно этот карабан, сдав по принадлежности требуемые товары, возвращался нагруженный сельскими продуктами, которые в свою очередь находили сбыт в городах.
Когда фермы бывали переполнены запасами, утварью и инвентарем, аппетиты грабителей разгорались с особенной яростью, и горе тому хозяину, который не озаботился обнести свои строения достаточно высокой и крепкой стеной, которая могла бы предохранить его от грабежа и поджога! Ввиду этого все австралийские фермы строились на манер крепостей и обносились настоящими укреплениями, канавами, крепкими стенами, снабжались непомерно высокой сторожевой башней, откуда в случае нападения давали знать громкими звуками призывного рога, и тогда люди с окрестных ферм, а чаще всего Виллиго или Дик со своими молодцами спешили на помощь осажденным.
Благодаря вмешательству этих двух героев, подобного рода разбойнические нападения все реже и реже удавались или обходились разбойникам так дорого, что они надолго зарекались повторять свои попытки.
Поэтому поимка Виллиго являлась настоящим торжеством для дундарупов, а пленение канадца не меньшим торжеством для лесовиков, которые в одинаковой мере боялись и ненавидели его как своего злейшего врага.
Канадец, зная, какая участь готовилась ему в случае, если какое-нибудь чудо не вырвет его из рук врагов, спокойно мирился с предстоящими муками, уверенный, что рано или поздно ему не избежать этой участи, и потому немного раньше или немного позже, не все ли равно? Но он не мог без волнения думать, что подобная участь ожидает и молодого графа, и потому все время придумывал всевозможные планы бегства или спасения хотя бы только его одного.
Нагарнукский вождь шел гордо и уверенно, как победитель, вызывающе глядя на своих врагов, и в своей экзальтации охотно запел бы сейчас свою предсмертную песню, чтобы показать этим подлым дундарупам, которых он презирал до глубины души, как умеют умирать воины его племени.
Главная гордость всех туземцев, глубоко презирающих жизнь, — это уметь хорошо умереть, и, когда воина привязывают к столбу пыток, его малодушие ложится позором на все его племя, тогда как его мужество и стойкость покрывают его новой славой и создают ему еще лучшую репутацию.
Поэтому стоицизм, с каким военнопленные переносят самые страшные мучения, граничит с невероятным. Были случаи, что такой страдалец в течение нескольких дней кряду смеялся и пел в то время, как женщины и дети беспрерывно поджаривали его тело горячими головнями, вырывали у него ногти, отрезали заостренными кремнями одну за другой все фаланги пальцев на руках и на ногах. А когда раненый готов был лишиться чувств от непомерной потери крови, то раны его прижигали раскаленными докрасна камнями, так что мясо шипя запекалось, и кровотечение останавливалось. Наконец, под вечер второго или третьего дня, смотря по желанию мучителей, но непременно в самый момент окончательного заката солнца, когда заканчивалась эта кровавая оргия и тело жертвы обыкновенно представляло собой уже почти бесформенный, окровавленный торс, все еще сохраняющий остаток жизни, так как мучительницы все время тщательно остерегаются повредить какой-нибудь из жизненно важных органов и тем самым причинить преждевременную смерть, несчастного добивали.
Не странно ли, что этот страшный обычай «столба пыток» встречается почти у всех народов? Он еще и сейчас в обычае у некоторых племен американских краснокожих и в Австралии и исчезнет разве только вместе с последним аборигеном. У туземцев Новой Гвинеи он также в обычае, равно как и у прежних полинезийцев. А в наше время китайцы, именующие европейцев варварами, подвергают своих пленных ужаснейшим пыткам.
XXI
Ночь в плену. — «Человек в маске». — Оргия дундарупов. — Приготовления к пытке. — Спасены неожиданными друзьями.
Канадец хорошо знал, что его ждет, но уже давно примирился с этой участью. Он уже однажды был привязан к этому столбу у нирбоасов и был обязан своей жизнью все тому же Виллиго, который подоспел как раз вовремя с сотней своих воинов. С того времени он запасся у одного знакомого аптекаря двумя маленькими пузырьками сильнодействующего яда, с которым никогда не расставался. В крайнем случае благодаря этому снадобью он мог разом проститься с жизнью, безболезненно и легко. На этот раз он решил в случае надобности поделиться своим запасом с молодым графом и Лораном, потому шел весело и бодро, как на прогулке.
Французы же совсем не подозревали о грозившей им участи; конечно, они понимали, что жизни их грозила опасность, знали, что благодаря вмешательству невидимых врагов их не пощадят, но им даже в голову не приходило, что эти подкупленные дундарупы могут обращаться с ними, как со своими военнопленными.
Надменный, вызывающий вид Виллиго и небрежная безучастность Дика также немало способствовали их успокоению. Старый траппер пользовался каждым случаем, чтобы поддержать их мужество и словом и взглядом обнадежить их, хотя внутренне он говорил себе:
— Если Коанук или Нирроба не придут вовремя с достаточным числом воинов, то мы погибли!
Дундарупы не опасались этого. Главные силы шли на землю нагарнуков, которые, разумеется, все усилия должны были употребить для отражения нашествия. Поэтому отряд, ведший пленников, мог вполне считать себя вне всякой опасности.
Вскоре показалась и деревня. Население встретило страшных пленников, Дика и Виллиго, с криками злобного торжества. Беглые каторжники и их вождь, лазутчик Невидимых, пришли в деревню раньше и успели распространить радостную весть.
Женщины, старики, дети осыпали пленников бранью и насмешками. Виллиго равнодушно и спокойно переносил невзгоду; Дик возбуждал всеобщее удивление своим громадным ростом. Бандиты держались поодаль, словно совестясь своего союза со свирепыми дикарями.
В числе негодяев находился один человек с маской на лице.
Канадец и его спутник переглянулись между собой.
— Кто бы это мог быть? — подумал каждый из них, и у каждого пробежала в голове одна и та же мысль.
До сих пор у пленников были связаны только руки; теперь им окончательно связали и ноги и бросили их всех в одну хижину. Последнее время перед казнью им сочли возможным позволить провести всем вместе.
— Вот и конец драмы! — сказал Оливье, когда дверь хижины захлопнулась.
То были первые слова, которыми обменялись пленники по приводе их в деревню дундарупов.
— Простите меня, граф, — пролепетал упавшим голосом Лоран. — Этого не случилось бы, если бы не глупое приключение со мной. Оно вас задержало…
— Пустяки, Лоран, я не хочу этого слышать. Если б я не затащил тебя в Австралию, жил бы ты себе преспокойно дома. Я опять во всем виноват, а не ты; я это знаю и чувствую. Что вы скажете, Дик?
— Скажу, что, по моему убеждению, Коанук явится сюда раньше двух часов.
Но канадец сам себя обманывал. Слишком слаба и ничтожна была у него, в сущности, эта надежда на нагарнуков, хотя, с другой стороны, можно было быть уверенным, что они долгом чести сочтут употребить все усилия, чтобы спасти Виллиго, его названого брата, и обоих товарищей последнего.
Виллиго ничего не говорил. Он сидел в углу и напевал себе под нос унылую песню. Он приготовлялся спеть ее, когда будет умирать среди мучений.
Вдруг среди ночной тишины раздался голос, заставивший пленников вздрогнуть.
— Граф Лорагюэ д'Антрэг, — сказал этот голос, — видите ли вы теперь, как бесполезно бороться с Невидимыми? Вы теперь окончательно в нашей власти. От вас зависит спасти свою жизнь и жизнь ваших товарищей. Вы знаете, на каких условиях… Завтра на рассвете я приду к вам за последним ответом. Ваша участь в ваших собственных руках!
— Не отвечайте, молчите, — поспешно шепнул графу старый траппер и продолжал громким, звучным голосом: — Слушайте, вы, человек в маске! Я, Дик Лефошер, по прозванию Канадец, объявляю войну не на живот, а на смерть всем вашим Невидимым, этой трусливой, поганой орде, которая умеет наносить удары лишь из-за угла!
На это был ответом ехидный, шипящий смех. Оливье стал припоминать, где он слышал этот смех, но никак не мог припомнить.
Затем все стихло, только в деревне звенели песни дундарупов, которые на радости перепились туземного хмельного напитка и орали во все горло воинственные песни, предвкушая зрелище казни пленников.
Виллиго тоже пел вполголоса, прославляя свое храброе племя и подвиги предков.
Оливье под конец заснул, положив голову Лорану на колени. Усталость взяла наконец свое. Верный слуга графа тоже погрузился в дремоту. Бодрствовать остался один Дик.
Он все думал и думал о средствах к спасению.
Когда он услыхал пение туземцев, сопровождаемое топотом пляски, то почувствовал неизъяснимую радость. Он понял, что дундарупы сильно перепились и после оргии, наверное, будут крепко спать.
У него зародился в голове план. Он жалел, что его нескоро еще можно будет привести в исполнение, но стал все более и более убеждаться, что смелый план его вообще исполним.
Только бы поскорее перепились дундарупы, поскорее бы завалились спать! Со стороны пленников они не опасались ни малейшей попытки к бегству. Разве пленники не были крепко связаны кенгуровыми ремнями, разве не были отобраны у них ружья?
На этой уверенности диких и строил канадец, между прочим, свой план.
Желая посмотреть, что именно делается у дундарупов, Дик осторожно подполз к двери хижины.
Дикари и бандиты плясали в безобразно пьяном виде. Они уже доплясывали, так сказать, последние силы; многие из пирующих уже лежали на земле в глубоком сне. Хижину караулили только два молодых воина с пиками; невдалеке прохаживался замаскированный человек с винтовкою за плечами. Видя, что нельзя добиться никакого толку от своих ошалевших союзников, он решился караулить пленников сам.
Канадец даже улыбнулся: до того он был обрадован тем, что ему удалось увидеть, — и стал спокойно дожидаться удобной минуты.
Вдруг он услыхал слабый шорох в стене хижины с противоположной от часовых стороны. Он сделал усилие, потянулся и разом разорвал ремни, опутывавшие его тело. Освободившись, он встал и пошел осторожно по хижине, но споткнулся об кого-то из лежавших.
— Кто это? — тихо спросил он.
— Это я, я! — отвечал ему Виллиго, который тоже услыхал шорох и, связанный, пополз к стене, извиваясь, как змея.
Канадец поспешил развязать дикаря, и оба они, не обменявшись больше ни словом, приблизились к непрочной глиняной стене.
Шорох не прекращался. Очевидно было, что кто-то желал осторожно обратить на себя внимание пленников.
Решив, что, во всяком случае, враги не стали бы так действовать, Дик стукнул два раза в стену.
Шорох прекратился, вместо него послышалось два ответных удара в стену. Сомнения не было: к пленникам приближалась помощь, но кто бы это мог быть?
Вскоре послышался звук, как будто бы кто-то стал буравить стену, и на землю посыпались комки глины. Появилось отверстие, сквозь которое пленники завидели сероватый сумрак ночи.
— Кто там? — спросил канадец, наклоняясь к отверстию.
— Это я! — отвечал знакомый голос англичанина Джона Джильпинга.
Дик насилу удержался, чтобы не вскрикнуть от удивления.
— Вы! Вы один! — сказал он вполголоса.
— Да, совершенно один, со мной только бедный Пасифик, да мул, да собака. Они и привели меня сюда. Но я вам расскажу об этом после, а теперь некогда.
— Да, вы нам расскажите это после, — отвечал Дик, — а теперь я вам скажу только то, что вы честный и храбрый человек, мистер Джильпинг.
— Да нет же, право, нет. Говорят вам, что это не я, а Пасифик, да мул, да собака… Но об этом после. Я боюсь, как бы дундарупы, которые пляшут около костра… Надо сначала вооружиться.
— Увы! У нас отобраны все винтовки!
— Вот вам другие. Только берите скорее, а потом мы увеличим дыру.
— Как, мистер Джильпинг, вы решились…
— Да, ведь это было нетрудно. Я знал, что в багаже мула есть оружие и заряды. Я взял оттуда четыре винтовки для вас и одну для себя да столько же револьверов… Берите же скорее, вооружайтесь.
— Мистер Джильпинг, вы молодец.
— О, вовсе нет. Я только воспользовался «нетрезвостью» дикарей… Вот вам патроны, а вот и револьверы. Кажется, довольно.
— Как вас благодарить, мистер Джильпинг?
— О, не меня, не меня… Ведь я же говорю вам, что это все Пасифик с мулом и вашим Блэком… Это очень оригинально…
Во время этого разговора англичанин передавал Дику через отверстие ружья и револьверы. Виллиго с догадливостью дикаря подполз к двери и стал наблюдать, что делается на улице.
Оргия разгоралась. На красном фоне пылающего костра выделялись черные тени пляшущих дундарупов и бандитов. Пение тоже продолжалось. Замаскированный человек продолжал прохаживаться один с ружьем за плечами. Оливье и Лоран, разбуженные Диком, с нескрываемою радостью встретили весть об освобождении. Благодаря мужеству и хладнокровию Джильпинга все пленники были снабжены оружием. Теперь они могли с успехом защищать свою жизнь и свободу от пьяной толпы.
Вооружившись с ног до головы, друзья составили совет. В сущности, думать было не о чем: стоило только выйти потихоньку из хижины и оставить деревню. На утро дундарупы нашли бы хижину пустою.
Но не того хотели Виллиго и канадец: им хотелось задать негодяям хороший урок. В успехе они не сомневались, имея в виду свое прекрасное вооружение. Наконец, следовало принять в расчет и чрезвычайное изумление ошалелых дикарей и бандитов, когда они вдруг увидят перед собою свободных и вооруженных пленников.
Эти соображения Дика были приняты всеми единогласно.
— Поблагодарите же мистера Джильпинга, — заметил Дик, — ведь это он нас выручил!
— О дорогой мистер Дик, — возразил англичанин, — очень рад слышать это от вас, но не забывайте также и Пасифика с мулом и Блэком. Когда вас увели дундарупы, я хотел погнать Пасифика к тем горам, где, по вашим, словам, находилась деревня нагарнуков. Я хотел известить ваших союзников о случившейся с вами неприятности. Но Пасифик мой, не знаю, что с ним сделалось, ни за что не хотел идти, а повернул в ту сторону, куда шел ваш мул, шедший в свою очередь за Блэком, который шел издали за дундарупами. Так мы и потащились друг за дружкой и дошли до деревни. Тут я решился наконец обуздать животных и начал с того, что привязал Блэка к дереву в роще; мул и осел спокойно поместились около него, но я для пущей важности тоже привязал их к дереву. Потом я стал дожидаться ночи и поужинал. Хороший сыр у меня, право; я в первый раз еще попробовал от этого куска, как привез, и очень доволен… Когда наступила ночь, я достал из багажа ружья и заряды… Остальное вы знаете. Теперь вы видите сами, что Пасифик, мул и Блэк играли во всем этом главную роль.
Когда англичанин кончил рассказ, стало светать, и дундарупы с пьяными криками нестройною, безоружною толпой кинулись к хижине. За ними спешили бандиты, едва держась на ногах от опьянения.
Замаскированный человек кинулся загородить им дорогу. Вероятно, он хотел исполнить данное накануне обещание.
Но он не успел. Мгновенно сцена изменилась. Дверь хижины с треском вылетела вон, и на пороге показались пять человек пленников, вооруженных винтовками.
Открылся беглый огонь, в короткое время произведший огромное опустошение в рядах дикарей.
Ужас и удивление охватили дундарупов и бандитов. Постояв немного на месте, нестройная толпа отхлынула от хижины и бросилась кто куда. Страшные винтовки безжалостно истребляли бегущих.
При первых выстрелах европейцев замаскированный человек бросился в сторону и скрылся в густой траве. Европейцы проискали его потом весь день до вечера, но не нашли.
Вечером поселок дундарупов горел со всех четырех концов, а Виллиго, глядя на пожар, плясал военный танец.
Спустя пять дней маленький караван вступил на Лебяжий прииск, цель похода Оливье Лорагюэ. Канадец показал своим ослепленным товарищам груды золота, веками накопленного в этом месте.
— Вот, — сказал Дик графу, — вот вам могущество и мщение. На земле нет ничего, что устояло бы против этого блестящего бога!
Часть вторая. В ДЕБРЯХ АВСТРАЛИИ
I
Праздник в Мельбурне. — Боксеры. — Том Поуель, чемпион Австралии и Англии, и Джемс Тайлер, чемпион Америки.
В Мельбурне, главном городе провинции Виктория, шли приготовления к празднествам по случаю дарования колонии автономного права. Основанная всего за пятнадцать лет перед тем, столица Виктории благодаря приливу эмигрантов разрослась в огромный город, который далеко оставил за собою по богатству и числу жителей даже Сидней, возникший при самом начале австралийской колонизации.
Такой быстрый рост города обусловливается открытием в провинции Виктория богатейших золотых приисков. Мельбурн обстроился и украсился с замечательной быстротой. Биржа, банки, газеты, журналы, школы, театры возникли в нем, как по волшебству, и в короткое время город почти сравнялся по назначению с такими пунктами, как Бомбей, Калькутта, Шанхай и Гонконг.
Ссыльнопоселенцы, составлявшие прежде ядро населения, растворились в массе пришлых авантюристов, которые были нисколько не лучше их, но только по счастливой случайности успели скрыть кое-как свои грехи и грешки на родине и переселились из метрополии не на казенный, а на собственный счет.
Оба класса быстро слились между собою, потому что большинство ссыльных занялось торговлей и промыслами, более или менее честно добывая средства к жизни. Аристократию колонии составили лица безупречные, не опороченные по суду, и с ними стремились родниться посредством брачных союзов те из лиц вышеупомянутого нами класса, которым удавалось занять более или менее видное положение в обществе.
Заметив быстрый прогресс колонии, английское правительство поспешило даровать ей самоуправление, чтобы не лишиться ее, как лишилось за три четверти века перед тем колонии Северной Америки.
Итак, Австралия получила self-governement. Управление вверялось отныне местному парламенту, состоящему из двух палат, верхней и нижней, с ответственными министрами и представителем короны, лордом генерал-губернатором.
Мера была очень искусная, дальновидная. Отказываясь от непосредственного управления колонией, Англия сохраняла над нею все свои верховные права как над неразделимою частью монархии.
Первым актом новосозданного парламента было дарование всеобщей амнистии с представлением всех гражданских прав тем из ссыльных, которые не совершили никакого проступка по вступлении их на австралийскую землю. Вместе с тем были уничтожены в архивах и канцеляриях присутственных мест все документы, касавшиеся прошлого ссыльных. Второю мерою был единогласно принятый обеими палатами билль о празднестве в честь самоуправления.
Программа праздника, выработанная новоиспеченным мельбурнским лорд-мэром вместе с альдерменами, была опубликована во всеобщее сведение и вызвала всеобщий восторг. День должен был начаться салютационною пальбою из пушек, затем следовал прием генерал-губернатором парламентской и иных депутаций, с речами и поздравлениями; далее перед властями должны были продефилировать представители всех британских колоний в характерных костюмах, и, наконец, стоящая в гавани эскадра должна была дать примерное морское сражение.
Остаток дня предполагалось посвятить всевозможным видам спорта и закончить праздник блистательным фейерверком, спектаклем gala в городском театре и роскошным балом у генерал-губернатора.
Но great-attraction предстоящего праздника составлял для массы ожидавшийся бокс знаменитого силача Тома Поуеля.
Том Поуель был ссыльный. За свой бокс он в Англии был прозван «царем боксеров»; в единоборстве ему удалось убить человек двенадцать, но английские присяжные постоянно оправдывали его, вынося всякий раз вердикт о случайной смерти (accidental death). Наконец в одной ссоре он так хватил своего противника, вызванного им на бокс, что тот в одну минуту испустил дух. Присяжные вынесли наконец царю боксеров обвинительный приговор, и Том Поуель был переселен на казенный счет в Австралию. Этот самый силач и расклеил теперь по всем мельбурнским улицам афиши, вызывая на бокс всех желающих померяться с ним.
Разумеется, городская управа единогласно ассигновала четыре тысячи фунтов стерлингов (40000 руб.) на премию победителю.
Вызвалось и записалось три борца: один негр, уроженец Новой Гвинеи, замечательный силач, известный в Мельбурне под именем Сэм; один ирландец, по имени Майкл О'Келли, тоже считавшийся атлетом, и, наконец, специалист-боксер, американец Джемс Тайлер.
Шум прошел по всему Мельбурну, составились многочисленные пари; большинство держало, впрочем, двадцать против одного за Поуеля, и только американцы принимали одинаково Тайлера и Поуеля, руководствуясь в этом случае национальной амбицией.
Газеты были наполнены заметками и сообщениями по поводу предстоящих торжеств. Подвиги Поуеля и Тайлера описывались и разбирались со всеми подробностями, взвешивались относительные силы двух будущих противников, и делались соображения о том, кто из них победит.
Город разделился на две партии, на «поуельянцев» и на «тайлерьянцев». Много буянов успело еще за двое суток до праздника подраться между собою из-за трудноразрешимого вопроса: который из двух борцов победит?
Между тем незаметно подкрался и нетерпеливо ожидаемый всеми день.
II
Искатели золота. — Проспекты Лебяжьего прииска. — Возвращение в Мельбурн. — Концессия. — Путешествие Лорана. — Сыщик и барон.
Под вечер, накануне праздника в Мельбурне, в город въезжали три путешественника, ехавшие верхом на малорослых, но сильных и быстрых новогвинейских мустангах. Они направлялись к «Восточной гостинице» на улице Ярро-стрит.
В этих путешественниках, несмотря на значительную перемену в их костюмах, можно было с первого же взгляда узнать графа Лорагюэ, Дика и Виллиго, нагарнукского вождя. Они все трое ехали из Сиднея, столицы Нового Южного Уэльса, где провели несколько времени по делам, о которых мы не замедлим сообщить читателю.
Оливье был одет с изысканным изяществом и вместе простотою, свойственной хорошему вкусу. На канадце был полный костюм австралийского скваттера, весь из голубого бумажного бархата. Виллиго остался в прежнем своем первобытном костюме, согласившись только для города надеть на себя какую-то пеструю накидку, да и то лишь после усиленных просьб со стороны своих друзей.
Умный Блэк, не отстававший от своего господина, как будто с гордостью щеголял в красивом серебряном ошейнике, который ярко блестел на его черной шерсти.
Путешественники ехали в Мельбурн, разумеется, не на праздник; их призывали туда различные важные происшествия, имевшие место после их прибытия на Лебяжий прииск.
Прииск оказался таким богатым, что превзошел самые смелые ожидания. Огромные самородки встречались на каждом шагу, стоило только покопать немного землю. Золотоносная почва сулила несметную добычу. В качестве специалиста-геолога Джон Джильпинг, рассмотрев найденные образцы золота, объявил, что это золото самое чистое, какое только может быть. Оставалось только собрать богатую жатву.
Затем наши друзья посоветовались между собою, как им поступать дальше. Инструменты, привезенные на муле, они старательно зарыли в яму под большим эвкалиптовым деревом, а все золото, которое им удалось добыть во время предварительного исследования прииска, навьючили на мула и осла, тщательно замаскировав этот ценный багаж.
Разумеется, золото, навьюченное на Пасифика, было подарено Джону Джильпингу, который, впрочем, и не отказывался от этого подарка. На радостях чудак-англичанин и тут не позабыл проиграть на кларнете благодарственный псалом, в котором говорилось что-то о «манне небесной».
По зрелом размышлении друзья пришли к заключению, что без правительственного патента им нечего и думать о беспрепятственной разработке прииска. Только патент мог обеспечить их от наплыва массы посторонних искателей, привлеченных слухом об открытии богатых залежей. Имея же в руках документ на право владения землею, можно было легко устранить всякого конкурента, опираясь на законное основание.
Разумеется, в такой глуши нельзя было рассчитывать на содействие администрации при ограждении своих прав, приходилось заботиться об этом самим владельцам, но, во всяком случае, тогда у них было бы право, право бесспорное, которое оставалось бы только поддерживать силою.
Поэтому было решено ходатайствовать о концессии на несколько сот тысяч гектаров, обнимавших собою прииск, но не у мельбурнского правительства, а прямо в Лондоне, у министра британских колоний. От местной администрации следовало ожидать больших проволочек, а между тем самое ходатайство должно уже было возбудить толки в населении, и прииск мог кто-нибудь перебить. Всего этого легко можно было избежать, обратившись прямо в Лондон.
Джильпинг обещал поднять на ноги важнейших членов Лондонского геологического общества и, кроме того, посоветовал графу подать прошение от своего имени, говоря, что древнее имя графов Лорагюэ и знатность их рода будут иметь большой вес в глазах министерства.
Оливье снял точный план земли, которую он желал получить во владение, обозначив место залежей, не упоминая, разумеется, об их богатстве, чтобы не вводить в соблазн правительство ее британского величества, и составил форменное прошение. Он хотел послать его по почте, но потом друзья передумали и решили отправить в Европу Лорана, чтобы он передал прошение маркизу Лорагюэ, который должен был лично похлопотать через английского посланника в Париже. Нужно было торопиться, чтобы предупредить возможный наплыв посторонних диггеров.
До поры до времени сохранение тайны было вполне обеспечено. Виллиго был сама неподкупность, а его презрение к золоту равнялось его любви к своему названому брату, Тидане-Дику. Джон Джильпинг дал честное слово джентльмена никому не заикаться о прииске, а на слово честного англичанина можно было вполне положиться. Но дело в том, что если случай навел на прииск Дика, то мог навести и еще кого-нибудь другого, и тогда прощай тайна, прощай право первой заимки.
Итак, следовало во что бы то ни стало получить как можно скорее концессию.
Была и еще одна причина для посылки Лорана в Европу. Со времени избавления наших друзей из дундарупского плена ничего не было слышно о замаскированном человеке, но из этого было бы неосновательно заключать, что Невидимые успокоились. Два раза уже они готовы были овладеть графом Лорагюэ, и в их могуществе невозможно было сомневаться. Конечно, Дик и Виллиго никогда не покинули бы графа; они решились защищать от врагов его всеми силами, но для борьбы с тайными врагами недоставало все еще одного средства: не было сыщика, который мог бы следить за ними так же незаметно, как незаметно действовали и подкрадывались они.
Старый маркиз Лорагюэ благодаря своему высокому общественному положению всегда мог выпросить для себя у префекта полиции двух или трех тайных агентов, которым можно было обещать хорошее вознаграждение.
Лоран уехал вот уже несколько месяцев назад, и теперь от него была получена шифрованная телеграмма, что оба поручения исполнены блистательно и что он прибудет в Мельбурн на первом почтовом пароходе.
Телеграмма была получена в Сиднее, где жили это время Оливье и Дик, разменивая на деньги добытое золото. Джильпинг оставался у нагарнуков, которые после победоносной войны с дундарупами наслаждались благами мира в своих деревнях. Дикари очень полюбили англичанина, который чрезвычайно забавлял их игрой на кларнете.
Получив депешу, Оливье, Виллиго и Дик сели на мустангов и поехали в Мельбурн, где намеревались остановиться в «Восточной гостинице». На подъезде их встретил сам Лоран, уже успевший приехать.
— Ты один? — спросил Оливье после обмена приветствиями.
Лоран, не отвечая, приложил палец к губам.
Действительно, в подъезде гостиницы не место было для интимного разговора о делах. Граф Лорагюэ велел слуге приготовить комнаты и пригласить за собою Лорана и прочих друзей. Едва за ними затворилась дверь, как Лоран сказал:
— Давайте говорить так, чтобы нас совершенно невозможно было слышать. За мной все время следили две какие-то личности, остановившиеся через стену от нашего номера.
— Ты видел их? Как ты их узнал?
— Я ничего не узнал. Мне сказал m-r Люс.
— Кто это — m-r Люс?
Лоран заговорил еще тише, так что его едва можно было слышать.
— Его сиятельство маркиз, ваш батюшка, нанял для вас — знаете кого? Самого бывшего начальника парижской сыскной полиции. Тому уже давно хотелось оставить службу из-за личных неудовольствий, и он воспользовался теперь случаем. Сам господин префект сказал вашему батюшке про этого человека, что он «полицейский гений». Но довольно, не будем здесь говорить.
— Господа, — громко сказал Дик, — не прогуляться ли нам по набережной до обеда? Кстати, посмотрим на приготовления к завтрашнему празднику.
— Что ж, я очень рад! — отвечал граф и тихо прибавил: — Возьмем экипаж.
Мысль была удачная, и все в знак согласия кивнули головою.
Дорогой их обогнал в высшей степени представительный господин с разноцветной бутоньеркой в петлице. Лоран почтительно ему поклонился. Незнакомец ответил на поклон с величаво-благосклонной вежливостью и прошел мимо, не обратив никакого внимания на спутников Лорана, которые тоже поклонились ему из приличия.
— Кто этот гордец? — спросил с досадою граф д'Антрэг.
— Это барон де Функаль, португальский генеральный консул в Мельбурне. Я с ним познакомился на пароходе! — отвечал Лоран с незаметной улыбкой.
— Нельзя сказать, чтобы он был слишком хорошо воспитан! — возразил Оливье.
На это замечание никто ничего не ответил, и встреча с бароном не имела дальнейших последствий.
На углу Ярро-стрит и набережной находилось экипажное заведение, где Оливье спросил на неделю четырехместный шарабан с лошадьми, но без кучера.
— Без кучера? — спросил содержатель экипажей. — Это будет стоить 20 долларов в день и 2000 залога.
— Залог-то зачем же?
— А на случай, если вы не возвратите или изломаете экипаж. Ведь я вас совсем не знаю!
— Верно, — согласился Оливье и, вынув чековую книжку, написал на требуемую сумму чек с уплатою через 9 дней.
Четверть часа спустя наши друзья выехали за город, где их разговора не могли подслушать ничьи нескромные уши. Уезжая, они заметили какого-то нищего, который так внимательно глядел на них, что даже позабыл попросить у них милостыню.
Лоран, ехавший за кучера, остановил экипаж на песчаной отмели, окруженной пенистыми волнами. Океан был спокоен, как озеро; место было ровное, так что никто не мог спрятаться поблизости и подслушивать.
Верный слуга, сообщив молодому человеку все сведения об его отце, передал ему письма маркиза и целый архив документов касательно прииска и концессии на него. Затем он отдал ему отчет в поручении.
Благодаря связям маркиза и письмам Джильпинга концессия на прииск была выдана без всяких оговорок.
— Вы приехали вовремя, — сказал при этом Лорану статс-секретарь по делам колоний, — это последняя концессия, которую мы выдаем сами, потому что у нас решено даровать Австралии self-governement.
Декрет о концессии уступал графу д'Антрэгу во владение огромное пространство земли (в несколько тысяч гектаров) с освобождением этого участка в виде особенной милости от государственного сбора на десять лет. Тем же декретом предписывалось мельбурнской администрации немедленно внести этот участок в кадастр с изъятием его из поземельного обложения на такой же срок.
— Прекрасно! Очень хорошо! — вскричал граф, выслушав ответ Лорана. — Расскажи теперь о тех лицах, которых вы с отцом моим завербовали. В каком роде эти господа?
— Главного из них вы уже видели.
— Я? Когда же?
— Господин Люс, бывший начальник сыскной полиции, нанятый вашим батюшкой, — это не кто иной, как господин де Функаль, португальский генеральный консул в Мельбурне.
— Может ли это быть? — вскричал удивленный Оливье.
— Очень может. Этот титул одна маска. Ваш батюшка выхлопотал его для господина Люса у португальского посланника; это не стоило большого труда, потому что у португальцев нет в Мельбурне представителя, а господин Люс не потребовал ни жалованья, ни денег на канцелярию. Два отличных агента, известных один под именем Коко, другой — Люцена, назначены состоять при консуле в качестве правителя дел и секретаря. Правителю дел дано имя дон Кристовал, а секретарю — Педро де Сильва. Вообще мы теперь сильны, и Невидимые только держись. Ловкий человек этот господин Люс или де Функаль, честное слово. Как вы думаете? Ведь он уж успел побывать в России и все разведать. Он привез самые точные сведения о средствах и намерениях Невидимых. Между прочим, он говорит, что ваша смерть решена ими бесповоротно. Но только вы не беспокойтесь. С его помощью мы сумеем вас оградить. Отъезжая в Австралию, он велел мне сделать вид, будто мы друг друга не знаем и впервые знакомимся на пароходе. Он-то мне и сказал, что за мной все время следят двое, а сам я никогда бы, пожалуй, не догадался. Точно так же он и вас велел предупредить, чтобы вы не спешили вступать с ним в сношения, а дожидались бы случая познакомиться гласно и открыто… Ах, если бы вы только видели, как хорошо они все трое играют свою роль!.. Да, я еще забыл сообщить вам его денежные условия. Он обязуется переловить Невидимых и предать их в руки русского правосудия, обязуется, кроме того, возобновить союз ваш с мадемуазель Надеждой, а вы должны отсчитать ему в день своей свадьбы с нею круглый миллион. До тех же пор вы должны платить ему 50000 франков жалованья и расходов. Товарищи его должны получать от вас по 15000 франков в год, а по окончании дела вы должны заплатить им единовременно 100000 франков. Сверх того барон де Функаль требует открытия для него кредита у какого-нибудь банкира. Для вида это будет кредит на консульские расходы, а в действительности — на чрезвычайные издержки по вашему делу. Маркизу эти требования показались чрезмерными, но я, помня слова господина Дика, не велевшего щадить издержек, решился подписать контракт.
— И отлично сделали, Лоран; дайте пожать за это вашу руку! — горячо сказал Дик.
Оливье поблагодарил канадца нежной улыбкой.
Лоран продолжал:
— Остается досказать немного. По приезде сюда я получил от барона письмо, где он пишет, чтобы я берегся новых знакомств и был как можно осторожнее, помня, что и стены имеют иногда уши. Поэтому я и не хотел говорить с вами в гостинице. Переписываться с вами он обещается посредством шифрованных писем, которые просит немедленно сжигать. Теперь я все сказал.
Горячие поздравления посыпались по адресу Лорана, когда он окончил свой доклад. Оливье сказал ему с глубоким чувством:
— Лоран, ты с нынешнего дня не слуга мне, а любимейший друг. От прежних отношений разреши мне только сохранить привычку говорить тебе ты… Ведь ты позволишь, друг, да?
— О граф! — только и мог произнести растроганный Лоран, бросаясь к графу, который крепко сжал его в объятиях.
По лицу старика текли горячие слезы.
Канадец отошел в сторону, чтобы скрыть свое волнение. Виллиго как будто равнодушно глядел на зеленые волны, но даже и он был тронут.
— Что касается вас, Дик, — обратился затем Оливье к канадцу, — то я уж и не знаю, как вас благодарить. Я вам так много обязан, что останусь вечным вашим должником. Вы дали мне средства достигнуть заветной моей цели… Я никогда, никогда не забуду вашего благодеяния.
— Вы мне ничего не должны, граф, — возразил Дик. — Я только плачу долг моего отца. Кроме того, я вас так полюбил, что для меня уже большая награда ваша дружба, ваше расположение…
На основании доклада Лорана и советов барона де Функаля, друзья решили сложить покуда руки и положиться во всем на бывшего полицейского, который брался разоблачить и расстроить все махинации Невидимых.
Виллиго тоже был поставлен Диком в известность относительно положения дел. Он молчаливым кивком присоединился к решению друзей, но в душе решился удвоить свой собственный надзор за братом своим Тиданой и его юным другом. Он не понимал тонкостей европейской полицейской службы и не полагался на них, надеясь, как дикарь, больше на свою собственную зоркость.
Возвращаясь шагом в Мельбурн, друзья окончательно выработали между собою общий план действий. Дик взялся набрать небольшую, но надежную партию рудокопов для разработки прииска, к которой предположено было приступить немедленно по занесении в кадастр отведенного графу Лорагюэ участка. Виллиго со своей стороны обещал перевести лагерь своего племени на это время поближе к прииску, чтобы защищать его от набегов и других туземцев.
Последнее обещание было нетрудно исполнить. Нагарнуки, как почти все охотничьи племена, вели кочевую жизнь, обусловленную постоянным перелетом и переходом дичи с одного места на другое. Перенести нагарнукскую деревню с места на место ничего не стоило; такие деревни состоят обыкновенно из палаток, сложенных из шкур кенгуру, и напоминают скорее лагеря, чем деревни.
Возвративши хозяину экипаж, путешественники вернулись в гостиницу отдохнуть после длинного и трудного переезда из Сиднея в Мельбурн. Они условились после праздника нанять где-нибудь в городе домик-особняк, чтобы без стеснения говорить о своих делах, чего нельзя было делать в гостинице ввиду окружавшего их шпионства.
Только что они разошлись по комнатам, как Виллиго завернулся в свой пестрый плащ и тихо вышел из гостиницы, не позабыв захватить с собой кинжал, бумеранг и револьвер, подарок Оливье.
Зачем он это сделал? Или чутье дикаря подсказало ему что-нибудь недоброе? Это покажут последствия.
III
Человек в маске и Том Поуель. — Торг. — Пятьдесят тысяч долларов за один удар кулака.
На улицах города зажжена была иллюминация, на всех домах развевались пестрые флаги. Толпы народа ходили по тротуарам, отчаянно жестикулируя и громко разговаривая.
Город заранее волновался в ожидании праздника. По-прежнему спорили «поуельянцы» с «тайлерьянцами». Американская колония делала восторженные овации Тайлеру, англичане чествовали банкетом Поуеля. Американцы заранее трубили победу своего соотечественника и пророчили его сопернику постыдное поражение, а англо-австралийцы пророчили торжество Поуелю.
Наконец, американцы придумали следующую штуку: в торжественной процессии они пронесли по улицам гроб, на котором искусно сделанными серебряными словами было написано имя Поуеля. Англичане не остались в долгу и пронесли по улицам виселицу с изображением Тайлера.
Одним словом, Мельбурн в эту ночь заснул самым тревожным сном.
Том Поуель занимал хорошенький коттедж на окраине города, предоставленный в его распоряжение поклонниками. Он вернулся к себе домой после овации, часу во втором ночи, и сейчас же уселся в ванну, чтобы размять члены и сделать их более гибкими для завтрашнего бокса. Только что он успел расположиться, как его слуга-негр доложил о каком-то незнакомом господине, который желал видеть Поуеля.
— Опять какой-нибудь «сочувственник»! — проворчал силач. — Ну что ж, пусть входит сюда, если желает меня видеть. Для него я ни в каком случае не стану одеваться.
— Я и не желаю, чтобы вы для меня беспокоились, — сказал неожиданно вошедший вслед за слугою незнакомец. — Мы можем поговорить и здесь!
— Чему я обязан вашим посещением? — не особенно любезно отнесся к гостю хозяин дома.
Незнакомец выразительно поглядел на негра.
— Оставь нас одних, Боб. — обратился Поуель к негру, и, когда тот ушел, продолжал: — Теперь, сэр, вы можете говорить.
Незнакомец сбросил плащ, в который был закутан по самый лоб, и обнаружил свое лицо. Оно было замаскировано.
Поуель даже приподнялся в ванне и несколько минут глядел на гостя с нескрываемым удивлением.
— Что значит этот фокус? — спросил он наконец. — Теперь ведь не святки, кажется.
Замаскированный гость стоял и любовался могучим сложением атлета.
— Я много слышал о вас, — заговорил он, не отвечая на вопрос, — но то, что вижу, превосходит все мои ожидания… Что же касается до моей маски, то на это у меня есть свои причины.
— Ну и Бог с вами, коли так, — отвечал боксер, растаяв от этой лести.
— Мне ваших причин, пожалуй, и не нужно знать, мне все равно. Говорите же, зачем вы пожаловали?
— Я несколько затрудняюсь, как поступить… Мне, знаете, нужно предложить вам одну сделку… но только, знаете, так, чтобы наш разговор во всяком случае остался в секрете; примете вы ее или нет?
— Не понимаю.
— Я попрошу вас об одной услуге, но только вы не должны спрашивать, зачем она мне нужна, не должны требовать от меня никаких объяснений.
— Я не любопытен. Если услуга вообще исполнимая, то мне и не нужно никаких объяснений. Какое мне дело до ваших дел? Я вас и не знаю совсем!
— Ну-с, так вот что. В Мельбурне есть один человек, который стесняет меня и моих сотоварищей.
— Что же, убить мне его, что ли, прикажете? Так я этими делами не занимаюсь.
— Вовсе нет. Вы сначала выслушайте до конца. Этот человек все равно будет скоро у нас в руках. Но у него есть друг, который оказывает ему могущественную поддержку…
— Понимаю. Значит, вы хотите избавиться от него?
— Именно. Но только вовсе не убийством… Фи! Это было бы гнусно.
— Так. Значит, вы изобрели средство «отделываться» от людей, не убивая их?
— Убивая, но вместе с тем предоставляя им защищаться тем же оружием.
— Вы говорите все какими-то загадками.
— Мистер Поуель, в Англии вы много народа отправили к праотцам. Неужели все это были убийства?
— Нисколько! Сами судьи признавали, что я действовал честно.
— Что было честно в Лондоне, то разве не будет честно и в Мельбурне?
— Как! Неужели и для вас интересно, чтобы я уничтожил Джемса Тайлера?
— Не о нем вовсе речь.
— Так неужели о Сэме или об ирландце-дураке?
— И не о них.
— Очень приятно, потому что мне и драться с ними не хочется… Ведь я их одним кулаком уничтожу. Стоит ли вам за них и платить?
— Успокойтесь, я подразумеваю более достойного вас противника. У вас будет еще один противник, француз, которого вы еще не знаете. Только согласитесь, мы за ценой не постоим.
— Но послушайте: а совесть-то?
«О, о! — подумал незнакомец. — Кажется, это будет стоить дороже, чем я рассчитывал!»
И он произнес вслух:
— Что же совесть? Он француз; принимая его вызов, вы являетесь как бы защитником чести Англии против Франции. Вас подогреет патриотизм. Разве не естественно при таких обстоятельствах нанести удар сильнее, чем следует?
— Кто же он такой?
— Канадец, зовут его Дик Лефошер.
— Так как же вы сказали, что он француз? Он английский подданный: Канада принадлежит ведь нам!
— Он только родом канадец, а происхождением француз и французский подданный!
— Чем он занимается?
— О! Он простой лесовик.
— Но тот-то, его друг?
— Этого я вам не скажу.
— Не скажете? Тем хуже для вас. Я сдеру с вас за него, как за принца, потому что почем я знаю: может быть, благодаря мне вы получите этим путем огромную выгоду.
И атлет захохотал грубым, циничным смехом.
— Сколько же? — спросил незнакомец.
— 50000 долларов, и это крайняя цена!
— Хорошо. Вы немедленно после боя получите от верного человека чек на 250000 франков.
— Ну, значит, не годится.
— Почему?
— Что я, ребенок, что ли? А вдруг вы от всего отопретесь и не заплатите мне? Нет-с, вы извольте выдать мне чек теперь же, вперед.
— С какой стати мы-то вам будем верить? Кто нам поручится, что вы нас тоже не обманете?
— Позвольте. Я Том Поуель. Меня все знают не только здесь, но и везде, где угодно, и всякий за меня поручится. Я своим словом всегда дорожил и дорожу. А вы-то кто сами? Ведь вы даже маски не хотите снять. Снимите маску, скажите мне свое имя, тогда другой будет разговор.
— Это невозможно.
— В таком случае прощайте!
— Я не то хотел сказать. Маски я не сниму, но заплатить вперед согласен. Вот вам чек!
И незнакомец, достав из бумажника чековую книжку и дорожное перо с чернилами, написал чек с уплатою через день по предъявлении.
Поуель внимательно проглядел чек и возвратил его обратно.
— Нет, — сказал он, — мне такого не нужно. Я очень хорошо понимаю, что с этой оговоркой «через день» вы можете всегда остановить уплату. Это все равно что не чек. Напишите мне обыкновенный чек или убирайтесь.
Незнакомец нетерпеливо передернул плечами, но ни слова не сказал и послушно написал другой чек, просто с уплатою по предъявлении.
— Вот, — сказал он, подавая чек Поуелю, — получите. Вам теперь заплачено, но если вы вздумаете нас обмануть, то берегитесь: наша месть неумолима… До свиданья покуда, сэр Поуель. Вашу руку!
— Можно и без этих нежностей обойтись! — отвечал грубым тоном атлет.
«Нахал!» — сказал про себя незнакомец.
— Дрянь этакая! — довольно громко буркнул атлет.
Они расстались. Том Поуель вышел из ванной, прошел к себе в спальню, запер чек в несгораемую шкатулку и со спокойною совестью улегся в постель.
IV
Французский митинг. — Нахальный вызов. — Чемпион Франции.
На другой день утром, при громкой салютационной стрельбе с кораблей, которым отвечали батареи с гавани, жители Мельбурна читали на расклеенных повсюду афишах дерзкий, оскорбительный вызов французам и Франции, которые приглашались выставить бойца, чтобы померяться силой с Томом Поуелем. Это взволновало всю французскую колонию. Лоран, делая утреннюю прогулку по улицам, прочитал объявление и, не помня себя от гнева, хотел сейчас пойти и записаться в число бойцов, но удержался, сообразив, что надо сначала посоветоваться с графом д'Антрэгом. Поэтому он вернулся в гостиницу, где ему сказали, что к ним приходил уже посланный с приглашением прийти в ресторан Колле, куда собрались все проживающие в Мельбурне французы. У порога дома он застал уже вышедших Оливье и Дика, готовых идти на праздник. С лихорадочной поспешностью Лоран сообщил им свое намерение.
— Ты! — вскричал Оливье. — Ты хочешь бороться с Томом Поуелем! Я ни за что этого не допущу.
— Почему? — пролепетал огорченный Лоран.
— Потому что он убьет тебя с первого же кулака. Если мне не веришь, спроси Дика. Он тебе то же самое скажет.
— Граф совершенно прав, — заметил Дик. — Я вам сейчас объясню. Вы умеете фехтовать?
— Даже очень хорошо.
— Что бы вы сказали, если бы какой-нибудь человек вышел на дуэль, не умея держать в руках шпаги?
— Я бы сказал, что он сумасшедший!
— Точно так же и в боксе. Вам нечего и думать о том, чтобы состязаться с Томом Поуелем.
— Так неужели дерзкий вызов останется без ответа? — с огорчением спросил Лоран.
— Нет, мы сейчас идем на сходку в ресторан Колле, где и будет обсуждаться этот вопрос.
В назначенный час наши друзья явились на сходку. В ресторан уже собралось человек до пятисот французов. Виллиго не было с друзьями, потому что он ушел куда-то и еще не возвращался.
На собрании канадец был выше всех головою: его рост и сложение сейчас же обратили на себя всеобщее внимание и вызвали рокот восторга. В уме у всех присутствующих невольно мелькнула мысль, что ему следует быть представителем Франции.
Председателем сходки был выбран банкир Морис Голлар, который немедленно открыл совещание предложением решить вопрос: принимать или не принимать вызов? Вопрос был решен единогласно в утвердительном смысле. Тогда Голлар обратился к собранию с предостережением.
— Господа, Том Поуель противник серьезный. При выборе бойца за Францию следует быть крайне осмотрительными и не спешить, а хорошенько взвесить физические качества кандидата.
Эта краткая речь была встречена рукоплесканиями. Она предостерегала против тех людей, которые заявили бы себя кандидатами только из жадности к деньгам, так как уже была открыта подписка для награды в пользу того, кто выступит соперником английского силача, все равно, победит он или нет.
Однако этот последний был так страшен, что вызвалось только пять человек, желающих с ним померяться. Будь эта дуэль на холодном или огнестрельном оружии, их, наверное, вызвалось бы больше сотни, но бокс — искусство специально английское, в котором французы далеко не мастера.
Когда желающие начали понемногу выходить из толпы, глаза всех устремились на канадца. Собрание, видимо, интересовалось узнать, какое решение он примет. Дик обменялся несколькими словами с графом Лорагюэ. Собрание тревожно дожидалось. Но вот канадец тихо и скромно, без малейшего хвастовства направился к эстраде. Громкое «ура» и оглушительные аплодисменты пронеслись по обширной зале ресторана; прошло несколько минут, прежде чем президенту удалось успокоить митинг.
При этой дружной овации остальные кандидаты проворно спрыгнули с эстрады и, желая показать, что они охотно уступают честь Дику, тоже принялись кричать «ура», и аплодировать. То был для Дика настоящий триумф. Когда наконец водворилась тишина, президент взволнованным голосом объявил Дика Лефошера борцом за французов.
Дик поблагодарил соотечественников за единогласный выбор и тут же объявил, что всю подписную сумму он жертвует в пользу французской больницы, которую собиралось устроить местное благотворительное общество. Такое бескорыстие окончательно растрогало присутствующих, и они немедленно открыли подписку для поднесения своему борцу золотого кубка на память об этом дне.
V
Борьба. — Таинственное предостережение. — Функаль и сыщик Люс. — Слишком поздно. — Победа чемпиона Франции. — Вечер в клубе. — Еще одно предостережение. — Могила Оливье.
Между тем праздник шел своим чередом. Смотр уже кончился, мельбурнские власти завтракали на борту броненосца. «Виктория», где, между прочим, находились генерал-губернатор, адмирал и все офицеры.
За десертом пришло известие, что какой-то француз принял вызов Тома Поуеля. Головы пирующих были уже разгорячены вином, и известие было принято с шутками в британском, несколько грубоватом вкусе.
После завтрака все отправились на берег, где назначено было состязание. Подле арены, огражденной железными цепями, были устроены трибуны для почетных зрителей. Толпа теснилась кругом. Перед трибунами стояли борцы со своими дядьками; обязанность последних состояла в том, чтобы следить за правильностью ударов и вообще разрешать все могущие возникнуть вопросы о порядке боя.
Судья поединка не имел права объявлять кого-нибудь победителем; он должен был ограничиться только заявлением фактов, причем было условлено, что бой должен считаться оконченным, если кто-нибудь из противников попросит пощады или пролежит на земле более пяти минут.
Дядьками Дика были Лоран и Оливье. В первое время граф нисколько не беспокоился за Дика и был полон радостных надежд на его торжество. Но при выходе из гостиницы какой-то нищий сунул ему в руку записку и сейчас же скрылся в толпе. В записке значилось:
«Сегодня ночью лазутчик Невидимых заплатил Тому Поуелю 250000 франков за убийство Дика Лефошера».
Оливье немедленно сообщил другу содержание записки, говоря:
— Видите, они переменили фронт и принялись за вас, чтобы легче справиться со мною.
— Мистер Поуель продал шкуру еще не убитого медведя, — просто заметил Дик. — Невидимые очень хорошо попались со своими деньгами.
— Это, должно быть, господин де Функаль извещает, — продолжал Оливье.
— Только теперь, пожалуй, уж поздно.
— Напротив, теперь самая пора, — возразил Дик. — Я приму свои меры…
В глазах канадца блеснул недобрый огонек, но сейчас же потух, и он продолжал совершенно спокойно:
— Ваш батюшка сделал превосходную находку. Господин де Функаль неоценим.
Но уверенность Дика не сообщилась графу. У него защемило сердце, когда затрубили к началу боя и приступили к обычным предварительным формальностям.
Прежде всего судья поединка представил всех четырех бойцов генерал-губернатору и лорд-мэру. Глядя на могучие формы Тома Поуеля, англичане пришли в восторг и потребовали, чтобы музыка проиграла «Rule Britania» в честь героя дня.
На противоположной стороне царила глубокая тишина. Когда замолк последний звук оркестра, канадец в свою очередь выступил вперед, чтобы представиться властям. До сих пор он держался скромно, в стороне, и на него не обращали внимания, но, когда он выдвинулся вперед, шум утих среди англичан, и они поняли, что готовится бой нешуточный.
Впечатление усиливалось еще вследствие глубокой тишины в лагере французов и американцев, которая составляла резкий контраст с шумным восторгом англичан. Даже Том Поуель притих и покинул свою хвастливо-вызывающую позу. Быть может, в первый раз в жизни он почувствовал страх перед противником.
Затем приступлено было к метанию жребия, которое должно было решить, в каком порядке бойцам выходить на состязание. Том Поуель тревожно следил за этой формальностью. Он чувствовал, что если первому выходить достанется Джемсу Тайлеру, то после борьбы с этим сильным противником ему, Поуелю, будет мат, потому что с канадцем он тоже не сладит вследствие сильного утомления. Английский силач стал даже раскаиваться в своем хвастовстве, побудившем его вызвать на бой все национальности одновременно.
Но судьба смиловалась: первый номер достался негру Сэму, второй Дику Лефошеру, третий американцу, а четвертый ирландцу.
Однако он все-таки подвергался опасности. Даже если бы он и победил француза, то, во всяком случае, вышел бы из боя в таком плачевном виде, что торжество американца было бы несомненно.
Эта мысль пришла в голову всем англичанам. Том Поуель упал духом. Послали тайную депутацию к лорд-мэру, который пригласил к себе судью боя и поговорил с ним. Судья обещал после боя с Диком остановить бокс и отложить его до другого дня. Это он мог сделать собственною властью по правилам боя.
Обещание судьи сообщили Тому Поуелю, и он снова ободрился. Толпа не заметила этих переговоров и преспокойно ждала.
Наконец раздался давно ожидаемый сигнал. Троекратно протрубили трубы. Дядьки подвели бойцов друг к другу и отошли в сторону.
Том Поуель сказал, презрительно указывая на Сэма:
— Этот пойдет на закуску!
Сэм смело встал против своего противника, поднял как следует кулаки вровень с лицом, но — увы! — не прошло пяти минут, как он уже лежал, поверженный на землю ударом кулака в самую середину лба. Его унесли с арены чуть живого.
При виде бесчувственного тела негра Сэма Оливье побледнел как смерть и едва устоял на ногах.
После пятиминутного перерыва снова проиграли трубы. Пришла очередь канадца. Приближалась настоящая битва.
На набережной, на улицах теснились массы народа, крыши домов и даже мачты кораблей были усеяны любопытными. Ветви деревьев положительно гнулись под тяжестью взобравшихся на них людей: всякому хотелось взглянуть на несомненное торжество Тома Поуеля.
Волнение Оливье не имело границ.
— Не бойтесь, граф, — тихо уговаривал его Дик. — Успокойтесь, пожалуйста, подумайте: весь Мельбурн смотрит на нас.
— Если б дело шло о моей жизни, — возразил граф Лорагюэ, — я бы не волновался так. Но ведь тут замешаны вы, и вдобавок еще этот скот взял деньги, чтобы вас убить. Ах, Дик, Дик, это ведь все из-за меня.
— Ну, довольно, довольно. Ведите меня. Возьмите меня за руку. Скажите, разве вы находите, что она дрожит?
— Нет, Дик, она не дрожит. Но ведь уж вы, известно, человек замечательный.
— Вы вот увидите, что я сделаю из этого человека. Однако я его не убью, а только сделаю безвредным навсегда. Он уж у меня больше не будет убивать людей.
В третий раз проиграли трубы. Противники выступили вперед, сопровождаемые своими дядьками.
— Начинайте! — сказал судья боя, когда бойцы сошлись.
Том Поуель сейчас же встал в оборонительную позицию, словно опасаясь торопливого нападения. Сразу же стало ясно, что на арене сошлись не обыкновенные противники, а смертельные враги и что бой между ними будет отчаянный.
Канадец сделал то же самое. Эти оба движения были исполнены с таким знанием дела, что знатоки из публики пришли в восторг.
— Милорд Сеймор, — сказал адмирал Сидней на ухо генерал-губернатору, — у нас, кажется, будет самый великолепный бокс, какой только может быть.
Губернатор кивнул с улыбкой головою.
Том и Дик, крепко став на ноги и вытянув шеи, в течение нескольких секунд меряли друг друга глазами. Ни тот, ни другой не решались начинать. Англичанин опасался употреблять со своим противником обычный, избитый маневр, так удавшийся ему с несчастным Сэмом, а канадец хотел сначала узнать намерения врага и тогда уже действовать. У него была своя строго выработанная тактика, которой он и хотел придерживаться.
Во всех боях, в каких ему приходилось участвовать, он обнаруживал одно всеми признанное качество: замечательную точность рипоста. Поэтому он и теперь решился только делать рипосты и не нападать самому, покуда противник не утомится и не выбьется из сил. При его флегматическом, спокойном темпераменте эта тактика обещала особенный успех в борьбе с желчным, раздражительным Поуелем.
Время, покуда противники наблюдали друг друга, показалось зрителям целою вечностью. Наконец англичанин решился начать нападение, не выходя, впрочем, совершенно из оборонительной позиции. Он сделал три или четыре финта, но всякий раз встречал кулаки Дика, поднятые вровень с лицом. Тогда он направил на канадца удар, который, если бы достиг цели, пришелся бы последнему прямо в нижнюю челюсть. Но кулак англичанина встретил громадную руку, которая отразила удар, не сделав, впрочем, рипоста. Все это совершено было обоими бойцами с замечательной точностью, точно в фехтовальной зале.
Раздалось громкое «браво». Публика приветствовала этот первый мастерский удар. За первым последовало еще два или три. Они тоже не привели ни к какому осязаемому результату, но до крайности раздражили Поуеля, который сердито пробормотал сквозь зубы, хотя это запрещалось правилами бокса:
— Да бейте же, сэр!
— А вам, видно, очень хочется заработать 50000 долларов? — в тон ему возразил канадец, намекая на сделку с Невидимыми.
Вся кровь бросилась в лицо англичанину, в глазах у него помутилось, и он едва не упал, но самолюбие взяло верх, и он скоро оправился. Как ни мимолетно было его смущение, все-таки Дик мог бы им воспользоваться и одним ударом кончить борьбу. Но канадец был настолько честен, что ему даже в голову не пришла подобная мысль.
Опомнившись от изумления, англичанин пришел в ярость. Теперь он только и думал о том, чтобы поскорее отомстить. Он напал на противника с бешенством, которое нисколько не уменьшило его ловкости. Все заметили, что он готовит решительный удар. Кулаки его вертелись около лица Дика с изумительной быстротой. Англичанин делал всевозможные притворные удары, чтобы сбить с толку противника. Это продолжалось минуты три. Зрители затаили дыхание. Каждый понимал, что решительный удар, от которого обыкновенно зависит исход боя, недолго заставит себя ждать. Вот англичанин откинулся назад всем корпусом и вытянул вперед свою стальную руку. Женщины вскрикнули и закрыли себе лицо руками. Но удар не попал в цель. Левою рукой гигант-канадец в одно мгновение отразил ужасный удар, а правая рука его с быстротою молнии опустилась тяжелым молотом на нижнюю часть лица Поуеля. Дядьки обеих сторон услыхали хруст костей; на землю хлынули ручьи крови, и непобедимый Том Поуель, борец за старую Англию, растянулся во весь свой громадный рост на арене.
В английском лагере послышался глухой ропот, а с французской стороны понеслись аплодисменты и восторженные крики: «Ура, Франция! Ура, Дик Лефошер!»
Но Том Поуель не признавал себя побежденным. Он быстро вскочил с земли и встал в позицию. Его дядьки подбежали к нему и потребовали пятиминутного перерыва для временной перевязки. Это было согласно с правилами, но продление перерыва зависело от согласия Дика, который готов был согласиться на все, чего бы от него ни потребовали.
Подошел доктор и нашел у Поуеля раздробление обеих челюстей. Говорить англичанин уже не мог. Дядьки стали его убеждать, чтобы он признал себя побежденным, но Поуель решительно отказался. Толпа роптала. Том Поуель и сам понимал, что если он откажется от продолжения боя, то покроет себя позором и никогда не получит прощения от своих соотечественников, тем более что те слишком далеко зашли в своем хвастовстве.
Скоро Дику пришлось убедиться, что раненый противник его не сделался менее опасным после первого поражения. Пылая местью, англичанин нападал с бешенством отчаяния. Была минута, когда Дик нечаянно поскользнулся, отражая удар, и Том Поуель воспользовался этой оплошностью, чтобы нанести ему сильный удар в висок, но так как этот удар был все-таки сильно ослаблен ответным ударом Дика, то и не причинил канадцу большого вреда. Зато Дик понял, что с англичанином церемониться нечего и что жалеть его не стоит. Он припомнил всех несчастных, убитых Поуелем, припомнил его гнусный торг с замаскированным человеком и решился покончить с негодяем. Выждав время, он после одного ловкого отражения нанес Тому Поуелю в голову двойной удар обоими кулаками разом. Англичанин захрипел и покатился по арене. Его подняли.
Том Поуель лишился зрения на весь остаток своей жизни. Его дядьки признали себя побежденными от его имени, и судья поединка волей-неволей был вынужден провозгласить Дика Лефошера, борца за Францию, победителем Тома Поуеля, борца за Англию.
Невозможно описать восторг французов. Они схватили отбивавшегося Дика и торжественно понесли его в ресторан Колле, где немедленно был устроен в честь победителя великолепный банкет. Англичане притихли и в досаде не зажгли даже приготовленной иллюминации. Только один ресторан Колле горел блистательными огнями.
На банкете в числе других приглашенных были почти все консулы, и было замечено, что итальянский генеральный консул особенно горячо приветствовал и поздравлял Дика. Он сказал такой прочувствованный спич, забывая даже обязательную дипломатическую сдержанность, что все присутствующие наэлектризовались. Среди громкого хлопанья пробок десятки, сотни рук потянулись к Дику с бокалами. Все пили, все кричали: «Да здравствует Франция! Да здравствует Дик Лефошер!»
И вдруг среди этого шума Оливье услыхал, что кто-то шепчет ему на ухо:
— Итальянский консул в сообществе с Невидимыми.
Молодой человек вздрогнул и подумал о бароне де Функале. Поискав дипломата-сыщика глазами, Оливье увидал его на противоположном конце зала, где тот стоял и разговаривал с американским консулом. Оливье сообразил, что шепнуть ему этих слов он не мог.
Молодой человек хотел было подойти к Дику и сообщить ему это известие, но до канадца невозможно было добраться: его окружала тесная толпа. Он ограничился тем, что подошел к Лорану и поговорил с ним. Решили, что Лоран сейчас же спросит объяснений у барона де Функаля. Когда Лоран направился к дипломату через всю залу, тот увидал его и сразу догадался сделать так, чтобы приход Лорана никому не бросился в глаза. Он вскрикнул с самым радушным видом:
— А! Мой спутник по «Вечерней звезде» (так назывался пароход, на котором они приехали в Мельбурн). Как я рад вас видеть! Неужели вам не, стыдно не навестить меня ни разу по приезде? А еще обещались!
Лоран в смущении пробормотал несколько слов. Искусство, с которым барон разыграл свою роль, удивило его до крайности. Барон продолжал:
— Да уж не оправдывайтесь! Нехорошо. — Потом он вдруг понизил голос и сказал торопливо: — Невидимые что-то затевают. Постараюсь к завтрашнему утру разузнать все подробно.
Около разговаривающих терлись две какие-то личности. Барон прибавил довольно громко, чтобы они слышали:
— Я слышал, что вы очень хороши с победителем Поуеля. Познакомьте меня с ним, пожалуйста. И знаете что? Приезжайте-ка завтра ко мне обедать с ним вместе. Это будет очень хорошо, право!
Лоран поклонился, и оба они направились к Дику, который в это время разговаривал с Оливье.
Познакомив консула с Диком, Лоран представил его и графу Лорагюэ.
Барон поклонился с аристократической непринужденностью и сказал:
— Ваше имя мне знакомо. Я знавал в Париже маркиза Лорагюэ. Очень приятно познакомиться. Граф, ваши друзья приняли мое приглашение пожаловать завтра ко мне на обед в консульство. Буду очень счастлив, если и вы тоже сделаете мне честь…
— Благодарю, барон… С величайшим удовольствием.
Граф Лорагюэ держал себя с бароном вежливо и любезно, но в его обращении незаметно сказывалось, что если он и играет роль, то все-таки ни в каком случае не допустит фамильярности.
— Итак, я могу на вас рассчитывать?
— Я приеду с обоими друзьями.
Барон де Функаль откланялся и, отговорившись делами, уехал с банкета. Проходя мимо графа, он слегка задел его плечом, и в ту же минуту Оливье почувствовал, что ему в карман что-то положили. Вскоре и наши друзья вернулись в «Восточную гостиницу».
При выходе из ресторана они увидали у подъезда Блэка, который прибежал сюда дожидаться хозяина.
— Какими судьбами ты здесь, Блэк? — вскричал Оливье. — Ведь я же запер тебя в комнате, когда уходил.
Умное животное махало хвостом с лукавым видом.
— Очень понятно, — заметил Дик, — кто-нибудь из прислуги входил в номер, и Блэк этим воспользовался.
По приходе в гостиницу друзья узнали, что Виллиго еще не возвращался.
— Поверьте, он знает, что делает, — заметил графу Дик. — Когда он вернется, он нам расскажет все, и мы, наверное, узнаем что-нибудь важное и интересное.
Хотя было уже поздно, друзья собрались вместе, чтобы поболтать. Но разговор не клеился. Все трое чувствовали непобедимую сонливость, глаза слипались, язык плохо слушался. Усевшись в креслах, они едва не заснули на месте и с трудом поднялись, чтобы проститься и разойтись по своим спальням, которые все были смежны между собою.
Оставшись один, Оливье торопливо достал из кармана вещь, положенную туда бароном де Функалем. Развернув пакетик, он увидал превосходный миниатюрный портрет своей невесты, под которым золотыми буквами было написано по-итальянски: «Speranza». Молодой человек нежно впился в него глазами, полными слез. Понемногу глаза застлались у него каким-то туманом, мысли в голове спутались, и он крепко заснул, свесив голову набок.
Тогда он увидал престранный сон. Ему почудилось, что дверь его комнаты беззвучно отворилась и к нему подошли четыре замаскированных человека. Он хотел крикнуть, но не мог; язык не послушался. Четыре человека взяли его на руки и понесли по каким-то длинным коридорам, затем пронесли через какой-то сад с железной решеткой, отворили калитку, выходившую в поле, и положили его в карету, которая, очевидно, была приготовлена заранее.
Лошади помчались, и через два часа езды карета подъехала к другой железной ограде. Ворота растворились, пропустили экипаж и снова закрылись. Карета остановилась. Замаскированные люди снова взяли Оливье на руки и внесли под какой-то темный свод, на конце которого находилась лестница, ведущая глубоко под землю. По этой лестнице они понесли Оливье. Молодой человек насчитал двадцать четыре ступени. Спустившись с лестницы, замаскированные люди пошли по длинному коридору, который привел их к темному погребу, освещенному закоптелой лампой. В погребе стояла скамейка, на которой сидел пятый замаскированный человек; подле скамейки чернела вырытая яма… О ужас! То, что граф д'Антрэг принял с первого взгляда за скамейку, оказалось гробом.
Человек, сидевший на гробе, встал и сказал:
— Граф д'Антрэг, в третий раз ты попался к нам в руки. Теперь уж никакая власть земная тебя не спасет. Тебе здесь положен запас пищи на две недели и на столько же времени запас света; дверь, через которую ты вошел, будет заделана. Это — последнее снисхождение, которое мы, Невидимые, оказываем тебе. Ты знаешь, чего мы от тебя требуем. Я оставлю тебе бумаги и перо с чернилами. Напиши формальное отречение от невесты. Как только ты сделаешь это, ночью ли, днем ли, в ту же минуту ты будешь выпущен. Если же ты будешь упорствовать, то вот для тебя приготовлены здесь могила и гроб.
Человек в маске замолчал.
Онемев от ужаса, Оливье оглядывал место своего заключения, очень похожее на склеп.
По приказанию человека в маске все удалились; явились рабочие и заделали дверь.
Оливье остался замурованным в склепе… Он вскрикнул, упал в гроб и в ту же минуту проснулся.
Он упал с кресла, на котором спал. На лбу у него выступил холодный пот.
— Какой ужасный кошмар! — сказал он про себя. — Это мне напоминает историю в Петербурге… только то была действительность, а это, к счастью, сон.
Желая освежиться, граф отворил окно и выглянул на двор. Каково же было его удивление, когда он увидал точно такой же сад, какой ему приснился во сне. Это ему показалось странным. Он вздрогнул. Вместе с тем он чувствовал по-прежнему сонливую истому во всем теле, стеснение в груди и шум в ушах. За стеною ему слышался гул чьих-то незнакомых голосов.
Он как будто находился под влиянием какого-то наркотического средства. Эта мысль мелькнула у него в голове и отогнала сон; он сообразил, что если чья-нибудь преступная рука подлила ему на банкете в вино какого-нибудь снадобья, то, значит, в чьи-нибудь расчеты входило лишить его сил и воли, чтобы овладеть его личностью.
Он отошел от окна и направился к двери, которая вела в соседнюю комнату, где спал Дик. Он хотел постучать и разбудить Дика, но, проходя мимо кресла, не мог удержаться от искушения присесть. Присевши, он снова погрузился в оцепенение и прошептал, засыпая:
— Я погиб!..
На другой день канадец встал после тяжелого сна и, пошатываясь точно с похмелья, отворил дверь в комнату д'Антрэга, чтобы пожелать ему доброго утра. Заглянув в комнату, он вскрикнул изо всей мочи и лишился чувств. Он, крепкий, здоровый авантюрист, кулачный боец, победивший первого боксера в Англии, — он лишился чувств, как нервная дама: постель графа д'Антрэга была не измята, а самого его не было в комнате.
VI
«Чертов кабачок». — Мистер Боб. — След. — План Виллиго.
Как все новые города, Мельбурн развился прежде всего в «утилитарном» направлении. Сначала возникли набережные, доки, верфи, товарные склады, амбары, магазины, пробирные палатки, трактиры, кофейни, кабаки, а из всего этого образовался так называемый теперь «нижний» город. Здесь сосредоточивается вся торговля и промышленность Мельбурна, здесь кишит и толчется целый день рабочий, промышленный и торговый люд. Другой квартал города, или так называемый «верхний» город, раскинулся на другом берегу реки Ярро и занял красивую широкую равнину по обе стороны бухты Св. Филиппа. Здесь последовательно выросли губернаторский дом, дом английского епископа, биржа, роскошное здание парламента, музеи, университет, гимназии и роскошные особняки разбогатевших тузов, по большей части бывших ссыльных. В этих домах в изобилии сверкает мрамор и розовый муррейский гранит. Тут же находятся все лучшие гостиницы города, театры и красивые тенистые скверы.
Между обоими кварталами заметна огромная разница. «Нижний» город с раннего утра принимает вид улья; озабоченный деловой люд снует туда и сюда; разгружаются и нагружаются корабли, приезжают и отъезжают пассажиры, в гавани снуют лодки, по улицам гремят нагруженные товарами телеги. Но когда пройдут деловые часы, «нижний» город быстро пустеет, магазины запираются, доки затягиваются тройными железными цепями, а «верхний» город оживляется. По фешенебельным улицам его мелькают коляски, ландо и кареты, в скверах появляются расфранченные кавалеры и дамы, совершающие предобеденную прогулку. Вечером яркий свет зажигается во всех окнах, театральные и клубные фонари ярко горят, по улицам гремят экипажи, развозящие публику на балы, спектакли и концерты.
В «нижнем» городе, напротив, водворяется царство мрака; бывают освещены только грязные притоны, где собирается всякий темный люд: жулики, лесовики, беглые каторжники. В этот час опасно бывает попасть в «нижний» город; ни один полисмен не решится заглянуть туда, и беда неопытному заезжему человеку, который по незнанию туда заберется. Он будет, наверное, ограблен и убит, а наутро его труп всплывет в гавани. Результатом же явится равнодушно проведенное предварительное следствие и обычное заключение коронера «от неизвестной причины…».
В описываемый нами день «верхний» город был особенно ярко освещен и представлял поэтому резкий контраст с нижним Мельбурном.
В последнем из всех притонов самым подозрительным считался в то время трактир, содержавшийся одним отставным пиратом и известный под именем «Чертова кабачка», или «Devil's Tavern». Уже один вид бандита-трактирщика мог отвадить от трактира всякого порядочного человека. Лицом и всею фигурой мистер Боб напоминал гориллу, только рыжую и вдобавок с отвратительным рубцом от левого виска до левой нижней челюсти. На этом лице отражались всевозможные грехи и пороки. Трудно было представить себе что-нибудь безобразнее и противнее.
Ко всему этому присоединялся еще грубый до скотства нрав и ни перед чем не останавливающаяся жестокость. Все беглые каторжники, лесовики, все самые отпетые негодяи боялись мистера Боба как огня и все-таки усердно посещали его таверну. Для них у него в доме было особое помещение, куда они прятались днем; это помещение состояло из обширного подвала, тогда как собственно таверна помещалась в нижнем этаже. Днем в «Чертов кабачок» заходили и честные рабочие, солдаты, матросы и мелкие ремесленники, но ночью там можно было встретить лишь подонков общества. Тогда-то и начиналось царство мистера Боба, потому что только его одного боялся этот отпетый, ни в Бога, ни в черта не верующий люд.
Мистер Боб ненавидел Дика Лефошера. Честный канадец брал нередко на себя труд конвоировать обозы золотопромышленников и гурты скваттеров; а когда он конвоировал, то никто не смел нападать на них, зная силу Дика. За это глава разбойников, содержатель «Чертова кабачка», и чувствовал непримиримую ненависть к нему. Лично они друг друга, однако, не знали.
По случаю праздника в Мельбурне собралась масса лесовиков, и все они, разумеется, сошлись в «Devil's Tavern» потолковать со своим атаманом о разных делах. Много было званых, но мало избранных: лишь немногие выдающиеся главари были приглашены мистером Бобом в таинственный подвал, где открылось самое секретное совещание.
В этом подвале, как уже говорили, прятались днем те из посетителей «Чертова кабачка», которым совершенно немыслимо было показаться днем в благоустроенном городе; тут же хранилась и разнообразная добыча грабежей и краж, а равно производился дележ награбленного, причем мистер Боб всегда ухитрялся зацепить себе львиную долю.
И это происходило с ведома и на глазах у всех. Но кто мог помешать этому в стране, где лучшие люди, то есть сама аристократия, состоит из бывших преступников, отбывших срок наказания и не замеченных ни в чем дурном за время пребывания в Австралии?! Кроме того, никакой надзор был положительно невозможен в стране, равняющейся по протяженности 5/6 Европы, при населении в триста или четыреста тысяч душ всего-навсего.
Впрочем, можно сказать, что человечеству как будто свойственно, чтобы везде, где есть честный труд, добывающий в поте лица богатства земли, неизбежно нарождался и алчный элемент, эксплуатирующий труд других людей.
И вместо того, чтобы изменить этот порядок вещей, открытие золотых приисков, привлекшее еще большее число авантюристов в Австралию, только еще более увеличило численность злонамеренных шаек и товариществ. Дело дошло до того, что во время управления лорда Ауклэнда честные и порядочные люди были вынуждены образовать, помимо помощи официальной, бессильной и продажной, особый комитет охраны общественной безопасности.
Одним из первых действий этого комитета было повесить, без дальнейших судебных проволочек, хозяина «Чертова кабачка», мистера Боба, того самого, о котором идет речь в этой книге и подвиги которого до настоящего времени остаются легендарными в Австралии. Он действительно был душою всех преступных замыслов и преступлений и главой преступного разбойничьего сообщества, которое прекратило окончательно свое существование лишь в последнее время.
Читатель, вероятно, помнит, как Виллиго ночью, в самый день приезда в Мельбурн, исчез из гостиницы, вооружившись с головы до ног. Ниже мы объясним причины, заставившие его так поступить, а теперь скажем только, что он вернулся назад вечером в день праздника, но, не найдя своих друзей в гостинице, ушел опять. Однако он не проник в город, а обошел надворные постройки при гостинице, прошел в сад, спускавшийся к реке Ярро, и тихо направился по берегу к гавани, подозрительно осматриваясь по сторонам.
Выходя из гостиницы, он плотно завернулся в плащ, а чтобы скрыть свои густые волосы и украшения из перьев на голове, на голову надел широкополую шляпу — сомбреро.
Ночь стояла темная, не было видно ни зги. Дикарь прислушался. Вдали раздались шаги. Виллиго впился в темноту своими рысьими глазами и увидал две тени, двигавшиеся к нему навстречу по узкой дороге. Неизвестные люди шли, тихо разговаривая. Вскоре они близко столкнулись с Виллиго.
— Кто тут? — спросил один из них.
Виллиго спокойно шел дальше, как будто не слыхал их вопроса.
— Прочь с дороги, а не то пеняй на себя! — крикнул другой неизвестный.
Виллиго, не отвечая, протянул руки, схватил обоих незнакомцев за платье и, сильно встряхнув их, швырнул на дорогу. Сделай он то же самое движение в другую сторону, они полетели бы прямо в реку. Они это поняли и притихли.
— Черт возьми! — выругался один из них. — У этого негодяя здоровые кулаки.
— Вероятно, кто-нибудь из наших, — ответил другой, вставая на ноги. — Оставим его в покое.
— Оставить его в покое? О, лишь бы он-то нас оставил в покое… А мы хорошую получили встряску, нечего сказать…
Виллиго между тем спокойно продолжал идти к гавани, как ни в чем не бывало.
— Все-таки мне бы очень хотелось знать, кто это такой, — продолжал второй собеседник, собираясь догонять уходившего.
— Ты, кажется, забыл, что Боб велел нам как можно скорее исполнить поручение и ничем не отвлекаться?
— Правда. Ничего, я отыщу его после.
Два незнакомца пошли своей дорогой.
Не доходя немного набережной, Виллиго остановился, три раза крикнул ночным опоссумом и прислушался.
В нескольких шагах от него однозвучно плескалась река. Вдали глухо роптал океан, временами доносились пьяные крики лесовиков, бесчинствовавших в притонах «нижнего» города, но на призыв Виллиго не было отклика.
Виллиго крикнул еще раз. Опять не было ответа. Тогда он прошел ближе к набережной. На этот раз ему не пришлось долго ждать. Едва он здесь повторил свой крик, ему сейчас же, как эхо, ответили точно такие же звуки, и на светлом фоне освещенных окон появилась чья-то темная тень.
— Это ты, Коанук? — спросил Виллиго.
— Да! — отвечал молодой воин, в один прыжок очутившийся около него.
— А Нирроба?
— Он в подвале «Чертова кабачка» вместе с Вивагой и Ваго-Нанди подсматривает за лесовиками, так как они совещаются о чем-то важном.
— Никто не подозревает?
— Мы уже пять месяцев посещаем таверну и приобрели неограниченное доверие хозяина и его посетителей. Нас уже несколько раз пытались замешать в разные дела, но мы постоянно находили предлог уклониться.
— Хорошо, ты отличный воин.
— Если ты хочешь войти, то все готово!
— Ты предупредил?
— Я сказал, что мы ждем отца из нашей деревни.
— Ты воин, настоящий воин. Из тебя со временем выйдет вождь. Говорят они о приисках моего брата Тиданы?
— Говорят. Им известно, что вы продали самородки в Сиднее, но они не знают, где вы их нашли… Можно мне высказаться откровенно, отец мой?
— Говори смело, Коанук.
— Так пойдем скорее в таверну, а то меня, пожалуй, там хватятся.
— Иду. Еще одно слово: не посылал ли мистер Боб в город двух лесовиков?
— Послал незадолго перед тобою.
— Мне бы следовало их убить и взять у них записку. Они, наверное, несли записку. Тидана прочитал бы ее!
— Не нужно. Мы сейчас все сами узнаем. Боб сказал, что он рассчитывает на нас, потому что желает поручить все дело туземцам.
Два дикаря подошли к «Devil's Tavern». Коанук повел Виллиго темным коридором, который вел на лестницу в подвал. Он сказал пароль человеку, сторожившему вход, и вошел вместе с Виллиго в темное подполье, где под председательством мистера Боба сидело до сотни человек разных проходимцев.
Новоприбывших встретили громким «ура», потому что Коанук распустил слух, будто Виллиго ненавидит Дика и всеми силами стремится его погубить.
Никто из лесовиков не знал истинных отношений между Виллиго и канадцем, а ссоры между дикарями и европейцами бывали так часты, что измена Виллиго никого не удивила. Сверх того, нагарнуки до сих пор еще ни разу не участвовали с лесовиками ни в каких темных делах, потому что считали себя племенем благородным и честным, так что союз с ними льстил самолюбию лесовиков и приводил их в настоящий восторг.
Присутствие Виллиго в «Чертовом кабачке» было с его стороны делом необыкновенного самоотвержения и прозорливости.
После победы над дундарупами Виллиго, не понимая причин посылки Лорана в Европу и прочих намерений Дика и Оливье, имевших целью обеспечить обладание прииском, пошел к той же цели своею дорогой с прямолинейностью дикаря. Он сообразил, что для удержания за собою прииска нужно, во-первых, занять его значительною силой, а во-вторых, каким бы то ни было способом узнать ближайшие намерения врагов Тиданы. Для первой цели он приказал всему своему племени занять своими кочевыми поселениями как прииск, так и прилегающие к нему места, а для второй цели он подослал к лесовикам своих надежнейших воинов, решившись впоследствии и сам проникнуть в лагерь врагов.
Виллиго рисковал погибнуть при малейшем подозрении, но он полагался на свою осторожность, на свое тонкое чутье и на безграничную преданность воинов, которых выбрал себе в сотрудники.
— Джентльмены! — сказал мистер Боб, когда улеглись приветственные крики, — рекомендую вам великого вождя племени огнепоклонников, знаменитого Виллиго, что в переводе на наш язык, кажется, значит «черный индюк»…
Имя Виллиго на самом деле значило «черный орел». Вольный перевод мистера Боба вызвал громогласный взрыв единодушного смеха.
Виллиго наморщил брови. Боб заметил дурное впечатление, произведенное на дикаря этим смехом. Сделав сам серьезное лицо, он что есть мочи стукнул кулаком по столу и крикнул:
— Тише вы, висельники! Кто посмеет хотя бы словом одним оскорбить почтенного вождя, тот будет иметь дело со мной!
Шум утих, как по волшебству, и грозный трактирщик продолжал:
— Вы помните, как в прошлом году, когда был съезд золотопромышленников, пронесся слух, будто Дик Лефошер открыл богатейший прииск. Это оказалось правдой; Дик с двумя своими друзьями вскоре отправился на прииск в сопровождении Виллиго и его воинов. Из вас найдется несколько уцелевших человек, которые помнят, как храбро они отстаивали себя. Да иначе и быть не могло. Не вам, трусам, бороться с могучим канадцем, когда ему помогает непобедимый Виллиго. Мир тем, которые погибли, а уцелевшим да послужит это в науку… И что же, джентльмены? Знаете, как отплатили эти люди благородному Виллиго? Самою черною неблагодарностью… Он решился отметить. Он, тайком от них и оставаясь с ними для вида в хороших отношениях, прислал ко мне четырех воинов с предложением союза. Я, разумеется, принял его. Европейцы, получив концессию на прииск от министерства колоний, отправятся с отборными людьми на прииск, чтобы вступить во владение им. Виллиго, разумеется, будет их провожать. Он устроит им засаду и предаст их нам в руки. Тогда мы потребуем от них формальной уступки прииска, за что обещаемся спасти их жизнь. Среди нас, наверное, найдутся бывшие юристы, сумеющие оформить уступку…
— Я!.. Я!.. Я!.. — послышалось с десяток голосов.
— И тогда у нас будет богатейший прииск, мы сделаемся миллионерами и бросим наконец эту проклятую собачью жизнь.
Раздались оглушительные аплодисменты, от которых задрожали своды подземелья. Трактирщик махнул рукой. Все опять стихло.
— Это еще не все, джентльмены. Нужно поскорее условиться, потому что Виллиго не может быть здесь долго, иначе у европейцев, пожалуй, зародится подозрение. За свою помощь Виллиго требует, чтобы мы по окончании сделки выдали европейцев ему. Он отметит им за себя, он привяжет их к столбу пытки и предаст мучительной смерти. Но ведь борьба с Диком Лефошером вещь серьезная. Для того чтобы обеспечить успех, Виллиго полагает собрать отряд человек в 200 или 300. Согласны ли вы на его условия, согласны ли вы бороться до конца?
Ответом было единодушное «да».
— Хорошо, — сказал Боб. — Нас здесь много; оповестите наших друзей, да поскорее, потому что экспедиция через неделю должна быть уже готова. Начальников выбирайте сами; мне очень хочется отправится с вами, но я не отправлюсь. Вы, я думаю, знаете, что Боб не трус, но мне совершенно невозможно уехать из Мельбурна.
Условились, что отряд выступит в поход, как только Виллиго даст сигнал, и что четыре его воина останутся при отряде в качестве проводников, а также для сношений с вождем нагарнуков.
Виллиго, не моргнув глазом, пожал мистеру Бобу руку, скрепляя таким образом договор, заключенный последним от имени всех лесовиков.
— А теперь, господа, пойдите прогуляйтесь куда-нибудь, — обратился трактирщик к своей компании. — Мне нужно поговорить с вождем нагарнуков по секрету.
Все немедленно повиновались, и в несколько минут подземелье опустело.
Боб остался один с Виллиго и его молодыми воинами.
— Я задержал вас вот для чего, — сказал он им. — Итальянский генеральный консул, которого я имею честь знать, поручил мне совершить одно похищение, употребив для этого непременно туземцев, чтобы впоследствии, когда дело разгласится, можно было свалить вину на них. Я сейчас же вспомнил о вас как о людях смелых и надежных. Вот и деньги за работу, две тысячи долларов; тысяча долларов вам, а другая, согласно уставу, в общую кассу нашего общества. Я уже послал записку консулу и только дожидаюсь кареты, которая за вами заедет.
Четыре воина взглянули в глаза своему вождю. Виллиго сделал им знак, чтобы они согласились. При этом у него невольно промелькнула мысль о графе Лорагюэ, и вскоре он, сам не отдавая себе отчета почему, пришел к убеждению, что дело идет именно о молодом друге Тиданы. Он немедленно решился удостовериться в этом.
Послышался стук колес. Трактирщик побежал к подъезду, а Виллиго тем временем быстро спросил воинов:
— Есть с вами ножи и бумеранги?
Воины молча кивнули головами.
— Хорошо, — сказал вождь. — Я пойду за каретой издали; вам, вероятно, поручат похищение; когда я издам крик, бросайтесь на тех, кто будет с вами, каково бы ни было их число. Пустите в ход бумеранги; я буду недалеко и помогу вам.
В это время вернулся мистер Боб, и Виллиго замолчал.
— Вас ждут, — сказал трактирщик воинам. — Вы будете провожать тех, кто поедет в карете. По окончании дела вас в той же карете отвезут обратно в Мельбурн.
— До свидания! — сказал Черный Орел, направляясь к двери.
— Великий вождь, не выпьешь ли ты стакан виски?
— Я никогда не пью напитков белых людей.
— Подожди по крайней мере, когда они уйдут, а то люди консула подумают, что мы за ними шпионим.
— Они меня не увидят.
— Еще одно слово: если тебе нужно будет что-нибудь мне сообщить…
— То я сделаю это через Коанука.
— Так до свидания, вождь!
VII
Черный Орел. — Ночной опоссум. — Вага-Нанди и Вивага. — Западня и освобождение. — Залив Ободранных.
Виллиго тихо вышел из кабачка, незаметно прокрался мимо стоявшей у подъезда кареты и спрятался за стеной, стараясь даже не дышать.
Вслед за тем из кабачка вышли нагарнукские воины, с Бобом впереди, который, обменявшись несколькими словами с кучером, велел им садиться в карету. То был старинный, удобный и чрезвычайно вместительный дормез, в котором по нужде могли свободно усесться человек двенадцать. Карета была запряжена парой сильных полукровных лошадей, которые нетерпеливо били копытами землю. Виллиго понял, что ему придется быстро бежать. Он потрогал свое оружие, чтобы узнать, крепко ли сидит оно за поясом. Молодые воины сели в карету, дверца захлопнулась, и лошади понесли. Черный Орел побежал за экипажем во весь дух, чуть касаясь ногами земли.
Проехав гавань, карета не повернула на Ярро-стрит, а поехала шагом к реке. Виллиго воспользовался этим и, подбежав к карете, примостился на рессорах ее, так что его нельзя было видеть. Через четверть часа экипаж остановился у калитки сада «Восточной гостиницы», у той самой калитки, через которую Виллиго вышел перед тем на берег Ярро. Из дормеза вышли четыре замаскированных человека и в сопровождении негра, коридорного гостиницы, направились к главному зданию мимо холостых надворных построек.
Сомнения не оставалось: похищали графа д'Антрэга, друга Тиданы.
Была минута, когда Виллиго уже хотел крикнуть своим воинам, чтобы они бросились на замаскированных и расправились с ними, но он сообразил, что тогда останется кучер, который может поднять тревогу. Он вспомнил, что речь шла о похищении, а не об убийстве и что, следовательно, жизни графа не грозит покуда никакая опасность. Он даже догадался, что графа чем-нибудь усыпили, чтобы без сопротивления овладеть его особой, и что вообще замаскированные люди стараются во что бы то ни стало избежать шума. И он стал спокойно ждать, готовясь приступить к действию, как только понадобится.
Через полчаса вернулись замаскированные люди, осторожно неся на руках молодого человека в глубоком сне. Проходя через узкую калитку, они замешкались, и Виллиго, окинув взглядом всю кучку, успел убедиться в своей правоте. Спящий молодой человек был действительно граф д'Антрэг, которого неизвестные люди с замечательною дерзостью похитили из самой модной гостиницы в Мельбурне.
Виллиго знал теперь, что ему нужно делать.
Подкупленный коридорный-негр не провожал похитителей назад. Он взялся только встретить их и сказать, когда усыпительные капли окажут свое действие, а на другой день, когда похищение будет открыто, он обязан был заявить, что видел, как около гостиницы бродили туземцы, и навести на них подозрение.
Графа осторожно положили на одно из сидений кареты, и лошади опять помчались по дороге к мосту Св. Стефана, за которым уже было поле. Проехав мост, кучер еще сильнее погнал лошадей по направлению к так называемому заливу Ободранных, получившему свое зловещее название с имевшей здесь место кровавой драмы. Еще в первые годы колонизации здесь были захвачены туземцами три английских матроса; туземцы содрали с них живых кожу и оставили на песке, где несчастные умерли в ужасных страданиях.
Место было пустынное, песчаное, окаймленное кое-где высокими скалами и очень удобное для действия. Виллиго решился подождать, когда карета приедет туда. Быть может, похитители намеревались здесь покончить с графом д'Антрэгом.
Дормез катился. Нагарнукские воины, сидя внутри, терпеливо дожидались сигнала от своего вождя.
Вот карета замедлила ход. Колеса стали глубоко уходить в песок, и лошади с трудом везли тяжелый экипаж.
Черный Орел счел момент удобным. Он соскочил с задка кареты на песок, испустил пронзительный крик «вага», забежал вперед кареты и кинул в кучера бумеранг. Кучер упал с пробитою головой, и Виллиго остановил лошадей. В ту же минуту нагарнукские воины выскочили из кареты и окружили своего вождя.
Их дело было уже сделано. Они заранее выбрали себе каждый по одному противнику, и все четыре замаскированных человека уже лежали с пробитыми головами. Они умерли, не успев даже вскрикнуть.
Граф д'Антрэг ни разу не пошевелился. Он все время спал, точно в летаргии.
По приказанию вождя нагарнуки выбросили трупы на песок и сели опять в карету. Черный Орел сел на козлы и погнал лошадей обратно в Мельбурн. Доехав до моста Св. Стефана, Виллиго остановился, нагарнуки взяли графа Лорапоэ на руки и бросили карету на произвол судьбы. Пройдя мост пешком, они дошли до известной уже нам калитки и беспрепятственно прошли через сад. Начинало светать. Войдя в гостиницу, нагарнуки встретили того самого негра, который встречал похитителей. Вне себя от испуга, бедняга закричал ужасным голосом и хотел бежать, но Виллиго крепко схватил его своею сильною рукой. В одну минуту негра связали, заткнули ему рот, и Виллиго, взвалив его себе на плечи, бросил его в комнату, дверь которой запер на ключ. Затем он повел своих воинов в комнату графа.
Это было ровно две минуты спустя после того, как канадец упал в обморок. Увидав его на полу, нагарнук понял все. Он велел положить графа на постель, потом перенес Дика в его комнату и велел своим воинам удалиться: он не желал, чтобы канадец знал о присутствии нагарнуков в Мельбурне. Спрыснув Дика водой, он скоро привел его в чувство. Придя в себя, канадец увидал Виллиго, взял его за руку и зарыдал.
— Тс! — сказал, улыбаясь, Черный Орел. — Он еще спит.
— Спит! — машинально повторил Дик. — Кто спит?
— Твой друг! — отвечал Виллиго, указывая рукой на комнату графа.
Только что он успел это сказать, канадец вскочил и бросился к своему другу. С тревогой схватил он графа за руку, но сейчас же успокоился, услыхав правильное биение пульса. Не помня себя от радости, обернулся он к Виллиго и, сжимая его в объятиях, вскричал:
— Это ты его спас! Спасибо, брат… Во всей Австралии не найти такого человека, как ты, Виллиго. Я уже догадывался, что ты что-нибудь такое придумал… Недаром же ты пропадал эти два дня. Благодаря тебе Лоран так и не заметил пропажи графа, иначе он бы умер от горя!
— Ему дали чего-нибудь усыпительного! — сказал нагарнукский вождь, стараясь скрыть свое волнение.
— Мне и самому пришло это в голову, да поздно. Мне тоже чего-то подсыпали, и сон сковал мне члены так, что я не мог сделать ни одного движения.
Затем Виллиго рассказал Дику то, что мы уже знаем, однако обошел молчанием содействие, оказанное ему молодыми воинами. У него был свой план, и для успеха его Черный Орел считал нужным, чтобы никто, даже друзья его, не знали о присутствии нагарнуков в Мельбурне. Приезд человека из Европы, вызванного Оливье и Диком для наблюдения за их безопасностью, чувствительно затронул самолюбие дикаря. Теперь ему хотелось блистательно доказать, что он и один, своими средствами, сумеет охранить своих друзей от всяких враждебных покушений. Ему же удалось однажды спасти их во время блужданий по кра-фенуа, а сегодня еще раз случай предоставил ему возможность вырвать у Невидимых верную добычу. С наружною скромностью, но с гордым самодовольством в душе передал он своему другу подробности спасения молодого графа.
Когда он дошел до того места, как он схватил и связал предателя-негра, Дик пожелал немедленно идти к негру и допросить его. Ему хотелось узнать имена похитителей и их общественное положение. Но от бестолкового дикаря ничего нельзя было добиться. Все, что удалось от него узнать, — это только то, что он за пять пиастров взялся наблюдать за графом и дать знать неизвестным лицам, когда граф окончательно погрузится в сон. Видно было, что это совершенный скот, не отличающий зла от добра, и что он помогал похитителям только потому, что прельстился заработком в 25 франков.
Канадец понял это и отпустил его с тем условием, чтобы негр немедленно дал ему знать, если Невидимые дадут ему опять какое-нибудь подобное поручение. Чтобы обеспечить верность дикаря, канадец обещал дать ему за сообщение сумму вдвое больше той, которая будет ему предложена за содействие.
Вернувшись в комнату Оливье, друзья нашли его уже наполовину проснувшимся. Граф сидел и, видимо, силился что-то припомнить.
— Ах, дорогой друг, — вскрикнул он, завидев канадца, — какой я сегодня видел скверный сон!
И он, сам над собой улыбаясь, начал рассказывать сон, виденный им ночью и уже известный нашим читателям.
Вдруг он остановился и умолк, смущенный серьезным и торжественным выражением лица канадца.
— Что с тобою, друг? — спросил он. — Зачем ты так серьезно принимаешь мой нелепый кошмар?
— Вовсе уж он не до такой степени нелеп, как вам кажется, — возразил Дик. — Сегодня ночью сюда действительно входили четыре замаскированных человека. Они овладели вами, перенесли через сад при гостинице, вышли из калитки, которую вы видели во сне, посадили в карету и повезли за город…
— Дальше, дальше!..
— И если затем ваш сон оборвался, то это потому, что следивший за вами Виллиго атаковал карету на дороге, убил похитителей и отнес вас назад на руках.
— Дик! Дорогой Дик! — вскричал вне себя Оливье. — Неужели это правда? Нет, это вы так шутите.
— Клянусь вам, что это все правда, — отвечал канадец. — Ну разве я позволю себе так над вами шутить?
Оливье протянул своему спасителю руку и сказал с глубоким чувством:
— Вы два раза спасли мне жизнь, Черный Орел. Я никогда, никогда не расплачусь с вами за это.
— Вы друг моего брата Тиданы, — отвечал с безыскусственною простотой австралиец. — Благодарите Тидану, а Черному Орлу вы ничем не обязаны.
Лоран все это время спал как убитый. За банкетом он выпил так много тостов, что усыпительное зелье подействовало на него сильнее, чем на всех остальных. Дик и Виллиго пошли будить его, так как приближалось время отправляться на обед к самозваному барону де Функалю.
Оливье остался один и задумался.
Из задумчивости его вывело появление слуги, который подал ему принесенное утром письмо. Он с волнением распечатал конверт. Под письмом стояла подпись: «Тайна». То был псевдоним, принятый сыщиком.
Вот что там было написано:
«Нагарнукский вождь Виллиго вам изменяет. В эту ночь в кабачке, известном под именем „Чертова кабачка“, он присоединился к компании лесовиков и формально обязался передать вас в их руки. Лесовики под угрозою смерти хотят вынудить у вас уступку прииска. Берегитесь!»
Оливье прочитал и встревожился. Он сейчас же догадался, что тут должна быть какая-нибудь ошибка; не мог, совершенно не мог быть предателем Виллиго, только что спасший ему жизнь. В этом отношении у графа не было ни малейшего подозрения. Но его тревожил вопрос: что навело барона де Функаля на ложный след, заставивший сыщика заподозрить в предательстве вернейшего их друга и союзника?
Он позвал канадца и показал ему письмо.
Канадец прочитал его, не моргнув глазом, потом свернул в трубку и зажег им сигару.
Граф смотрел на него вопросительно. Закурив сигару, канадец сказал:
— Этот человек не знает Виллиго; но я бы не советовал ему меряться силами с дикарем. Добра из этого не выйдет. Сомневаться в честности моего друга! Да я скорее не поверю в свою собственную! Не нужно говорить этого вождю, а то во всей Австралии не найдется уголка, в котором бы барон де Функаль мог спрятаться от его мести. Хотя он и способен на всякое самоотвержение, на всякое великодушие, но ведь он все-таки дикарь и прощать обид не умеет. Сомнение в его преданности ко мне для него обида самая тяжкая. С тех пор как его племя усыновило меня, с тех пор как я стал названым братом Виллиго, приемным сыном его отца Воллигонга, он смотрит на меня как на настоящего родственника и святою обязанностью считает помогать мне во всех предприятиях. Вы еще не знаете австралийских дикарей. Правда, у них много диких предрассудков, много диких обычаев, но зато у них есть понятия весьма почтенные, за которые они готовы отдать до последней капли свою кровь. Так, например, они скорее умрут, чем изменят узам дружбы или родства.
Канадец проговорил эту тираду со сдержанным волнением, в котором проскальзывала глубокая печаль, что его преданный друг Черный Орел сделался жертвою подозрения. Оливье понял его чувство и поспешил возразить:
— Умоляю вас, дорогой Дик, не думайте, что я хотя на одну минуту заподозрил вашего друга. Я просто был поражен этой запиской, вот и все.
— И поразиться есть отчего, это правда. Записка в высшей степени странная. Тут какая-то тайна, но я знаю, что она впоследствии объяснится. Я не стану говорить об этом с Виллиго. Это такой человек, что не простит даже тени недоверия к себе. Вы хорошо сделаете, если посоветуете сыщику бросить этот ложный след. Вероятно, Виллиго охраняет вас своими средствами. Это и есть причина его отлучек. Я не знаю его плана, но уверен, что он в своем роде очень хорош и для нас полезен. Даже вот так: если мне сейчас, сию минуту, доставят неопровержимое доказательство, что Виллиго действительно вступил в союз с лесовиками, знаете, что я скажу на это? Я скажу: «Горе лесовикам!» Если измена своим считается у нагарнуков позорным делом, то нельзя сказать того же о предательстве относительно врага. Последнее считается у них делом похвальным, законной военной хитростью. Да едва ли их и можно за это осуждать. Оставим же Виллиго в покое, предоставим ему действовать так, как он хочет, да и барон де Функаль отлично сделает, если ограничится выслеживанием одних Невидимых. Говоря откровенно, я вполне доверяю авторитету вашего сыщика относительно европейских дел, но здешних отношений он не знает и едва ли будет нам очень полезен. Пусть же он возьмет на себя одних Невидимых, а общаться с лесовиками и туземцами предоставит мне и Виллиго. Так будет гораздо лучше.
— Я с вами совершенно согласен, Дик, — сказал граф, — и сегодня же порешу с бароном этот вопрос в указанном вами направлении.
Последние слова графа были прерваны появлением Лорана, который вошел в комнату своего господина. Благодаря разным впрыскиваниям и растираниям старый слуга стряхнул с себя наконец сонливость и, приписывая ее непривычке к шампанскому, приготовился извиниться перед своим барином. Но тот не дал ему заговорить и рассказал о приключениях минувшей ночи. Тогда смущение Лорана перешло в неописуемое изумление.
— О, теперь я все понимаю! — воскликнул он после некоторого молчания.
— То-то мое опьянение было какое-то странное. Я все слышал и все понимал, но не мог шевельнуть ни одним членом. Если только тот, кто нас опоил, попадется мне на узенькой дорожке…
— Это итальянский консул! — вставил появившийся неожиданно Виллиго.
Оливье и канадец удивленно переглянулись.
— Ты почем знаешь? — спросил Дик.
— Черный Орел не нуждался в найме белого шпиона, чтобы все вызнать и выследить, — отвечал нагарнук с самодовольной улыбкой. — Если б я этого не знал, то как бы мог спасти молодого друга Тиданы?
— Но ведь и белый шпион, как ты его называешь, еще накануне предупредил нас об этом.
— Он предупредил… Виллиго не предупреждает, а действует.
— Но как ты узнал об этом?
— Я проник к лесовикам в «Чертов кабачок» и узнал, что они ищут надежных людей для какого-то похищения. Я догадался, что дело идет о друге Тиданы…
— И храбро рискнули жизнью, чтобы меня спасти! — воскликнул Оливье.
— И ты совершенно уверен, что это итальянский консул? — спросил Дик.
— Когда же Виллиго говорил на ветер?
— Спасибо, друг! — сказал канадец, пожимая дикарю руку. — Я теперь знаю, что нам делать.
В словах Виллиго было много недосказанного, Дик это понимал, но не хотел расспрашивать друга из боязни огорчить его недоверием.
Виллиго не знал, что его друзья собираются на обед к барону де Функалю, иначе он непременно пошел бы с ними. К самозваному барону он чувствовал какое-то непобедимое, бессознательное отвращение и недоверие. У дикаря почему-то засела в голове мысль, что белый шпион ведет двойную игру, что он готов изменить и нашим и вашим.
У него не было никаких фактов, к которым бы он мог привязаться, тем не менее он никак не мог отрешиться от своей мысли.
Будущее покажет, насколько дикарь был прав.
Нужно было уговориться относительно дальнейшего образа действий.
Четыре друга решились остаться для совещания в комнате графа из боязни, что их разговор могут подслушать соседи Лорана по комнате.
— Не бойтесь, — заметил со зловещей улыбкой Черный Орел, когда Дик упомянул об этих соседях. — Они нас не подслушают. Их уже нет здесь: коршуны клюют их трупы.
— Не может быть! — вскричал Дик.
— Их было четверо. Их больше нет. Они убиты.
В это время через открытое окно послышался голос разносчика, выкрикивавшего громким голосом:
— «Morning Advertiser»!.. Покупайте «Morning Advertiser»!.. Свежие новости! Четыре мертвых тела на берегу бухты Ободранных… Ужасные подробности… Вчерашнее празднество… портрет лорда-губернатора… смерть Тома Поуеля…
Друзья помолчали. Наконец канадец заговорил первый:
— Положение скверное. В Мельбурне нам оставаться нельзя. Боец за Англию умер, население раздражено против нас. Меня могут убить из-за угла, надеясь на снисходительность присяжных, которые, по всей вероятности, оправдают убийцу. Что касается вас, граф, то ярость ваших врагов после этого кровавого убийства удесятерилась. По-моему, нам следует как можно скорее удалиться на Лебяжий прииск.
Это мнение было принято единогласно, причем Виллиго особенно настаивал на скорейшем отъезде. Условились, что Оливье в этот же день вместе с бароном де Функалем отправится в кадастровое управление и исполнит все формальности по вводу себя во владение прииском, а канадец тем временем подыщет надежных лиц для эксплуатации золотоносного поля.
Дорогой на прииск решено было завернуть на Сен-Стивенские рудники, чтобы ознакомиться там с наилучшими способами добывания золота.
Когда друзья окончательно уговорились, Виллиго простился с ними до вечера, а Лоран, Дик и Оливье отправились на обед к консулу.
Хотя до консульского дома было недалеко, однако они наняли карету. На улицах толпился народ, возбужденно толковавший о смерти Тома Поуеля, и было бы неблагоразумно рисковать, появляясь среди враждебно настроенной толпы.
Через несколько минут езды карета наших друзей остановилась у подъезда Португальского консульства, помещавшегося в красивом доме, в элегантном квартале королевы Елизаветы. Барон де Функаль в сопровождении своих секретарей, дона Кристоваля Коко и дона Педро де Сильва-Любека, встретил своих дорогих гостей на нижней ступеньке крыльца.
VIII
Визит в Португальское консульство. — Мнимый барон де Функаль. — Таинственный дом. — Измена. — Зажаты стеной. — Смерть от удушения.
Барон де Функаль ввел графа д'Антрэга и его друзей в красивую гостиную, убранную в восточном вкусе, и сделал своим секретарям знак удалиться.
— Граф, — обратился барон к Оливье, — мне давно хотелось видеться с вами, но у Невидимых здесь в Мельбурне имеется своя собственная, превосходно организованная полиция, и я боялся возбудить их подозрение.
— Мне тоже давно хотелось с вами поговорить, — отвечал Оливье, — но раз зашел разговор о полиции, то я должен вам заметить, что и вы не ударили лицом в грязь. Вы мне сообщили столько сведений о моих врагах, что остается только удивляться, откуда вам удалось добыть их.
— Ваша похвала превышает мои заслуги, — отвечал барон, кланяясь графу и кидая на него холодный, испытующий взгляд.
Одного этого взгляда было достаточно португальскому консулу, чтобы убедиться в искренности слов графа.
— Итак, барон, вы узнали моих врагов; вам известны их цели и средства; поэтому не можете ли вы мне разъяснить многое, для меня непонятное в их поведении?
— С удовольствием, граф. Для этого я, между прочим, и желал вас видеть.
— Я вас слушаю, барон. Мне интересно узнать последнее слово обо всем этом деле.
— Последнее слово за вами, граф. От меня вы узнаете первое.
— Я вас не понимаю.
— Слушайте, граф. Я начну по порядку… Невидимые, как вам, быть может, известно, а быть может, и нет, составляют из себя общество, включающее в свой состав мошенников всевозможных национальностей. Оно весьма многочисленно, и члены его принадлежат к различным классам. Средства его громадны, и оно не брезгует никакими способами для их увеличения.
Невозможно описать изумление наших друзей, когда они из уст своего сыщика услыхали эту косвенную апологию Невидимых.
— Милостивый государь, — заметил ему граф д'Антрэг, — ваши слова бесконечно удивляют меня…
— Я понимаю, что вы удивлены, граф, но все-таки попрошу у вас позволения еще несколько времени злоупотребить вашим вниманием. Распространяться о Невидимых я не буду. Я позволю себе только сказать несколько слов об устройстве их общества. Оно разделяется на несколько отделов; в каждом отделе есть свой коновод; коноводы, или начальники отделов, подчинены атаману, которого никто, кроме старших, не знает. Вас преследует, собственно, петербургская шайка. Отец вашей невесты был однажды вынужден дать обязательство после своей смерти предоставить весь свой капитал в пользу шайки. В этом смысле уже составлено духовное завещание на имя одного лица из Невидимых.
— Он дал такое обязательство? Но каким же образом могли его принудить?
— Не могу вам этого сказать, но факт остается фактом. Однако Невидимые дали ему одну льготу: он освобождается от обязательства обездолить свою дочь, если она выйдет замуж за одного из Невидимых или если муж ее вступит в шайку…
— Я?.. Никогда!.. Я, граф д'Антрэг, и вдруг вступлю в общество каких-то шантажистов!.. Но напрасно они хлопочут: я не гонюсь за деньгами, мне не нужно их. Пусть они берут их себе, раз уже захватили.
— Позвольте, граф. У невесты вашей есть еще свое собственное состояние, наследство ее матери, заключающееся в богатейших серебряных рудниках на Урале. Это состояние находится в пожизненном владении отца; отчуждать его он не имеет права, и оно после его смерти перейдет к вашей невесте, а следовательно, к вам. Невидимые не хотят это допустить и не допустят. Вот почему они и препятствуют вашему браку; вот вам и тайна исчезновения Надежды Павловны.
— И это напрасно. Я никогда и ни при каких обстоятельствах не откажусь от своей невесты.
— Есть отличный способ согласить обоюдные интересы.
— Какой это?
— Вступить в русское подданство, что необходимо потому, что земли и рудники лежат в России, следовательно, в сфере деятельности петербургской шайки, и затем сделаться членом общества Невидимых.
— Вам поручили сделать мне это предложение?
Сыщик прикусил язык. Он понял, что хватил через край, но продолжал с невозмутимым спокойствием:
— Никто мне ничего не поручал, но во время пребывания в Петербурге я входил в сношения с Невидимыми и узнал их взгляды и намерения.
— Мне часто приходилось встречаться с их лазутчиками, но почему же они никогда не говорили мне ничего подобного?
— Не знаю. Но что бы вы ответили на такое предложение?
— Знайте, милостивый государь, что я никогда не переменю подданства и никогда не вступлю в бесчестное сообщество.
— Уверяю вас, граф, что об этом стоит подумать…
— Это что же такое? Угроза?
— Это предостережение. Граф, я не вижу иного средства вас спасти. Много мер перепробовали с вами Невидимые, и эта, как я слышал, последняя. Если вы откажетесь от их предложения, то с вами покончат навсегда. До сих пор вас щадили, но теперь… Я, право, не знаю, какими судьбами вам удалось сегодня ночью избавиться от них… Эти четыре трупа… И потом, я должен вас предупредить, что ваш нагарнук Виллиго изменяет вам. Я имею положительное доказательство, что он знается с лесовиками и дал им обещание содействовать вашей гибели…
— Нет, барон, уж это вы оставьте. Я вам советую заниматься только Невидимыми, а туземцев уж вы предоставьте нам. И это будет даже лучше для вас самих, иначе мы не можем ручаться за вашу жизнь.
— Честное слово, граф, я вас совершенно не понимаю!
— Виллиго не такой человек, чтобы простить подозрения в измене; к тому же он дикарь и не остановится ни перед чем.
— Из ваших слов, граф, я вижу, что этому туземцу вы верите больше, чем мне.
— Я не то хотел сказать. Я хотел только внушить вам, что Виллиго стоит выше всяких подозрений. Да вот вам доказательство: неизвестные злодеи нынешней ночью дали мне какого-то усыпительного средства, выкрали меня из гостиницы, посадили в карету и повезли. Виллиго спас меня один. Он убил моих похитителей…
— Может ли это быть?..
— А между тем это так. Найденные четыре трупа — дело его рук.
Сыщик совершенно оторопел и не знал, что сказать.
— Вы теперь видите сами, сударь, — продолжал граф, — что мы не можем сомневаться в честности Виллиго… Но оставим это. Поговорим лучше о нашем деле. Скажите, что, по вашему мнению, могут предпринять против меня в настоящее время Невидимые? Говорите откровенно.
— Откровенно, граф? Вы позволяете?
— Разумеется. Я вас об этом прошу.
— Так я должен вам сказать, что вы теперь совершенно находитесь в их руках, и вам нет никакого спасения, кроме…
— Что вы хотите этим сказать?
— То, что вам нет иного выбора, как согласие на два упомянутых мною условия или же смерть.
— Как вы смеете мне так говорить?
— Я просто снимаю наконец маску.
— Значит, вам поручено моими врагами…
— Теми, кого вы совершенно напрасно считаете врагами…
— Но кто же вы наконец?
При этом вопросе сыщик выпрямился и для вящего эффекта медленно, раздельно проговорил:
— Я… член… общества… Невидимых.
Три друга вскрикнули от удивления и гнева и вскочили с своих мест, хватаясь за револьверы.
— Ни с места, — сказал самозваный барон де Функаль, — или вы погибли!
Дрожа и бледнея от негодования, граф д'Антрэг, Дик и Лоран остановились в оборонительном положении.
— Итак, вы завлекли нас в гнусную западню! — сказал с презрением Оливье. — Вы получили деньги и с нас, и с Невидимых.
— Вы ошибаетесь. К обществу Невидимых я принадлежу вот уже десять лет. Когда господин Лоран приехал в Париж за сыщиком, мои начальники велели мне ехать с ним. Я не мог ослушаться и отправился в Мельбурн.
— На наш счет!
— И это неправда; кредит, открытый вами для меня в Париже и здесь, остался нетронутым… Мне даны были относительно вас широкие полномочия, но меня тронула ваша молодость, и я решился дать вам возможность спастись. Я не враг вам, право. Это я выхлопотал позволение заключить с вами договор. Примите наши условия… Подумайте, граф… Господа, вы, кажется, желаете добра господину д'Антрэгу. Посоветуйте ему не упрямиться.
Дик и Лоран презрительно промолчали, а граф Лорагюэ твердо отвечал:
— Никогда! И пожалуйста, не говорите больше об этом.
— Как угодно. Только уж потом на меня не пеняйте.
— Вы подло поступили со мною; вы обманули доверие моего отца, обманули доверие Лорана, вы заманили меня в западню…
— Граф, я на вас не сержусь за эти слова. Скажу одно: вы все вините меня. Но вспомните, что я только орудие… что я действую так, как мне велено, что я не смею ослушаться. Я не имею права отказаться даже от бесчестного поручения. И клянусь вам, граф, мне моя роль в этом деле невыносимо тяжела, так тяжела, что я и сказать не могу. Недаром же я употребил все усилия вас спасти… и Бог видит, как мне грустно, что эти усилия не достигли цели.
Сыщик произнес эти слова с таким волнением, что доброму графу Лорагюэ на минуту даже сделалось его жаль. Но он ничего не сказал в ответ и обратился к своим друзьям:
— Пойдемте, господа.
— Ради Бога, граф, опомнитесь! — проговорил с мольбою сыщик. — Примите наши условия, умоляю вас.
— Прощайте! — вместо ответа возразил граф.
И он направился к двери гостиной, сопровождаемый Лораном и Диком, которые не спускали глаз с консула. Переступая через порог комнаты, граф обернулся и увидел, что барон де Функаль как бы в бессилии упал в кресло.
Друзья вступили в узкий коридор, который вел в переднюю. Вдруг зазвенел электрический звонок, и в ту же минуту с потолка, как две молнии, спустились две тяжелые металлические доски и заняли всю ширину коридора, одна впереди, другая сзади.
Три друга очутились в темном пространстве, ограниченном четырьмя глухими стенами.
IX
Виллиго и Блэк. — Недоумение туземца. — Что сталось с его братом Тиданой? — Прибытие Джильпинга. — Песня нагарнукского воина. — Советы Джильпинга.
Все трое отчаянно вскрикнули; Оливье, как более слабый, от гнева и ужаса лишился чувств. Лоран с воплем упал на тело своего барина, и только канадец сохранил полнейшее хладнокровие. Он поднял своих упавших друзей и начал приводить их в чувство.
— Барин мой, бедный барин! — пролепетал Лоран, первым придя в себя.
— Где мы? — было первым словом Оливье.
— Мы погибли! Погибли все трое!.. О Боже мой!
— Ну это еще мы посмотрим, — возразил канадец. — Мы бывали и не в таких переделках…
Возвратимся, однако, к Виллиго.
Расставшись с друзьями, Черный Орел пошел на пристань, где накануне условился сойтись с Коануком. Он сообщил молодому воину принятое утром сообща решение покинуть Мельбурн и поручил ему предупредить лесовиков, чтобы те приготовились тронуться в путь через двое суток. Потом, завернувшись в плащ, Черный Орел целый вечер пробродил около «Чертова кабачка», чтобы лично узнать число негодяев, которых соберет для предстоящей экспедиции мистер Боб.
К ночи он вернулся в гостиницу ужинать, но, к удивлению своему, не застал никого дома. Ужин между тем был уже давно подан. Блэк спал в комнате своего господина. Увидав Виллиго, он подошел к нему и приласкался. Дикарь стал задумчиво гладить мягкую густую шерсть верного пса.
Между тем часы проходили, а отсутствующие не возвращались. Ужин был сервирован a la russe, то есть все кушанья были поданы на стол разом на блюдах, покрытых колпаками и поставленных на грелки с горячей водой для поддержания высокой температуры.
Черному Орлу надоело ждать, и он решился поужинать один или, правильнее, в обществе Блэка, который уже давно положил на стол передние лапы и нюхал аппетитный запах блюд.
Как все дикари, Виллиго был одарен замечательным аппетитом. Когда ему случалось ужинать или обедать одному, то он поедал все, что подавалось на троих, приводя своей прожорливостью в несказанное удивление прислуживающих за столом лакеев.
Только что он хотел присесть к столу и приняться за утоление своего голода, как на дворе гостиницы раздались под окнами нестройные звуки, похожие на ослиный крик.
Блэк залаял и выбежал в дверь. Черный Орел, подстрекаемый любопытством, встал, подошел к окну и выглянул во двор.
На дворе стоял не кто иной, как мистер Пасифик, осел мистера Джильпинга, который изволил только что прибыть в Мельбурн из страны нагарнуков.
Мистер Пасифик и мистер Джильпинг в один день проделали большой путь в сопровождении молодого нагарнукского воина по имени Менуали (что значит «кенгуренок»), а так как почтенный осел был воспитания нежного, то, разумеется, очень устал и выражал свой протест весьма жалобным, но и весьма неприятным криком.
Виллиго поспешил сойти вниз навстречу толстому англичанину. Старые знакомцы обменялись крепким рукопожатием.
— О джентльмен, — затянул своим певучим голосом британец, — я душевно рад вас видеть.
Менуали сделал своему вождю честь на туземный манер, дотронувшись рукой сначала до земли, потом до своего лба.
Джильпинг продолжал:
— Граф д'Антрэг дома, я полагаю?
Благодаря десятилетней совместной жизни с Диком Виллиго выучился английскому языку и мог на нем свободно объясняться, хотя и избегал этого. Поэтому он без труда вступил в разговор с Джильпингом. Он объяснил англичанину, что французы остановились действительно в этой гостинице, но что сейчас их нет дома: они-де, вероятно, ушли обедать во французский ресторан. Вместе с тем он предложил мистеру Джильпингу разделить с ним приготовленную трапезу. Последнее предложение британец принял с большим удовольствием. Он проголодался с дороги, и, кроме того, в последнее время ему приходилось питаться исключительно туземными блюдами, которые ему оказались сильно не по вкусу. Собственные же его запасы консервов успели давно выйти.
— Господи, — пожаловался он Черному Орлу, — какою гадостью меня там кормили: мясо опоссумов, лягушек, ящерицами… бр!..
У Виллиго, напротив, даже слюнки потекли, когда он услыхал название этих лакомств.
— О нет, — возразил он, — это очень вкусно. Very fine, гораздо лучше кушаний белых людей, Воанго!
Воанго — это было имя, которым стал называть Виллиго англичанина. Слово это означат одну странную австралийскую птицу, у которой на носу есть некрасивый, отвисающий вниз мясистый придаток. В первое время своего знакомства с англичанином Виллиго постоянно видел его с кларнетом во рту и вследствие этого нашел в нем сходство с упомянутой птицей. Услыхав, как его величает дикарь, Джильпинг обратился к Дику за разъяснением. Канадец, не желая обижать добродушного толстяка, уверил его, что имя Воанго просто перевод его настоящего имени на нагарнукский язык. Англичанину название очень понравилось, и он в следующем же письме к председателю географического общества подписался «Джильпинг Воанго», не подозревая, что сам называет себя именем весьма тяжелой, неповоротливой и неуклюжей птицы.
Британец и австралиец принялись уничтожать поданную пищу. Лакей смотрел и изумлялся до того, что даже не заметил, как выронил из рук салфетку, с которою он стоял за стулом Виллиго. Ему первый еще раз в жизни приводилось видеть вместе двух таких замечательных едоков.
Джильпинг приканчивал уже восьмую тарелку супа из черепахи, любимого национального блюда англичан: как известно, на суп идут только морские черепахи, а море — это сфера англичан.
Повсюду, где только встречается морская вода, там англичанин чувствует себя дома! Вот почему и морская черепаха сродни англичанам. Ни одно торжество или празднество не обходится у них без супа из черепахи. Это блюдо ежедневно стоит в меню королевских обедов; если лорд-мэр не подал бы на своем большом официальном обеде суп из черепахи, то, вероятно, в Сити произошла бы целая революция. Когда высокопочтенная корпорация канатчиков, почетным председателем которой был мистер Гладстон, приглашает премьера, то нанесла бы ему настоящее оскорбление, не предложив за обедом супа из черепахи. Словом, одна Англия уничтожает в один день в десять раз больше супу из черепахи, чем существует на свете черепах.
Но тут кроется маленькая тайна. Так как черепахи сравнительно редки и за ними приходилось посылать суда в дальние плавания, что обходилось страшно дорого, то остроумная фирма «Block Well and Cross», а за ней и другие додумались заменить черепаху телячьей головкой, которая с помощью надлежащей приправы и значительного количества кайенского перца могла дать полную иллюзию настоящего супа из черепахи. С этого времени вся Англия, все ее колонии и все многочисленные путешественники-англичане, от мыса Горн до крайних пределов Камчатки, благополучно обедают излюбленным супом из черепахи.
Не переставая поглощать тарелку за тарелкой любимый суп, англичанин сообщил Виллиго о причинах своего приезда в Мельбурн: во 1-х, ему нужно было возобновить свой запас Библий, который совершенно истощился, а без этой священной книги он не мог предпринять проектированного путешествия в страну нготаков и нирбоасов, которые являлись наиболее значительными, после нагарнуков, туземными племенами Центральной Австралии; во 2-х, он желал обратить в деньги поднесенные ему канадцем золотые самородки и переправить эти деньги почтенной миссис Джильпинг; она в его отсутствие посвящала весь свой досуг воспитанию пятнадцати мальчиков и мисс, которыми Господь благословил их супружество; в 3-х, в довершение всего он был рад воспользоваться случаем повидать своих друзей.
После обеда Виллиго предложил своему сотрапезнику сходить вдвоем в ресторан Колле и узнать, отчего так долго не возвращаются друзья. Его начинало беспокоить их долгое отсутствие, а недавнее покушение на графа действительно давало повод опасаться всякой неожиданности. Австралиец и англичанин пришли в ресторан, но там им сказали, что граф д'Антрэг со своими товарищами в этот раз не обедали у Колле.
Виллиго задумчиво вернулся в отель. Тревога его росла. Джильпинг под влиянием сытного обеда разговорился и все время болтал без умолку, оглушая Виллиго вопросами. Наконец Черный Орел вышел из терпения.
— Воанго говорит слишком много, — заметил он. — Не мешало бы ему помолчать!
— А что? — встрепенулся англичанин. — Разве это опасно?
— Пусть Воанго помолчит. Черный Орел будет говорить тогда, когда поблизости не будет нескромных ушей.
Джильпинг последовал совету нагарнука и промолчал всю дорогу до гостиницы. Придя туда, Виллиго узнал, что друзей все еще нет, и окончательно убедился, что с ними случилось недоброе.
Но что именно? Решить этот вопрос Виллиго не мог. У него не было ни малейшего признака, ни малейшего следа, за который бы он мог ухватиться. Одно он мог считать несомненным, это то, что итальянский консул замешан в таинственном исчезновении.
Черному Орлу оставалось одно: отомстить за друзей, если уже поздно было их спасти. И Джильпингу пришлось быть свидетелем дикой, ужасной сцены, во время которой он забился в угол и затаил дыхание. Черный Орел дал полную волю своей ярости.
Выкрикивая громкую клятву устроить своему брату Тидане и его друзьям пышные поминки, Виллиго сбросил с себя плащ и, оставшись в первобытном костюме нагарнукского воина, взмахнул своим бумерангом. Потрясая им над головою, он запел или, вернее, завыл дикую воинственную песню, в которой говорилось о том, как Черный Орел отомстит врагам, как он выклюет им глаза, растерзает сердце и выпотрошит внутренности.
Минут с двадцать продолжалось это вытье, сопровождаемое ужасной пляской, после чего дикарь как будто немного успокоился. Он закурил трубку, сел, скрестив ноги, на пол и погрузился в раздумье.
У Джильпинга несколько отлегло от сердца, а то он уже думал, что дикарь сошел с ума.
Успокоившись, Виллиго припомнил храбрую помощь, оказанную Джильпингом своим друзьям во время бегства их из дундарупского плена, и откровенно рассказал ему события последних дней.
— Воанго храбр, — закончил он свой рассказ, — Черный Орел готов выслушать, что он скажет и посоветует.
— Уверен ли Виллиго, — спросил Джильпинг, что его друзей не задержало какое-нибудь дело?
— Теперь люди спят, а не дела делают!
— Правда. Но не засиделись ли они в каком-нибудь клубе?
— Они дали бы мне знать.
— Может быть, они встретились с кем-нибудь из знакомых?
— И этого нет. Здесь у них нет никаких знакомых.
— Так уж я не знаю, что и думать. Быть может, их поймали в какую-нибудь западню… португальский консул, например…
— Так что же тогда делать?
— По-моему, вот что: нынче ночью схватить консула и удержать его заложником… если это удастся.
Виллиго одним прыжком вскочил на ноги и вскричал:
— Воанго — великий вождь!.. Нынче же ночью консул будет нашим пленником. Пусть Воанго ждет меня здесь, а я пойду за своими воинами!
Виллиго выбежал вон, а Джильпинг остался один с Менуали и занялся на досуге своими минералогическими коллекциями.
X
Чай эсквайра Джильпинга. — Мысли Блэка. — Они здесь! — Засада. — Пять трупов.
Наконец Джону Джильпингу надоело ждать. Он позвонил и велел подать себе чаю.
Опорожнив один целый большой чайник, закусив сандвичами и сыром, англичанин достал кларнет и принялся за свои обычные псалмы. На семнадцатом куплете игру его прервал пропадавший где-то Блэк, который вбежал в комнату, схватил Джильпинга за сюртук и начал тащить к двери. Джильпинг понял, что собака хочет куда-то его вести, но не решился уходить из гостиницы до возвращения Виллиго.
— Понимаю, чего тебе надобно, — говорил англичанин собаке, стараясь вытащить у нее полу сюртука, — но подожди, пока вернется Виллиго, тогда и пойдем.
Но собака не слушалась и продолжала настойчиво тащить Джильпинга, который, хотя и упираясь, начал понемногу подвигаться к двери.
К счастью, на эту сцену в комнату вошел Черный Орел и вывел Джильпинга из затруднения. Увидев, что делает собака, он радостно вскричал:
— Блэк нашел своего хозяина!
Собака бросила Джильпинга, подбежала к вождю и начала делать с ним то же, что и с англичанином.
— Хорошо, я пойду с тобою. Воанго, уступите мне Менуали, а сами оставайтесь по-прежнему здесь. Он для меня будет полезнее, чем вы, в случае если придется действовать бумерангом.
Черный Орел выбежал вон за Блэком, который побежал вперед, радуясь, что его наконец поняли.
Гостиница в Австралии — это настоящий базар, день и ночь открытый для провожающих. В общих залах день и ночь не прекращаются суета, ходьба, хлопанье дверями, день и ночь бегают торопливые лакеи, разделенные на несколько смен.
В эту ночь в одной из зал «Восточной гостиницы» происходил большой митинг золотопромышленников, грозивший затянуться до позднего утра. Съехавшись на праздник, эти господа воспользовались случаем совместно обсудить свои общие интересы. Кроме того, недавно открылся большой спрос золота для нового правительства, которое собиралось чеканить свои собственные соверены, то есть золотые монеты стоимостью 1 фунт стерлингов. Джильпинг, никогда и ни при каких обстоятельствах не забывавший своих выгод, положил в карман крупный самородок и спустился в залу, чтобы попросить оценить его. Едва он вытащил его из кармана и показал собравшейся публике, как со всех сторон раздались крики восторга и изумления. К нему стали приставать с вопросами, где, на каком прииске добыл он такую драгоценность. Хитрый англичанин сказал, что он и сам не знает, с какого прииска этот самородок, что он получил его в уплату от одного диггера. Эксперты тут же оценили его в 4 фунта 5 шиллингов за унцию, которых в английском фунте считается 12. А так как Пасифик нес на себе около 600 фунтов такого золота, то, следовательно, богатство Джильпинга могло быть оценено теперь в 700000 франков с лишком.
Волнуемый приятными мыслями, Джон Джильпинг отправился в контору гостиницы записываться и спросить себе комнату. Комнаты не оказалось свободной ни одной, но управляющий, узнав, что мистер Джон Джильпинг друг тех путешественников, которые так щедро за себя платят, предложил ему в саду просторный павильон из двух комнат. Джильпинг согласился и перенес туда свою «минералогическую коллекцию», полагая, что в павильоне она будет сохраннее. Затем он сделал визит Пасифику, который усиленно жевал засыпанный ему в ясли овес, и удалился в свои апартаменты, чтобы предаться безмятежному отдыху.
Между тем Виллиго по выходе из гостиницы велел своим воинам идти за собой сзади, предупредив, что в случае надобности подаст им сигнал криком гопо.
Насколько «Восточная гостиница» блистала огнями, насколько же в остальном Мельбурне было темно и тихо. В это время залежи угля не были еще открыты в Австралии, и газовое общество не могло снабжать город осветительным материалом на всю ночь. В час ночи все газовые трубы запирались, и город, если не было луны, погружался в совершенный мрак.
В описываемую ночь луны не было, и на улицах стояла непроглядная темнота. Только необыкновенная зоркость дикаря помогала Виллиго пробираться по улицам за Блэком, черная шерсть которого увеличивала трудность следить за ним.
Согнувшись в три погибели и не сводя глаз с двигавшейся перед ним черной точки, тихо крался вдоль стен нагарнукский вождь, точно легкая, бесплотная тень. За ним поодиночке, также неслышно, тянулись гуськом его воины.
Блэк, не уменьшая своей быстроты, пробежал всю Ярро-стрит, потом улицу Королевы Елизаветы, пересек Стрэнд и побежал по Сент-Стивенскому проспекту. Он бежал уверенно, зная хорошо дорогу и чуя сзади себя шаги Виллиго. Нагарнукский вождь по этому признаку догадался, что умный пес уже успел открыть настоящий след своего господина.
«Что-то откроется теперь? — думал Черный Орел. — Хорошо, если еще можно будет их спасти. Но как же беспощадно я отомщу, если Тидана окажется убитым!»
Вдруг дикарь невольно содрогнулся всем телом. Блэк остановился. Виллиго торопливо подошел к собаке.
Черный пес поднялся по ступенькам подъезда какого-то красивого дома на самом конце Сен-Стивенского проспекта и привстал на задние лапы, а передними оперся о богатую резную дверь, повернув голову к Виллиго.
— Ну что же, Блэк? — спросил подошедший дикарь. — Господин Оливье тут, что ли?
Услыхав имя своего господина, собака опустила морду и начала усиленно нюхать под дверью, махая при этом хвостом.
«Значит, здесь, — убедился Виллиго. — Животное нашло след… Оно чувствует, что они здесь, и царапается в дверь».
Блэк глухо заворчал, как бы подтверждая мысль дикаря. Собака как бы негодовала на то, что дверь не отворяется.
«Конечно, они здесь и, вероятно, в плену, — сделал Черный Орел свой окончательный вывод. — Но чей же это дом?»
Дикарь отошел в сторону и начал осматривать окрестность. Неподалеку виднелся собор, налево сквер принца Валлийского. Виллиго начал припоминать.
«Да, так и есть!.. Это…»
И Черный Орел едва не вскрикнул.
Это был дом Португальского консульства. Следовательно, Черный Орел был прав в своих подозрениях, которые тщетно старался внушить Дику. Белый шпион оказался предателем. Вероятно, Тидана и его друзья отправились к консулу в гости, а тот взял да и задержал их всех. Вместе с тем у Виллиго явилась надежда. Что-то шептало ему, что еще не поздно, что еще можно спасти друзей.
Виллиго обладал чрезвычайно быстрым соображением. Он сразу понял, что силою ничего не возьмешь, а ночью не поможет и хитрость. Днем можно было войти в дом белого человека и броситься с воинами вслед за ним, но возможно ли было дожидаться дня? Теперь был еще только пятый час.
Он задумался, опустив голову на грудь. Через несколько времени он вновь ее поднял и бодро выпрямился.
В его голове составился до дерзости смелый план, в котором отводилась, между прочим, роль и Джону Джильпингу.
Черный Орел оставил Вивагу караулить подъезд консульства, а сам с остальными воинами побежал в гостиницу посоветоваться с англичанином. Блэка он побоялся оставить возле дома и взял с собою, привязав на веревку.
Оставив воинов на улице, Виллиго вошел в гостиницу один. Коридорный проводил его в павильон, занимаемый англичанином, который в это время сладко спал и видел во сне, что будто он уже не просто Джильпинг, а лорд Воанго, английский премьер, и читает в палате написанную им тронную речь. Вот его приветствуют аплодисментами… Аплодисменты так громки, что лорд Воанго просыпается… и что же? Оказывается, что в двери павильона изо всех сил стучит Виллиго.
— Отворите, Воанго!.. Да отворяйте же!
Джильпинг вскочил, как встрепанный, и впустил нагарнука. Увидав, что дикарь один, он вскричал с глубокою, искреннею грустью:
— Они погибли?
— Не знаю, но дело, по всей вероятности, очень плохо.
И Черный Орел наскоро познакомил Джильпинга с последними происшествиями. Окончив рассказ, он прибавил:
— Если Воанго поможет Черному Орлу, то наши друзья будут немедленно спасены!
— Я к твоим услугам, — отвечал англичанин.
— Хорошо. Черный Орел расскажет тебе одну историю, а ты соображай.
— Я слушаю.
— Два года тому назад Черный Орел был в Мельбурне, и вот что он видел: один скваттер заболел и, чувствуя приближение смерти, послал ночью за консулом своей страны, чтобы тот засвидетельствовал ему завещание.
— Очень возможно, — отвечал Джильпинг. — Консулы обязаны свидетельствовать все бумаги подданных своего государства.
— Хорошо, Воанго. Так скажи мне: всегда ли это так бывает?
— Обязательно. Если умирающий пригласит своего консула, то консул не вправе отказаться.
— Так пусть Воанго заболеет и позовет к себе португальского консула.
— Это для чего? — удивился Джильпинг, не отличавшийся быстротою соображения.
— Чтобы Черный Орел и его воины тем временем проникли в консульский дом и освободили пленников.
Джильпинг изумленно взглянул на дикаря. Считая Черного Орла человеком низшей расы, он никак не мог поверить, чтобы ему в голову могла прийти такая блестящая мысль.
— Неужели Воанго колеблется? — с тревогой спросил нагарнук.
— О нет, нисколько. Для наших друзей я на все готов!
— Спасибо тебе! Воанго теперь друг Виллиго, а это нечасто бывает! — заметил дикарь и рассмеялся своему невинному каламбуру.
Воанго — болотная неуклюжая птица, служащая обыкновенно добычею орла. Джон Джильпинг не понял каламбура и рассмеялся тоже, иначе он бы, наверное, обиделся.
Черному Орлу пришла мысль поистине гениальная и при данных обстоятельствах, быть может, единственно исполнимая. Как ни был хитер и лукав барон де Функаль, иначе m-r Люс, но и ему не могло бы прийти в голову, что для него расставят западню в самой людной гостинице Мельбурна.
Оставалось только обдумать подробности проекта. Самый лучший способ исполнения придумал опять-таки Черный Орел.
Португальский консул не имел понятия о Джильпинге, поэтому трудная задача завлечь дипломата в гостиницу выпала на долю англичанина.
Басню придумали необыкновенно простую: будто бы друг Джильпинга, португалец родом, собирался вернуться на родину, составив себе в Австралии огромное состояние, но на пути заболел в Мельбурне и, чувствуя приближение смерти, пожелал написать завещание. С этой целью он-де и приглашает к себе своего консула, чтобы завещание вышло по всей форме и не подало впоследствии повода для оспаривания. Все это предполагалось произнести перед сыщиком с подобающей интонацией и с ловко разыгранным волнением в конце речи. Звание члена Лондонского географического общества, подтвержденное дипломом, должно было окончательно успокоить сыщика.
Остальное подразумевалось само собою: Виллиго с своими воинами, спрятавшись в соседней комнате, бросятся в решительную минуту на консула, свяжут его и затем ворвутся в консульский дом.
Тут Джильпинг вставил от себя замечание:
— Но ведь консул может взять с собой несколько человек провожатых! — сказал он.
— Тем лучше: меньше народа останется в консульстве! — возразил Виллиго.
— Но ведь тогда произойдет борьба…
— Не бойся, Воанго. Они и ахнуть не успеют, как мы их схватим и свяжем.
— Так для этого нужно, чтобы кто-нибудь лег на постель; иначе у них сейчас же явится подозрение.
— Правда твоя, Воанго. Хорошо, в постель лягу я. Как только он подойдет ко мне, я кинусь к нему на горло.
— Этого мало, Виллиго. Нужно, чтобы кто-нибудь сидел около больного, покуда я хожу, и встретил бы нас. Я знаю, что за народ европейские сыщики: чуть немножко что не так — сейчас же заметят.
— Воанго опытный муж, он настоящий муж совета! — заметил Виллиго.
Почтенный Джильпинг заботился об этих предосторожностях просто потому, что желал сберечь отца для своего многочисленного потомства, супруга для миссис Джильпинг и будущего баронета для Соединенного Королевства.
Он позвонил. Вошел коридорный.
В то время в Австралии коридорные при гостиницах были все народ отпетый, отчаянный.
— Хочешь заработать в два часа сто долларов? — спросил коридорного англичанин.
— А что для этого нужно сделать?
— Покуда я хожу, побыть здесь с этим вот господином, ничему не удивляться, что бы ни пришлось тебе увидать и услыхать, отворить дверь, когда я вернусь, и быстро исчезнуть вон.
— All right, sir (хорошо, сэр).
Джильпинг попал очень удачно: коридорный был человек небезгрешный и боялся властей, как, огня. С его стороны нельзя было опасаться доноса или даже простого разглашения.
— Вот тебе сто долларов.
Коридорный сунул деньги в карман, переменил во рту табачную жвачку и преважно развалился на диване.
— Так я ухожу! — сказал Джильпинг.
— Подожди, я сейчас впущу моих воинов! — возразил вождь.
Через несколько минут в комнату вошли пять нагарнуков. Они сбросили с себя плащи и остались в национальных военных костюмах. Коридорный, будучи весь поглощен сплевыванием табачного осадка изо рта в таз, стоявший от него в нескольких шагах, не обратил на вошедших никакого внимания.
Джильпинг обменялся с Виллиго крепким рукопожатием. Торжественность минуты сблизила на этот раз двух людей столь различных между собой по племени, по воспитанию, по взглядам и убеждениям.
Проходя двором гостиницы, Джильпинг взял с собою рассыльного, которых держат при гостиницах специально для сопровождения путешественников и для исполнения их поручений. Через четверть часа он уже был на месте. Не без сердечного замирания взялся он за бронзовый дверной молоток и стукнул им в доску. Он чувствовал, как сердце у него в груди то замрет, то усиленно забьется. На первый стук не было ответа. Подождав немного, Джильпинг спохватился, что следует выказать нетерпение, иначе могут не поверить, что его послал умирающий. Он снова взялся за молоток и опять постучал, но на этот раз с гораздо большею настойчивостью.
В коридоре послышались торопливые шаги. Над дверью откинули слуховую форточку, в которой блеснул яркий свет, и чей-то резкий голос произнес обычный оклик:
— Кто тут?
— Джон Джильпинг, эсквайр, член Лондонского королевского общества по отделению геологии, минералогии и ботаники.
— Что же вам угодно?
— Я желаю видеть господина португальского консула.
— На что он может быть вам нужен в такой поздний час?
— Один из его соотечественников умирает в «Восточной гостинице» и желает сделать форменное завещание. Состояние у него огромное, несколько миллионов.
— Подождите, я ему доложу! — сказал голос на этот раз гораздо мягче.
Прошло минут пять, показавшихся Джильпингу целой вечностью. Шаги послышались снова, и дверь осторожно отворилась. На пороге явился молодой человек, лет двадцати восьми, вполне одетый, несмотря на позднюю пору, и, быстро оглядев англичанина и его провожатого, сказал:
— Входите, сударь; консул соглашается вас принять. Только он просит подождать, покуда он оденется.
Джильпинг хотел было отпустить рассыльного, но раздумал. Ему пришло в голову, что их обоих непременно подвергнут тщательному наблюдению, а непринужденные манеры рассыльного, который ничего не подозревал, должны были, разумеется, произвести успокаивающее впечатление.
Ждать пришлось недолго, и впечатление, вероятно, было благоприятное, потому что вскоре вошел барон де Функаль с любезной улыбкой на лице.
Джильпинг с первого же взгляда убедился, что барон еще и не думал ложиться спать.
— Это вы, сударь, зовете меня к умирающему соотечественнику, который хочет написать завещание?
Сыщик говорил медленно, пытливо вглядываясь в незнакомое ему лицо. Джильпинг отвечал:
— Я, господин консул, и если вы согласны, то я бы попросил вас поторопиться, так как минуты умирающего уже сочтены, а он непременно желает сам распределить свое состояние между наследниками.
— Желание вполне понятное. А как зовут вашего знакомого?
Вопрос был неожиданный. Джильпинг упустил из виду к нему приготовиться. Он чувствовал, что если он выкажет хотя бы минутное колебание, то все пропало. Сыщик, видимо, еще не имел подозрений, но достаточно было малейшего повода, чтобы они разом возникли.
Поэтому Джильпинг собрал все силы и отвечал не колеблясь, так сказать, на ура:
— Его зовут… Митуель-Нуньец-Юаким-Лунс-Педро-Карвахаль…
А сам в это время думал:
«Уф! Кривая, вывози!»
— Вы, кажется, сказали, что у него очень большое состояние? — спросил консул.
Но тут Джильпингу пришла в голову гениальная мысль. Он встал с видом нетерпения и торопливо проговорил:
— Большое, большое… Только извините меня, господин консул, я ждать не могу. Если вы не желаете посетить моего больного, то я обращусь к здешнему нотариусу. Мой друг может умереть с минуты на минуту, и тогда его состояние перейдет к таким лицам, которых он не терпит.
— С чего вы взяли, что я отказываюсь от исполнения своих обязанностей?
— возразил задетый за живое консул.
— В таком случае нечего медлить и терять время на праздные разговоры, не во гневе будь вам сказано, господин консул.
— Я сейчас, сэр, сию минуту. Дорогой мы захватим с собой еще итальянского консула. Португальские законы вообще очень требовательны относительно формы, но когда заграничное завещание засвидетельствовано двумя консулами, то оно превращается в бесспорный акт.
— Не вижу в этом никакого неудобства, — отвечал Джильпинг и мысленно прибавил: «Великолепно! Это значит, на одну удочку две рыбки!»
Сыщик постарался взять с собой как можно больше народа. Он был человек осторожный и ввиду особенности своего положения не желал рисковать.
— Дон Кристовал, — обратился он к секретарю, — идите, пожалуйста, вперед и предупредите его превосходительство.
Молодой человек раскланялся и вышел.
— Дон Педро де Сильва, — продолжал консул, обращаясь к другому помощнику, стоявшему все время в передней, — вы тоже пойдете с нами.
«Стало быть, теперь четверо, — подумал про себя Джильпинг, — если только и итальянскому консулу не придет фантазия взять с собой провожатых».
Джильпинг и консул с доном Педро, в предшествии рассыльного, вышли из дома и направились к зданию Итальянского консульства. Итальянский консул не заставил себя ждать, но он явился в сопровождении двух здоровых молодцов.
Джильпинг пришел в ужас.
— Вот уже и шесть, — пробормотал он, — столько же, сколько и дикарей.
Его утешало только то, что ни у кого из этих людей не было на виду оружия, и он возложил надежду на ловкость нагарнуков.
Во всяком случае, дело очень усложнялось, и почтенный британец, не будучи театральным героем, начинал уже каяться, что дал себя впутать в чужую беду. Но отступать уже было поздно.
Благодаря обильным возлияниям митинг в общей зале «Восточной гостиницы» дошел до апогея. Все шумели, кричали, некоторые даже клевали носом, так что на вошедших никто не обратил внимания.
— Точно заседание парламента! — пошутил итальянский консул.
Опасаясь, что уединенная беседка внушит консулам подозрение, Джильпинг заметил вслух, что больного перенесли в беседку лишь на время праздников, так как его беспокоил шум.
Объяснение было весьма правдоподобное, и консулы доверчиво углубились в сад.
Подходя к беседке, Джильпинг призвал на помощь всю свою силу воли. Перед глазами у него мелькала миссис Джильпинг, дети и будущий его замок Воанго-Голль. Он постучал в дверь.
Коридорный отворил.
— Пожалуйте, господа! — сказал Джильпинг, пропуская гостей вперед.
Посетители, ничего не подозревая, вошли в комнату, слабо освещенную ночником. Коридорный ушел.
На постели неподвижно лежал какой-то человек.
— А ему, должно быть, очень плохо! — тихо заметил де Функаль.
— Должно быть, он спит. Перед моим уходом доктор давал ему какое-то лекарство. Подойдите к нему и поговорите с ним.
Барон подошел к кровати, а его спутники толпились сзади около него, побуждаемые любопытством. Таким образом, они совершенно не могли видеть, что делается в комнате.
Вдруг Джильпинг оглянулся и вздрогнул: по ковру, точно змеи, ползли пятеро нагарнуков.
— Ну, мой друг, — сказал ложный барон, наклоняясь над умирающим, — вы, кажется, хотели сделать завещание.
Под одеялом кто-то тихо шевельнулся. Все наклонились к постели.
В ту же минуту раздался грозный военный клич нагарнуков: «Вага!» Виллиго, как тигр, подпрыгнул на постели, схватил консула за горло, повалил на землю и сел на него. Прочие воины кинулись на спутников консула и тоже подмяли их под себя. Послышалось хрипение удушаемых.
— Черный Орел, — вступился Джильпинг, — не нужно убивать понапрасну.
— Нет, — возразил Виллиго, — если их пощадить, они опять примутся за то же. Их нельзя щадить.
— Узнаем по крайней мере, что сталось с нашими братьями.
— Для этого достаточно одного! — сказал Черный Орел.
Виллиго отпустил немного шею пленника, а когда тот опомнился, обратился к нему с приказанием:
— Только пикни — и ты погиб!
Пленник молчал.
Виллиго связал его по рукам и ногам. Пятеро остальных были уже трупами.
— В реку их! — скомандовал Черный Орел.
Нагарнуки взвалили себе на плечи каждый по одному трупу. Ярро текла недалеко, и скоро волны ее помчали трупы в море.
Затем Виллиго приступил к допросу пленника:
— Где трое белых, которые пришли к тебе в дом?
— Я не знаю, про кого вы говорите! — уклонился сыщик.
— Берегись! Ведь я и без тебя могу отыскать их.
— Зачем же тогда ты спрашиваешь меня о них?
— Чтобы знать, живы они или умерли.
— А если умерли?
— О! тогда… тогда тебе будет завидна участь твоих спутников. Я привяжу тебя к столбу пыток и в течение трех лун буду мучить тебя беспощадно.
Сыщик слыхал кое-что о подобных пытках. У него выступил холодный пот.
— А если живы? — спросил он.
— Тогда решение твоей участи будет зависеть от них.
— О, бегите же скорее… туда… ко мне в дом… вот ключ… скорее… покуда они не задохлись.
Консул проговорил это слабым голосом и лишился чувств.
— Оставьте его так, — сказал Джильпинг. — Вы слышали: они могут задохнуться. Бежим скорее!
С этими словами он вынул из кармана у сыщика связку ключей.
— Коанук, оставайся здесь и стереги пленника! — приказал Черный Орел.
И все кинулись вон из гостиницы по направлению к дому Португальского консульства.
Но… уж не поздно ли было?
XI
Часы ужасной пытки. — Человек в маске. — Отчаяние Оливье. — Страшное усилие канадца. — Спасены!
Вернемся теперь к трем друзьям, так предательски захваченным в плен у португальского генерального консула.
Часы шли для них с убийственною медленностью. Около полуночи пленники успокоились и стали соображать свое положение. Канадец постучал кулаком во все четыре стены тесной темницы, и везде стены эти издавали глухой металлический звук.
— Негодяи отлично приняли свои меры, — сказал он наконец с невольным вздохом. — Мы засажены за железные стены.
— Теперь вы, я думаю, сами видите, Дик, что у нас нет больше никакой надежды! — заметил Оливье.
— Все написано в книге судеб, дорогой граф, — отвечал канадец, — и человек не может ничего предрешать. Замечу вам покуда лишь одно: разве мы не были еще в худшем положении, а между тем до сих пор оставались живы? Нет, я надеюсь на некую высшую волю, которая может, если захочет, обратить в ничто все козни врагов.
— А вы ручаетесь, что эта высшая воля захочет? — печально спросил Оливье.
— У меня есть какое-то невольное предчувствие.
— Ну скажите… ну разве есть у нас какое-нибудь средство к спасению?
— Сознаюсь, я не вижу никакого, но нужно принять в расчет разные посторонние обстоятельства. Мало ли, что еще может случиться. Поверьте, друзья, моему внутреннему убеждению: не здесь суждено нам окончить жизнь.
— Хорошо, постараюсь поверить. Но нет, это выше моих сил. Я не могу надеяться.
— Как знать? Быть может, нам даже не понадобится внешняя помощь.
— Что вы хотите сказать?
— Мне вдруг пришло в голову… Я даже не решаюсь сказать, что именно. Однако вот что: нас, вероятно, слушают. Стоит приложиться ухом к стене, чтобы в этом убедиться. Снаружи до нас доходят звуки. Мы можем тоже слушать. Давайте. Тише теперь: кто-то там ходит.
Послышался стук дверного молотка. Кто-то побежал отворять. Все трое приложились ухом к металлической доске.
До них явственно донеслись фразы, которыми господин Люс обменялся с пришедшими.
— Ну, что же? — спросил голос, чрезвычайно похожий на голос итальянского консула. — Удалось вам?
— Удалось, — отвечал Люс, — они тут все трое. Пружины действовали прекрасно, и доски опустились с быстротою молнии.
— Труда большого не было?
— Они попались, как бараны. Мне даже жалко и совестно было. Они шли по коридору так уверенно, так наивно, что у меня язык чесался крикнуть им: стойте, не ходите!
— Как это могло вам прийти в голову! — вскричал чей-то сердитый голос, незнакомый пленникам.
— Но ведь я же этого не сделал, а за мысли человек не отвечает, — возразил Люс. — Я ведь тоже человек, а не зверь. Я исполняю то, что мне приказано, но голоса совести не могу, не умею заглушить. Вам до этого дела нет, но мне-то самому ужасно тяжело и больно!
— Если ты когда-нибудь попадешься ко мне в руки, — прошептал канадец,
— то эти слова тебе зачтутся и я пощажу тебе жизнь. Я тоже сумею пожалеть тебя, несчастный!
— Как вы добры, Дик, — сказал Оливье, кладя ему на плечо свою руку.
— Берегитесь, сударь, — возразил сердитый голос, — с такими убеждениями нельзя быть Невидимым.
— Странно, но я слышал этот голос где-то прежде, — сказал Оливье. — Только где именно?..
— И я слышал, — согласился Дик. — А! Теперь вспомнил! Помните наш плен у дундарупов?
— Замаскированный незнакомец! — вскричал Оливье с невольною дрожью. — Опять он!
Этими словами пленники обменялись наскоро, не переставая слушать продолжавшийся тем временем разговор.
— До сих пор я не подавал повода к неудовольствию, — говорил Люс, — но теперь это безжалостное преследование графа… Я не могу этому помешать, даже содействую, но тем не менее мне тяжело, тяжело сознавать, что я работаю для чужого интереса.
— Что вы этим хотите сказать?
— Что графа преследуете вы, именно вы, и главным образом потому, что видите в нем счастливого соперника.
— Мой соперник в Мельбурне! — чуть не вслух произнес Оливье.
— Оставим этот разговор, — сказал, смягчая голос, незнакомец. — Скажите лучше, все ли так сделано, как я говорил?
— Повторяю: они заперты в железной клетке.
— Следовательно, он отклонил наши предложения?
— Понятно, отклонил.
— Вы знаете, что нужно делать дальше?
— Мне приказано содействовать вам в захвате графа и его товарищей. Они захвачены. На этом моя обязанность кончается.
— Как? Значит, вы не преградили доступа воздуху?
— Нет, я не считаю это своим делом. Я не убийца и не желаю им быть. Доканчивайте сами как знаете.
— Ничего не значит, — вмешался итальянский консул, все время молчавший. — Я к вашим услугам, сударь. Располагайте мною.
— Что он сказал? — спросил Оливье, не расслышавший конца разговора.
— Не знаю! — отвечал Дик.
Но Дик сказал неправду. Он все понял, — понял, что их собираются задушить, и весь похолодел от ужаса.
Настало молчание, потом послышался звук как бы заводимых стенных часов с гирей, потом все опять стихло.
Наконец до пленников долетели слова:
— Вы отвечаете за последствия. Все должно кончиться через час. До свидания. — И дверь захлопнулась.
Канадцу послышался словно чей-то вздох, и затем кто-то медленными шагами направился во внутренние комнаты дома. Все кругом затихло, как в могиле.
На соборе пробило два часа.
Дику сначала показалось, что он не так понял и что доступ воздуха не прегражден, но вскоре он почувствовал, что ему нечем дышать. Товарищи его молчали. Наконец Оливье сказал:
— Не находите ли вы, что здесь душно, Дик?
— Еще бы не было душно, граф, в такой тесноте!
— Совершенная могила! — вздохнул граф.
Канадец вздрогнул: он и сам уже потерял надежду.
Тут он услыхал стук в дверь, потом шаги и отрывки разговора, из которого он понял, что Люс куда-то уходит из дома. Но от этого узникам было не легче. Воздух исчезал с невероятной быстротой.
— Дик! Дик! — прокричал опять Оливье. — Спасите!.. У меня в ушах стучит, голова пылает, мне душно, душно… Да что же это такое делается, Дик?
— Негодяи! — пробормотал Дик.
Лоран тяжело дышал в своем углу. Он тоже чувствовал, что ему приходит смерть. Ему и Дику, как наиболее сильным физически, приходилось особенно плохо. Узники хрипели.
— Дик, Дик! — прокричал опять Оливье. — Спасите!.. Спасите!.. Умираю!.. Ох!.. Умираю!..
— Все в Божьей воле, граф! — только и мог ответить верный канадец.
Но тут произошло нечто неслыханное, невероятное… Обезумев от боли и отчаяния, канадец уперся ногами и спиною в две противоположные стены тюрьмы и, собрав всю свою мускульную силу, поднатужился. Началась глухая борьба между живым человеком и бездушным веществом. Бездушное вещество не уступало, но и живой человек не терял еще энергии. Оливье вскрикнул в последний раз:
— Помогите!.. Умираю!.. О Боже мой! — И, прокричав это, затих, как ребенок.
Не помня себя от ярости, канадец бешено собрался в последний раз с силами, напряг мускулы и разом выпрямился, точно стенобитный таран, пущенный в ход могучею пружиной.
Послышался металлический треск… Ура! Победа! Железная стенка треснула в пазах, подалась и вылетела вон на паркет коридора. Обессиленный богатырь упал бесчувственной массой рядом со своими товарищами.
Но это ничего не значило. Воздух, благодетельный воздух незримою, но ощутительною волной хлынул в западню и уже начал проникать в отекшие легкие пленников.
Узники были спасены.
Первым встал на ноги Лоран. Открыв глаза, он удивился, увидав своих товарищей распростертыми на полу в обмороке. Он успел забыть все, что с ним было, и лишь понемногу начал припоминать и соображать. Его изумление не имело границ, когда он увидал зияющий пролом, сделанный богатырским усилием мышц канадца. Из полуотворенной двери в кабинет консула тянулась по полу полоса света, которая позволила Лорану разглядеть обстановку. Первой его заботой было поспешить на помощь Оливье и Дику, которые еще не могли говорить, но уже делали усилия встать. Он помог им присесть, прислонившись спиной к стене, и начал, как мог, приводить их в чувство.
— Пить! — проговорил канадец, истомленный не столько страданием от духоты, сколько нечеловеческим напряжением сил.
Лоран осторожно подошел к полуотворенной двери, толкнул ее и, не видя никого в комнате, переступил через порог. У самого входа стоял столик, на котором было приготовлено все, что нужно для грога: графин с водой, несколько стаканов, сахарница и бутылка с коньяком. Взяв два стакана, Лоран сделал в них грог и обеими руками поднес их разом своим друзьям. Те выпили грог залпом и очнулись вполне.
— Мы спасены! Во второй раз вы нас спасаете, Дик! — таковы были первые слова, произнесенные графом д'Антрэгом.
Молодой человек понял все с первого же взгляда на окружающую обстановку. Он увидал выломанную доску на полу и кровь на бороде у Дика. Канадец между тем вернул к себе все свои силы.
— Однако позвольте: что это такое с нами было? — продолжал граф, еще не вполне отдавая себе отчет в происшедшем.
— Нас заперли в западню с железными стенами, — отвечал Дик. — Негодяи хотели нас извести посредством недостатка воздуха… Но теперь не время для объяснений, граф; бежим скорее: негодяи с минуты на минуту могут сюда войти, а нас мало.
Три друга взяли в руки свои револьверы и пошли к двери.
— Она заперта на два поворота, — сказал канадец, — но это пустяки. Я сейчас выломаю замок.
Где-то вдали раздался собачий лай.
— Точно Блэк лает! — заметил Оливье.
Лай слышался ближе и ближе, мешаясь с торопливым топотом приближающихся людских шагов.
Три друга прислушались, затаив дыхание.
— Они пришли сюда… остановились, — сказал канадец. — Не робейте, друзья. Сколько бы их ни было, идем вперед!
Ответом на его слова был треск взводимых курков, затем все стихло. Настала томительная тишина.
— Я брошусь на нападающих первый; вы бросайтесь за мной, — распорядился Дик. — Как только они отворят дверь, я оттолкну их назад и…
Послышался звук вводимого в замок ключа, который с обычным визгом повернулся в замке два раза. Дверь отворилась, и отпиравший ее Джильпинг, отступив назад, пропустил вперед нагарнуков.
— Вага! — весело крикнул Виллиго, первый вбегая в дом.
— Вага! Вага! — дружным хором повторили за ним нагарнукские воины.
Этот крик остановил в самом начале неминуемое столкновение.
— Стой! — крикнул своим друзьям канадец. — Это Черный Орел!
— Тидана! Тидана! — с дикой радостью завыл Виллиго.
И оба бросились друг другу на шею.
Тогда раздался гнусавый, протяжный голос Джона Джильпинга, эсквайра из Воанго-Голля, заявившего наконец о своем присутствии возгласом:
— О! Кажется, мы пришли в самый раз!
XII
Жизнь в буше. — Странные феномены австралийской фауны. — Охотники.
Не много найдется на свете таких очаровательно живописных местностей, как австралийский bush, с его зелеными лугами, на которых пестреют роскошные цветы, с его благовонными рощами сирени, акаций и гигантских эвкалиптов.
Нигде не встретишь такой, как там, свежести, тишины; далеко, насколько глазом можно окинуть, расстилается бесконечная равнина, по которой в красивом разнообразии зеленые ковры чередуются с душистыми рощицами и тенистыми, темными лесами, где находят себе приют разнообразнейшие виды птиц и животных.
Целые дни, целые месяцы можете ездить по этим неизмеримым равнинам, лишь кое-где прорезанным невысокими холмами, и всюду вы встретите ту же цветущую природу, те же зеленеющие луга, те же рощицы, увитые ползучими лианами, и те же леса, полные таинственной тишины, лишь изредка нарушаемой криком птицы или шорохом осторожного зверя.
А что за экземпляры животных будут встречаться вам на каждом шагу! Тут вы увидите летучую собаку, всевозможные виды кенгуру, от достигающих роста оленя и до не превышающих размерами обыкновенной крысы; увидите дациуру с хвостом лисицы и с огромными усами; увидите опоссумов, фалангеров, вомбатов; увидите ленивца, или ай-тихохода, и летучую лисицу, то есть громадного нетопыря, бросающегося на спящих путников и сосущего из них кровь; увидите парадоксоса со спиральным хвостом, которым это странное животное цепляется за ветку и так висит, качаясь мерно, как маятник.
Далее вы познакомитесь с утконосом, несущим яйца и питающим детенышей молоком, — животным, живущим одинаково и на земле, и в воде, животным, ползающим, лазящим и плавающим; увидите ящерицу-плащеносца, хамелеона-лягушку, прозванного так за почти постоянную жизнь его в воде; увидите сосальщика, страшное косматое животное, которое бросается путнику на лицо и присасывается к нему шестью ротовыми сосальцами, так что от него можно отделаться, лишь разрезав ему спину по всей длине.
Вообще в Австралии как среди растительного царства, так и среди животного встречаются такие странные особи, что материк этот представляется какой-то переходной страной от первобытности к новейшей эпохе. Кажется, как будто там недавнего происхождения вся природа: и растения, и животные, и люди, так что полная эволюция еще не успела совершиться.
Вот вам пример: в Австралии есть хищное — да, хищное — плотоядное растение.
Это круглолистная drosera, покрывающая своими белыми цветочками газон в эвкалиптовых лесах. Ее листья покрыты темно-красными волосками, из которых выделяется липкая жидкость, хранящаяся у основания волосков в виде маленьких капелек росы. В середине листка эти волоски короче, чем у краев, и таким образом они образуют воронковидное углубление, на дне которого блестят прозрачные капельки. Горе насекомому, которое соблазнится видом этих капелек и сядет на листок, чтобы напиться их! Клейкое выделение сейчас же свяжет насекомому крылья и лапки. Лист свернется, из волосков вытечет жидкость, которая окончательно опутает насекомое. Затем насекомое поступит в центр листка, где та же самая жидкость находится в брожении и походит свойствами на наш желудочный сок. Тогда наступает настоящее пищеварение: мясистые части проглоченного насекомого растворяются, и растение усваивает их себе, отбрасывая непереваримые части.
Описанные нами диковинки австралийской фауны и флоры, а равно и многие другие, о которых мы не станем сейчас упоминать, служили в один прекрасный день темою для разговора между тремя мужчинами, медленно шедшими с винтовками за плечами по природной тропинке, которая змеилась между Сван-Ривер (Лебяжьей рекою) и огромным лесом, покрывавшим весь берег этой реки от верховьев до устья.
Один из путников только что убил в приречном болотце огромного утконоса, подавшего повод к интересной естественно-исторической беседе.
— О! — протянул с сильным английским акцентом один из путников, резюмируя разговор. — О, Лондонское королевское общество получит от меня такой интересный реферат, какого оно уже давно не получало… не получало, пожалуй, со времени указа об его учреждении, подписанного Георгом III…
— И если прибавить к этому 7835 Библий, розданных вами туземцам, — отвечал другой путник, тщательно скрывая иронию в голосе, — то ее величество королева, чтобы быть справедливой, должна будет пожаловать вам звание лорда с каким-нибудь австралийским титулом… Кстати же, это будет первый австралийский титул…
— О, я вам очень благодарен за комплимент, — отвечал первый путешественник, не замечая иронии. — Но вы забыли, что я благодаря вам имею возможность сделать такое описание прииска, которое впервые познакомит Англию с геологическими и географическими свойствами золотоносной почвы Австралии.
— И мы пришлем вам отсюда в подарок корону пэра, сделанную из золота с нашего прииска и с надписью: «Первому лорду Воанго».
— О сэр!.. Клянусь, это будет лучшим днем в моей жизни.
— Кажется, господа, мы подходим к лагерю, — сказал третий путник, до сих пор молчавший. — Вон за тем поворотом реки виднеется дымок. Я уверен, что это наши товарищи развели огонь и готовят нам жаркое… кенгуру, опоссума или что-нибудь в этом роде. Я не прочь бы заморить червячка, а вы какого об этом мнения, граф?
— Я, Дик, совершенно с вами согласен, — отвечал молодой человек. — Аппетит у меня разыгрался такой, что я не хуже Исава готов продать право первородства за чечевичную похлебку.
Читатель, вероятно, уже догадался, кто такие были путники, следовавшие берегом Лебяжьей реки. То были наши друзья: канадец Дик, граф Оливье Лорагюэ д'Антрэг и достопочтенный Джон Джильпинг, эсквайр, член Лондонского королевского общества и кандидат в пэры Соединенного Королевства с экзотическим титулом лорда Воанго из Воанго-Голля, как уже начали его называть в шутку Дик и Оливье.
Оливье за это время выучился нагарнукскому языку и, понимая значение слова «воанго», не мог без улыбки видеть, с каким удовольствием наивный британец принимал свое курьезное прозвище.
Друзья незадолго перед тем сделали привал на двое суток в одном прелестном заливчике Сван-Ривер и утром на заре отправились в небольшую зоологическую и ботаническую экскурсию.
Теперь они голодные возвращались в лагерь, где их дожидались Лоран, Виллиго, Менуали и один фермер, по имени Вальтер Кэрби, родом американец, у которого на Сван-Ривер было обширное ранчо. Путешественники познакомились с ним в «Восточной гостинице»; фермер оказался превосходным малым, и они взяли его в свою компанию.
Достопочтенный Джон Джильпинг, уже набравший превосходную коллекцию для Британского музея, решил во что бы то ни стало составить, кроме того, для Лондонского королевского общества двойную коллекцию всех животных и растений, какие только могут считаться типично австралийскими. Для обыкновенного кабинетного составителя коллекций этот труд был бы громаден и занял бы несколько лет времени, но Джильпинг, при помощи нагарнуков и Дика, достиг своей цели почти шутя.
Менуали то и дело приносил и указывал ему всевозможные замечательные растения, а Дик и прочие европейцы постоянно охотились за встречными животными. Сам Джильпинг с замечательной ловкостью и быстротой приготовлял чучела. Специально нанятая в Мельбурне для перевозки этих препаратов тележка везла на себе уже десятка два ящиков.
В тот вечер, как мы снова встретились с нашими друзьями, охота была особенно удачна. Убито было несколько замечательных животных, каждое в двух экземплярах. Три друга возвращались в лагерь довольные, веселые и, как уже мы видели, страшно голодные.
Предсказание Дика оправдалось. Виллиго, не признававший никакой науки, подстрелил великолепного кенгуру, и мясо его уже дожаривалось на весело потрескивавших угольях.
Джильпинг, заранее приходя в восторг от предстоящего насыщения, принялся рыться в багаже, навьюченном на кроткого Пасифика. Он достал оттуда шесть бутылок эля, три бутылки портера, бутылку бренди, несколько коробок разных приправ, пикулей, соли и прочего, присоединил к этому глыбу превосходного честерского сыра, без которого он решительно не мог жить, — и начался пир горой.
А покуда наши приятели кушают, постараемся объяснить читателю, какими судьбами очутились они среди австралийских лесов после описанных нами в предыдущей главе драматических событий.
XIII
Советы Люса. — Новый прииск. — Открытие золота в Австралии. — План лесовиков. — Посещение рудников.
На другой день после своего почти чудесного спасения приятели собрались на совещание, и тут было решено пощадить жизнь сыщика Люса, с тем чтобы он дал слово уехать из Мельбурна с первым пароходом и впредь ничего не предпринимать против графа д'Антрэга. Условие было принято и в точности исполнено.
Перед отъездом у Люса спросили, кто такой замаскированный человек, руководивший всем делом.
— Я не могу вам этого сказать, даже если б мне грозила смерть. Я связан клятвой. Но позвольте дать вам совет: употребите все силы, чтобы узнать имя этого человека. Только в тот день, как вы это узнаете, вы можете быть спокойны, что отделались от Невидимых.
— Совет недурен, — отвечал канадец, — только как же его исполнить?
— Если бы ваши дикари не убили двух моих подчиненных, то это было бы очень легко. Весь вопрос был бы в деньгах. Теперь в Мельбурне есть только один человек, кроме меня, который может вам сказать… но, кажется, я не имею права называть имя даже и этого человека…
— Отчего же? Ведь относительно этого человека вы не связаны клятвой?
— Нет, но ведь это все равно… Это уж была бы уловка.
— У вас есть только одно средство загладить ваше поведение относительно нас, — вмешался Оливье, — это назвать нам имя человека, о котором вы говорите.
— Ну, так и быть… Ищите негра, бывшего слугой у боксера Тома Поуеля. Он видал замаскированного человека без маски и знает его в лицо. Сверх того могу вас уверить, что вы обеспечены по крайней мере на год от этого Невидимого. Ему нужно съездить в Европу, посоветоваться с товарищами и вернуться назад. На это нужно довольно много времени… Прощайте, господа. Больше я ничего не могу вам сказать.
Двадцать четыре часа спустя Люс покидал Мельбурн. Друзья целую неделю после того искали по всем закоулкам Мельбурна слугу Тома Поуеля, но не нашли. Они узнали только, что этого слугу разыскивал, кроме них, еще один господин, и также безуспешно. Приятели догадались, что этот человек был не кто иной, как замаскированный незнакомец, хватившийся денег, заплаченных им Тому Поуелю. Но слуга был, очевидно, малый не промах и скрылся, присвоив себе деньги умершего боксера.
Решено было бросить поиски и ехать наконец на Лебяжий прииск. Оливье предъявил властям патент на концессию, и те, как ни досадно им было, принуждены были ввести его во владение. Весь деловой мир Мельбурна пришел в неописуемое волнение, одновременно узнав об открытии прииска и об уступке его чужестранцу. Золото, разменянное Джильпингом, довершило сенсацию. Оно было замечательно чисто, и о происхождении его с нового прииска сразу догадались все.
Сверх того из Сиднея пришло известие, что там еще раньше Оливье нашли золото на два миллиона франков… «Восточную гостиницу» со всех сторон всадили дельцы с предложениями услуг для разработки прииска. Заочно, еще не видав прииска, многие капиталисты предлагали графу д'Антрэгу 50 миллионов разом не за переуступку концессии — на что графу не было предоставлено права, — а только за право эксплуатации прииска в течение двадцати лет.
Любопытны история эта, история открытия золота в Австралии, и необычайно быстрый рост эмиграции, вызванный этим открытием. Благодаря ему Мельбурн, незначительное местечко с 3 или 4 тысячами жителей, в несколько лет превратился в крупный центр, насчитывающий от 150 до 200 тысяч жителей.
Случилось это так. В двух днях пути от Мельбурна четверо отбывавших срок наказания преступников корчевали низкорослый дубовый лес, расчищая место для постройки небольшого ранчо. Ежемесячно один из этих четвертых товарищей приезжал на осле в город для закупки необходимых припасов и получения пособия, отпускаемого ежемесячно в течение одного года отбывавшим срок наказания каторжникам, согласившимся стать оседлыми поселенцами-земледельцами. И вот один из четверых товарищей, по имени Джон Нолар, вздумал на обратном пути сократить расстояние до строящегося ранчо и вместо обычной дороги направился вдоль берега, а затем свернул по направлению к цепи холмов, которую он считал расположенной вблизи их участка. Но оказалось, что он заблудился. Однако прежде чем вернуться назад, он решил взобраться на высшую точку этих холмов, чтобы сообразить, где именно он находится в данный момент. Все эти холмы представляли собой бугры, сплошь состоящие из наносной почвы, на которой благодаря отсутствию воды не встречалось почти никакой растительности.
Едва только он начал взбираться на один из этих холмов, как, к немалому своему удивлению, заметил в следах, оставляемых копытами его осла, многочисленные желтые крупинки, искрившиеся на солнце, как золото. Недолго думая, он принялся разрывать почву своим охотничьим ножом и без всякого труда находил крупицы, зерна и целые комочки того же блестящего желтого металла. Будучи по профессии своей слесарем, Джон Нолар сразу сообразил, что этот металл мог быть только золотом, так как на нем не было ни малейших следов окиси, и, не теряя времени, принялся наполнять им все свои карманы. Золото было здесь в таком изобилии, что он мог бы нагрузить им и своего осла, но, как человек разумный, он удовольствовался сравнительно незначительным количеством и принялся исследовать окрестность, чтобы убедиться, на каком протяжении раскинулись эти золотые россыпи. Оказалось, что чуть ли не вся эта местность представляла собою одну сплошную россыпь.
Уже и до того было известно, что в Австралии встречается золото; его видели в руках туземцев, которые, однако, не сумели или не пожелали сказать, где и в каких именно местах оно встречается, и потому была назначена премия в сто тысяч долларов тому, кто первый укажет залежь золота, хотя бы даже незначительную, однако до сего времени ничего не было еще отрыто. Поэтому Джон Нолар, сделав заявление, получил премию и весьма значительную концессию, которую он великодушно разделил со своими тремя товарищами.
Весть об этой находке, словно громом, поразила город; все точно ожили, встрепенулись; магазины, здания, мастерские и всякого рода грандиозные сооружения стали вырастать, как по волшебству. Глядя на эти россыпи, сотни пионеров стали искать повсюду новые залежи золота и там и сям повсюду стали находить золото, и в таком количестве, что не стало хватать рабочих рук для добывания его; пришлось выписывать рабочих из Европы и Америки. А золота было так много, что деньги утратили всякую цену; люди платили за предметы первой необходимости не деньгами, а сперва щепотками, а там и пригоршнями золота. Но вскоре не стало ни булочников, ни сапожников, ни портных: все они обратились в золотоискателей; у каждого был свой прииск. Никто не хотел работать; даже товары, прибывающие из Европы, некому было выгружать за неимением чернорабочих: все сделались диггерами, или золотоискателями, все бросили свои обычные занятия в погоне за легким заработком.
Это было какое-то опьянение золотом; все как будто потеряли головы. Весь Мельбурн превратился в какой-то базар удовольствия. Повсюду в городе завелась игра, и игра безрассудная, безумная: целые громадные состояния в одну ночь переходили из кармана в карман. Кроме карт, устроили в Мельбурне рулетку, и сотни старателей, явившихся сюда с карманами, полными золота, поутру возвращались домой без гроша, не имея даже чем заплатить за шкалик джина перед началом работы. Но несколько ударов кирки или заступа — и убытки с лихвой покрывались. Иногда же проигравшийся в пух и прах старатель, не видя перед собой никакого исхода, пускал себе пулю в лоб из пистолета, одолженного у товарища.
Мало-помалу, однако, это безумие улеглось, и жизнь стала входить в нормальную колею.
И вот в это-то время, когда у Мельбурна стал как бы прорываться зуб мудрости, явился сюда молодой граф д'Антрэг. И вдруг это новое открытие чудовищно богатого прииска! Понятно, оно снова взволновало все умы, и притом еще концессия на этот прииск, нечто до сих пор совершенно неслыханное. Как мы уже видели, спекуляция пыталась уже завладеть этим прииском, сделав счастливому владельцу положительно невероятное во всякой другой стране предложение.
Пятьдесят миллионов, с уплатою половины при подписании контракта, а другой половины через шесть месяцев под ручательством австралийского банка, ввели графа Лорагюэ в сильное искушение, и сам по себе он был бы, пожалуй, не прочь заключить контракт. Но он считал себя не собственником прииска, принадлежавшего по справедливости канадцу, а только подставным лицом и потому предоставил решение вопроса Дику, заявив, что сам он не имеет тут никакого мнения.
Предоставленный самому себе, канадец решительно отклонил предложение капиталистов, хотя и сознавал, что оно очень выгодно. Мотивы, руководившие Диком, осмеял бы всякий трезвый человек, но Оливье принял их с уважением, которое считал долгом оказывать своему пожилому другу.
Канадец находил, что золотопромышленники — народ вообще плохой, никуда не годящийся, что они всюду вносят разврат и беспорядки, где ни появятся. Канадцу не хотелось допускать, чтобы этот сброд поганил девственную землю, лежащую вдобавок так близко от поселений столь милых сердцу Дика нагарнуков. Разумеется, Черный Орел вполне разделял взгляд своего друга Тиданы и поддерживал его намерение разрабатывать прииск собственными средствами.
Предложение капиталистов отклонили и занялись набором людей для экспедиции. Набирал сам канадец и подыскал двадцать надежных человек, считая это число вполне достаточным для цели. Наемникам была обещана целая треть золота, какое будет найдено, а остальные две трети назначались в пользу собственников прииска.
Начальство над отрядом поручили одному старому скваттеру, Коллинсу, старинному другу Дика, вместе с ним исколесившему Австралию вдоль и поперек. Каждому человеку дали по магазинной винтовке, по сабле и револьверу. Сверх того к отряду присоединили около дюжины огромных английских собак, чтобы пользоваться их услугами для выслеживания бандитов и для охраны лагерных мест.
За отрядом ехал целый обоз телег с оружием, припасами и инструментами.
Отряд выступил пешком прямо на прииск, до которого этим способом было четыре месяца пути. Канадец и его друзья поехали отдельно верхом, с тем чтобы посетить рудники Сен-Стефана в окрестностях Мельбурна. Накануне их отъезда Виллиго в последний раз побывал в «Чертовом кабачке», чтобы окончательно уговориться с Бобом относительно мнимого содействия нагарнуков замыслам лесовиков.
Условились, что лесовики выступят три дня спустя после отъезда европейцев и будут следовать за ними на известном расстоянии, ничего не предпринимая, покуда Виллиго не даст знать, что все готово. Коанук и Нирроба должны были идти с лесовиками в качестве проводников. С Боба Виллиго взял обязательство, что без сигнала от нагарнукского вождя лесовики не станут делать нападения, в противном случае Черный Орел снимал с себя ответственность.
Вообще Черный Орел готовил лесовикам коварную и гибельную ловушку.
Канадец и Лоран купили для себя двух рослых верховых лошадей, а Менуали получил оставшегося свободным мустанга. Джильпинг сохранил своего Пасифика, а к мулу был прикуплен другой мул, и обоих запрягли в тележку с багажом.
И вот мы встретили наших друзей во время их возвращения в лагерь с удачной охоты.
После обильной закуски маленький отряд расположился на отдых. Перед тем зашел спор, кому караулить привал. Кэрби и Джильпинг, после обильного, чисто английского возлияния эля и бренди, решительно не были в состоянии дежурить и завалились спать. Виллиго объявил, что дежурить он намерен с Менуали, что он никому не уступит дежурства. Он сам не мог объяснить почему, но только его сердцем овладело какое-то тайное предчувствие. Он что-то заподозрил, стал чего-то опасаться.
Противоположный берег Лебяжьей реки прилегал к территории нирбоасов, племени воинственного и жестокого, прославившегося своею безумно дерзкою смелостью; поэтому прежде всего необходимо было знать, в каких отношениях находятся теперь эти нирбоасы к нагарнукам и, основываясь на этом, либо ослабить, либо усилить свою бдительность.
В ту пору, когда Черный Орел уходил из родного селения, оба племени жили мирно, но теперь, как передавал юный Менуали, покинувший своих на целых 6 месяцев, уцелевшие после своего страшного поражения дундарупы успели возбудить нирбоасов против нагарнуков, и война могла быть объявлена с часу на час.
Что делало Виллиго особенно могучим и непобедимым, так это его удивительная предусмотрительность: он всегда был настороже, и его никогда нельзя было поймать врасплох; он все видел, все замечал и придавал серьезное значение малейшим обстоятельствам, часто даже таким пустякам, на какие никто другой на его месте не обратил бы внимания.
Дело в том, что в этот день он, охотясь, нашел в траве голубиное перо. По всей вероятности, оно выпало из крыла какого-нибудь голубя, пролетавшего мимо, и никто другой не обратил бы на это внимания. Но Черный Орел был дикарь. Малейшее обстоятельство возбуждало в нем тысячу подозрений, и вот он пожелал непременно охранять привал сам, не доверяя ничьей зоркости.
XIV
На страже. — Крик пагу. — Смерть Менуали. — Похоронный обряд.
Виллиго тихо прохаживался кругом лагеря среди непроглядной темноты, чутко настораживая зрение и слух. Но все было тихо, только Джильпинг бредил от времени до времени, видя себя во сне перед палатою лордов. Менуали караулил в нескольких шагах впереди, и так же неусыпно, как его храбрый вождь.
Вдруг послышался крик гопо. Виллиго встрепенулся. Неужели это Менуали зовет его?
Он подался вперед и позвал шепотом:
— Менуали! Менуали!
Вместо ответа послышался насмешливый крик птицы пагу; затем все стихло.
Вне себя от гнева Виллиго закричал:
— Вага! Вага!
Пройдя еще десяток шагов, он наткнулся на чье-то теплое тело. Нагнувшись к нему и дотронувшись, он выпачкал себе руки в крови. То лежал Менуали, предательски убитый камнем, брошенным сзади.
Сбежались европейцы. Юноша, родной племянник Виллиго, который любил его, как сына, находился при последнем издыхании. Он мог только прошептать «дундаруп» и испустил дух.
Черный Орел, не знавший слез, зарыдал, как ребенок. А вдали вторично раздался крик пагу. Дундарупы, не смея напасть на вождя, предательски убили его сына, который даже не был еще воином. И теперь они торжествовали свою бесчестную победу.
Винтовки европейцев долго стреляли наудачу в темноту. Но выстрелы пропали даром. Дундарупов не было, они сделали дело и скрылись.
Не долго плакал Черный Орел. Он был ведь вождь. Зачерпнув воды из Сван-Ривер, он благоговейно омыл рану племянника и все его тело, потом положил труп на ложе из сухих листьев и ветвей, шепча таинственные заклинания. После того он выпрямился и обратился к канадцу:
— Брат мой Тидана, стереги труп моего сына от нечистых птиц, я скоро вернусь!
— Куда же ты идешь?
— Отомстить!
С этим словом Черный Орел крепко пожал руку друга и скрылся в темноте.
— Но ведь его убьют! — заметил Оливье Дику.
— Не беспокойтесь, граф. Дундарупы его боятся и разбегутся, как только завидят его. Поверьте мне, Черный Орел устроит своему юноше кровавые поминки. Я второй раз вижу его плачущим с тех пор, как познакомился с ним. То было двенадцать лет назад. Вождь только что женился на молоденькой девушке из своего племени и, по туземному обычаю, удалился с молодой женой в уединенную хижину из ветвей, вдали от деревни. Ушедши однажды на охоту, Виллиго по возвращении не нашел ни хижины, ни жены. От хижины остались одни курящиеся обломки, возле которых лежал труп новобрачной. Тогда-то он и плакал в первый раз… Он поклялся в неумолимой вражде к дундарупам и сдержал свое слово… С тех пор навсегда исчез мир между дундарупами и нагарнуками. Последние остались в борьбе победителями, и дундарупы как самостоятельное племя, собственно говоря, не существуют. Жалкие остатки их вошли в состав других племен, главным образом нирбоасов и нготаков.
— То-то он ненавидит их так сильно! — сказал Оливье. — Теперь я понимаю его вполне.
— Вместе с тем он ненавидит и лесовиков. Встретив незнакомого ему европейца, он непременно убивает его. Он лелеет одну несбыточную мечту. Считая лесовиков врагами всякого порядка и источником всяких бедствий, он мечтает в один прекрасный день собрать их разом человек двести или триста и всех истребить. Надо вам сказать, что в деле убийства жены Виллиго замешаны не одни дундарупы, но и лесовики. Это достоверно известно.
— Вообще, Дик, для меня ваш друг загадка. Он ходит какой-то мрачный, задумчивый, вид у него какой-то таинственный. Право, он что-то замышляет.
— Очень может быть, но будьте уверены, что он не замышляет ничего вредного для нас. Ни в его честности, ни в его преданности не может быть никакого сомнения. За это я ручаюсь вам, граф!
— О, я верю и вам, и ему! — сказал Оливье, пожимая руку канадца, который молча ответил графу рукопожатием.
Так разговаривали друзья, сидя на траве возле мертвого тела юноши и держа наготове свои винтовки. Ночь была тихая, только монотонный ропот волн Лебяжьей реки, протекавшей поблизости, да изредка крик ночной птицы нарушали глубокую тишину. Кругом летали отвратительные вампиры, почуявшие запах свежей крови, и задевали иногда своими шерстистыми крыльями лица бодрствующих. Некоторые из этих рукокрылых простирали дерзость до того, что совсем даже опускались на труп, но канадец всякий раз сгонял их прочь дулом винтовки. Эти поганые животные составляют настоящую язву австралийских лесов и обладают таким тонким обонянием, что за целую милю слышат запах даже маленького мертвого животного. Иногда, побуждаемые голодом, они нападают и на живых. Горе путнику, прельстившемуся в лесу мягкою травкой, которая сама как бы манит на отдых. Он ложится спать на душистое ложе, но он забыл о вампирах. Вот он засыпает, глаза его слипаются, и он видит сквозь сон, что над ним начинают носиться противные гадины, издающие странный одуряющий запах. Путник хочет встать, но не может: этот запах действует на него парализующим образом. Им овладевает летаргическое состояние: он все видит, все чувствует, но не может шевельнуть пальцем. Сильный запах мускуса ударяет ему в голову; животное опускается на него и садится. Несчастный чувствует на себе влажное, холодное, липкое тело. Он содрогается от ужаса, но не может стряхнуть с себя гадины. Затем он чувствует укушение за ухом, вампир прокусывает сонную артерию и, распустив трепещущие крылья, начинает жадно сосать теплую кровь.
С восходом солнца тою же дорогой случается проходить иногда другому путнику, и тогда он видит своего лежащего мертвого собрата, а около него — насосавшегося вампира, всего в крови и тоже мертвого от обжорства или, правильнее, от перепоя.
Весь остаток ночи канадец Дик и Лоран только и делали, что отгоняли вампиров от мертвого тела Менуали.
Когда проснулись Кэрби и Джильпинг, то чрезвычайно удивились, услыхав о ночном происшествии. Они так крепко спали, что не слыхали ровно ничего. Джильпинг от души пожалел бедного юношу и даже взялся было за Библию, чтобы прочитать псалом, но Дик убедил его не делать этого.
— Я знаю, мистер Джильпинг, — сказал он, — что у вас намерение очень хорошее, но ведь вас уж приняли раз за колдуна. Если подойдет Виллиго и увидит вас с книгой, то подумает, что вы произносите какие-нибудь заклинания. Это рассердит его, и тогда я не ручаюсь за последствия.
День прошел благополучно. Под вечер небо заволокли тучи, и вдали стал погромыхивать гром. Стояла страшная духота, как всегда бывает перед разряжением природного электричества.
Черный Орел все еще не подавал признаков жизни. Оливье начинал беспокоиться.
— Что это он не идет? — заметил он с тревогой. — Уж не случилось ли с ним беды?
Почти сейчас же вслед за его словами вдали послышался крик скватер-клока, птицы, похожей на сороку и прозванной так (часы скваттера) за то, что она кричит всегда перед утром и перед вечером.
— Вот и он! — заметил Дик своему другу.
— Как он похоже кричит! — отвечал Оливье. — Я бы так и подумал, что это сорока.
— О, туземцы на этот счет мастера. Они так хорошо умеют подражать всяким животным, что просто не отличишь. И заметьте: каждый крик имеет у них свое значение. Да вот вам: Виллиго крикнул два раза. Подождите еще немного, и будет третий крик.
Действительно, третий крик не заставил себя ждать.
— Три раза, стало быть, — продолжал Дик. — Первый крик означал, что я должен обратить внимание; второй значил: «это я»; третий: «кругом все благополучно». Если бы крик послышался только два раза, то это значило бы, что враги недалеко; если бы только один раз, то это уж была бы тревога, то есть «враги здесь, вооружайтесь».
— Все это очень остроумно, но разве враги не могут узнать значение этих сигналов?
— Да, но во время войны это условное значение постоянно меняется, как у нас пароль и лозунг. Наконец, выбираются крики разных животных и с разными интонациями, так что враг, если пожелает руководствоваться этими сигналами, в конце концов только спутается.
Разговор был прерван приходом Черного Орла. Нагарнукский вождь медленно шел берегом реки, точно делал простую прогулку. Но он был не один. С ним шел татуированный воин, лишенный оружия и по всем признакам дундаруп. Канадец удивился было, что это значит, но вдруг заметил, что руки пленника связаны под локтями при помощи палки и ремня из шкуры кенгуру и что Виллиго тащит пленника за ремень, захлестнутый на шее мертвым узлом. Освободиться пленник не мог, а если бы стал упираться, то мертвый узел задушил бы его.
Кроме того, у пояса Черного Орла было привешено шесть свежих скальпов.
Весьма странной является эта общность обычая скальпировать убитого врага у краснокожих туземцев Америки и чернокожих племен Австралии, никогда не приходивших между собой в соприкосновение. И не в этом только обычае сказывается известная общность нравов и обычаев между этими двумя совершенно различными расами. Впрочем, все это читатель узнает из нашего рассказа о пребывании наших героев в стране нагарнуков, где мы ознакомим их со сказочным прошлым этого племени, с легендой об его происхождении, с их нравами и обычаями, их верованиями и суевериями. На основании рассказов первых путешественников, посетивших Австралию и не проникавших далее побережной полосы, долгое время полагали, что все туземцы Австралии принадлежат к тому же безобразному и уродливому типу меланезийцев, столь близкому к обезьянам. Тогда как на деле это вовсе не так. Англичане, которые не признают иного способа колонизации, как избиение туземцев и заселение страны англосаксами, находили для себя выгодным поддерживать это заблуждение, которое могло служить до известной степени оправданием их бесчеловечной жестокости. Но теперь, когда стало известно, что Тасмания и Центральная Австралия имели культурное население с классически прекрасными формами и вполне способное усвоить европейскую цивилизацию, теперь уже поздно спасти эти вымирающие племена от окончательного исчезновения. Все они или перебиты, или затравлены, как дикие звери, этими худшими дикими зверьми, прибывшими из Англии, так что невольно рождается вопрос, кто же были истинные дикари, австралийские туземцы или англичане.
Когда Труганина и Ланнэ, эта последняя австралийская чета, эти последние представители той высокой туземной расы, о которой мы говорили, были преданы земле, английское правительство распорядилось воздать им воинские почести при погребении: били барабаны, гремели салюты, и войска брали на караул. Так приветствовали англичане окончательное уничтожение человеческой расы, истребленной ими и их пресловутой цивилизацией.
Увидав пленника, канадец невольно содрогнулся при мысли об участи, которая ждала несчастного дундарупа. Он поспешил предупредить своих друзей, чтобы те не вмешивались в кровавую тризну.
— Ради всего святого на свете, — говорил он, — держитесь в стороне, что бы вам ни пришлось здесь увидеть. Против вековых предрассудков ничего не сделаешь. Если вы хотя бы в чем-нибудь помешаете Черному Орлу во время похоронного обряда, то наживете себе в нем непримиримого врага.
— Дик прав, джентльмены, — вставил свое слово Кэрби, тоже знавший кое-что об обычаях дикарей, — Дик совершенно прав. Предупреждаю вас: ни одного слова, ни единого жеста, Боже вас сохрани! Вы ничего не добьетесь, а лишь приведете Виллиго в такую ярость, что он готов будет вас всех истребить. Он этого, вероятно, не сделает из уважения к своему брату Тидане, но все-таки будет вашим врагом на жизнь и смерть.
— Но что же такое здесь будет? — спросил Оливье, бледнея от волнения.
— Тише!.. Он подходит. Так знайте же и берегитесь!
Виллиго приблизился к привалу, таща своего пленника.
Скажем несколько слов в объяснение этих предостережений. У нагарнуков нет жрецов в собственном смысле, а есть только кораджи, или колдуны, которые играют роль предсказателей, а не жрецов. Религиозные обряды при рождениях, свадьбах и похоронах исполняет всегда сам глава семейства без всякого участия колдунов. Покойников своих нагарнуки сжигают, веря, что тела умерших в виде дыма поднимаются на луну и там соединяются с душою, принимая снова прежний состав и форму. Люди, умершие без погребения, носятся над землею в виде «каракулов», или беспокойных духов, не соединившихся с телом. Эти каракулы поджидают удобного случая, чтобы овладеть чьим-нибудь телом во время погребения и унестись на луну. Тогда душа от украденного тела остается блуждать на земле в виде каракула. Нет выше несчастья, как иметь каракула в семье; он постоянно допекает своих родственников, и единственное средство избавиться от него — это принести ему в жертву пленника, чтобы каракул мог овладеть его останками, превращенными в дым. Чтобы этого не случилось, при похоронах произносятся всевозможные заклинания, сопровождаемые пляской вокруг сжигаемого тела и диким воем. Позор тому главе семейства, который пропустит хотя бы малейший обряд: на него обрушивается вся вина за появление в семье каракула.
Каракулов все боятся. Самые храбрые из нагарнуков бросаются на землю и закрывают себе лицо, только бы не видать страшного привидения.
Теперь понятно, что могло бы произойти, если бы европейцы помешали Черному Орлу при исполнении обряда. Их не спасло бы, пожалуй, даже заступничество Тиданы, и канадец поступил очень умно, что предупредил их.
Когда Черный Орел подошел к своим друзьям, то они заметили у него на лице глубокое волнение, которое он тщетно старался скрыть под маской величавого спокойствия.
Канадец, знавший, как надо говорить в подобных случаях, приветствовал его следующими словами:
— Дундарупы трусливые псы. Они храбры перед юношей, но бегут от сурового воина.
Черный Орел свирепо улыбнулся и указал на свои трофеи, говоря:
— Когда снег старости убелит голову Черного Орла, тогда не останется в живых ни одного дундарупа!
Затем он указал на пленника и продолжал:
— Это Урива, убивший Менуали. Урива последует за ним на костер.
— Нагарнуки трусливые совы, — заговорил пленник. — Они готовы прятаться в дуплах. Урива убил молодого нагарнука. Не жалко этих поганых птиц!
Европейцы все вздрогнули от этих слов. Виллиго запыхтел. Драма началась.
— Дундарупы великие воины, и Урива великий вождь, — отвечал Черный Орел с ужасающим спокойствием. — Урива давно искал случая пропеть военную песнь. Теперь у Уривы есть этот случай. Он запоет ее, уходя к своим праотцам.
— Они будут рады мне больше, чем вонючей птице, украсившей себя перьями Черного Орла! — отпарировал пленник.
При всяком другом случае за подобным оскорблением последовало бы немедленное возмездие. Но у туземцев пленник имеет право браниться до самой последней минуты. Эта брань имеет обыкновенно целью вывести из терпения мучителей и заставить их поскорее прекратить мучения, что иногда и достигается. На это именно и рассчитывал дундаруп, покрывая Виллиго невыносимыми оскорблениями. Но он ошибался. Виллиго был старый воин, и нелегко было вывести его из себя. Урива понял это, и холодный пот каплями выступил у него на лбу.
— Моему брату жарко! — иронически заметил Виллиго.
Тогда Урива плюнул ему прямо в лицо. Это была последняя отчаянная попытка. Она едва не удалась. Вилиго вне себя замахнулся на пленника бумерангом. Канадец с облегчением вздохнул, радуясь, что все скоро кончится. Но то была одна минута. Виллиго разом успокоился и, близко-близко наклонившись лицом к лицу пленника, произнес со скрежетом:
— Береги слюни, Урива: пригодятся. Ведь тебе больше не пить.
— Пощади! — пролепетал вне, себя от волнения Оливье.
К счастью, это было сказано по-французски, и Черный Орел не понял.
— Ради Бога, молчите, иначе вы погибли, — шепнул канадец и, когда Виллиго повел пленника привязывать к дереву, прибавил торопливо: — Подумайте об участи жены Виллиго, о сожженной хижине… Поймите его чувства, и тогда вы сами извините его. Соберитесь с силами; вы даже уходить отсюда не должны!
— Но я не могу, не могу смотреть!
— А мне самому разве приятно? Но если мы уйдем, Виллиго примет это за жестокое оскорбление. В его глазах это будет равносильно нежеланию присутствовать на похоронах Менуали. Вспомните, Урива предательски убил юношу, который еще не был воином, а это у дикарей считается подлостью. Впрочем, есть одно средство спасти Уриву.
— Какое? — с живостью спросил Оливье.
— Убить самого Виллиго, который столько раз спасал вас от смерти!
Оливье в ответ на это печально поник головою.
— Таков здешний обычай, — заметил Кэрби, — и если вы когда-нибудь попадете к дундарупам, то ждите себе той же участи.
Между тем Виллиго, привязав пленника, устроил костер, еще раз омыл водою тело Менуали и положил его на костер. Обряд начинался.
С покойником по обычаю нужно было положить все его доспехи. Виллиго положил на костер подле тела бумеранг, стрелы, копье и пращу; на грудь покойника он поставил ящик с красками, чтобы покойнику было чем татуироваться на том свете; наконец, рядом же нашлось место и для задней ноги кенгуру, чтобы усопший воин не проголодался во время путешествия на луну.
При положении каждой вещи Черный Орел пел соответствующие песни.
Оливье с интересом следил за этими приготовлениями, и ему вспомнились прекрасные стихи Шиллера, где описывается погребение краснокожего индейца, которому в гроб кладут все вещи, любимые им при жизни:
В головах — облитый свежей
Кровью томагавк,
Сбоку — окорок медвежий.
Путь его далек.
Сцена была и величественна, и исполнена дикой поэзии. Заходящее солнце окрашивало в багрянец и золото верхушки акаций и эвкалиптов, между тем как нижняя часть деревьев погружалась все более и более в тень, которая словно набегала неудержимою волной. Очертания леса все более и более сливались в сплошной туманный и темный фон, принимая отпечаток чего-то загадочного и таинственного.
С последним угасшим лучом солнца Виллиго запалил приготовленный костер. Огонь затрещал, вспыхнул, и красные языки принялись лизать поленья и сучья.
XV
Суеверия. — Бегство пленника. — Ранчо Кэрби. — Грозящая опасность.
Началась дикая, не поддающаяся описанию сцена.
Нагарнукский вождь принялся ходить вокруг горящего костра, напевая какие-то заклинания, чтобы прогнать злых духов, бродивших вокруг тела Менуали. Шаг его, сначала медленный, постепенно все ускорялся, а пение переходило в вой, сопровождаемый хлопаньем в ладоши. По мере того как разгорался костер и тело уничтожалось, требовались заклинания все более и более сильные и действительные. Бег требовался самый быстрый, чтобы злые духи как-нибудь тихонько не утянули кусочек тела. И бег начался бешеный, безумный, отчаянный, головокружительный; Виллиго делал такие громадные прыжки и так дико завывал, что графу Лорагюэ это кружение начинало казаться какою-то адскою пляской.
Вдруг подгоревшая середина костра с треском провалилась, рассыпав кругом искры и поглотив в недра свои полусгоревший труп. Виллиго испустил последний дикий вой и остановился. Дело его было сделано. Теперь можно было предоставить огню доканчивать уничтожение трупа. Злые духи уж больше не были страшны.
Пришла очередь пленника, который стоял ни жив ни мертв, глядя на обычное для всякого дикаря зрелище.
И не мудрено, что он стоял ни жив ни мертв. Ведь он тоже был австралиец и знал, какая участь его ждет. Он знал, что с него будут с живого сдирать кожу, но не разом, а медленно, постепенно, ремешками. Он знал, что затем у него будут отрывать сустав за суставом, стараясь не причинить серьезного органического повреждения, и что лишь к утру он будет брошен на костер, который положит желанный конец этим жестоким мукам.
Пользуясь минутой, когда Виллиго, задумавшись, окидывал последним взглядом догоравший костер, несчастный с мольбою протянул свои связанные руки к европейцам и сказал:
— Пощадите!.. Я не убивал Менуали…
И снова у Оливье невыносимо больно сжалось сердце.
Дундаруп был сам еще юноша; старый воин не дал бы себя так забрать и связать. Признание в убийстве Менуали было с его стороны пустою похвальбой в кругу своих, которую, на его беду, подслушал Черный Орел, ползком подкравшийся к лагерю дундарупов и давший самому себе клятву предать пытке убийцу племянника. Виллиго уже убил шестерых дундарупов, но тут у него явилась новая неотступная мысль: во что бы то ни стало овладеть убийцей. С этою целью Черный Орел стал подражать крику молодого кенгуру, дундаруп бросился на крик, Черный Орел завлек его в лесную чащу и взял в плен.
И вот теперь, находясь в крайности, молодой Урива обратил умоляющий взгляд на европейцев, надеясь найти в них хоть каплю сострадания.
Но что они могли сделать? Оливье мрачно глядел в землю, проклиная свое бессилие. Вдруг в лесу, несколько позади дерева, к которому был привязан дундаруп, послышались странные, нечеловеческие звуки. Виллиго, уже взявший в руки свой каменный нож, в изумлении остановился. Подняв глаза, он вдруг громко вскрикнул и кинулся ничком на траву, стараясь прикрыть голову травою и листьями и бормоча задыхающимся от страха голосом:
— Каракул!.. Каракул!.. Тирара матамое! (Привидение! Дух!.. Я погиб!.. Я проклят!..) Оливье и его друзья тоже взглянули и увидали какую-то белую фигуру, двигавшуюся в кустах. Фигура произносила какие-то бессвязные слова. Удивленный граф хотел встать и подойти к фигуре, но Дик жестом удержал его на месте. Граф оглянулся, сосчитал товарищей и понял все.
Между тем Виллиго продолжал лежать ничком и кричал:
— Каракул!.. Каракул!..
А белое привидение двигалось вперед, крича все громче и громче.
Канадец и Кэрби беззвучно хохотали, взявшись за бока, и их веселость сообщилась графу. Пленник тоже завыл от ужаса и никак не мог успокоиться, хотя европейцы знаками показывали ему, что бояться нечего.
Привидение остановилось около пленника и завыло диким голосом на самом невозможном нагарнукском языке, пользуясь, вероятно, тем, что с привидений не спрашивают грамматических знаний.
— Но!.. Но!.. Инаро нара Менуали! (Я! Я! Я сам отомщу за Менуали!) Дундаруп завыл еще пуще, умоляя о пощаде. Он испугался каракула больше, чем казни, от которой у него за несколько минут перед тем стыла кровь в жилах.
Комедия удалось вполне. Насчет Виллиго можно было быть спокойным все время, покуда будет продолжаться этот адский гвалт. Кэрби от смеха катался по траве, Дик просто задыхался, только Оливье и Лоран были сдержаннее и спокойно ожидали, что будет дальше.
Что касается Джильпинга… но дело в том, что его тут и не было. Именно он и исполнял роль каракула с таким замечательным для первого раза успехом. Покуда Виллиго вертелся волчком вокруг костра, Кэрби поговорил с будущим лордом Воанго, научил его нагарнукской фразе, и ученый геолог-миссионер решился принять на себя вид каракула. Он слазил в фуру, завернулся в простыню, отвинтил у кларнета рожок и, спрятавшись в лесу, начал дуть в него, приведя в ужас Виллиго и его пленника.
Однако шутку продолжать слишком долго было опасно. Пленник барахтался и мешал Джильпингу отвязать его. Тогда, чтобы его успокоить, Джильпинг вынужден был показать ему свое лицо. Дундаруп узнал его и от радости едва не лишился чувства. Джильпинг развязал его и знаком показал ему на лес. Урива сделал быстрый прыжок в сторону, но прежде, чем скрыться в лесу, повернулся лицом к европейцам, дотронулся правой рукой до земли, потом поднял ее к небу, наконец, протянул по направлению к европейцам и исчез в кустах.
Эта пантомима означала, что с этих пор дундаруп телом и душой будет принадлежать европейцам.
Джильпинг посвистал еще несколько минут в рожок кларнета, чтобы не дать Черному Орлу услыхать шум в лесу, потом скинул с себя простыню и спокойно вернулся на свое место.
— Виллиго, — сказал тогда канадец, — каракул ушел.
— Правду ты говоришь, Тидана? — отозвался Виллиго, все еще не поднимая головы.
— Честное слово. Он исчез в облаке дыма и унес с собой Уриву. Он хотел сам отметить за смерть Менуали, он так ведь и говорил. Это, должно быть, добрый, а не злой дух твоего семейства!
Эти слова успокоили нагарнука настолько, что он решился наконец поднять голову. Не видя больше привидения, он встал совсем. Ему и в голову не пришло заподозрить Джильпинга в коварной проделке; он чистосердечно поверил, что все было так, как ему сообщили.
На рассвете Черный Орел побросал остатки от костра в Лебяжью реку, и маленький караван тронулся в путь.
Но охоту пришлось прекратить, потому что нужно было двигаться вперед с осторожностью, так как Виллиго получил известие, что у нагарнуков открылась война с соседним племенем — нирбоасами.
Это известие очень не понравилось фермеру Кэрби, потому что его ферма стояла как раз на границе между обоими враждующими племенами и легко могла подвергнуться грабежу, особенно ввиду его дружбы с нагарнуками. Находясь еще в Мельбурне, он отправил к себе на ферму обоз в десять фур с разными припасами и теперь опасался за участь обоза. Свои страхи он сообщил канадцу, прося его повлиять на Виллиго, чтобы тот ускорил движение каравана.
— В каких отношениях были вы с нирбоасами до этого времени? — спросил Дик.
— В очень дурных. Первое время я с ними любезничал, дарил им ножи, поил водкой. Они вообразили, что это я плачу им дань, и сделались так нахально требовательными, что я стал гонять их с фермы. Теперь они мои враги.
— А ведь это с вашей стороны не очень благоразумно, хотя и понятно. Сколько у вас народу для защиты фермы?
— Во-первых, Анескот, брат моей жены и вместе мой управляющий, и затем семь человек американцев с Дальнего Запада, все испытанные, преданные друзья и товарищи. Кроме них, еще есть один бывший каторжник, я его держу для лошадей, он знает в них толк, так как он был барышником в Девоншире.
— Вы в нем уверены?
— А кто его знает?! Впрочем, вел он себя до сих пор на ферме хорошо. Зовут его Ольдгам.
— Да! — протянул канадец. — Вот что я вам скажу: нужно как можно скорее ехать на ферму. Далеко ли до нее, как вы полагаете?
— Миль двадцать, я думаю. На беду, эта фура тащится так медленно.
— Слушайте, Кэрби, так нельзя оставлять. Нужно ехать скорее. Поедемте с ними вперед на ферму. Может быть, мы все равно опоздаем, но по крайней мере сделаем все, что могли, и совесть наша будет покойна. Остальные наши товарищи пусть остаются при фуре; их без нас достаточно для ее обороны.
— Спасибо, друг, спасибо от всего сердца! — произнес глубоко тронутый скваттер, со слезами на глазах пожимая руку честного канадца.
XVI
Решение канадца. — Несчастье. — Помощь вовремя. — Исчезновение Ольдгама. — Появление Черного Орла. — Что делать?
Когда Дик и Кэрби сообщили об этом решении своим друзьям, то Оливье не пожелал пустить их одних, говоря:
— Мое присутствие здесь лишнее, а там, на ферме, дело идет о защите женщин и детей. Я тоже поеду с вами.
Канадец не знал, что ему делать. Ему и хотелось исполнить желание графа, так как для фермы лишний защитник был очень кстати, и вместе с тем он боялся уменьшить число товарищей Виллиго. Из затруднения его вывел сам Черный Орел, решивший вопрос по-своему.
— Молодой Лебедь (так прозвал он Оливье) прав, — сказал дикарь. — Пусть не только он, пусть и Лоран идет с вами. Я останусь вдвоем с Воанго. Этого совершенно достаточно для конвоя фуры.
Лоран даже вскрикнул от радости. Он уже начинал дрожать при одной мысли о разлуке со своим графом.
— Завтра вечером Виллиго будет на ферме! — прибавил вождь.
— А если тебе встретятся нирбоасы? — спросил Кэрби.
— Скваттер не знает Черного Орла, — гордо возразил нагарнук. — Завтра вечером Черный Орел будет на ферме.
— Берегите свою винтовку, мистер Джильпинг! — сказал канадец на прощание англичанину.
— Не беспокойтесь, сэр. Я позабочусь сохранить жизнь мужа своей жены и отца своих детей, а также будущего лорда Воанго из Воанго-Голля.
— Вперед, друзья! — крикнул канадец, и четыре всадника быстро помчались вдоль берега Лебяжьей реки.
Ничто не могло сравниться с радостью Кэрби при мысли, что он теперь поспеет на целые сутки раньше к своей семье, чем мог рассчитывать.
Дик и Кэрби мчались вперед остальных, но воздух был так спокоен, кругом такая тишь, и даже звук копыт их коней был не слышен в мягкой траве, что старые друзья могли так же беспрепятственно разговаривать между собой, как если бы они шли друг подле друга по садовой дорожке.
— Дик, — сказал скваттер, — я никогда не забуду этой услуги, которую вы оказали мне сегодня! Быть может, я буду обязан вам жизнью моей жены и детей, но если бы даже и не так, знайте, во всяком случае, что в австралийском буше есть человек, по имени Вальтер Кэрби, которому достаточно сделать знак, чтобы и жизнь, и достояние его были в полном вашем распоряжении, Дик, при каких бы то ни было условиях!
— Спасибо, Кэрби, — отвечал канадец, — дружба и расположение такого человека, как вы, всегда могут быть пригодны. Быть может, придет время, когда я обращусь к этой дружбе. Видите ли, мой друг, я не знаю Франции, родины моего отца и моей, хотел бы поехать туда и перевезти туда останки моего отца и умереть там. Но что буду я делать в этой совершенно незнакомой мне стране, я, старый лесной бродяга?! Нет, я чувствую, что умру здесь! Но здесь у меня нет никого близких и родных, и, мне кажется, очень тяжело подохнуть где-нибудь под кустом так, чтобы некому было даже закрыть глаза! Так вот я иногда думал, Кэрби, что, когда силы мои оставят меня и мне трудно станет бродить по лесам с ружьем за спиной, быть может, у вашего очага найдется и для меня местечко!
— Самое первое местечко, Дик! Самое почетное! — воскликнул растроганный скваттер.
— Мы некоторое время потеряли друг друга из вида, — продолжал канадец,
— но ведь мы давно знаем друг друга… Помните, как мы в первый раз встретились с вами?
— Как же мне не помнить?
— То было на Муррее, близ Красных гор! Мы целый сезон охотились вместе, и в ту пору моя хижина не была так пуста и безотрадна, как сейчас!
— Я не решился вам об этом напомнить, Дик, но и посейчас не могу забыть, как весело и радостно звучало эхо буша, вторившее ее голосу, ее веселому смеху, которым она приветствовала каждый раз наше возвращение!
— Да, и ее не стало; она умерла год спустя, подарив мне ребенка, который не пережил свою мать… И вот я остался еще более одинок, чем прежде, и потому-то решился теперь, когда придет старость, попросить для себя местечка у вашего очага. Мы будем вспоминать о ней, будем говорить о ней, этом нежном цветке, увядшем в полном расцвете своей юной красоты!
И под впечатлением этих далеких, но все еще живых воспоминаний старые товарищи смолкли.
Лошади мчались во всю прыть, словно и они разделяли нетерпение своих всадников, и через несколько часов вдали показались крыши фермерских построек. Вдруг две из лошадей шарахнулись в сторону, и перед всадниками, как из-под земли, вырос какой-то туземец. Кэрби схватился за револьвер, но Дик остановил его, крикнув:
— Стойте! Ведь это Урива, которому мы спасли жизнь.
То был действительно молодой дундаруп. Одежда на нем была растрепана, он задыхался после чересчур быстрого бега. Долго он не мог выговорить ни слова, наконец отдышался и сказал:
— Скорее! Скорее! Нирбоасы напали на ферму еще с утра.
— Ура! Еще немножко, и мы будем там! — крикнул канадец, давая шпоры коню.
Лошади уже не бежали, а летели, вот и забор фермы, опрокинутый, сожженный… Вот и засыпанный штурмующими ров.
С полсотни разъяренных демонов, опьяневших от водки из ограбленных погребов, отчаянно лезли на приступ фермы. Еще минута — и все было бы уже кончено.
— Тидана!.. Вага!.. Тидана!.. Вайек!.. — закричал канадец, бросая в воздух этот грозный для нирбоасов крик.
На дворе фермы загнанные лошади пали, но они уже были не нужны. Умирающий Анескот и три женщины, ожидавшие смерти, заметили спасителей.
Нирбоасы обернулись. Грозен был для них Тидана, но зато их было пятьдесят человек против четырех. Тесными рядами кинулись они на непрошеных защитников, но магазинные винтовки разом заговорили, рассевая смерть в рядах дикарей. Через две-три минуты на земле лежало уже до двадцати трупов, остальные дикари кинулись врассыпную, но неумолимые винтовки продолжали свое дело и тут. Тщетно многие из нирбоасов падали на колени, прося пощады, никто не хотел щадить подлых убийц, не дающих пощады женщинам и детям. Все пятьдесят дикарей легли мертвыми около фермы скваттера Кэрби.
Фермер кинулся в дом, его окружили жена и дети, но у ног его лежал неподвижный Анескот, перед смертью утешенный тем, что его мужество не пропало даром.
Кэрби и Дик сосчитали уцелевших защитников фермы, в течение десяти часов успешно отбивавших яростный приступ. Из семи человек янки трое были убиты, а четверо ранены более или менее тяжело, но подавали надежду на выздоровление.
Поискали Ольдгама, но он куда-то исчез. Однако, по словам миссис Кэрби, он в начале штурма сражался вместе с прочими и даже выказал чудеса храбрости. Она сама видела, как он убил несколько туземцев.
Дикари атаковали ферму на рассвете, будучи вполне уверены в успехе, но жители фермы еще с вечера знали, что они окружены врагами. С бельведера было видно, как чьи-то черные тени шныряли по окрестностям.
Если бы нашим всадникам не встретился молодой дундаруп, то они приехали бы на четверть часа позже, и тогда все уже было бы кончено. Они нашли бы лишь груду развалин. Хотя на следующую ночь нечего было опасаться, однако защитники фермы позаботились привести в порядок все разрушенное. Выломанные двери заменили запасными, проломы заделали, окна вставили.
Запрягли лошадьми четыре повозки и свезли трупы нирбоасов в реку. Вечером Кэрби и канадец пошли делать обход вокруг фермы. Перед ними вырос туземец, покрытый кровью и грязью.
— Кто идет? — спросил Дик, прицелившись из винтовки.
— Виллиго! — отвечал знакомый голос.
— Черный Орел! — радостно вскричал канадец. — А где Джильпинг?
— Через час после вашего отъезда на нас напали нготаки. Я едва спасся, убив их около дюжины. Их было больше, чем деревьев в лесу. Воанго взят в плен.
— Да разве нготаки тоже воюют?
— Они в союзе с нирбоасами. Они хотят сжечь наши деревни и истребить наше племя. Но пусть они берегутся!
— Бедный Джильпинг! — сказал канадец. — Надобно его выручить. Во-первых, нельзя допустить, чтобы его предали пытке, а во-вторых, нам без фуры никак невозможно: там наше оружие. Счастье еще, что дикари не сумеют им воспользоваться.
— Да, это нужно сделать как можно скорее. Я не хочу, чтобы нготаки хвалились, что видели бегущего от них Виллиго.
— Черный Орел устал, ему нужно отдохнуть…
— Черный Орел не баба, он не нуждается в отдыхе!
— Так когда же нам отправляться?
— Завтра будет уже поздно. Нужно сейчас.
— Хорошо, я готов.
Три друга вернулись на ферму и заперли за собой калитку. Солнце опустилось за Красные горы, долина и лес окутались темнотою. Кругом фермы стали слышны какие-то зловещие звуки, похожие на стоны и хрипение умирающих.
— Слышите, друзья? — спросил Оливье.
Кэрби и его гости поднялись на бельведер; в кустах скользили какие-то тени, и по временам ветер доносил как будто жалобные заклинания.
— Это раненые, собравшиеся с силами и помогающие встать тем, которые сами не могут.
— Если вы уйдете, господа, — сказал испуганный скваттер, — на ферму опять нападут враги.
Положение было в высшей степени тягостное.
XVII
Предсказание Виллиго. — Страшная ночь. — Чертов пик. — Ночная экскурсия Виллиго.
Первые часы ночи прошли в постоянной тревоге. Друзья несколько раз повторяли обход вокруг фермы. Крики раненых утихли, но черные тени по-прежнему мелькали в темноте. Это обстоятельство заставило канадца и нагарнукского вождя изменить первоначальный план. Они не могли оставить Кэрби и его семейство в таком опасном положении.
Даже если бы Виллиго с самолюбием дикаря продолжал настаивать на немедленном преследовании нготаков, от которых ему пришлось бежать, то Дик не пошел бы с ним. Для него важнее было защитить ферму, нежели удовлетворять самолюбие дикаря. Вместе с тем без содействия Оливье и Лорана невозможно было и думать об экспедиции, а граф д'Антрэг решительно высказался за то, чтоб остаться на ферме.
Черный Орел сделал вид, что соглашается с общим мнением. В последние дни он вообще казался мрачным и озабоченным, разговаривал с друзьями редко, и больше о вещах неважных, часто куда-то отлучался и вообще держал себя чрезвычайно странно, так что Оливье даже однажды заметил про него:
— Точно заговорщик.
Читателю хорошо известно, в чем состоял этот заговор, но друзья Виллиго ничего еще не знали в то время.
Около полуночи, когда совершенно сделалось темно, наши пионеры заметили вдали перемежающееся пламя костров, что чрезвычайно заинтересовало Лорана и Оливье. Они обратились к Кэрби, который им объяснил:
— Это Чертов пик дает себя знать.
— И через три дня он так даст знать о себе, что младенцы будут помнить! — прибавил Виллиго.
Сами по себе эти слова были очень просты, но дикий вождь произнес их таким свирепым голосом, что Оливье невольно вздрогнул.
— Что хочет этим сказать вождь? — спросил молодой человек.
— То, что скоро для всего bush'a будет праздник, и моя убитая жена запляшет от радости в стране праотцев.
— Право, Виллиго, ты теперь говоришь, как кораджи! — засмеялся канадец.
— Тидана правду говорит. Черный Орел действительно кораджи… Он предсказывает будущее, и очень недалекое будущее. Скоро раздадутся веселые крики вагуний, птиц смерти.
— Я ничего не понимаю, Виллиго!
— А когда брат Тиданы поймет, он тоже запляшет от радости, потому что если бы дом Тиданы не подожгли, то бедная молодая белая женщина не умерла бы от страха. Так я говорю, скваттер Кэрби?
При этих словах вождя вся кровь прилила к щекам Дика. Он невольно перенесся мыслью к тому, что было с ним самим пятнадцать лет тому назад, и почувствовал в сердце холод.
— Зачем вспоминать старое, Виллиго? — печально упрекнул он своего друга.
Черный Орел наклонился к нему и тихо-тихо, так что никто не слышал, шепнул на ухо:
— Отчего не вспоминать старое, Тидана, когда мщение приближается?
Дик задрожал… Он хотел ответить, хотел спросить, но дикарь отошел от него, и Дик так и остался с вопросом, вертевшимся на языке. Было очевидно, что Черный Орел больше ничего не скажет.
Странные речи Виллиго помешали Кэрби докончить свое объяснение. Теперь фермер продолжал:
— Чертов пик — это огнедышащая гора, единственный вулкан в Австралии, несмотря на вулканическое строение ее почвы.
— И он в течение круглого года постоянно извергает такие фонтаны огня и пламени, как сейчас? — спросил Оливье скваттера.
— Нет, он отличается той удивительной странностью, что сила его извержения обратно пропорциональна приросту и убыли месяца!
— Что вы хотите этим сказать, Кэрби?
— Именно то, что извержение пламени и горящей лавы усиливается, по количеству и объему, по мере того, как луна идет на убыль, а когда от нее останется на небе только едва заметная серебряная полоска, сила извержения достигает своего апогея и затем начинает ослабевать по мере прибывания месяца, так что к полнолунию от извержения остается только едва приметная струйка синеватого дыма. Кроме того, у подножия этого вулкана находится озеро, наполненное серными осадками и жидкими выделениями нефти, в которое вулкан во время сильных извержений вливает свои отбросы, и, что при этом особенно странно, как бы велико ни было количество извергаемой вулканом в озеро серной жидкости, уровень озера неизменно остается все тот же, ни на йоту не повышаясь и не понижаясь!
— Это можно объяснить какими-нибудь подземными стоками, отводящими избыток жидкости в период наибольшей прибыли ее! — заметил Оливье.
— Ваше объяснение, конечно, имеет некоторое вероятие, но я не сказал вам, что два раза в год это озеро совершенно пересыхает, так что по дну его свободно можно пройти пешком, не замарав сапога. Я сам сделал этот опыт и, несмотря на все свои старания, нигде не мог найти ни единой трещины почвы, которая могла бы служить стоком для вод!
— И это озеро находится на нашем пути в страну нагарнуков? — спросил граф.
— Да, вам придется перейти через Красные горы, а надо сказать, что в пору сильного извержения это путешествие не вполне безопасно!
— Как жаль, что наш почтенный товарищ, мистер Джильпинг, не увидит этих чудес австралийской природы, о которых он мог бы сделать такой интересный доклад своему королевскому обществу в Лондоне! — заметил Оливье.
— Кстати, мистер Кэрби, не можете ли вы сказать, какая участь грозит нашему бедному другу? Виллиго, кажется, говорил о столбе пыток!..
— Черный Орел, вероятно, несколько увлекается своим чувством ненависти к нготакам: это, быть может, единственное туземное племя, у которого белому человеку не грозят ни пытки, ни смерть благодаря их религиозным предрассудкам. В глазах нготаков белые люди — это их воскресшие и вернувшиеся с луны предки, к которым они питают религиозное почтение. Они называют их «дедами» и относятся с уважением, но так как присутствие в деревне предка приносит, по их убеждению, счастье, то для того, чтобы он не мог уйти, его действительно приковывают к столбу на достаточно длинную цепь, чтобы он мог свободно двигаться, но не мог уйти за пределы селения. Быть может, именно об этом столбе и говорил вам Виллиго! Во всяком случае, Дик должен знать об этом, так как он не особенно встревожен участью вашего друга. Именно ввиду этого убеждения нготаков их соседство для скваттеров является более желательным, чем соседство какого-либо другого племени туземцев. Конечно, и они не откажутся при случае ограбить его, угнать скот, разорить ранчо, но никогда не решаются покуситься на его жизнь или жизнь его семьи.
В то время как происходил этот разговор, канадец задумчиво прохаживался по веранде бельведера. Целый рой воспоминаний вставал в его душе, и перед его глазами развертывались позабытые образы прошедшей юности. Так почти всегда в критические минуты человеку вспоминается его прошлая жизнь. Так же точно солдат, стоящий в траншее под свистом пуль и ядер, вспоминает веселые напевы, которые он певал в родном селе.
Среди воспоминаний Дика преследовала еще одна мысль.
«О каком близком мщении говорил Виллиго?» — спрашивал он себя мысленно в двадцатый раз и в двадцатый раз никак не мог придумать ответа.
Вдруг он почувствовал, что ему кладут на плечо руку.
Он обернулся.
Перед ним стоял Виллиго.
— Чего желает вождь?
— Виллиго хочет уйти с фермы.
— Один-то! В такую темноту! Да ведь тебя убьют!
— Нирбоасы трусливые собаки. Виллиго пойдет!
Дик знал упрямство нагарнукского вождя и перестал спорить. Он позвал Кэрби и велел ему стать на то место бельведера, где стоял прежде Черный Орел.
Бельведер окружала четырехугольная веранда. Было настоятельно необходимо, чтобы с каждой стороны стояло по дежурному, иначе ферму легко могли застать врасплох невидимые в темноте враги.
Когда Кэрби встал на место Виллиго, Дик быстро прошел по веранде и сделал наставление Оливье и Лорану, чтобы они все время глаз не сводили с вверенных их надзору сторон палисада фермы. Для большего доказательства, что ферма окружена врагами, канадец выстрелил из винтовки.
Не успел замолкнуть гул выстрела, как в окрестном лесу послышался треск сучьев и шорох ветвей. Это значило, что нирбоасы тесно обложили блокгауз, готовые напасть на него при малейшей оплошности гарнизона.
— Ты слышишь? — спросил Дик Виллиго.
— Да. Нирбоасы убежали, трусливые псы! — отвечал вождь с презрительной улыбкой.
Он сошел с бельведера, по жердочке перебрался через ров, хорошенько приладил за плечами винтовку, чтобы удобнее было ползти, и с минуту постоял на месте, приглядываясь к темноте.
Дик тревожно следил за ним глазами, готовясь каждую минуту бежать к нему на помощь. Но вот Виллиго выдвинулся вперед, прислушиваясь к смутному говору в неприятельском лагере, чтобы не наткнуться как-нибудь на враждебный пикет.
Число пикетов было так велико, что Виллиго сейчас же догадался о присутствии около фермы чуть не всего наличного войска нирбоасов. И он не ошибся. Нирбоасский поселок находился на берегу Сван-Ривер в нескольких милях ниже блокгауза.
Трупы убитых, выкинутые в реку, принесло течением в нирбоасскую деревню, и дикари поголовно восстали для того, чтобы отомстить.
Нирбоасы предварительно послали к своим союзникам-нготакам требование, чтобы те присоединились к ним для нападения на ферму. Но последние отвечали, что они вступили в союз с нирбоасами вовсе не для войны с белыми, что с белыми они воевать не желают и потому расторгают союз.
Таким образом, устроенный дундарупами с великим трудом союз трех племен против нагарнуков совершенно неожиданно распался. Теперь нагарнукам уже нечего было бояться; они были гораздо сильнее дундарупов и нирбоасов вместе взятых.
Известие о расторжении союза пришло как раз в то время, когда Виллиго задумал пробраться через нирбоасские аванпосты. Воины так заволновались, что начали сходиться кучками, перебегать с пикетов и вообще позабыли о предосторожностях. Это и дало Черному Орлу возможность благополучно пробраться через их ряды, да вдобавок еще подслушать их разговоры.
Радуясь тому, что он случайно узнал, Черный Орел продолжал тихо ползти мимо пикетов. Судьба Тиданы и прочих защитников фермы нисколько не беспокоила его. Он знал, что теперь нирбоасы сами получат новый тяжелый урок.
Когда Виллиго достаточно удалился от неприятельского лагеря, он встал на ноги и со всех ног пустился бежать к Лебяжьей реке, до которой и добежал в каких-нибудь полчаса.
Тщательно обследовав местность, он, должно быть, остался вполне доволен осмотром, потому что спрятался за куст на берегу и начал очень похоже подражать пению ночной птицы.
Не долго пел он. Ему вскоре отвечали точно таким же криком в лесу. Виллиго вышел из-за куста, встал на самом берегу реки и подождал немного.
Слабый крик гопо повторился ближе, где-то в листьях деревьев.
— Кто идет? — вполголоса спросил вождь.
— Коанук! — было ответом.
— Давно ли дожидается меня здесь Сын Ночи (перевод имени Коанук)?
— С заката солнца.
— Нирбоасы напали на ферму Кэрби, и Тидана с друзьями пошел к нему на помощь.
— Я это знаю!
— Оставшись один с Воанго, Черный Орел вынужден был бежать от нирбоасов.
— Я это знаю!
— А знает ли Коанук, что сделалось с Воанго?
— Воанго увели нготаки в свои деревни.
— Где Нирроба, Вайя-Нанди и Ви-Вага?
— Нирроба здесь и ждет твоих приказаний. Вайя-Нанди и Ви-Вага остались в лагере лесовиков.
— Далеко ли отсюда?
— Два часа ходьбы. Ты сам велел их вождю подойти поближе. Он так и сделал!
— Хорошо.
— Но только вождем у лесовиков теперь не Вилькинс.
— Не Вилькинс? Кто же?
— Вчера прибыл из Мельбурна сам мистер Боб. Он привез с собой Отуа-Но.
Это слово по-нагарнукски значит «двойное лицо». Так называли туземцы замаскированного незнакомца.
— Отуа-Но, который похищал друга Тиданы?
— Он самый. И они оба желают тебя видеть.
— Хорошо. Виллиго пойдет в лагерь лесовиков. Позови ко мне Нирробу.
— Я здесь, Виллиго! — отозвался, подходя, молодой воин.
— Слушай хорошенько, что я тебе скажу, да не позабудь моих слов, когда побежишь.
— Нирроба ничего не позабудет; он запрет свою память на ключ.
— Беги ты в наши большие деревни, перебравшись вплавь через Лебяжью реку, потому что иначе тебя схватят нирбоасы. Когда ты придешь, тебя позовут на великие советы, и ты скажешь: «Вот что Черный Орел поручил мне сказать: пусть воины прекратят войну с нготаками, потому что те уже прекратили войну с нами. Завтра от нирбоасов не останется почти ничего. Когда солнце закатится дважды, Черный Орел с Тиданой и белыми придет к подножию Красных гор. Он требует, чтобы на берегу озера Киуаи его встретили пятьсот воинов. Виллиго скажет им, что делать». Пусть же Нирроба запрет хорошенько свою память и отправляется в путь.
Не говоря ни слова, молодой воин повернулся, одним прыжком бросился в реку и вынырнул на гладкой поверхности ее в виде черной плывущей точки. Виллиго провожал его глазами до тех пор, покуда тот не вышел на противоположный берег. После того он обратился к Коануку, говоря:
— Теперь пусть Сын Ночи проводит Черного Орла в лагерь лесовиков.
И два воина дружным шагом углубились в bush.
XVIII
Лесные бродяги. — Море огня. — Мщение Черного Орла.
После отправления графа д'Антрэга с друзьями в экспедицию произошли чрезвычайно важные события.
Знаменитый начальник Невидимых, человек в маске, вследствие смерти своих приспешников и отъезда барона де Функаля в Европу, будучи поставлен в невозможность что-либо предпринять, пришел сначала в отчаяние и уже собирался возвратиться в Россию. Много потратил он денег, коварства, тайной борьбы, и это ни к чему не привело. Сколько раз враг, казалось, был совершенно в его руках, и всякий раз этот враг уходил цел и невредим вследствие какого-то рокового стечения обстоятельств. Теперь замаскированному человеку приходилось ждать… но чего же? Прибытия новых опытных агентов? На это невозможно было рассчитывать. Ему оставалось только со стыдом признать свое поражение и удалиться в Россию. Как? Удалиться в Россию, отказаться от столь долго лелеемой надежды? Никогда! Ни за что! Лучше десять раз умереть.
Тогда он ухватился за последнее средство и задумал организовать экспедицию лесовиков с целью захвата графа д'Антрэга. Теперь он давал себе клятву не церемониться с пленником, если тот попадется ему в руки. Теперь уж он не хотел ставить никаких условий, а просто всадить в соперника пулю и тем навсегда от него избавиться.
И Невидимый обратился к хозяину «Чертова кабачка» мистеру Бобу, с которым вообще сносился только в чрезвычайных случаях. Боб не отказал в своем содействии, но при этом сделал следующую оговорку:
— Мы обещали выдать канадца Дика и европейцев нагарнуку по имени Виллиго, который служит у них проводником и собирается заманить их в ловушку, чтобы насытить над ними свою месть. Мы обязаны исполнить данное слово, поэтому уж вы адресуйтесь к названному дикарю и у него покупайте пленника. Я уверен, что вам не придется дорого платить, да, пожалуй, и покупать не придется, потому что дикарь и сам сумеет справиться с вашим графом. Бумеранг Виллиго действует превосходно.
Невидимый знал, что Оливье и Дику в первое их путешествие по лесам Австралии помогли какие-то дикари, но не знал, что то был Виллиго со своими воинами. Вообще, как все европейцы, он презрительно относился к дикарям и не считал их годными на что-нибудь путное.
Был первый час ночи, когда Черный Орел и Коанук явились в лагерь бандитов. Их немедленно провели в палатку Боба. Трактирщик был не один: в темном углу палатки сидел незнакомец, заботясь не о том, чтобы скрыть свое присутствие, а только о том, чтобы не дать себя разглядеть.
— Да будут времена благоприятны великому вождю и да будет у него в изобилии дичь! — приветствовал Черного Орла Боб.
— Да будут благословенны дни твои! — отвечал Виллиго. — Ты желал меня видеть. Я пришел!
— Ты удивляешься, что я здесь?
— Красный Глаз сам знает, что ему делать, а Черный Орел ничему не удивляется.
— Этот джентльмен мой друг и просил меня проводить его по степи.
Черный Орел молчал и ждал, что ему скажут дальше. Он отлично знал, что Боб не покинул бы Мельбурн из-за таких пустяков.
— Ну, Виллиго, не пора ли тебе исполнить свое обещание? Мы в глуши австралийских лесов, в Мельбурне никто не узнает, что здесь было.
— Красный Глаз угадал мою мысль. Я сам сегодня хотел в последний раз уговориться с Вилькинсом, твоим помощником.
— Виллиго — великий вождь! Послушаем, что он скажет.
— Здесь, в этом месте, действовать нельзя. Тут поблизости есть несколько ферм твоих соотечественников. Могут узнать. А ты вот что сделай. Перейди с воинами Лебяжью реку, а мои люди проводят тебя к Красным горам, которые ты, вероятно, видел на западе.
— Да, видел. С самой высокой вершины их поднимается сноп пламени. Эти, что ли?
— У подножия горы находится отверстие в огромную кра-фенуа, в которой могут свободно поместиться все твои люди, так что никто не заметит их присутствия.
— Понимаю. Виллиго — великий вождь!
— Завтра утром Тидана и его товарищи уедут с фермы скваттера Кэрби, чтобы продолжать свой путь. К Красным горам мы прибудем к вечеру, и я предложу европейцам остановиться на ночлег в кра-фенуа.
— А так как они не будут ничего подозревать, что очень важно ввиду чрезмерной силы канадца, то мы набросимся на них, обезоружим и свяжем, прежде чем они успеют вскрикнуть. Таким образом их плен не будет стоить жизни ни одному из нас… Да, Черный Орел положительно величайший вождь в Австралии!
— Это еще не все. Так как мне нужно будет знать, не случилось ли на вашем пути какого-нибудь замедления, то вы, как только закатится солнце и наступит темнота, зажгите немного пороха на камне, поставленном на высоте человеческого роста, и я по тому пламени буду знать, что у вас все готово, что никого из ваших нет в окрестностях и что я, одним словом, могу идти.
— Все будет сделано, как ты желаешь. Действительно, тебя нужно будет известить о нашем приходе.
— Виллиго все сказал. Ему больше нечего сообщать Красному Глазу. Ему нужно скорее возвращаться, чтобы не возбудить подозрений.
— Еще одно слово. Черный Орел может отказаться удовлетворить моему любопытству, это его воля, но мне бы хотелось знать, что он сделает со своими пленниками.
— Виллиго всей душой отдался Тидане и его друзьям, он служил им верой и правдой, а между тем эти белые нанесли ему побои на глазах у его молодых воинов…
Виллиго помолчал, словно не будучи в состоянии продолжать от прилива ярости, и продолжал с хорошо разыгранной злобой:
— Побитый вождь уже не вождь… Виллиго бросит своих пленников в огненное море!
Услыхав эти слова, Красный Глаз переглянулся с человеком в маске, как бы желая ему сказать:
— Нечего вам и путаться в это дело. Все устроится без вас!
Человек в маске, должно быть, понял и согласился с мнением Боба. По крайней мере он не сделал Черному Орлу никакого предложения.
— Теперь я понимаю, зачем Черный Орел привел нас к Красным горам! — сказал Боб, радуясь тому, что он услышал от нагарнука.
— Прощай, вождь! — отвечал Виллиго. — Да побелеют твои волосы прежде, чем ты переселишься в страну предков!
С этими словами дикарь удалился, пристально окинув взглядом фигуру незнакомца с закрытым лицом.
— Не забывай моих наставлений! — сказал он Коануку, когда они остались вдвоем.
— Черный Орел не на ветер бросал свои слова, когда говорил со мной! — отвечал Сын Ночи.
Виллиго пошел по дороге на ферму Кэрби.
Между тем защитники блокгауза после ухода вождя провели около часа времени в сравнительной тишине. Хотя опытный слух Кэрби и Дика по тысяче неуловимых признаков угадывал присутствие нирбоасов в густых кустах, окружавших ферму, однако ничто не указывало на близкое нападение.
Маленький отряд в нетерпении дожидался рассвета, который обеспечивал им верную победу. Днем нападение врасплох было немыслимо, а винтовки наших пионеров не промахивались никогда.
Если подумать, сколько этих отважных и смелых людей, ирландцев и американцев, селившихся на расстоянии пяти или шести сот миль от Мельбурна или Сиднея, чтобы пасти свои стада и возделывать землю, сколько их погибло вдали от всякой помощи, вместе со всем своим имуществом и своими семьями, то невольно приходится удивляться тем, которые после того решались продолжать их дело.
И как обидно при этом сознавать, что если бы не англичане, то вся эта страна являлась бы лучшим в мире местом для европейской колонизации: ведь сначала все австралийцы разделяли убеждение, сохранившееся впоследствии только у одних нготаков, что белые люди — их воскресшие и вновь вернувшиеся на землю предки, захотевшие научить их счастью. Благодаря этому убеждению туземцы встретили европейцев с распростертыми объятиями и готовы были служить им с сыновней почтительностью, готовы были во всем повиноваться им, как послушные дети. Но Англия и здесь, как и везде, где только она сталкивается с меньшей силой, проявила свое двуличие, свое бессердечие, свою ненужную, бессмысленную жестокость. Стоило только вспомнить, что делали англичане после возмущения сипаев, когда свыше трехсот тысяч невинных туземцев, старцев, женщин и детей, даже грудных, были беспощадно перерезаны и избиты ими! Таковы действия английского правительства; действия же отдельных англичан еще более возмутительны и бесчеловечны настолько, что они казались бы невероятными, если бы не подтверждались показаниями тех же английских властей.
Так, например, губернатор, сэр Артур, единственный честный, порядочный человек, какого видели за все долгое время английского владычества в Австралии, приказав произвести анкету, которую намеревался препроводить своему правительству в метрополию с целью получить полномочия для энергичного воздействия на нравы своих соотечественников, собрал следующего рода сведения. (Мы здесь приводим дословную цитату из составленного им донесения.) «Похищают детей у туземцев, вырывая их силой от матерей и отцов во время их празднеств. В туземцев стреляют, как в воробьев или в ворон, просто ради забавы; убивают мужей, чтобы завладеть их женами, и нередко на шею пленницам вешают мертвые головы их мужей или сыновей… Приковывают этих несчастных к деревьям, избивая их хлыстами или палками, чтобы сломить их упорство и сопротивление… Отрубают у мужчин ноги и руки и оставляют этих несчастных валяться на земле среди леса или поля. Нападают на мирно сидящих вокруг своих костров туземцев и, прячась за стволами деревьев, расстреливают их, а найдя беспомощно распростертого на земле ребенка, со смехом кидают его в огонь костра. „И факты эти не единичные“, — пишет свидетель в своем показании. Бывают случаи, что туземцев убивают просто ради шутки; берут два пистолета, один заряженный, другой — незаряженный, последний приставляют себе к уху и спускают курок, а заряженный пистолет вручают туземцу, приказывая ему сделать то же, и бедняга пускает себе пулю в голову. Мало того, старые лесные бродяги из бывших каторжан с веселой усмешкой рассказывают, что стреляют в туземцев, чтобы их мясом кормить своих собак…»
И такие вещи продолжались в течение целого полустолетия, безмолвно одобряемые британским правительством. «А правительство, к стыду его будь сказано, — как писала в заключение в 1836 году „Times“, перечислявшая все эти факты и многие другие, — ни разу и ни при каких обстоятельствах не только не карало за подобные поступки, а даже воспрещало своим представителям строго преследовать виновных».
Вот почему честный канадец Дик, бывший свидетелем всех этих ужасов, размышляя об участи, какую им, без сомнения, готовили нирбоасы в случае, если бы им удалось овладеть фермой, невольно спрашивал себя, не вправе ли были эти туземцы поступить с ними так же беспощадно и бесчеловечно, как поступали с ними самими, и внутренне желая теперь только одного — чтобы и в эту ночь, и назавтра дело обошлось без дальнейшего кровопролития.
И желание его было услышано.
За ночь воинственный пыл нирбоасов мало-помалу остыл. Первые минуты гнева прошли, и заговорил рассудок. Осаждающие не знали числа врагов и предполагали его очень большим ввиду огромного количества убитых во время утреннего штурма. Сверх того их еще более расхолодило недавно полученное известие об отпадении нготаков.
Поэтому они начали с того, что отложили приступ до утра, объясняя эту отсрочку желанием узнать предварительно число врагов. Приняв это решение, они спокойно разлеглись на траве, чтобы предаться отдохновению и набраться побольше сил для будущих подвигов. С этой минуты на ферме перестали слышать тот зловещий воинственный гул, который так смущал и беспокоил ее защитников. Вся нирбоасская армия погрузилась в глубокий сон.
XIX
Изумление осажденных и осаждающих. — Благополучный исход нападения. — Письмо мистера Джильпинга. — Великий день Виллиго. — Месть дикаря.
Велико было удивление канадца и его друзей, когда они при первом проблеске утра увидели с бельведера, что страшные враги их преспокойно спят, растянувшись в кустах. После ночной тревоги переход был такой быстрый, что все они невольно рассмеялись. Драма принимала комический оборот.
Не менее велико было и изумление бедных нирбоасов, когда они при пробуждении увидали грозного Тидану, стоящего на бельведере. Они думали, что им придется иметь дело только с Кэрби и его семейством, а тут вдруг Тидана, которого весь bush и трепещет, и в то же время уважает, который в бою неумолим, но в обыкновенной жизни так добр, так благороден и великодушен. Бессознательно, дружно дикари приветствовали его громким криком, даже не сговариваясь между собой.
Для боя не было места, не было возможности. Война кончилась сама собой. Вне себя от радости, Кэрби щедро угостил недавних врагов ромом, и новый мирный трактат был немедленно заключен между скваттером и его соседями.
— Как здесь все странно кончается, — заметил своему другу Оливье, радуясь счастливому исходу осады. — Я был положительно уверен, что пришел наш последний час.
— А я напротив! — возразил канадец.
— Что же, вы надеялись на благополучный исход?
— Да, было какое-то предчувствие, что и на этот раз мы благополучно выпутаемся из беды!..
В это самое время Виллиго возвратился из лагеря лесовиков. Он не верил ни ушам, ни глазам своим. Он рассчитывал пройти на ферму по трупам нирбоасов, среди потоков крови, а между тем нирбоасы плясали и пели песни, попивая крепкий ром.
Несколько минут спустя канадец и друзья его увидели свою фуру, покинутую накануне Черным Орлом. Фуру конвоировало человек двадцать нготаков, которые, въехав на двор фермы, торжественнейшим образом заявили, что у них и в мыслях не было грабить своих «белых дедов». При этом они вручили Дику сложенный вчетверо лист бумаги, на котором было что-то написано.
Канадец, очень смутно помнивший грамоту, которой он когда-то обучался в народной школе в Квебеке, передал письмо Оливье, который прочел вслух следующее:
«Поселение нготаков, 25 июня 18…
Gentlemen and friends, Messieurs et amis, Милостивые государи и друзья!
Почтенные австралийские джентльмены, которые вручат вам это рекомендательное письмо, мною им выданное, были так добры, что взяли на себя труд доставить к вам от меня фургон с военными и съестными припасами, включая ящик с оружием, найденный в одной роще, но выключая вещи, принадлежащие лично мне. Это та самая фура, которую благородный Виллиго потерял вместе с упряжью на большой дороге во время своего слишком поспешного бегства.
Достопочтенные австралийские джентльмены пригласили меня провести у них в деревне несколько дней. Я принял их любезное предложение, рассчитывая отыскать у них в стране знаменитую ящерицу с хоботом, которой до сих пор еще нет в моей коллекции. Не беспокойтесь обо мне; я в скором времени увижусь с вами в стране нагарнуков, куда мои новые друзья обещали меня проводить».
Это тяжеловесное послание было подписано: «Джон Джильпинг, эсквайр, будущий лорд Воанго из Воанго-Голля».
Чтецом овладел неудержимый хохот, который быстро сообщился его друзьям, потом Кэрби, потом нирбоасам, которые захохотали из учтивости, сами не зная чему; чудовищный смех, точно буря, потрясал окрестности в течение по крайней мере пяти минут.
— Не переводите письма Черному Орлу со всеми подробностями, — сказал канадец графу, когда смех несколько утих. — Он никогда не простит его Джильпингу.
— Почему же?
— А потому, что Джильпинг позволил себе выразиться непочтительно о великом вожде.
— Ну?
— Поверьте мне: у Черного Орла щекотливое самолюбие.
— Хорошо, будь по-вашему!
Возвращение фуры и весточка от почтенного Воанго донельзя упрощали вопрос об отъезде. Времени и так было потрачено много, нужно было спешить поскорее на Лебяжий прииск, чтобы прибыть туда по крайней мере в одно время с Коллинзом и его отрядом, которые теперь наверное успели далеко уйти вперед.
К счастью, мустанги, быстроте которых обязано было своим спасением семейство Кэрби, отдохнули в конюшнях фермы и снова были годны к службе. Однако, чтобы дать благородным животным время хорошенько оправиться после бешеной скачки, друзья решили в первый день не садиться на них, а вести их за собой в поводу.
После трогательного прощания с Кэрби и его домашними канадец, Оливье и Дик поместились в фуре, чтобы отдохнуть немного после ночных треволнений. Что касается Виллиго, то его железное тело не нуждалось в отдыхе. Он встал во главе каравана, который под его предводительством снова двинулся в путь.
Мог ли спать Виллиго, когда для него наконец настал желанный, великий, давно им ожидавшийся день? Пятнадцать лет ждал он его с тех пор, как, возвратившись с охоты, нашел у себя дома мертвую молодую жену и сожженную хижину. Мог ли он спать, когда он готов был плясать, петь, выделывать всевозможные дурачества, когда ему казалось, будто вся природа сочувствует его торжеству? Нет, это для него было совершенно невозможно.
Пятнадцать лет кряду он то надеялся, то впадал в отчаяние, то снова надеялся и опять отчаивался. Он дал себе страшную клятву остаться без погребения, остаться блуждающим каракулом до тех пор, покуда смерть его жены не будет кроваво отмщена.
И теперь, когда наконец наступил этот великий день, неужели Виллиго был бы способен хотя на миг забыться сном, хотя на миг отрешиться от радости, охватившей все его существо?.. Нет, это было немыслимо. Сердце его билось от восторга, голова трещала от дум, в ушах раздавался милый голос его покойной жены.
Образы прошлого, образы быстро промелькнувшего недолгого счастья вновь восстали в душе дикаря, и он мыслями и чувствами вступил в беседу с мертвой подругой. Долго беседовал он с нею среди степного безмолвия, и под конец ему стало казаться, что солнце слишком медленно двигается по синему своду.
Сделали привал для завтрака. Но Черный Орел не ел. Радость сама по себе питает, а мщение может насытиться только мщением.
— Да что это сегодня с Черным Орлом? — спросил Оливье у канадца. — Не находите ли вы его каким-то странным и таинственным? Он все бормочет… точно говорит с каким-то невидимым лицом. Посмотрите, как он бьет себя в грудь и обращается к солнцу с какими-то заклинаниями. Он положительно в экстазе.
— Сидя нынче ночью на веранде Кэрби, я припомнил многое из прошлых лет. Сегодня для Виллиго очень грустный день… Бедняга, мне жалко его!
— Что же это такое?
— Тяжело рассказывать, дорогой Оливье!
— Все-таки расскажите!
— Трудно! Легко ли изложить в нескольких словах драму, тяжелую, кровавую драму, воспоминание о которой и до сих пор волнует кровь моего названого брата?!
— Дорогой Дик, вы начинаете говорить загадками!
— Вовсе нет!
— Но я ничего не понимаю!..
— Поймете, когда я скажу вам, что пятнадцать лет тому назад Виллиго потерял свою молодую жену, павшую жертвой мести лесовиков.
— Ах, что вы говорите!.. Как же это произошло?..
Но канадец не мог продолжать. Черный Орел остановил фуру под тенью фиговой рощи и подошел к беседующим.
В эту минуту солнце готовилось зайти за Красные горы, голые склоны которых, изборожденные потоками лавы, возвышались в полумиле от наших путников. Уже стали заметны красноватые пары Чертова пика, бороздившие огненными чертами темнеющий горизонт. Гора погружалась в постоянно сгущавшийся мрак, понемногу окутывавший и лес, и долины.
— Взгляните! — сказал вдруг Виллиго в каком-то самозабвении. — Взгляните туда, на подножие Большого пика. Вы увидите мщение чернокожего человека.
— Что такое? — в один голос обратились к нему наши друзья.
— О, чернокожий никогда не забывает оказанного ему добра, но твердо помнит и нанесенное ему зло! — продолжал туземец в диком исступлении.
— Успокойся, брат мой! — ласково обратился к нему Дик, кладя свою руку на его плечо.
— Тидана скоро увидит своего брата спокойным, но прежде тот утолит свою жажду мести! — И глаза Виллиго вспыхнули мрачным огнем.
«Что же это будет такое?» — невольно подумал граф, вслушиваясь в зловещий тон Черного Орла, и хотел обратиться к нему за разъяснением, но Дик остановил его.
— Молчите, граф!.. Не надо тревожить старые раны!..
Оливье невольно согласился.
— Но скажите же хотя бы, Дик, на что рассчитывает Черный Орел!..
— Увидите сами!..
— Это будет что-нибудь ужасное?
— Я сам еще не знаю.
Друзья смолкли.
Ночь наступила.
Вдруг в том направлении, куда указывал Виллиго, мелькнул белый свет. Вслед за тем прогремел ужаснейший взрыв, от которого задрожала земля под ногами у путников. Огромный огненный сноп поднялся над горизонтом и сейчас же потух, как зарница.
Газы, скопившиеся в пещере Чертова пика, воспламенились от соприкосновения с порохом, который мистер Боб зажег, по коварному совету Виллиго, и часть горы, приподнятая взрывом, обрушилась на лесовиков.
— Что это? — вскричал Дик дрожащим от волнения голосом. — Что это значит?
— Это тризна по жене Виллиго, — отвечал Черный Орел в диком исступлении. — Триста лесовиков спят теперь вечным сном под обрушившейся горой.
— Да, вот она, месть дикаря! — прошептал канадец, печально потупив голову.
Часть третья. КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК
I
Сессия суда в Сан-Франциско. — Капитан Джонатан Спайерс. — Убийца китайца и министр Джонас Хабакук Литльстон.
Часы на высокой башне судебной палаты в Сан-Франциско били полдень. Это были замечательные часы: они не только отбивали каждый час, как всякие другие башенные часы, но и еще каждые четверть часа играли прелестные вальсы и польки, увеселяя прохожих обоего пола и всех жителей Калифорнии, так что «Восточная компания» еженедельно по воскресеньям устраивала специальные поезда, для того чтобы окрестные фермеры и их семейства могли приехать полюбоваться этим чудом искусства.
Так как творец этого диковинного механизма был большой патриот, то эти национальные часы каждый час исполняли еще один из национальных гимнов различных штатов американской федерации; в то же время изображение одного из президентов, стоявших во главе республики, появлялось в маленькой будочке над часами и торжественно раскланивалось с публикой все время, пока продолжался гимн. А в полдень каждый раз появлялся сам великий Вашингтон на своем боевом коне, с мечом в одной руке и конституционной хартией в другой, и трижды провозглашал «ура», на что в первое время толпа отвечала бешено восторженными криками. Но мало-помалу энтузиазм толпы остыл, и тогда муниципалитет города стал нанимать пять-шесть пропойц, которые ежедневно, ровно к полудню, являлись сюда за вознаграждение в один шиллинг и отзывались на автоматическое «ура» великого Вашингтона патриотическими криками.
В тот день, о котором теперь идет речь, муниципальным наемникам не пришлось, однако, исполнять своего обязательства, потому что едва только великий герой независимости появился на башне, как крики «vivat», издаваемые 20000 голосов с неподдельным энтузиазмом, огласили воздух и, подобно урагану, пронеслись над площадью.
Вся вашингтоновская площадь и прилегающие к ней улицы, вплоть до Дюпонт-стрит в китайском городе, до такой степени были переполнены людьми, что всякое движение по ним прекратилось; но пригородные трамваи продолжали подвозить все новых и новых любопытствующих граждан, которые положительно заполонили не только залу суда, но и все здание и даже двор его. Судя по такому громадному стечению публики, можно было подумать, что здесь происходит какой-нибудь колоссальный политический митинг. Но так как, несмотря на весьма оживленные прения между отдельными группами, ни один оратор не обращался к толпе, то было ясно, что ни о каком политическом митинге в данном случае не было и речи.
В чем же заключался «the great attraction», как выражаются англичане и американцы, этого громадного сборища?
В том, что ровно в час пополудни должно было открыться заседание суда над знаменитым Джонатаном Спайерсом, прозванным Красным Капитаном, и его сообщниками. Этот громкий процесс сильно занимал уже более месяца не только все население данного штата, но и всех граждан Северо-Американских Соединенных Штатов. Множество репортеров прибыло и из Сан-Луиса, и из Нью-Орлеана, из Чикаго и Балтимора, Филадельфии и Нью-Йорка, чтобы ежечасно доставлять самые свежие вести о процессе в газеты с помощью телеграфа. Так как было заявлено, что телеграф останется до окончания дела в распоряжении первого занявшего его, то репортер «Нью-Йорк геральд» еще накануне вечером явился в телеграфное бюро с Библией в руках и принялся телеграфировать в продолжение всей ночи стих за стихом Ветхий завет до самого момента открытия заседания, а затем, без малейшего перерыва, перешел к передаче по телеграфу обвинительного акта и всевозможных мельчайших подробностей интересного процесса. Эта изобретательность приобрела находчивому репортеру на всей территории Соединенных Штатов репутацию ловкого и смышленого человека.
В то же время по всей стране начались пари, столь любимые янки. Не проходило дня, чтобы в газетах не появлялось нескольких заявлений такого рода: Джон Силливан из Нью-Джерси держит пари на 5 тысяч долларов против оправдания Красного Капитана; вслед за тем являлся ответ: Вилльям Чильдерс из Мэриленда держит пари на 5 тысяч долларов за оправдание Красного Капитана.
Словом, дошло до того, что Красный Капитан чуть ли не котировался на бирже.
Что же это было за дело? Одни утверждали, что капитан был честнейший, порядочнейший и благороднейший человек, какого только видел свет, и что, вместо того чтобы предавать его в руки правосудия, его следовало бы правительству встретить с музыкой и почтить торжественным банкетом! Другие утверждали, наоборот, что это была темная личность, негодяй и мерзавец чистейшей воды, с которым народ должен был бы покончить судом Линча тотчас по его прибытии.
Желая остаться беспристрастными, мы только дословно приведем обвинительный акт, прочитанный при открытии заседания высокочтимым Джонасом Хабакуком Литльстоном, старшим секретарем суда, и составленный не менее высокочтимым мистером Эзекилем Джое Свитмаусом.
За несколько минут до открытия заседания мистер Джонас Хабакук Литльстон с озабоченным видом взошел на возвышение, предназначенное для судей, чтобы убедиться, все ли в порядке, и по обыкновению стал распекать своего помощника за недосмотр и непорядки.
— Право, мистер Дарлинг, я не знаю, куда вы запрятали сегодня свое соображение и свой ум! Как могли вы допустить, чтобы подле кресла господина председателя поставили точно такую же плевательницу, как подле кресел присяжных заседателей? Вам должно быть известно, что председатель весьма дорожит своими привилегиями! Прикажите сейчас же поставить господину председателю плевательницу стоимостью в 25 долларов с тончайшим песочком, а присяжным — плевательницы стоимостью в 5 долларов.
— Нет, право! Мистер Дарлинг, вы совершенно не способны нести обязанности занимаемой вами должности! — вновь начинает высокочтимый мистер Литльстон, продолжая свой осмотр.
— Да что я еще такое сделал?! — восклицает негодующим тоном помощник.
— Какое новое упущение?
— Какое упущение! Вы забыли приказать поставить ящик с карандашами судьи Барнетта: ведь его сын прислал сегодня ящик с 60 дюжинами карандашей; это приблизительно обычная порция мистера Барнетта в те дни, когда у нас заседания затягиваются до ночи!
Дело в том, что американцы так строго применяют на деле свою излюбленную поговорку «Times is money», то есть «Время — деньги», что нередко готовы пожертвовать ста тысячами долларов, чтобы только опередить своих конкурентов хотя бы всего только на несколько часов. Чтобы не терять даром времени даже во время заседаний, научных прений и митингов, многие американцы занимаются каким-нибудь ручным, чисто механическим трудом, не отвлекающим их мыслей; так, например, один посредством особого инструмента изготовляет конверты из груды белой бумаги, целые кипы которой лежат подле него на столе; другой, как судья Барнетт, чинит карандаши; третий долбит из дерева маленькие лодочки и оснащает их шелковыми нитями. Пользуясь уже заранее очиненными карандашами, также выигрывается время, и сын судьи Барнетта сберегает время готовыми карандашами, а отец не теряет его даром, слушая прения в суде и очиняя в то же время карандаши.
В тот момент, когда часы на здании суда пробили час, двери в зале заседания раскрылись, и помещение, предоставленное для публики, было взято приступом в ту же минуту. Почти одновременно с этим судья Барнетт занял председательское кресло, а двенадцать присяжных разместились по обе стороны председателя.
После обычных предварительных формальностей мистер Дарлинг сообщил о стоящем на очереди деле:
— Дело Куанг-тонской китайской переселенческой компании; представитель мистер Эзекиль Джое Свитмаус против высокочтимых джентльменов, капитана Джонатана Спайерса, Самуэля Дэвиса, его лейтенанта, и судового врача парохода «Калифорния» Джона Прескотта.
Все трое обвиняемых, оставшихся на свободе благодаря залогу в 20000 долларов, тотчас же вышли и заняли свои места на скамье подсудимых; с ними вошел и их адвокат, мистер Жеробаам Нойстонг, один из наиболее выдающихся юристов в Соединенных Штатах, сенатор штата Нью-Йорк, нарочно прибывший в Сан-Франциско для оказания содействия обвиняемым за вознаграждение в 30000 долларов.
— Джентльмены, — начал председатель, судья Барнетт, готовясь очинить первый карандаш, — признаете ли вы себя виновными или нет?
— Нет, судья Барнетт! — отозвались разом все трое обвиняемых.
— Вы слышите, Литльстон, эти джентльмены не признают себя виновными! Ну, а теперь, мистер Свитмаус, не будете ли вы добры изложить присяжным обстоятельства вашего дела, — продолжал председатель, обращаясь к адвокату обвинителей, — я готов дать вам слово, если мистер Жеробаам Нойстонг ничего не имеет против.
— Мы не можем ничего иметь против чего бы то ни было, — возразила знаменитость, сопровождая свои слова великолепным жестом. — Нам даже неизвестно, зачем мы здесь! Досточтимый собрат наш, Эзекиль Джое Свитмаус, пожелал, вероятно, с целью дать работу своим клеркам, изготовить повестки о явке в суд моим доверителям, в которых он именует их злодеями, мошенниками, разбойниками и подобными любезными эпитетами, за которые мы предполагаем полностью рассчитаться с ним, взыскав протори и убытки. Повинуясь предписанию статьи особого уложения штата Калифорния, требующего, чтобы гражданин немедленно являлся в суд по получении установленной повестки о вызове, мы явились сюда и теперь ожидаем, чтобы досточтимый мистер Свитмаус соблаговолил объяснить нам причины и основания, побудившие его к подобному образу действий по отношению к нам, — образу действий, который, я должен в том сознаться, заставляет меня серьезно опасаться за состояние его умственных способностей.
Шепот одобрения сопровождал эти слова ловкого оратора, который предоставлял своему оппоненту всю трудную задачу ловкого и остроумного изложения дела, а сам приготовился только слушать, предоставляя Свитмаусу нападать и обвинять, не получая ни возражений, ни немедленного ответа на свои слова, излагать доказательства, приводить аргументы, и все это против совершенно безмолвного противника, подстерегающего малейшую его оплошность, готового воспользоваться каждой его ошибкой, каждым промахом и спокойно выжидающего удобного момента, чтобы несколькими ловкими приемами разрушить все его с таким трудом воздвигнутое здание обвинения.
В Соединенных Штатах судебные дела ведутся не так, как в Европе. Здесь это не борьба общества и общественной совести с преступником и преступлением, а просто своего рода словесный турнир между двумя адвокатами, адвокатом обвинения и адвокатом защиты. Присяжные не ознакомляются предварительно с делом, на них не может повлиять ни мнение или взгляд председателя, ни речь прокурора, заинтересованного в обвинении подсудимого. Здесь председатель суда просто судья, который призван только применять законную меру наказания или взыскания после того, как будет произнесен приговор. Ему даже не предоставляется право ставить какие-нибудь вопросы; его назначение. — поддерживать порядок в зале суда, следить за дебатами, давать слово тому или другому из адвокатов и не допускать, чтобы они в пылу соревнования и увлечения делом от слов переходили к действиям и вцеплялись друг другу в горло или в волосы, что в Америке, особенно в восточных штатах, случается нередко.
Настоящего обвинительного акта, составляемого судом на основании данных предварительного следствия, здесь вовсе не существует. Вместо него является простое изложение, письменное или устное, самого дела адвокатом обвинения, так что обвинение и защита совершенно равны перед судом, вследствие чего ловкий и умелый адвокат имеет громадное, можно сказать, первенствующее значение в любом деле.
При этом публике предоставляется право открыто и беспрепятственно выражать свое сочувствие, свое одобрение или негодование и возмущение; и часто это открыто высказанное общественное мнение влияет на судей, которые всегда прислушиваются к голосу толпы, весьма чуткой, впечатлительной и в большинстве случаев беспристрастной в своих суждениях.
Говорят, что тот, кто говорит один, всегда бывает прав; да, но не тогда, когда за ним следит опасный оппонент. Поэтому после первых же слов Нойстонга все поняли, то «Цицерон Сан-Франциско», орел Свитмаус на этот раз нашел себе достойного и опасного соперника.
— В таком случае, мистер Свитмаус, — сказал председатель, судья Барнетт, — даю вам слово, если только вы не отказываетесь от обвинения!
— Напротив, я настаиваю на нем, судья Барнетт! Я изложил всю суть его в специально составленном мемуаре, который, с вашего разрешения, прочтет господин старший секретарь суда, высокочтимый мистер Литльстон. Этот мемуар подробно и обстоятельно ознакомит суд с сутью дела, не возбуждая и не вызывая бурных возражений, как всякое устное сообщение! — При этом адвокат Свитмаус многозначительно взглянул на адвоката Нойстонга, но последний продолжал пребывать в строжайшем безмолвии.
Старший секретарь суда Литльстон, сияющий и торжественный, поднялся и окинул самодовольным взглядом присутствующих. Наконец-то ему представляется случай выказать перед самым избранным обществом Калифорнии свои богатые голосовые данные и свое умение если не говорить, то хоть читать. Он внутренне торжествовал.
Трое обвиняемых, одетые с непривычной в восточных штатах изысканностью, более походили на почетных зрителей, чем на обвиняемых; они держали себя просто, естественно и непринужденно. Красный Капитан, Джонатан Спайерс, на которого были обращены все взоры, был красавец мужчина лет тридцати, с благородными чертами лица, выражающими непоколебимую энергию, а скептическая, насмешливая усмешка, блуждавшая на этом красивом лице, казалось, говорила о том, что этот человек не верит ни во что на свете, кроме своей собственной воли. Словом, это мог быть или величайший негодяй, или гений, смотря по обстоятельствам и в зависимости от того, как сложилась жизнь. Бывший командир «Калифорнии» с одинаковым достоинством мог бы носить как мундир адмирала федерального флота, так и костюм командира пиратов.
Самуэль Дэвис и Джон Прескотт, старший лейтенант и судовой врач того же судна, представляли собою разительный контраст по отношению к своему командиру. Это были два грубых янки, без всяких предрассудков, готовые на всякое дело, лишь бы оно принесло им несколько десятков долларов, и их изысканные костюмы только еще более подчеркивали вульгарность их манер. Они были приглашены на суд лишь для формы, так как во всяком случае ответственным за них являлся капитан, в руках которого они были слепым и послушным орудием.
Утвердив на носу, который Дарлинг в минуты благодушия сравнивал с тараном боевого судна, золотые очки, мистер Литльстон, прокашлявшись, приступил к чтению мемуара, составленного досточтимым Джое Свитмаусом.
«Двадцать четвертого июля текущего года командир парохода „Калифорния“ Вест-Индской компании, капитан Джонатан Спайерс, прибыл в воды Куанг-Тона, чтобы произвести здесь нагрузку 6000 тюков шелка-сырца для торгового дома „Will Fergusson — братья и К°“ в Сан-Франциско, зафрахтовавшего это судно за свой счет.
Покончив с нагрузкой, нашли, что палуба и междупалубное помещение этого громадного парохода, бывшего некогда пассажирским, оставались свободными; китайская переселенческая компания «Виу-Цзинь» предложила капитану «Калифорнии» использовать эти свободные помещения, приняв на свой пароход перевозку 750 китайских переселенцев за счет вышеупомянутой компании по цене 12 долларов с человека, мужчины и женщины безразлично, не включая пищи, о которой компания решила сама позаботиться.
Снесшись предварительно с Вест-Индской компанией и затем с арматорами, зафрахтовавшими пароход, братьями Фергюссон и К°, капитан «Калифорнии», вышеупомянутый высокочтимый Джонатан Спайерс, принял предложение компании на условии немедленной уплаты всей суммы стоимости провоза пассажиров, что и было сделано в самый день посадки эмигрантов на пароход; но в самый момент отправления между капитаном Джонатаном Спайерсом и переселенческой компанией возникли пререкания по поводу сорока тонн риса, нагруженных на пароход и офрахтованных казначеем парохода в 480 долларов провозной платы, тогда как переселенческая компания, на основании установленного на судах обычая, утверждала, что этот рис как питательный продукт, предназначенный на потребление в пути, должен быть принят на судно бесплатно.
Так как «Калифорния» находилась уже под парами, то, чтобы не задерживать ее, обе стороны постановили порешить этот вопрос согласно общему правилу, принятому в больших пароходных компаниях, занимающихся перевозкою эмигрантов из Европы в Америку. В этом духе и был составлен протокол.
Таким образом, все было улажено к обоюдному удовольствию, и ничто не давало повода предполагать ту страшную развязку, какая разыгралась впоследствии на «Калифорнии».
Пароход вошел в море, и с этого момента мы не имеем никаких других сведений относительно разыгравшейся на нем драмы, кроме тех, какие изложены в отчете капитана Джонатана Спайерса, подтвержденном его штабом, то есть остальными высшими чинами парохода, и всеми 36 человеками его экипажа, единогласие которых весьма походит на добросовестно заученный урок. Для того чтобы убедиться в этом, стоит только прочесть со вниманием некоторые нижеследующие документы».
Дойдя до этого места в своем чтении, мистер Литльстон остановился, чтобы перевести дух и протереть стекла своих очков; кроме того, он ожидал в этом месте бурного протеста со стороны обвиняемых, но, к немалому его удивлению, адвокат противной стороны Жеробаам Нойстонг, вооружившись перочинным ножичком, мирно сооружал маленькую ветряную мельницу из своей спичечной коробки и ее содержимого.
Видя, что ждать вмешательства со стороны защиты не было основания, мистер Литльстон снова, прокашлявшись, продолжал чтение:
«Судя по отчету капитана Джонатана Спайерса, спустя восемь часов по выходе в море разразилась такая страшная буря, что его судну грозила неминуемая гибель, если не сбросить часть груза в море, и капитан „Калифорнии“ приказал выкинуть за борт 40 тонн риса, нагруженного для продовольствия эмигрантов. Но так как буря все более усиливалась, то капитан Спайерс в целях облегчения судна, не задумываясь, приказал выбросить за борт 400 человек китайцев из числа 750, принятых им в качестве пассажиров. Это бесчеловечное распоряжение, которое заставило бы содрогнуться дикарей, было выполнено без малейшего сопротивления или колебания штабом и командою парохода. Несчастных вызывали наверх по десяти человек и затем кольями гнали с палубы в ревущее море. Спустя несколько часов после этого страшного злодеяния море утихло, и пароход мог спокойно продолжать свой путь.
Но тут произошло нечто еще более возмутительное и бесчеловечное, чем предыдущее злодеяние. Большая часть провианта и съестных продуктов, предназначенных для продовольствия экипажа и всего наличного персонала судна, оказалась уничтожена, подмочена или унесена в море последнею бурей, так что при распределении съестных припасов выяснилось, что если даже перевести экипаж и высший персонал на половинные порции, то припасов едва могло хватить до Сандвичевых островов, ближайшего порта, к которому можно было пристать для возобновления припасов. И вот на совете, состоявшемся у капитана, было решено, ввиду сбережения провианта, избавиться от остальных китайцев; но чтобы последние ничего не заподозрили, судовой врач должен был подсыпать стрихнина в их обычную порцию риса, отчего все эти несчастные, спустя несколько минут, один за другим отошли в лучший мир…
Когда «Калифорния» прибыла в порт Сан-Франциско, на ее борту не было ни одного китайца. Но справедливость требует упомянуть, что все 6000 тюков шелка-сырца, предназначенного для торгового дома братьев Вилль-Фергюссон и К°, прибыли в целости и вполне благополучно, без малейшего повреждения. Мы не позволяем себе оценивать по заслугам эти возмутительные факты, эти акты невероятного бесчеловечия, представляя это господам судьям и их справедливому устремлению и беспричастному суждению.
Я же, Эзекиль Джое Свитмаус, адвокат г.Сан-Франциско, от имени уполномочившей меня куанг-тонской переселенческой компании «Виу-Локо-Цзинь», обвиняю капитана «Калифорнии» Джонатана Спайерса, лейтенанта Самуэля Дэвиса и врача Джона Прескотта в том, что они, вопреки всем законам божеским и человеческим, вопреки всем правам и обычаям цивилизованных народов, вместо того чтобы, ввиду необходимости уменьшить груз судна, выбросить за борт часть товара, а именно тюки шелка-сырца, принадлежащего торговой фирме братьев Фергюссон, выбросили за борт 40 тонн риса, являвшегося не грузом, а пищевыми запасами пассажиров, и затем те же вышеупомянутые Джонатан Спайерс, лейтенант Самуэль Дэвис и врач Джон Прескотт учинили немыслимое насилие над неповинными пассажирами и уличены в убийстве тем или иным способом 750 человек китайцев, с применением яда, преступлениях, предусмотренных в статье 71 уложения о наказаниях в своде законов штата Калифорния.
Одновременно предъявляю, от имени переселенческой компании «Виу-Локо-Цзинь», денежный иск в 9000 долларов, стоимость уплаченного капитану «Калифорнии» проезда эмигрантов, и еще 500 долларов, стоимость 40 тонн риса, выброшенного по его приказанию в море; еще требую уплаты 100000 долларов пени за протори и убытки.
Подписано: Эзекиль Джое Свитмаус, адвокат».
Достопочтенный Джон Хабакук Литльстон закончил свое чтение среди гробового молчания. Его милость судья Барнетт успел очинить целую груду карандашей; судья, изготовлявший маленькие жестяные гвоздички, продолжал работать своим ручным инструментом с регулярностью автомата, а знаменитый защитник, окончив сооружение своей маленькой ветряной мельницы, теперь принялся дуть на нее, чтобы привести в движение и тем позабавить своих клиентов. Казалось, что и обвинители и защитники — люди, совершенно неприкосновенные к делу. Сам Свитмаус, раздраженный этим упорным молчанием, не мог дать себе надлежащего отчета в поведении своего собрата; это делало его нервным и тревожным.
Наконец председатель изрек спасительные слова, нарушившие томительное молчание:
— Мистер Свитмаус, имеете вы еще что-нибудь прибавить к этому мемуару?
— Абсолютно ничего, судья Барнетт. Самые факты столь просты, что я считаю излишним пояснения и ограничусь только просьбой к присяжным соблаговолить заняться разбором этого дела и, с вашего разрешения, произнести свой справедливый приговор!
Наконец и судья Барнетт, и присяжные судьи стали удивляться угрюмому молчанию защитника, так что даже прекратили свои занятия.
— Мистер Нойстонг, не находите ли вы нужным сделать какое-нибудь возражение или замечание прежде, чем присяжные удалятся для совещания? — спросил председатель.
— Я уже имел честь заявить суду, — отвечал адвокат, — что решительно ничего не понимаю из этого маленького трагического романа, возникшего в воображении моего высокочтимого коллеги; и если он разрешит мне обратиться к нему с несколькими незначительными вопросами, то поймет, с какой непростительной необдуманностью он позволил себе обеспокоить стольких порядочных людей, начиная с вас, судья Барнетт, и оторвать их от их полезных занятий!
— Я готов вам отвечать! — воскликнул Свитмаус вызывающим тоном.
— Что вы так смотрите на меня, мистер Свитмаус, точно я один из убитых вашим воображением китайцев?!
— Как, вы осмеливаетесь утверждать…
— Я ничего не утверждаю, мистер Свитмаус. Вы являетесь обвинителем, вы должны и доказать, что ваше обвинение не голословно, представить суду доказательства либо в лице свидетелей, либо в виде подлинных документов, а мемуар ваш, смею сказать, не что иное, как вымысел, не имеющий никакого юридического значения!
— Но эти факты известны всем; все газеты опубликовали отчет капитана Джонатана Спайерса своим арматорам, и всеобщее негодование населения Калифорнии было столь велико, что вашего клиента иначе и не называют, как Красный Капитан, или, иначе, Кровавый Капитан.
— А у вас имеется этот самый отчет за собственноручной подписью моего клиента и признанный им?
— Нет! Но тождественность этого отчета не подлежит никакому сомнению и не может быть отрицаема.
— В самом деле? А с каких же это пор газетная статья стала считаться неопровержимым документом, на который можно ссылаться в суде?
— Таким образом, ваш клиент отрицает факт, что автором этого отчета является он, и никто другой!
— Вы не вправе требовать от капитана Джонатана Спайерса, чтобы он отрицал или признавал то или другое; и если вы вздумаете допрашивать его, то он не станет вам отвечать. Вы обвиняете его в целом ряде преступлений, представьте доказательства своих слов, и мы посмотрим, что нам тогда делать! А пока вызовите ваших свидетелей!
— Но вам лучше меня известно, адвокат Нойстонг, что мы не могли разыскать ни одного из людей экипажа «Калифорния», и я готов поручиться, мой уважаемый собрат, что вы лучше всякого другого могли бы объяснить нам загадочное исчезновение всех этих людей и сказать нам, во сколько оно вам обошлось с человека!
— Вы весьма ошибаетесь, высокочтимый Свитмаус; матросы с «Калифорнии», свободные от всяких обязательств по окончании плавания, поступили на другие суда, готовившиеся к отплытию, и ушли с ними, а мы не давали себе труда покупать их молчание, не имея в том никакой надобности.
— Не станете же вы отрицать и вот эти официальные документы, снабженные подписями и печатью куанг-тонских властей и доказывающие, что 24 июля текущего года 750 человек китайцев было принято в качестве пассажиров на пароход «Калифорния»?
— На это я прежде всего скажу, что если бы даже эти документы могли быть признаны на суде, то они доказали бы только, что 750 китайцев были посажены на пароход «Калифорния». Но вам оставалось бы еще доказать, что они были высажены в море, которое не было их местом назначения. Вы забываете, что куанг-тонские власти — китайцы и что, согласно нашим законам, ни один китаец не допускается ни в качестве обвинителя, ни в качестве свидетеля на суде на всем протяжении калифорнийской территории, из чего следует, что все эти ваши документы пригодны только для завертывания ваших съестных припасов, высокочтимый мистер Свитмаус!
— Нойстонг! — воскликнул возмущенный до глубины души сан-францисский адвокат. — Те средства, к каким вы прибегаете, недостойны порядочного и честного человека!
Нью-йоркский сенатор был сангвиник и не мог снести обиды; он весь побагровел и воскликнул:
— Возьмите обратно ваши слова, не то я заставлю вас проглотить ваши зубы!
Однако калифорнийский адвокат выхватил свой револьвер и, наведя его на своего противника, повторил еще раз:
— Я повторяю, что выражения и приемы, примененные вами, недостойны порядочного и честного человека, и что вы не лучше тех негодяев, которых защищаете!
Нойстонг, вне себя от бешенства, также выхватил револьвер, и дело угрожало окончиться трагической развязкой, когда Дарлинг, по знаку председателя, кинулся между ними и во имя закона потребовал, чтобы они вручили ему свое оружие.
Закон — единственное, что признают и свято чтят все американцы, и достаточно слов «именем закона», чтобы заставить беспрекословно повиноваться как отдельных лиц, так и целую толпу.
Кроме того, судья Барнетт приговорил обоих адвокатов к десяти долларам штрафа за неуважение к суду, после чего слушание дела продолжалось своим порядком.
Совещание присяжных продолжалось недолго; спустя десять минут по уходе их в совещательную комнату они вернулись и вынесли Красному Капитану и его помощникам оправдательный приговор за недостатком доказательств их виновности. Приговор этот был встречен толпой, с одной стороны, громким «ура», с другой — не менее оглушительным свистом. Газеты в течение двух недель обсуждали со всех сторон решение, и некоторые из них дошли при этом до того, что заявляли, будто китайцы вовсе не люди, а род усовершенствованных автоматов, а «Evening Chronicle» («Вечерняя хроника») заявляла далее, что так как китайцы были отправлены по обычному товарному тарифу, применяемому к грузам и быкам, то Красный Капитан был вправе смотреть на них как на лишний груз и выкинуть их за борт наравне с тюками хлопка или всякого другого товара, от которого он в случае необходимости волен был избавиться.
Когда судья Барнетт объявил заседание закрытым, то многочисленные сторонники капитана Джонатана Спайерса поспешили окружить его и собирались вынести на руках из зала суда и нести в триумфальном шествии по всем главным улицам города. Как это всегда бывает в подобных случаях, тотчас же организовалась контрманифестация, собиравшаяся также сопровождать капитана свистом, барабанным боем и хрюканьем. В редких случаях это не доходит до кровавой расправы. Но Красный Капитан был не таков; не дожидаясь никаких оваций, он решительным шагом, гордо подняв голову, вышел из здания суда и, войдя в ожидавший его экипаж, обратился к своим друзьям и сторонникам, благодаря их за содействие и сочувствие. «А что касается остальных, — добавил он, — то я готов доставить удовлетворение каждому желающему на револьверах, ружьях, шпагах, эспадронах или в национальном боксе, по желанию каждого». Эта удаль заставила замолчать даже самых недовольных оправданием капитана: никто не захотел померяться с отчаянным капитаном. Мистеры же Нойстонг и Свитмаус, выйдя из залы суда, пожали друг другу руки, как и подобает двум выдающимся адвокатам.
Предоставив прославленному Нойстонгу мчаться на всех парах из Сан-Франциско в Нью-Йорк, а не менее прославленному Свитмаусу — украшать собою калифорнийский суд, мы займемся исключительно Красным Капитаном, с которым познакомили наших читателей при оригинальных обстоятельствах, составивших ему имя и известность.
II
Мечты Красного Капитана. — Эврика. — Отчаяние. — Мысли о самоубийстве. — Еще раз человек в маске. — Чек в девять миллионов. — № 333.
По происхождению своему Джонатан Спайерс был уроженцем Нью-Йорка, отец его принадлежал к корпорации тех почтенных отравителей, которых в Америке называют баркинерами, а в Европе — трактирщиками, шинкарями или винными торговцами. Питейное заведение Спайерса помещалось в торговой части города и всегда бывало переполнено матросами, являвшимися сюда обменивать свои доллары и здравый рассудок на стаканчик виски, бренди, джина и тому подобных зелий. Здесь юный Джонатан с ранних лет вошел во вкус профессии моряка, и так как он от природы обладал умом беспокойным, пытливым и любознательным, то уже в двенадцать лет, поступив в учение на один из крупнейших судостроительных заводов в Нью-Йорке, всех удивлял своими необычайными способностями и своей смышленостью. А шестнадцатилетним мальчиком он был уже старшим рабочим в сборной мастерской и изобрел машину для подшивки судов, которая в сутки делала работу артели в сто человек. Но это изобретение его украл старший инженер мастерской, которому он имел неосторожность показать свои чертежи и планы. Протесты его остались без последствий, так как никто не хотел верить, чтобы простой рабочий без специального образования, шестнадцатилетний мальчуган, мог изобрести столь сложный механизм, а инженер утверждал, что Спайерс, по его указанию и заказу, исполнял для него чертежи, так как был превосходным рисовальщиком и чертежником, удостоившись первых наград за свои рисунки и чертежи на вечерних курсах, которые он посещал с величайшим усердием. Эта первая неудача в жизни вселила в душу юного Джонатана Спайерса глубокую ненависть к людям и желание отомстить им за себя.
Его справедливые требования и протесты привели к тому, что его уволили с завода, а почтенный родитель также указал ему на дверь, считая претензии молодого человека неслыханными. Выпроваживая его из своего дома, он, однако, наградил его своим благословением, а так как родительское благословение — багаж негромоздкий и не подлежащий таможенному тарифу и, согласно поговорке, если не приносит большой пользы, то, во всяком случае, и не вредит, то молодой человек, захватив его с собой, отправился на Дальний Запад, это убежище всех прогоревших банкиров, всех неудачников, непризнанных гениев. Вот почему вы встретите в Сан-Франциско столько великих людей, которые за неимением другого применения своих способностей занимаются на улицах чисткой сапог прохожим (ради развлечения)!
По пути в Калифорнию молодой человек не брезговал никаким трудом, чтобы снискать себе пропитание: он пас свиней и мыл посуду, дробил камни на дорогах и чинил домашнюю утварь. Но, прибыв в Сан-Франциско, он вскоре поступил в одну из мастерских судостроительного завода и год спустя, невзирая на свой юный возраст, был удостоен звания старшего инженера-механика и переведен на оклад такового на заводе Вест-Индской компании. Но успех не изменил его характера: он по-прежнему оставался сумрачен, угрюм и до крайности необщителен. Пережитые им несправедливости, неудачи и трудные минуты жизни оставили на нем неизгладимый след и до такой степени озлобили его, что он испытывал нечто вроде безумия жестокости по отношению ко всему человеческому обществу, что обратилось у него в своего рода манию. Он мечтал неустанно только о безграничной власти над людьми и об удовлетворении, с помощью этой власти, своей ненасытной жажды мщения. Эти чувства граничили в нем с безумием. В квартире его был особый рабочий кабинет, куда никогда не проникал ничей посторонний взгляд и где он проводил все свои свободные часы, работая, вероятно, над каким-нибудь новым изобретением, так как в течение целых пяти лет он неустанно чертил, вычислял, соображал и изготовлял в своей мастерской, помещавшейся в отдельном маленьком каменном павильоне в его саду, какие-то странные части механизма, которые он полировал, приглаживал, спаивал, свинчивал, не говоря никому ни слова о своей работе.
Его дом охраняли два немых негра, верные, как собаки, своему господину, и китаец из Макао, по имени Кианг Фо, заведовавший всем в его доме.
В течение целых пяти лет он работал неустанно и упорно отклонял все предложения Вест-Индской компании принять на себя командование одним из ее больших тихоокеанских пароходов, так как одновременно со званием инженера-механика Джонатан Спайерс блистательно сдал экзамен в школе шкиперов дальнего плавания и был принят в корпорацию моряков торгового флота с отметкой в аттестате: «Перворазрядный».
Наконец, у него явилась фантазия заключить в каменный павильон небольшой прудик в 10 квадратных метров, находившийся в его владениях. Когда павильон этот был построен по его плану и указаниям, он лично перенес туда множество различных металлических предметов и частей и заперся там на целую неделю безвыходно, предварительно взяв для этого отпуск. Очевидно, он собирался произвести какие-нибудь опыты, и, по-видимому, эти опыты вполне удались ему, так как он вышел из павильона сияющий и радостный, каким его никогда никто не видал.
— Теперь и власть и богатство в моих руках! — воскликнул он. — Власть, против которой человек бессилен! Я соединил в одном существе все живые силы природы; ему недостает только разума, но ума одного человека достаточно, чтобы дать ему жизнь, и моего ума будет достаточно! Соединенный флот целого мира и войска всего земного шара будут ничто перед этой силой, жалкая былинка или вялый лист, гонимый ураганом. Ура! Я — властитель мира! Я — царь природы!
Китаец, прислуживавший ему и никогда за все пять лет не видавший улыбки на его лице, подумал, что его господин лишился рассудка.
— Да, теперь власть и месть, страшная, беспощадная месть в моих руках! О подлый мир, в котором мало быть честным и работящим, чтобы завоевать себе место в поднебесной, где люди, как стая хищных воронов, как голодные волки, накидываются на подобных себе и пожирают слабейших и беззащитных! Теперь настал час расплаты за все!
Он прошел в свой таинственный кабинет и снова заперся там.
Мало-помалу возбуждение его улеглось, и он стал рассуждать спокойно.
Без сомнения, орудие его власти было найдено, но для того, чтобы соорудить это механическое существо, чтобы осуществить свой план, по его выкладкам, требовалось 2000000 долларов, а у него не было и двадцатой доли этой суммы! Сколько времени потребуется для того, чтобы собрать нужную сумму! Что за злая насмешка судьбы: держать в своих руках власть, могущую поработить мир, и за неимением всесильного рычага — золота, также царящего над миром, — быть бессильным!
Но этот человек был не из тех, кто складывает оружие даже перед судьбой.
— Так что же! — воскликнул он с присущей ему энергией и решимостью. — Если нужно золото, то завоюем себе это золото, без которого ничто на свете невозможно!
Каждый крупный банкир при первом ознакомлении с его опытами доставил бы ему сумму вдвое большую, чем та, какая ему требовалось. Но для этого нужно было поделиться своим изобретением, мало того, это значило предостеречь об опасности его врага — человеческое общество, — а не было в мире такого правительства, которое не воспрепятствовало бы всеми зависящими от него мерами осуществлению его смелого проекта в интересах всеобщего спасения и безопасности.
Поэтому он решил даже в деле добытия капиталов положиться только на себя. С этой целью он выхлопотал себе несколько привилегий на различные свои попутные изобретения, применимые в промышленности, и стал эксплуатировать их.
Тогда он согласился принять командование одним из пароходов Вест-Индской компании для увеличения своих доходов.
Не теряя времени, он тотчас же приступил к осуществлению своего изобретения и заказал на двенадцати различных заводах отдельные части того гигантского механизма, который он сам должен был собрать при содействии только его двух немых негров, готовых дать изрубить себя на куски ради его благополучия. Эти двое несчастных, Том и Сэм, были спасены им от страшной участи и были ему безгранично признательны: у них были вырезаны языки еще на родине во время одной из диких оргий их царька за какую-то пустячную провинность с их стороны, как это нередко случается на африканском побережье. Джонатан Спайерс с величайшим терпением обучил их целой сложной системе знаков, которые вполне заменили несчастным дар слова; но ключ или значение этих знаков были известны только ему одному.
Со времени этих событий прошло уже два года, когда мы впервые встречаем Красного Капитана перед судом в Сан-Франциско.
Это прозвище Красного, или Кровавого, Капитана преисполнило сердце Джонатана Спайерса горькой радостью. «Я оправдаю это прозвище! — воскликнул он. — Я поклялся в этом!»
Но при возвращении домой из залы суда в нем произошла внезапная реакция, и весь мир, и люди, и его гигантский замысел, и сама жизнь показались ему столь презренными, столь отвратительными, что он было подумал, не лучше ли ему самому исчезнуть и покончить разом с борьбой, которая обещала быть долгой и упорной. За последние два года он уплатил уже более миллиона долларов различным механическим заводам, и тщательно занумерованные отдельные части его будущего сооружения хранились теперь в особо построенном для этой цели блиндированном сарае, у дверей которого безотлучно находились его верные негры. Но сделанное за эти два года было, в сущности, каплей в море, и если и дальше дело стало бы подвигаться так же, то на осуществление его замысла потребовалось бы по меньшей мере еще 20 лет. А ему было теперь уже 30; он был мужчина в полном соку; через 20 лет ему будет 50, и он будет уже на пороге к старости. Под рукой у него лежал револьвер; он стал играть этой красивой безделушкой, мысленно рассуждая: «Одно маленькое, чуть заметное движение руки, нажим пальца — и все кончено… И в сущности, это покой и отдохновение от всех житейских волнений. Пожалуй, индусы правы… сладость небытия!» И он вспомнил старое браминское изречение: «Лучше человеку сидеть, нежели стоять, лучше лежать, нежели сидеть, лучше умереть, нежели лежать!»
Бессознательно рука с револьвером поднялась на уровень виска… Он не сознавал даже, что делает, быть может, он мечтал в этот момент о чем-нибудь совершенно другом, как вдруг сильный стук в наружную дверь дома заставил его содрогнуться и очнуться. Он взглянул на свою руку, вооруженную револьвером, и, слабо улыбаясь, прошептал: «Неужели я собирался сделать эту непозволительную глупость?»
Он отложил в сторону револьвер и поднялся со своего места. Вошел Кианг Фо, или просто Фо, как его называли, и вручил ему большого формата конверт, принесенный посыльным, ожидающим ответа.
«Чужеземец, очень желающий познакомиться с капитаном Джонатаном Спайерсом ради причин чрезвычайной важности, просит его пожаловать к нему на чашку чая сегодня вечером в Лэйк-Хауз к 8 часам. Комната № 7, коридор В».
Подписи не было.
Красный Капитан собирался уже проучить этого бесцеремонного чужеземца, отправив его посланного обратно без ответа, но затем передумал и набросал карандашом поперек полученного письма следующий ответ:
«Капитан Джонатан Спайерс имеет обыкновение пить чай у себя в это самое время и иногда принимает, когда это его не стесняет, лиц, желающих его видеть или имеющих к нему какое-нибудь дело».
Подписи также не было. Письмо он вложил обратно в тот же конверт и приказал отдать его посланному.
Этот пустячный инцидент, которому он не придал ни малейшего значения, изменил, однако, течение его мыслей и отвлек от мимолетной идеи самоубийства, на мгновение мелькнувшей у него в мозгу. Совершенно спокойный и уравновешенный, он вышел в сад, прошел в павильон, где заключен был пруд, и заперся в нем до вечера.
Как самый серьезный мыслитель и ученый, капитан Спайерс был очень воздержан в пище и питье; ровно в восемь часов он пил чай с холодным мясом и пирожками, затем уже ничего не ел до утра. Едва он сел за стол в этот вечер, как у наружных дверей его квартиры раздался стук, и Фо вошел доложить, что господин, присылавший письмо поутру, просит разрешения представиться капитану.
Заинтересованный этим странным инцидентом, капитан приказал провести к себе незнакомца.
Спустя минуту в комнату вошел высокого роста, прекрасно сложенный мужчина, с изысканными манерами, изящно одетый, с черной бархатной маской на лице, столь плотно обхватывающей лицо, что в первую минуту капитан принял вошедшего за негра, затем собирался проучить его за дерзость являться в маске, когда незнакомец сам поспешил снять ее, промолвив:
— Извините меня, я делаю это ради слуг; для меня необходимо, чтобы никто здесь в Америке не знал меня в лицо и никто не мог впоследствии засвидетельствовать о нашем свидании, которое, во всяком случае, не повторится!
— Вы русский, если не ошибаюсь! — заметил Спайерс, внимательно наблюдавший своего гостя. — Прошу садиться!
— Вы не ошиблись: я действительно русский; у меня не было никого, кто бы мог представить меня вам; кроме того, как я уже говорил, наше сегодняшнее свидание с вами не должно быть известно никому!
— Я готов извинить вас, полагая, что только серьезные причины могли побудить вас к подобному образу действий, но вы должны понять, что я вправе требовать от вас честного и чистосердечного объяснения! Вам уже известно мое имя, и я со своей стороны привык знать имена тех, кто переступает мой порог!
С минуту незнакомец как бы не решался, затем сказал:
— В Австралии я был известен под именем «человека в маске»; здесь, в Лэйк-Хауз, я записан под именем майора Дункана…
— А в России? — спросил капитан с легким оттенком раздражения в голосе.
— А в России, — продолжал незнакомец, — меня зовут полковником Ивановичем!
— Прекрасно! — сказал Спайерс и пожал ему руку в знак заключенного знакомства.
— Теперь еще одно слово, — сказал полковник, — у людей вашего типа нет надобности требовать честного слова, и потому я просто скажу вам, что желаю, чтобы с того момента, как я перешагну за порог вашей комнаты, я был для вас, как и для всех здесь, майором Дунканом!
Капитан утвердительно наклонил голову, и его гость продолжал:
— Я прибыл сюда из Австралии и нахожусь проездом в Сан-Франциско, собираясь вернуться в Европу через Нью-Йорк. Сегодня утром я из простого любопытства присутствовал в зале суда на вашем процессе, и ваша непреодолимая энергия, ваше мужество и решимость, ваше презрение к людям и к жизни, ваш надменный и гордый вид очаровали меня настолько, что я внутренне сказал себе: «Вот человек, какого я давно ищу!» Я должен вам сказать, что на меня возложена тайная миссия, и я потратил уже два года своей жизни, приложил все силы моего ума и моей воли, пожертвовал жизнью 400 или 500 человек и истратил около пяти миллионов, и все для того только, чтобы потерпеть позорную неудачу! Я решил было уже вернуться в Россию и отказаться от возложенной на меня задачи, но при виде вас во мне возродилась надежда.
— А в чем состоит цель вашей миссии? — полюбопытствовал капитан.
— Овладеть всеми возможными средствами, даже лишив его жизни в случае надобности, одним молодым французом, графом Оливье де Лорагюэ д'Антрэгом. В том случае, если бы мне удалось захватить его в свои руки живым, я должен был доставить его в Петербург, пред лицо Верховного Совета одного тайного общества Невидимых.
Джонатан Спайерс при этом недоверчиво усмехнулся, что не укрылось от его собеседника.
— Вы, очевидно, заблуждаетесь в ваших предположениях, а потому я должен сказать, что тайное общество Невидимых не имеет ничего общего с нигилистами, анархистами или с интернационалистами; оно преследует чисто патриотические цели; его задачи — слить воедино все разрозненные ветви великого славянского корня и поднять их против германской и англосаксонской расы, завоевать Восток и часть Запада до Константинополя! Таковы наши задачи, и в день великой борьбы мы подымем 150 миллионов штыков, которые оттеснят тевтонцев к берегам Шпрее, а англосаксов изгонят из Индии.
Во время этой беседы Джонатан Спайерс, склонив голову на руки, тоже думал о грандиозных событиях, которые он мог бы осуществить, если бы ему дана была возможность построить орудие его власти, его силы, его мощи. Наконец он поднял голову, глаза его горели мрачным огнем, метая огненные искры.
— А! — воскликнул он. — Что вы говорите мне о ваших Невидимых! Что такое ваше тайное общество, все короли и народы! Это сухие листья, которые я одним дуновением смел бы с земли, если бы только мог!..
— Да… я это почувствовал с первого же момента, как только увидел вас! Вы принадлежите к числу тех людей, которые рождены властвовать над людьми и повелевать массами! Нам нужны именно такие люди, совершенно исключительного закала… Войдите в наше общество; я могу обещать вам одну из высших должностей среди Невидимых, и тогда вы уже не скажете больше «Если бы я мог!», а скажете «Я хочу», и это будет!
— Нет, вы не понимаете меня! — пылко воскликнул капитан, — не можете меня понять!.. — С минуту он колебался, но затем, как бы придя к какому-то решению, вдруг схватил полковника за руку и сказал: — Идемте! Вы один будете знать об этом… но иначе нельзя: вы один можете мне помочь! — И он увлек его за собою в сад.
Дойдя до дверей таинственного павильона, где он производил свои опыты, Спайерс остановился.
— Что вы всего больше любили, чтили и боготворили здесь, на земле? — спросил он.
— Мою мать! — не задумываясь, отвечал его гость растроганным голосом.
— Ну так поклянитесь мне вашей матерью, что вы никому не откроете того, что сейчас увидите, никому не скажете об этом ни слова!
— Клянусь!
— Хорошо! Войдите!
Оба негра посторонились, чтобы дать дорогу своему господину и его спутнику. Те вошли, и дверь затворилась за ними. Целых два часа они провели там, и, когда наконец вышли, Красный Капитан как будто возродился и вырос; он улыбался спокойной, самодовольной улыбкой, тогда как русский полковник, наоборот, казался пришибленным и ошеломленным, как человек, видевший осуществление чего-то невероятного, невозможного, немыслимого, сверхчеловеческого: гений Красного Капитана сразил и уничтожил его.
Но он тотчас же понял, что не должен выдавать всей силы произведенного на него впечатления, если хочет достигнуть своей цели, и, когда оба они вернулись в квартиру капитана, полковник Иванович успел уже вернуть себе все свое обычное самообладание.
— Ну что? — спросил Джонатан Спайерс, когда они снова расположились в креслах друг против друга.
— Это что-то невероятное! — откровенно признался гость. — Даже в самых безумных мыслях я не допускал возможности ничего подобного!
— Я десять лет искал это решение, и вот теперь уже два года, как я его открыл. Теперь два года я борюсь с невозможностью добыть 9000000 франков, чтобы довести до конца мое великое дело, мой «Римэмбер» (Remember) — так я назову его, чтобы он являлся постоянным напоминанием моих страданий, моего долгого и упорного труда и выжидания, моих радостей и моих надежд!
— О, я вас понимаю! — воскликнул русский. — Понимаю, что вы окружаете себя такой тайной, так как ни одно государство в мире не допустило бы сооружения подобного аппарата, сила и мощь которого ставят в полную от вас зависимость все человечество!
— Да, но мне недостает девяти миллионов, и у меня их никогда не будет, так как я чувствую, что истощил свои силы и терпение!
— Как знать, может быть, и будут! — задумчиво возразил Иванович. — Это будет зависеть только от вас самих; если вы захотите, они будут завтра же у вас! — с таинственной усмешкой добавил он.
— Завтра же? — переспросил Красный Капитан. — А кто мне их даст?
— Я!
— Вы?
— Да, я! Казна Невидимых неистощима; соединенный бюджет Франции и Англии ничто в сравнении с теми богатствами, какими располагаем мы. Я один из трех членов, владеющих сокровенной подписью нашей ассоциации и могущий располагать, под личной своей ответственностью, этими капиталами при условии отдавать в них отчет совету Девяти. Итак, если я захочу, то завтра Калифорнийский банк откроет вам кредит на девять миллионов!
— А что для этого требуется? — спросил капитан Спайерс.
— Требуется согласиться на три условия. Но прежде, чем изложить их, я должен предупредить, что никакие изменения этих условий абсолютно невозможны и поэтому обсуждать их совершенно излишне: за малейшую поблажку вам я должен буду заплатить своей жизнью, а вы, конечно, не можете рассчитывать, что я пожертвую собой, чтобы возвести вас так высоко, так высоко, что никто не в состоянии будет не только сравниться с вами, но и дотянуться до вас. Вы меня извините за эту откровенность, но я должен был сказать вам всю правду, чтобы не терять времени в бесполезных прениях!
— Прекрасно, но скажите мне, должен ли я принять или отвергнуть ваши условия только коротким словом «да» или «нет» или же мне будет позволено спрашивать некоторые разъяснения!
— Я с удовольствием отвечу вам на все вопросы… Итак, первое условие
— чтобы вы узаконенным актом на бумаге, снабженной печатью и подписью Великого Невидимого и верховного члена ассоциации, вводящего вас в нее, за неким ручательством, то есть моим в данном случае, изъявили письменное желание вступить в наше общество и приняли на себя все соответствующие этому обязательства: прежде всего вам будет дано имя, под которым вы будете известны всем членам нашего общества, и номер, который будет известен только членам Верховного Совета и Великому Невидимому. Вы обязаны оказывать помощь и содействие всем членам нашего общества, кто назовет вас по имени и предъявит доказательства, что он также член общества. И каждый раз, когда вы получите предписание такого рода: «Предписывается и повелевается номеру такому-то» и т.д., — вы обязаны повиноваться без рассуждения и колебания, без всяких объяснений или разъяснений и безотлагательно. Словом, вы становитесь в руках высшей власти нашей ассоциации, согласно священной формуле «peginde ас cadaver», то есть как труп. У вас нет ни воли, ни личности, ни ответственности. Вы просто номер и бессознательная частица великого механизма, заодно с которым вы действуете.
— И это все?
— Да, относительно первого условия!
— А знаете ли, это условие клонится не более не менее как к тому, чтобы конфисковать в свою пользу и выгоду вашего тайного общества все могущество, которое мне может дать мое изобретение!
— Ведь статут не был создан для вас специально, и вы, конечно, понимаете, что он не может быть изменен для вас!
— Пусть так, но в таком случае я делаюсь простым орудием неизвестных мне лиц, и это ради идей, которых я не имею никакого основания разделять!
— Но эти неизвестные люди представляют собою все, что есть великого на земле, а эти идеи — самое возвышенное, самое благородное: это борьба двух рас из-за обладания полувселенной!
— Я ничего не говорю, но чувствую себя парализованным, уничтоженным!..
— Не в такой мере, как вы полагаете! Наше общество ограничивает свое влияние только чисто политической сферой. Так, например, вы можете получить предписание, когда ваше изобретение получит гласность и станет известным, уничтожить английский флот или германскую армию, и такая идея, конечно, будет достаточно прекрасной, чтобы прельстить человека с вашим характером и запросами. Но в области частной жизни вы будете абсолютно свободны. Вы можете покорять себе народы — кроме славянских, конечно, — можете взлетать так высоко, как вам только вздумается, и наше общество будет только с большею гордостью смотреть на возвышение одного из своих членов!
— Но ведь это тоже политика!
— Я уже сказал вам, что все, что не касается славянской расы, будет дозволено вам!
— Что ни говорите, я, во всяком случае, буду только орудием в руках Великого Невидимого!
— Пусть так! Но кто вам говорит, что вы сами не достигнете этого высокого и завидного положения, которое в связи с вашим могуществом положит весь мир к вашим ногам!
— Ну-с, а остальные условия? — задумавшись, спросил Джонатан Спайерс.
— Принимаете ли вы первое? — осведомился полковник.
— Разве мне не предоставляется принять или отвергнуть их все три вместе?
— Как вам будет угодно! Итак, второе условие заключается в том, что вы обязуетесь после вашей смерти оставить ваше изобретение, со всеми его планами, чертежами, моделями и указаниями к пользованию им и приведению в действие вашего «Римэмбера», нашему обществу Невидимых.
— На это не имею никаких возражений, продолжайте!
— Третье, и последнее, условие совершенно мое личное. Как только «Римэмбер» будет сооружен, вы отправитесь вместе со мною в Австралию, чтобы помочь мне на этот раз наверняка завладеть графом Лорагюэ д'Антрэгом.
— Что же, это личная месть? — спросил капитан Спайерс.
Собеседник его промолчал.
— О, — продолжал тогда капитан, — это для меня совершенно безразлично! Но я должен сказать, что люблю французов, так как один француз спас мне жизнь. Прибыв в Сан-Франциско, я страшно нуждался, не находя нигде работы; я готов был кинуться в Сакраменто, когда случайно проходивший мимо француз удержал меня от этого намерения. Он сунул мне в руку сто долларов и сказал только эти несколько слов: «Работай и надейся!» Я никогда больше не видел его, хотя и искал его всюду, чтобы отблагодарить его и вернуть ему одолженные им деньги. Благодаря ему я мог расстаться со своими лохмотьями, из-за которых меня отовсюду гнали, нигде не принимали на работу; я поступил в Вест-Индскую компанию и стал тем, чем вы теперь меня видите!..
За это время Иванович успел обдумать свой ответ.
— В том, о чем я вас прошу, нет личной мести; от поимки и ареста графа зависит сохранение за обществом Невидимых громадных золотых и серебряных рудников на Урале, оцениваемых в более чем полмиллиарда!
— В сущности, мне это все равно, — равнодушно заметил Джонатан Спайерс, — и ваши два последних условия я охотно принимаю; но что касается первого, то это дело другое. Ведь это дает совершенно новое направление всей моей дальнейшей жизни; это должно изменить все мои планы!
— Тут выбора нет, но на вашем месте я бы принял и это условие, в интересах вашего самолюбия и честолюбия: по прошествии двух лет, если вы сумеете ловко действовать — а я вам обещаю помочь в этом, — вы станете во главе ассоциации Невидимых и будете нашим верховным повелителем!
— Дайте мне срок до завтра на размышление!
— Это невозможно; или сегодня же вечером вы будете навсегда и бесповоротно связаны с Невидимыми, или мы с вами никогда больше не увидимся!
— Ну так дайте хоть один час времени.
Полковник хладнокровно вынул часы из кармана и сказал:
— В вашем распоряжении ровно десять минут!
Джонатан Спайерс, как бешеный, вскочил со своего места, запустил своей чашкой с чаем в стену, где она разбилась в мелкие дребезги, и, скрестив на груди руки и глядя прямо в лицо Ивановичу, произнес:
— Я не такой человек, чтобы изменять свои намерения в 10 минут!
— Значит, вы отказываетесь? — спросил его русский, более взволнованный этою выходкой, чем он желал бы казаться.
— Нет, пусть лучше решит судьба! — И капитан подбросил в воздух золотую монету в двадцать долларов, которую постоянно носил при себе как своего рода фетиш: это были первые полученные им от Вест-Индской компании заработанные деньги.
— Решка! — крикнул он громко.
Монета покатилась сперва по комнате и наконец легла. Иванович устремился туда с лампой и торжествующим голосом воскликнул:
— Орел! Приветствую брата Федора Невидимого! Пусть я первый назову вас этим именем, под которым вас отныне будут знать все наши.
Но капитан Спайерс сидел неподвижно на месте, опустив подбородок на руку, и смотрел неопределенно в пространство, как человек, подводящий итоги прошлого или старающийся проникнуть в тайны будущего. Он продал себя ради осуществления своей мечты. «Perinde ас cadaver!» — шептали его губы. Так, значит, с этого момента Джонатан Спайерс, неукротимый и непокорный Красный Капитан, отрекся навсегда от своей свободной воли, от своей независимости. Но он не хотел оглядываться назад, а пытался заглянуть вперед и искал, какие выгоды может извлечь из своего нового положения. Понятно, он сохранит секрет своего изобретения для себя, а это сделает его столь сильным, столь могущественным, что, когда оно будет осуществлено, никакие силы в мире не помешают ему сказать: «Дальше я не пойду!» Кроме того, Иванович сказал ему, что он легко может стать главой ассоциации Невидимых, и тогда какая власть на земле сравнится с его властью!
— Ну-с, капитан, — пробудил его наконец голос Ивановича, — судьба решила за вас в нашу пользу, или, вернее, в вашу, так как теперь разом устраняются все препятствия к осуществлению вашего заветного желания, и я уверен, что вы всю жизнь будете благословлять этот счастливый случай, положивший конец вашим сомнениям. Потрудитесь убедиться, что монета легла орлом вверх!
— К чему? Я вам верю!
— Нет, я на этом настаиваю, чтобы с меня была снята всякая ответственность в этом деле!
Капитан подчинился его желанию и убедился в том, что монета легла лицом вверх.
Не теряя ни минуты времени, Иванович достал из кармана два совершенно изготовленных договора, где не были только проставлены имя и число.
Капитан Джонатан Спайерс был вписан в договор под именем Федора и получил № 333, кабалистическое число, которое было вырезано на обороте его перстня. На задней странице договора было приписано обязательство уступить после своей смерти его изобретение обществу Невидимых и посвятить Великого Невидимого и Совет Девяти в секрет пользования им. Последнее же, третье обязательство нигде не было вписано.
— Это было личное, между нами, — сказал полковник Иванович, — и я верю вашему слову; с меня этого вполне достаточно!
Помимо верховного владыки, Великого Невидимого, и постоянно состоящего при нем Совета Девяти, все члены ассоциации разделялись на семь классов, причем все высшие должности распределялись между членами первого класса, которого члены обыкновенно достигали путем постепенного повышения по своим заслугам и трудам на пользу общества.
В данном случае Иванович понял, что в интересах самого общества капитана следовало поставить в такое положение, чтобы он мог получать предписания только от одной высшей власти, и потому он зачислил его членом первого класса, то есть сделал равным себе, на что он, в сущности, даже не был уполномочен, хотя и мог сделать это ввиду совершенно исключительных обстоятельств.
Когда все документы были подписаны, Иванович достал из своего кармана чековую книжку на калифорнийский банк и, не задумываясь ни на минуту, выдал капитану чек на сумму в 1800000 долларов, что равняется 9000000 франков, вручив капитану со словами:
— Пользуйтесь этим на пользу и благо общества!
Получив из рук полковника Ивановича этот чек, обеспечивавший ему осуществление его заветной мечты, которая должна была перевернуть весь свет, Красный Капитан испытал такое чрезвычайное волнение, что чуть было не лишился чувств. Впрочем, он скоро овладел собой и оставался наружно совершенно спокоен.
— Теперь нам надо расстаться, — проговорил Иванович, — я должен ехать отсюда с первым утренним поездом в Нью-Йорк. Через двадцать дней я рассчитываю быть в Петербурге, где ваше зачисление в члены нашей ассоциации будет утверждено Великим Невидимым. А когда вы думаете управиться с вашей работой?
— Я раздам заказы на отдельные части аппарата тремстам или четыремстам различным механическим заводам в Сан-Франциско, Нью-Йорке, Балтиморе и Чикаго и надеюсь, что по истечении шести месяцев мой «Римэмбер» будет совершенно окончен и готов к действию! — сказал капитан.
— Прекрасно! — воскликнул его собеседник. — Сегодня у нас 22 сентября, сейчас 27 минут двенадцатого, значит, 22 марта будущего года я буду в Сан-Франциско с поездом, прибывающим из Нью-Йорка ровно в 11 часов. Где я вас найду?
— Здесь, если это вам будет удобно!
— Для меня безразлично! Можете ожидать меня здесь!
— Буду я иметь какие-нибудь вести от вас?
— Нет, это совершенно бесполезно! Ничего такого, что я мог бы доверить почте или бумаге, мне сообщать не придется. А в случае надобности я пришлю к вам человека, которому можно вполне довериться!
По уходу своего гостя Джонатан Спайерс долгое время не мог успокоиться, опасаясь какой-нибудь ловкой мистификации со стороны своих врагов. Двадцать раз перечитывал он договор с обществом Невидимых и исследовал врученный ему чек на Калифорнийский банк. Но все это только усиливало его тревогу.
Кто такой был, в сущности, этот русский гость и как мог он сам быть так наивен, чтобы довериться ему с первой минуты?! Даже ближайшие друзья его, лейтенант Самуэль Дэвис и врач Джон Прескотт, готовые во всякое время отдать за него свою жизнь, как верные псы, никогда не были посвящены им в тайну.
Как знать, быть может, теперь, в это самое время, этот господин Иванович смеялся над ним, что этот прославленный Красный Капитан так легко поддался на удочку, на которую не поддался бы и ребенок: чек в 9000000. Да это смешно и невероятно!
Джонатан Спайерс едва мог дождаться утра, чтобы явиться с чеком в банк и получить несомненное доказательство издевательства над ним господина Ивановича и его обмана.
Ровно в десять часов утра капитан вышел из дому, приказав своим двум неграм никого не допускать в дом в его отсутствие, и спустя 20 минут уже входил в кабинет главного кассира, которому должны были предъявляться для проверки, как о том гласили надписи на стенах главной залы, все чеки, превышающие сумму в 100000 франков.
Старший кассир был один в своем кабинете, когда к нему вошел капитан Спайерс. Последний ожидал, что его чек будет встречен вежливо-насмешливой усмешкой, сопровождаемой вопросом: «Что должна означать эта шутка?» Но вместо того старший кассир принял чек с самым хладнокровным видом и сказал:
— Хорошо! Сумма эта настолько велика, что нашли нужным подтвердить еще лично и письменно об уплате сегодня утром, хотя это совершенно излишне: одного этого чека было вполне достаточно!
Красный Капитан был поражен, как громом. Кассир продолжал:
— Я сейчас прикажу выдать вам эту сумму, но надеюсь, что вы не рассчитываете унести ее в руках: у вас, вероятно, есть здесь закрытая карета, в которой можно было бы доставить деньги.
Эти слова вразумили Красного Капитана, который ответил самым равнодушным тоном:
— Я попросил бы вас оставить эту сумму в банке и выдать мне на нее чековую книжку, которая позволит мне пользоваться этими деньгами по мере надобности!
— Превосходно! — согласился старший кассир. — Без сомнения, ваши деньги будут в более надежном месте, чем у вас, чековая книжка вам будет выдана сейчас же!
Выйдя из калифорнийского банка, Красный Капитан готов был пригнуться, чтобы не зацепиться головой за солнце: так он вырос в своем воображении и в своем сознании.
Его возбуждение граничило с безумием! Значит, его не обманули-таки, не одурачили. Теперь и сила, и безграничная власть были в его руках; он был близок к бессмертию. Ведь перед ним было еще целых полвека жизни, а за это время он успеет оставить такой глубокий след своего пребывания на земле, что грядущие поколения долго не забудут его, и легенда о нем проживет многие века! Ура! Джонатан Спайерс стал царем всего мира, повелителем всего человечества, и нет на земле власти, которая могла бы сравниться с его властью.
III
Двадцать второе марта, 11 часов 27 минут ночи. — Иванович. — «Римэмбер» и его сателлиты. — Отборный экипаж.
Спустя шесть месяцев после описанных нами событий, 22 марта в 11 часов утра перед домом, где жил капитан Спайерс, в квартале Милон-Бэй, стоял запряженный четверкой дюжих лошадей громадный берлин того типа экипажей, какими обыкновенно пользуются в Америке для далеких путешествий на Дальний Запад. Оба негра, Сэм и Том, сидели на козлах как бы в ожидании своего господина, а крыша кареты была нагружена многочисленными чемоданами, сундуками и тюками, поверх которых лежал, растянувшись, громадный кентуккский дог, отзывавшийся на кличку Стрэнглер (душитель).
Весь одноэтажный дом был освещен, и, судя по хлопотливому движению в окнах, можно было безошибочно решить, что здесь готовились к отъезду. В столовой был сервирован превосходный ужин и чай; за столом сидели Красный Капитан, Самуэль Дэвис, Джон Прескотт, его двое верных друзей и, кто бы мог этому поверить… высокочтимый Джонас Хабакук Литльстон, который в силу особого стечения обстоятельств, о чем мы сообщим впоследствии, очутился в компании этих авантюристов. Пять рослых и сильных матросов, бывших механиков с парохода «Калифорния», безгранично преданных своему капитану, заколачивали какие-то ящики в большой зале нижнего этажа.
— Двадцать минут двенадцатого, — произнес наконец капитан Спайерс, взглянув на часы, — остается еще 7 минут. Поезд только что дал свисток; он несколько запоздал сегодня! Ивановичу трудно будет поспеть сюда раньше половины. Вы исполнили все мои поручения, Дэвис?
— Да, капитан, все!
— И «Таблицу подводных течений»?
— Да, капитан!
— И мой астрономический бинокль?
— Да, капитан!
Эти слова «да, капитан» были единственными, какие когда-либо произносил Самуэль Дэвис в разговоре со своим капитаном. Дэвис был воплощенная дисциплина, и на судне он отдавал все распоряжения по свистку. Никогда не обращался ни с одним словом даже к матросам, исключая даже те случаи, когда приходилось делать им замечания. Передавать их устно виновному было дело мастера, он же сам вписывал все поутру в журнал, и только.
Джон Прескотт, напротив, был невероятно говорлив. Привыкнув, живя в постоянном сообществе безмолвного Дэвиса, говорить один за двоих, он стал совершенно невозможным собеседником ввиду своей феноменальной болтливости.
Из этих двух господ и состоял теперь личный штаб Красного Капитана, причем в самое последнее время он присоединил к ним еще высокочтимого Джонаса Хабакука Литльстона в качестве комиссара по счетной части.
Несколько месяцев тому назад миссис Литльстон переселилась в лучший из миров, и мистер Литльстон перенес это несчастье с величайшим стоицизмом благодаря утешительной мысли, что впоследствии он соединится с ней; но вслед за этим его постиг новый удар. Сменивший старого, новый председатель суда, принадлежащий к демократической партии, заменил мистера Литльстона одним из своих единомышленников, и высокочтимый Джонас Хабакук Литльстон остался не у дел — и без жены, и без места. Джонатан Спайерс, узнав об этом, предложил ему место у себя, которое тот и принял с величайшей радостью, хотя в условии и было сказано, что он обязуется служить капитану по счетоводному делу в течение пяти лет на суше, на море и в воздухе. Слова «в воздухе» были даже подчеркнуты в контракте, но это не испугало высокочтимого Литльстона, и он подписал это условие.
В описываемый нами вечер должно было состояться взаимное представление друг другу трех старших чинов экипажа «Римэмбера», которым отныне суждено было жить вместе на этом судне.
Весь экипаж «Римэмбера» должен был состоять из пяти человек матросов-механиков, о которых уже было говорено выше, обученных и подготовленных самим Красным Капитаном, и поставленного над ними боцмана, или мастера, по имени Холлоуэй, двух негров для личных услуг и китайца Фо, возведенного в должность эконома.
Теперь нам только остается ознакомиться с таинственным «Римэмбером» и его двумя спутниками «Осой» и «Лебедем».
Часы на камине у Джонатана Спайерса показывали ровно 27 минут двенадцатого, когда к его дому подъехал экипаж, из которого выскочил Иванович и поспешно направился в столовую капитана.
— Вы аккуратны! — заметил капитан, пожимая его руку.
— Все ли у вас готово? — спросил прибывший. — Вы уже делали испытания с «Римэмбером»?
— Я ожидал только вас! Я уверен в своих вычислениях и хотел, чтобы эти испытания происходили в вашем присутствии!
— Когда мы отправляемся?
— Я к вашим услугам!
— Ну так отправимся сейчас! Мне не терпится узнать, не выкинули ли мы девять миллионов на ветер. Прикажите захватить мой чемодан, дайте мне выпить чашку чая, и я к вашим услугам!
Спустя десять минут громадный берлин, запряженный четверкой добрых коней, уже катился по дороге к Сан-Хосе.
В шести милях от Сан-Франциско, в одинокой долинке, посещаемой только стадами диких коз несколько месяцев тому назад, теперь под громадным дощатым навесом, наглухо сколоченным и закрытым со всех сторон, находился совершенно законченный черный «Римэмбер», гигантское и невероятное чудовище, изобретение гениального человека, который одним полетом вознесся так высоко в область науки, что становилось непостижимо для ума, как мог человеческий мозг породить подобное чудо.
Что же такое представлял собою этот «Римэмбер»?
Это не было судно, предназначенное для океанских плаваний, не был и воздушный шар, не был это и автомобиль, предназначенный для того, чтобы исколесить землю! Нет, это было все, вместе взятое!
«Римэмбер» мог по желанию мчаться по земле с головокружительной быстротой, устремляться в воздушные пространства и нестись по воздуху, как птица, или плыть по волнам океана или под его поверхностью на произвольной глубине и нырять до самого дна морского.
Эта громадная машина, вся из чистейшей стали, обшитая снаружи сплошной броней из полированной меди для предохранения от порчи в воде, имела сто метров длины, двадцать пять ширины и восемнадцать высоты. По внешнему виду «Римэмбер» походил на громадного лосося с сильно развитыми плавниками, которые служили винтом в воде и крыльями в воздухе. Хвост служил рулем в море и винтом-пропеллером в воздухе. Весь этот корпус покоился на восьми парах колес, в 1 метр шириною каждое, чтобы это громадное чудовище не могло уйти в землю. Эти громадные колеса, предназначенные служить на суше и для подводных рейсов, были так умно расположены, что исполняли одновременно роль моторов в воздухе и в море и усиливали действие крыльев и винтов-пропеллеров.
Аппарат приводился в действие не паром, а электричеством, силой, не знающей границ и пределов. Два аккумулятора его, помещавшихся в начале и хвосте «Римэмбера», могли заряжаться таким количеством электричества, что один разряд его мог разом уничтожить целый город, целую армию, целый флот. Самый же «Римэмбер» был неуязвим: ни бомбы, ни гранаты, ни даже торпеды не могли повредить ему, так как, помимо двойной брони и нескольких пластов промежуточных изоляторов, достаточно было только нажать кнопку, чтобы вокруг всего корпуса гиганта развился такой сильный электрический ток, что всякое постороннее тело, входящее в него, какова бы ни была быстрота его движений, моментально обращалось в пыль.
Все изобретенные до сих пор средства атаки и обороны ничего не могли сделать против этого грозного гиганта, властелин которого мог по желанию предписывать свои законы народам и царям.
Он мог пребывать целые годы под водой, если ему это было удобно, так как все предвидевший Джонатан Спайерс снабдил свой «Римэмбер» аппаратом, разлагающим воду и вырабатывающим азот и угольную кислоту в потребном для изготовления воздуха количестве, так что обитатели «Римэмбера» никогда не могли иметь недостатка в воздухе. Внутрь его вело одно входное отверстие, которое могло герметически закрываться, так что туда не проникал даже воздух; очутившись внутри, приходилось дышать только искусственным воздухом.
Четыре громадных иллюминатора, диаметром в метр, давали доступ свету во внутреннее помещение, дозволяя видеть все, что происходило извне. Они были размещены на носу, на корме и по бокам корпуса; а в ночное время и в тех частях, куда не проникал свет извне, все помещения освещались множеством электрических ламп.
В задней части помещалась квартира капитана, состоящая из пяти больших комнат и громадного салона, где было собрано все, что можно было иметь редкого, драгоценного и высокохудожественного в смысле обстановки. Далее шло несколько менее роскошных, но прекрасно обставленных помещений для помощника капитана, лейтенанта Дэвиса, врача и гостей. В центре помещались машины; сюда входил только один Джонатан Спайерс. Все эти машины, до крайности простые, были построены так, чтобы могли исправно функционировать по крайней мере в течение пятидесяти лет. Кроме того, в смежной зале находились дубликаты и трипликаты всех решительно частей этого грандиозного механизма.
Кроме того, на полу и на корме «Римэмбера» находились две небольшие каюты, всегда запертые на ключ, куда никто, кроме капитана, не имел доступа и откуда можно было управлять «Римэмбером». Секрет управления Джонатан Спайерс не открывал никому, чтобы в случае, если бы над ним учинили какое-нибудь насилие, его чудесный колосс в чужих руках стал бесполезной громадиной, ни на что не нужной. В обеих этих каютах помещалось по бронзовому ящику с целым рядом занумерованных клавиш, числом около 30, напоминающих клавиши пианино; необходимо было знать значение каждой отдельной клавиши, чтобы приводить в движение ту или другую часть машины, не то при малейшей ошибке могла произойти поломка какой-нибудь существенной части механизма, которая могла остановить всю машину. Само собою разумеется, надо было знать, как управлять колоссом на суше и как в море, в воздухе или под водою; на все требовались свои приемы, своя особая система перевода рычажков и нажатия клавиш. Офицеры, а также матросы были предупреждены обо всем этом заранее; все они отлично знали, что «Римэмбер» раскрывался и закрывался посредством электричества, а потому без воли капитана никто из них не мог ни войти, ни выйти. Однако на случай своей смерти, неожиданной или внезапной, Джонатан Спайерс под клятвой сообщил свой секрет Дэвису, но дальше того не пошел: он хотел только дать людям возможность уйти, не желая их хоронить навсегда в этом металлическом чудовище.
За машинными помещениями были расположены крюйт-камеры, вмещающие свыше тысячи тонн всякого рода консервов, припасов и напитков, так что можно было прокормить весь наличный персонал «Римэмбера» в течение по крайней мере пятнадцати лет. По обе стороны корпуса, то есть по бакборту и по штирборту, были расположены казармы экипажа, служащих и кухня.
Передняя часть «Римэмбера» опять же была вся отведена под личную квартиру капитана, так что последний располагал двумя совершенно одинаковыми помещениями на корме и на носу и переселялся из одного в другое в зависимости от обстоятельств, а главное преимущество этого заключалось в том, что как носовая, так и кормовая каюты управления были совершенно отрезаны от всех остальных помещений его личной квартирой, состоящей и тут и там из пяти больших комнат, совершенно недоступных посторонним лицам.
Красный Капитан, покончив со своими чертежами, планами и вычислениями, построил маленькую модель своего будущего колосса, уменьшенную в 50 раз, и в павильоне над прудом испробовал ее на воде, на суше, в воздухе и под водой. Этот опыт он показал и приезжему русскому офицеру, которого привел в неописуемый восторг, что и побудило последнего дать ему средства и возможность осуществить на деле его мечту.
Но по прошествии шести месяцев отсутствия Иванович возвращался из Петербурга значительно охладевшим к этой диковинной затее. Не то чтобы явно не одобряя его, так как он был другом Великого Невидимого — его коллеги, то есть остальные члены Верховного Совета назвали его фантазером и мечтателем, и в нем самом с течением времени впечатление о виденном им чуде побледнело и несколько изгладилось; кроме того, один очень серьезный ученый, член Парижской академии наук, которому он рассказал кое-что об этом, конечно, только в общих чертах, выслушал его с недоверчивой улыбкой и заявил, что это нечто совершенно невозможное, хотя и не противоречащее явно законам физики.
— Вы видели сами эту модель в действии, говорите вы. — Пусть так, но построить игрушку — это одно, а повторить ее — понятно, совершенно другое!
— сказал ученый.
Словом, Иванович был нервен, тревожен и в продолжение всего пути упорно хранил молчание. Красный Капитан, неприятно задетый его поведением, также делал вид, будто не замечает его присутствия, и сам молчал.
Счастливейшим человеком на этот раз был Джон Прескотт, который имел теперь вместо одного двух воображаемых оппонентов, якобы сговорившихся против него, якобы подавляющих его своим большинством и лишающих его свободы слова и свободы мнений. Дэвис, давно привыкший к его беспричинным нападкам, ограничивался тем, что усмехался время от времени, не проронив ни единого слова, но Литльстон, привыкший к пассивному отношению мистера Дарлинга, которого он распекал вволю в течение многих лет, никак не мог примириться с этими ни на чем не основанными обвинениями и нападками своего нового сослуживца и пробовал протестовать.
В берлине пассажиры разместились по чинам. В самом купе заняли места только капитан и Иванович, в ротонде находились лейтенант, врач и бухгалтер, а в задней части — мистер Холлоуэй и его пять подчиненных, то есть матросов-механиков; Том, Сэм и Фо поместились с кучером на переднем сиденье.
Таким образом, у Прескотта под рукой оказались обе его жертвы, и не было никакой возможности уйти от него.
— Но послушайте, милостивый государь, дайте мне сказать хоть одно слово! — запротестовал выведенный из терпения Литльстон.
— Клянусь честью! — воскликнул громовым голосом врач. — Вы не переставали все время громоздить вздорные доказательства и ни к чему не годные аргументы, поддерживаемые Дэвисом, и теперь еще хотите лишить меня права возражать вам! Вы злоупотребляете вашим большинством!
— Но мистер Прескотт…
— Вы хотите заглушить голос правды и здравого смысла…
— Но послушайте…
— А-а… вы… вы продолжаете спорить и опровергать. Но ведь это же насилие: только из свободного обмена мыслями вытекает истина, а вы зажимаете мне рот на каждом слове, не даете высказаться, лишаете меня слова… Нет, это возмутительно…
Доведенный до отчаяния Литльстон кончил тем, что последовал примеру Дэвиса и заснул под говор своего словоохотливого спутника, который все еще продолжал говорить и доказывать, убеждать и возражать своим воображаемым собеседникам.
Когда же экипаж подъехал к долине Los Angelos, где, по распоряжению капитана, кучеру приказано было остановиться, Прескотт, любезно помогая Литльстону выйти из берейта, с самой добродушной улыбкой заявил:
— Наконец-то вы сдались, милейший; это, конечно, доказывает вашу справедливость. Но я бы рекомендовал вам поменьше горячности в спорах: когда людям предстоит жить вместе, приходится делать друг другу маленькие уступки… А главное, не поддавайтесь влиянию Дэвиса: ведь он воплощенное противоречие!
До места назначения оставалось еще полмили, но тяжелый берлин не мог со всем своим грузом свободно двигаться по этой вновь проложенной, неукатанной дороге, и потому пассажирам пришлось выйти из экипажа.
Наступала решительная минута, и хотя Джонатан Спайерс был уверен в себе, но тревожное настроение духа его спутника невольно сообщалось и ему. Что, если в самом деле после стольких лет неусыпного труда, стольких мук и безумных затрат ему суждено потерпеть неудачу на глазах у этого Ивановича, который и теперь уже сомневался в нем, и в присутствии всего экипажа, слепо верившего в него, как дикари в свой фетиш! И Джонатан Спайерс нащупал рукою в кармане свой револьвер: он внутренне поклялся в случае неудачи похоронить себя вместе с своим изобретением. Какой грандиозный саркофаг этот «Римэмбер»! Какая царская могила!..
IV
Испытания. — «Лебедь» и «Оса». — Суша, небо и море. — Озеро Эйрео.
Когда пешеходы, а за ним шагом подвигавшийся берлин подошли к громадному дощатому сараю, где находился механический колосс, капитан приказал сгрузить с экипажа всю кладь и багаж, а берлину вернуться обратно в Сан-Франциско. Едва только экипаж скрылся из виду, как вся внутренность сарая ярко осветилась электричеством, и глазам присутствующих предстал невероятный, сказочный гигант «Римэмбер» с двумя своими спутниками «Лебедем» и «Осой» по бокам, подобный гигантскому кашалоту, выброшенному на берег.
«Оса» и «Лебедь» были уменьшенные до 15 метров копии «Римэмбера» во всех его деталях: тот же способ управления, те же машины, тот же механизм; в случае несчастья они могли вполне заменить «Римэмбер», тем более что каждый из них обладал достаточной силой, чтобы уничтожить целый флот или целую армию. Но управлять ими также мог только один капитан Спайерс.
Иванович при виде этих двух миниатюр гиганта самодовольно улыбнулся: он рассчитывал добиться от Спайерса, чтобы тот доверил ему управление одним из них.
Все были глубоко взволнованы. Джонатан Спайерс нажал пружину, открывавшую входной люк, и матросы с помощью негров в глубоком безмолвии стали переносить на «Римэмбер» все тюки, ящики, чемоданы и остальной багаж, доставленный сюда на берлине.
Когда это было сделано, Красный Капитан с помощью весьма простого механизма откинул на землю всю переднюю часть сарая и произнес при этом, обращаясь к Ивановичу:
— Когда прикажете? Можно хоть сейчас тронуться!
В этот решительный момент к нему вернулось обычное самообладание.
— Я к вашим услугам, приказывайте! — отозвался русский.
Все вошли в «Римэмбер», и входной люк захлопнулся, совершенно разобщив внутреннее помещение с внешним воздухом. Джонатан Спайерс был доволен: очевидно, воздушный аппарат действовал прекрасно; всем дышалось хорошо, легко: воздух был чист, свеж и приятен.
— Пожалуйте! — пригласил капитан Ивановича и прошел вместе с ним в каюту управления на носу «Римэмбера».
Тотчас же громадной силы рефлектор, направленный через иллюминатор наружу, залил ярким светом всю окрестность впереди, так что, несмотря на позднее время, без труда можно было различить малейший листочек, как в ясный полдень.
Затем, опустив руки на бронзовые клавиши аппарата управления, Джонатан Спайерс с наружным равнодушием привел в действие аккумуляторы и цилиндрические пистоны, приводящие в движение колеса, и с неподражаемой уверенностью произнес:
— Мы трогаемся!
Иванович, весь бледный от волнения, ощущал легкое, едва заметное содрогание колосса, а в последующий за сим момент «Римэмбер» понесся вперед с невероятной быстротой, снося на своем пути, как соломинки, целые кусты, камни, обломки скал, холмы и пригорки, пролагая себе ровную дорогу на своем пути и устраняя без малейшего усилия все препятствия. Это было что-то невероятное, и Иванович не хотел верить своим глазам.
Громкие «ура» огласили «Римэмбер». Джонатан Спайерс сиял: это был момент его триумфа.
— Капитан, вы велики, как Бог! — воскликнул совершенно преобразившийся Иванович.
Но это было еще далеко не все.
Гигант несся все быстрее и быстрее, повинуясь, как живое существо, малейшему желанию капитана; пробежав расстояние в пять или шесть миль в промежуток времени вдвое кратчайший, чем бы это сделал курьерский поезд, пущенный полным ходом, «Римэмбер» вдруг поднял нос кверху, как птица, готовящаяся взлететь, расправил свои крылья и стал плавно подыматься, постепенно ускоряя движение, пока наконец, достигнув очень значительной высоты, не понесся по воздуху над уснувшим городом Сан-Франциско. Некоторые полуночники, бродившие еще в это время по улицам города, приняли это механическое чудовище за черное облако, проносившееся по поднебесью и имевшее форму большой рыбы. Желая увековечить свой полет над городом в памяти его жителей, Джонатан Спайерс осветил раз пять-шесть весь «Римэмбер» ослепительным электрическим ореолом, причем все очертания его резко вырезались на темном фоне ночного неба.
Все метеорологические обсерватории отметили это странное явление, и на другой день во всех американских газетах появилось сообщение, что в прошедшую ночь наблюдали на небе полет громадного раскаленного болида, имевшего форму рыбы. Только старушка Европа не поверила этому сообщению, приписав его продукту воображения досужих янки.
Пронесясь с невероятной быстротой над индейской территорией, «Римэмбер» продолжал держать курс над Сонорой и обширными равнинами Северной Мексики. При восходе солнца пассажиры воздушного судна могли увидеть над собой уже озера Тэцкуко и Кеочимилько, а между ними, в глубине долины, город Мехико с его многотеррасными крышами, белыми стенами и верандами, на которых еще спали люди. Но «Римэмбер» только пронесся мимо, следуя далее в направлении Кордильер; затем Красный Капитан направил его к высочайшей вершине Анахуак, горе Цитлатепетль, на которую механическое чудовище стало медленно опускаться и наконец коснулось земли на высоте 5308 метров над уровнем моря. Таким образом, «Римэмбер» в одну ночь сделал по суше и по воздуху 1200 километров без малейшего усилия.
— Ну, что вы теперь скажете? — обратился Джонатан Спайерс, впервые после отправления, к Ивановичу. — Выброшены ли даром деньги Невидимых?
— Капитан, — воскликнул с непритворным восхищением полковник, — я приветствую в вашем лице величайшего гения, какого только породило человечество! Повелевайте, и я буду вам повиноваться; я сочту за счастье быть последним слугой такого человека, как вы!
— Нам остается еще испытать «Римэмбер» в море, — сказал капитан, — но мне нужно немного отдохнуть, прежде чем продолжать наш путь. «Римэмбер» может, конечно, лететь в указанном направлении без надзора, но в этом первом нашем перегоне я не хотел ни на минуту предоставить его самому себе; мне хотелось убедиться, насколько он послушен, теперь я в этом убедился!
Экипаж и все остальные поспешили также принести свои горячие поздравления капитану и свои уверения в безграничной преданности ему.
После непродолжительной стоянки, во время которой все успели позавтракать благодаря предусмотрительной заботливости Фо, «Римэмбер» снова поднялся к облакам.
Он продолжал следовать по направлению к Кордильерам, проносясь последовательно над рядом маленьких центральноамериканских республик, начиная с Гватемалы, Гондураса, Сан-Сальвадора, Никарагуа, Коста-Рики, Панамы и др. Трудно себе представить более живописную и разнообразную панораму, чем та, какая представилась нашим путешественникам, расположившимся у громадных иллюминаторов «Римэмбера».
За Панамой в обширной долине, носящей название Кампо делла Конституцион, так как именно здесь все организаторы pronunciamiento (то есть государственных переворотов) давали решительную битву, отворяющую им ворота столицы, можно было видеть две армии в 3000-4000 человек каждая, готовые вступить в бой между собой. То было уже седьмое пронунсиаменто в этом году.
— Вот момент испытать «Римэмбер» в качестве орудия войны! — сказал Красный Капитан со странной, загадочной усмешкой на лице.
— Да! — согласился Иванович. — Это избавит их от надобности убивать друг друга. Но на чью сторону думаете вы встать?
— Конечно, на сторону правительства! В таких случаях надо всегда становиться на сторону существующей власти! — отозвался капитан.
— Почему?
— Да потому, что из десяти раз девять революция смещает правительство как раз тогда, когда представители его уже достаточно отъелись, чтобы начать быть довольно честными гражданами, а тут приходится снова откармливать их заместителей… Понятно, все это всею тяжестью ложится на несчастный народ!
— Вы, как вижу, глубокий мыслитель!
— Вовсе нет, я просто не верю в честность людей, стоящих у власти, и в особенности в честность политиканов.
— Но как мы распознаем правительство и инсургентов?.. Слышите?!
В этот момент при посредстве акустической трубы, концентрировавшей все звуки, раздававшиеся на земле, они явственно услышали крики: «Да здравствует конституция!» — одновременно раздавшиеся из обоих враждующих лагерей.
— Ну, так не станем их разбирать! — сказал Красный Капитан, и в тот же момент «Римэмбер» стал слегка наклонять вперед свой нос.
— Ballone! Ballone! — раздалось среди испано-американцев, и несколько орудий открыло огонь по направлению «Римэмбера».
— Теперь мы действуем на основании законной самозащиты! — проговорил Иванович.
Капитан только усмехнулся. Механический колосс продолжал опускаться к земле, слегка наклоняя вперед нос. Вдруг лицо капитана озарилось дьявольской улыбкой: раздался оглушительный выстрел, яркое пламя охватило на мгновение весь корпус «Римэмбера» и озарило ослепительным светом всю окрестность от края до края горизонта, и затем все приняло свой обычный вид; только на поле сражения, изрытом и потрескавшемся, как после сильного землетрясения, не осталось ни одного живого существа. Не уцелел ни один человек, который мог бы рассказать о случившемся. Так как все генералы, не состоящие на службе, и все государственные люди, оставшиеся за штатом, все адвокаты, не имеющие клиентов, словом, все главари революции, находились тут же, среди своих солдат, которых они воодушевляли своими речами, то вышло, что Панама на этот раз была разом избавлена от этих вредных общественных деятелей, этих самозванных «спасителей отечества», вследствие чего эта бедная маленькая страна, где спасителями родины являются обыкновенно интриганы, выжидающие удобного случая расхитить казну и повторяющие этот эксперимент чуть ли не каждые шесть месяцев, на этот раз погибли все до одного, и маленькая республика могла зажить мирной, тихой жизнью по крайней мере в течение десяти лет.
После этого «Римэмбер» снова принял свое нормальное положение, взлетел к облакам и понесся с изумительной быстротой по направлению к океану.
Эта часть Тихого океана, против Дарийского перешейка, достигает неизмеримой глубины. Это место и избрал Джонатан Спайерс, чтобы спуститься в море. Не уменьшая хода, механический колосс спустился к поверхности океана, и, когда коснулся воды, огромные крылья его замерли неподвижно в горизонтальном положении, поддерживая наподобие громадных парашютов корпус опускавшегося в море стального гиганта.
Как видно, Джонатан Спайерс все предвидел.
Ничто не могло сравниться по красоте зрелища с этим спуском в водное царство. Благодаря сильным электрическим прожекторам можно было свободно видеть на расстоянии 400 или 500 метров во всех направлениях; мириады рыб, привлеченных этим ослепительным светом, спешили к «Римэмберу» и сопровождали его на всем протяжении пути; акулы не могли поспевать за механическим колоссом, но целые стаи мелкой рыбы, целые стада морских собак, дорад и других животных спешили на свет, играя и купаясь в его лучах, по мере того как «Римэмбер» опускался все дальше и дальше в глубь океана. Другие морские чудовища подплывали к нему, скользили по его поверхности.
Вскоре «Римэмбер» очутился словно в пустыне: здесь, на этой глубине, как будто все вымерло, и кругом не видно было никакого живого существа. Это так называемая необитаемая глубина. Морские животные и рыбы, держащиеся на сравнительно меньшей глубине и нуждающиеся в свете и несколько более насыщенном кислородом воздухе, не спускаются сюда, а обитатели морского дна не поднимаются сюда, так как ползают по самому дну.
Когда «Римэмбер» наконец коснулся дна, все обитатели этого подводного судна на мгновение испытали невольное чувство непреодолимого ужаса.
Став на дно, колосс остановился, и в одно мгновение его облепили со всех сторон сотни самых разнообразных морских чудовищ, бесформенных, безобразных, возбуждающих чувство непреодолимой гадливости; тут были и морские пауки с щупальцами, достигающими 30 сажен длины, и змеи невероятных размеров, и живые губки, из всех пор которых выступала темная, мутная, коричневая, почти черная, жидкость, мутившая кругом воду, и липкие, студенистые медузы самой причудливой формы, и морские звезды и кораллы, чудовищные крабы и раки невероятной величины, и чего только тут не было!
Был момент, когда громадный спрут, обвив своими щупальцами «Римэмбер», пытался приподнять его; экипаж и старшие чины судна невольно вскрикнули от ужаса, но Джонатан Спайерс, вполне сознававший тщетность этой попытки, только улыбался. Считая, однако, нужным успокоить свой экипаж, он соединил два электрических тока, и мгновенно получился такой сильный разряд электричества, что от всех спрутов, скатов и других обитателей дна морского не осталось и следа: всех их развеяло, точно ветром. После того «Римэмбер» продолжал свой путь по морскому дну с такой же легкостью и быстротой, как по суше, с той лишь разницей, какая существовала в силе сопротивления воздуха и воды.
После нескольких часов бега «Римэмбер» стал снова подыматься на поверхность океана, причем его задний, кормовой, аккумулятор служил пропеллером, а плавники — крыльями, с помощью которых он быстро подымался все выше и выше.
Очутившись на поверхности, это диковинное судно понеслось с быстротой 70 верст в час благодаря совместной деятельности его плавников, восьми пар колес и хвоста, служившего одновременно и пропеллером и рулем.
На случай, если бы нужно было вступить в военные действия, кормовой аккумулятор, заряженный электричеством, с такой стремительной силой устремлял колосса на неприятеля, что его гигант в мгновение ока разрезал надвое любой броненосец или же мог обратить в щепки любое судно, не приближаясь даже к нему, одним разрядом электричества переднего, то есть носового, аккумулятора.
Когда же «Римэмбер» хотел нести гибель и уничтожение, не будучи замечен, то мог направить тот же разряд электричества, оставаясь сам под водой.
Теперь оставалось только произвести этот опыт подводного плавания; опустившись на глубину 200 метров, механический колосс продолжал также послушно повиноваться воле своего изобретателя, не уклоняясь при этом ни на один миллиметр от горизонтали, как и на суше или на поверхности океана.
Блистательно выдержав все испытания, «Римэмбер» вполне оправдал надежды своего изобретателя и являлся полным осуществлением смелого замысла Красного Капитана, осуществлением его заветной мечты.
— Ну что? — спросил Джонатан Спайерс Ивановича, гордо выпрямясь и скрестив руки на груди. — Что вы на это скажете?
— Я скажу, что теперь если вы захотите, то можете легко осуществить и другую мечту: владычество над целым миром! — отвечал русский.
— Теперь мне остается сдержать свое слово по отношению к вам, как вы сдержали свое по отношению ко мне! Куда нам надо направиться?
— Сюда, — сказал Иванович, указав пальцем по карте на одно из больших озер Центральной Австралии.
— Хорошо, через шесть суток мы будем там!
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
По прошествии шести дней, когда солнце уже зашло над австралийским бушем, какое-то темное пятно вдруг вырезалось резко на темном фоне ночного неба, двигаясь с быстротой урагана. Достигнув озера Эйрео, это пятно или, вернее, предмет, представлявшийся в виде пятна, вдруг разом, точно подстреленная птица, падает на землю, срывается с высоты и исчезает в глубине озера.
Это был «Римэмбер», прибывший к месту своего назначения и теперь ставший на якорь на дне озера Эйрео.
V
Лебяжий прииск. — Взрыв. — Таинственные огни. — Франс Стэшен. — Ночная экскурсия на озере. — Фантастическое видение. — Русский и янки.
На Лебяжьем прииске готовилось большое торжество. Со времени страшного взрыва в Рэд-Моунтэн (Красных горах), где под обвалом погиб весь отряд лесных бродяг; в том числе, как полагали, и человек в маске, успех и удача не переставали во всем сопутствовать молодому графу Оливье и его друзьям. Прииск, эксплуатируемый теперь своими средствами, обогащал и хозяев, и рабочих: одна треть всего добываемого золота приходилась на долю Оливье, другая треть — на долю канадца Дика, а остальная часть делилась поровну между Лораном, Джильпингом, хотя и отсутствующим в настоящее время, и всеми рабочими, словом, на 23 доли.
Прииск должен был вскоре истощиться, так как он представлял собой не руду золотоносного кварца, а, так сказать, залежь золотых самородков; впрочем, эта перспектива никого из участников этого дела не огорчила, так как за короткий срок все они нажили такие крупные состояния, какие никогда не грезились им и во сне.
Доля Оливье и Дика выражалась в круглой сумме 5000000 долларов, что составляет 10 миллионов рублей.
На долю каждого из остальных приходилось более чем по 1000000 франков. И все-таки все продолжали работать на прииске как простые поденщики: такие факты встречаются только в Калифорнии да в Австралии, где нередко вчерашний миллионер становится назавтра поденщиком, а вчерашний поденщик — миллионером.
Согласно обещанию Виллиго, племя нагарнуков перенесло свои главные становища на территорию Лебяжьего прииска, изобилующую дичью, рыбой, съедобными травами и кореньями, и соседство могучего и воинственного племени отгоняло от прииска всех бродяг и нежелательных гостей. Жизнь на прииске протекала мирно и счастливо; молодой граф, окруженный друзьями и обреченный на невольное бездействие, вел уже 2 года, в течение которых он по настоянию своей невесты должен был как бы забыть о ней, жизнь джентльмена-фермера Западной Америки или австралийского буша: охотился, ездил верхом, эксплуатировал свои земли, катался на живописном озере Эйрео, прилегавшем к его владениям и на котором у него были две яхты, одна паровая, в 60 тонн вместимости, носившая название «Мария», и другая парусная, в 25 тонн, названная им «Феодоровна» в честь своей невесты. Для большего удобства им была проложена по берегу озера красивая набережная, и на ней устроена небольшая пристань; кроме того, на этом озере стоял целый флот нагарнукских пирог, что придавало ему, в связи с его громадным протяжением в 30 лье по направлению к северо-востоку, к юго-востоку, при ширине в 16 лье и весьма значительной глубине, иллюзию маленького моря.
В это озеро впадала Виктория-Ривер, и потому воды его изобиловали рыбой; кроме того, частые и сильные ветры подымали на нем настоящие бури, так что для управления судами на этом озере требовались серьезные и опытные моряки, хорошо знакомые с морским делом. С этой целью Оливье съездил в Сидней и здесь из экипажа потерпевшего крушение французского судна, оставленного на попечение французского консула, пригласил к себе на службу двух опытных боцманов — Бигана, которому он поручил командование «Марией», и Ле Гюэна, которого назначил капитаном «Феодоровны». Оба моряка были бретонцы и потому прирожденные дети моря.
Тукас и Дансан, механики с погибшего французского судна, также были приглашены в качестве механиков на суда Оливье. Чтобы привлечь их к себе, им было обещано по 100000 франков по истечении срока службы, то есть семи лет. Оливье так полюбилась Австралия, что, уступая настояниям Дика, он согласился обосноваться здесь и в будущем жить то здесь, то в Европе.
Кроме вышеупомянутых двух судов, Оливье заказал в Мельбурне паровую яхту водоизмещением в 300 тонн для своих поездок в Европу, назвав ее в честь своего доброго друга «Диком». Соединенный экипаж «Марии» и «Феодоровны» должен был служить экипажем для большой яхты, где Биган должен был исполнять обязанности капитана, а Ле Гюэн — его помощника. Эти два моряка весьма скоро обучили человек двенадцать молодых нагарнуков морской службе и всем морским приемам, сделав из них преисправных матросов, а механики со своей стороны обучили еще десяток человек своему делу и приготовили себе помощников и кочегаров.
На полпути между прииском и озером, то есть на расстоянии около мили от того и другого, построен был прелестный шале, выписанный совершенно готовым из Сан-Франциско; здесь его только собрали и поставили в одной из живописнейших долинок. Кругом два китайца-садовника, также выписанные из Сан-Франциско, разбили роскошнейший цветник и сад, а старик виноградарь из Бургиньона, случайно приставший к Дику переселенец, развел на берегу озера на скате холма превосходный виноградник. Таким образом, во Франс-Стэшене, как назвали наши переселенцы свое роскошное поместье, было все, чего только можно было пожелать.
День рождения канадца приближался, и Оливье решил, что этот день будет отпразднован с одинаковой торжественностью как в главной деревне нагарнуков, где Дик считался приемным сыном племени, так и на прииске.
К этому дню им был выписан фейерверк и несколько сот маленьких музыкальных ящиков, которые предназначалось раздать нагарнукам с таким расчетом, чтобы в каждой семье было по музыкальному ящику. Кроме того, готовился грандиозный банкет на европейский лад.
Нагарнуки со всех сторон готовили к этому дню различные игры, пляски и песни в честь виновника празднества. Кроме того, туземцы решили приурочить к этому дню великое торжество — избрание нового преемника своему Великому Жрецу, хранителю Священного Огня. Главный Великий Жрец был уже очень стар, и ему нужен был заместитель, или, вернее, сослужитель, так как, пока старик был жив, сместить его было нельзя, хотя он и не мог исполнять всех своих обязанностей вследствие своего преклонного возраста. Преемником его должен был быть непременно один из его сыновей, так как должность жреца переходила по наследству. О новом преемнике для дряхлеющего жреца всегда было принято заботиться заблаговременно, так как священный алтарь Мото-Уаи не мог ни одной минуты оставаться без жреца, а церемония посвящения была довольно сложная, и к ней приходилось заранее готовиться.
Происходило это великое торжество всего раза два, много три в продолжение века, и теперь лишь очень немногие старцы были в раннем детстве свидетелями подобного торжества, так как настоящий Великий Жрец имел уже 90 лет от роду, а принял от отца должность, когда ему едва исполнилось 15 лет.
Озеро Эйрео, как мы уже говорили, изобиловало рыбой; особенно ценной и изысканной являлся особый род пятнистого лосося, водившийся исключительно на большой глубине и на лов которого приходилось выезжать чуть ли не на самую середину озера. Чтобы раздобыть эту рыбу к предстоящему банкету, Оливье приказал Ле Гюэну выехать на «Феодоровне» для лова на ночь, так как рыба эта чрезвычайно осторожная, днем не ловилась. Биган, хотя и не получал предписания участвовать в этой экспедиции, все-таки ради компании отправился вместе с Ле Гюэном.
«Феодоровна» вышла на закате и возвратилась лишь с рассветом. Всю ночь дул сильный ветер, и Оливье, беспокоясь столь долгим отсутствием судна, вышел с Диком на пристань встречать «Феодоровну», чтобы узнать от Ле Гюэна причину столь продолжительного пребывания на ловле.
Оба моряка и состоящий при Ле Гюэне дежурный механик Дансан были бледны и расстроены настолько, что это сразу бросалось в глаза.
— Что случилось? У вас погиб человек? — с тревогой спросил Оливье.
— Нет, граф, благодарение Богу, экипаж не пострадал, но то, что с нами случилось, так странно, так невероятно, что у нас сейчас еще выступает холодный пот на лбу при одном воспоминании. Я рад, что со мной были Биган и Дансан, которые могут со своей стороны засвидетельствовать, что то, что я вам скажу, не пригрезилось мне!
— Мы слушаем! — сказал Оливье, несколько взволнованный этим вступлением.
— Мы шли со скоростью 12 узлов в час и, прибыв к 8 часам вечера на удобное место, закинули сети, и я приказал убрать паруса. До 10 часов мы 4 раза выбирали сети, и так как улов у нас был хороший, то я решил идти обратно. Мы с Биганом стояли на носу и разговаривали, когда Дансан пришел сказать, что все готово. Вдруг мы увидели всего в 200 или 300 метрах от нас огонь наподобие фонаря на грот-мачте торгового судна, который как бы нырял по волнам, словно буек. Полагая, что это какая-нибудь затерявшаяся пирога, я приказал держать на нее; расстояние между огнем и нами быстро уменьшалось, как вдруг огонь нырнул и скрылся под водой, но почти тотчас же снова появился, хотя уже с другой стороны. Мы погнались за ним, но огонь вдруг исчезал и затем снова появлялся в другом месте, и так пять раз!
— Странно, — сказал Оливье, не будучи в состоянии додуматься, что бы это могло означать. — А вы вполне уверены, что не спали?
— О, нам было не до сна! Но это еще не все. В последний раз огонь исчез под водой, не угаснув; мы видели, как он медленно опускался все глубже и глубже и, наконец, остался неподвижным, продолжая гореть на большой глубине. Это видели все мы, а также и все наши люди. Биган уверяет, что видел нечто подобное в Северном море, что это «Летучий Голландец». Но всем известно, что «Летучий Голландец» появляется только в океане… Это, очевидно, какая-нибудь чертовщина, и мне думается, что это проклятое озеро заколдовано… Но и это еще не все: то, что было дальше, еще того хуже и удивительнее. Когда мы направились к берегу, то увидели, как что-то черное, выпуклое и блестящее, как спина кашалота, плыло за нами.
— Полноте, Ле Гюэн! В озере не только нет китов и кашалотов, но даже тюленей и особенно крупных рыб!
— Я сам это знаю, тем не менее это существо скользило за нами, не отставая, хотя мы все усиливали ход; скользило бесшумно. Так оно держалось у нас в кильватере в продолжение целого часа. Время близилось к рассвету, мы были уже недалеко от берега, когда это страшное существо с бешеной быстротой устремилось на нас, как будто собираясь пустить нас ко дну. Впрочем, благодарение Богу, этого не случилось, но оно, как бы поддразнивая нас, трижды оплыло вокруг «Феодоровны», затем, как камень, пошло ко дну и скрылось. Как только я не поседел за эту ночь!..
— Но вы сами сознаетесь, что все это невероятно, Ле Гюэн!
— Да, патрон, тем не менее это на самом деле было так, как я вам говорю!
— Мне думается, — вмешался Биган, — что на этом озере было совершено какое-нибудь страшное преступление, и этот огонь — душа умершего, которая просит молитвы.
— Ну, а этот выпуклый черный предмет, похожий на спину кашалота? — спросил Оливье.
— Это, я думаю, опрокинутая вверх килем шлюпка утонувшего, этого самого призрака, о котором я говорю.
— Ну, а какой приблизительно длины был этот странный предмет?
— Ничуть не больше и не меньше корпуса «Феодоровны», и, если бы мы были в океане, я бы поклялся, что это кит длиною от 20 до 25 метров!
— Это, конечно, было бы самое правдоподобное предположение, но в этом озере, безусловно, не водятся киты. А вы, Дансан, что об этом думаете? — обратился Оливье к механику.
— Я, патрон, думаю, что все это наваждение, и, будь я на месте капитана, я бы недолго думая приказал зарядить одно из орудий и пустил бы в этого кита или кто бы это ни был дюжину добрых стальных орехов! Тогда бы мы посмотрели…
— И быть может, вы были бы правы, поступив так! — задумчиво прошептал Оливье, затем, обращаясь к Бигану и Ле Гюэну, добавил: — Господа командиры, сегодня вечером мы выйдем в открытое озеро с обоими судами и основательно исследуем этот случай, будьте готовы!
— Слушаем! — откликнулись моряки.
Затем Оливье и Дик направились рука об руку домой.
— Я уверен, мой друг, что вы не верите в эту басню о привидениях! — заметил Оливье.
Дик только покачал головой, но ничего не ответил.
— Что касается меня, то, абсолютно не веря ни в призраки, ни в привидения, я чрезвычайно заинтересован и, скажу, даже встревожен тем, что говорил Ле Гюэн и подтвердили все остальные. Сколько я ни напрягаю свой ум, я ни в коем случае не могу подыскать никакого правдоподобного разъяснения этого странного случая!
— Согласны вы принять на время за абсолютную истину все, что вам рассказал Ле Гюэн? — спросил канадец. — Это могло бы послужить основанием для наших исследований.
— Пусть так! Но это едва ли разъяснит что-нибудь! Но скажите прежде всего, вы сторонник этой экспедиции?
— Безусловный, мой милый Оливье! Все это слишком важно, чтобы не проверить этого лично. А завтра мы увидим, какие результаты нам даст экспедиция! Пока же посмотрим, к каким заключениям можно прийти, основываясь на том, что мы знаем. Прежде всего скажите, знаете вы какой-нибудь практичный способ заставить скользить огонь по воде в определенном направлении и с рассчитанной скоростью, затем заставить его опуститься под воду, не задувая его?
— Да, это можно сделать с помощью электричества. Но для того, чтобы держать на воде управляемую электрическую лампочку или фонарь, надо, чтобы где-нибудь по близости находился электрический аппарат, которого, кажется, никто здесь в Австралии не может устроить. Такой аппарат или машина может находиться на судне, которое в ночное время можно было бы не заметить, так как оно могло бы держаться на очень далеком расстоянии от лампочки!
— Но на нашем озере, в такой дикой местности, где наши суда и туземные пироги крейсируют постоянно, присутствие постороннего судна или электрической машины совершенно невозможно!
— Я с вами вполне согласен.
— Ну, а теперь, что вы скажете об этом черном выпуклом предмете, не то кит, не то киль шлюпки, который не отставал от судна, делающего 14 узлов в час, и даже мог три раза обойти вокруг него, для чего, как известно, требуется быстрота хода, втрое превышающая ход данного судна! Машина ли это, скажите! А когда не существует никакой возможности объяснить что-либо естественным путем, то поневоле приходится приписывать непонятные явления сверхъестественному!..
— Подождем до завтра, — возразил Оливье, — я произведу самые тщательные расследования, и, надеюсь, мне удастся доказать, что сверхъестественное существо только в воображении суеверных людей!
Как уже, вероятно, догадался читатель, таинственное существо, напугавшее бретонцев, было не что иное, как «Лебедь», один из спутников «Римэмбера», который ради проверки Джонатан Спайерс пожелал испробовать, чтобы убедиться, что он также исправен во всех отношениях, как и сам «Римэмбер». Случайно встретив «Феодоровну», капитан благодаря акустической трубке узнал, что судном командует француз, и, не сделав ему никакого вреда, позабавился только тем, что слегка напугал его экипаж, наотрез отказав Ивановичу, предлагавшему ему повторить в данном случае то, что было проделано ими с армиями республики Панамы.
— Я уже говорил вам, — сказал Джонатан Спайерс, — что в трудную минуту жизни я был спасен неизвестным мне французом, и я по сие время жалею, что нигде не встречаю его, чтобы выказать ему мою безграничную признательность. А так как мне не представляется отблагодарить лично его, то я решил не причинять ни малейшего зла ни одному из его единоплеменников.
По этому поводу между Джонатаном Спайерсом и Ивановичем произошел весьма знаменательный разговор.
— Я обещал, — говорил капитан своему собеседнику, — содействовать вам в задержании графа д'Антрэга, который, по приказанию Великого Невидимого, должен предстать перед судом Верховного Совета, и я сдержу свое обещание, но только в пределах обещанного мной. Вы, вероятно, не забыли, что я сделал оговорку, что в случае, если дело идет о личной мести, я воздержусь от всякого вмешательства в него. Но вы заверили меня тогда, что не питаете никакого личного недоброжелательства к графу, и я тогда же решил, что на жизнь его не будет сделано ни малейшего покушения, и вы воспользуетесь предоставленным вам полномочием, в случае сопротивления с его стороны, разом, без рассуждений, покончив с ним.
— Почему нет?
— Потому что я этого не хочу и не допущу!
— Вы не имеете права изменять полученные мною предписания Верховного Совета! Надо, чтобы этот человек перестал существовать, если он не согласится покориться нашим требованиям!
— Граф д'Антрэг — француз, и этого для меня достаточно! Я не допущу, чтобы его уничтожили! Слышите?
— Напоминаю вам еще раз, что вы противитесь предписаниям Верховного Совета!
— Что мне ваш Верховный Совет и ваш Великий Невидимый! Я о них столько же думаю, как о табачном дыме моей сигары! — небрежно заметил капитан. — Здесь, на «Римэмбере», Верховный Совет — это я! Великий Невидимый тоже я!
— А ваша клятва повиноваться perinde ас cadaver!
— Я не получал никакого предписания; эта миссия возложена на вас, а не на меня!
— Читайте! — воскликнул Иванович, достав из грудного кармана своего сюртука вчетверо сложенную бумагу и вручая ее Джонатану Спайерсу.
«Предписывается № 333 во всем беспрекословно повиноваться № 222, что бы последний ни предписал ему!» — прочел капитан.
— А-а… так вы не доверились моему слову, а сочли нужным оградить себя на случай известными обеспечениями. Так вот смотрите, что они для меня значат, ваши предписания! — С этими словами Джонатан Спайерс скомкал и бросил в огонь бумагу, предварительно зажегши о нее свою сигару.
— Это восстание, открытый протест! — воскликнул негодующий Иванович.
— Нет, но вы не должны забывать, что прежде, чем согласиться на ваши условия, я оговорил, что сохраняю свою свободу действий по отношению к французам и даже другим нациям, кроме славянских народностей, и по отношению к графу д'Антрэгу, которого я хотя и не знаю, но жизнь которого решил сохранить, о чем и предупреждал вас тогда же! Во-вторых, как член Невидимых первого класса я вправе повиноваться только Верховному Совету непосредственно, а не через посредство равного мне или низших сочленов!
— Не таков дух нашего постановления!
— Может быть, но такова его буква!
— Пусть так, в таком случае что же вы думаете делать?
— Исполнить свое обещание, то есть помочь вам захватить в плен графа, завладеть его особой, но не дав коснуться даже волоса на его голове! При этом не рассчитывайте, чтобы я выдал вам пленника. Я сам доставлю его в Петербург и передам в руки Верховного Совета, а для того, чтобы он во время пути пользовался всеми удобствами, подобающими его происхождению и общественному положению, здесь, на «Римэмбере», я считаю нужным предуведомить вас, что в случае его смерти я вас немедленно заставлю познакомиться с одной из наших электрических батарей, которая в один момент отправит вас следом за вашей жертвой. Поэтому предупреждаю вас, что на «Римэмбере» нет такого места, нет стула, кресла, дивана, постели, где бы при желании с моей стороны я не мог поразить вас, как громом, в любой момент!
— Вы не так говорили со мной шесть месяцев тому назад, — едко заметил Иванович, — и ваша благодарность в данном случае проявляется в весьма своеобразной форме!..
— В данном случае о признательности с моей стороны не может быть речи; вы действовали ради своих же выгод и выгод вашего общества, французом же мне была оказана помощь совершенно бескорыстно. Принудив меня встать в ряды Невидимых, вы рассчитывали сделать меня вашим рабом, но я не таков, чтобы дать вить из себя веревки. Во всяком случае, не советую вам вступать со мною в борьбу: сила на моей стороне!
— Вступать с вами в борьбу! — воскликнул Иванович с притворным удивлением. — Да я и не думаю об этом!
Он отлично сознавал, что был бессилен против Красного Капитана и что его планы нуждаются в содействии этого гениального человека, расположение которого ему нужно было приобрести во что бы то ни стало ради осуществления своих дальнейших планов.
— Я опасался только, что ваше пристрастие к французам может побудить вас отказать мне в обещанном вами содействии при поимке графа, но раз вы беретесь сами доставить его в Петербург, то я считаю миссию свою оконченной. Раз вы так дорожите жизнью графа, то этого достаточно, чтобы ее пощадили даже в том случае, если бы его смерть была в интересах всего общества Невидимых. Поверьте, между вашей дружбой и моим долгом как члена Невидимых я не стал бы колебаться ни минуты! Впрочем, интересы общества Невидимых и ваши вскоре сольются, так как всесильный Великий Невидимый избирается только на 10 лет, а срок десятилетия настоящего Великого Невидимого через несколько месяцев кончается, и тогда я берусь совместно с несколькими товарищами добиться избрания вас на его место: ведь кто, кроме вас, может с честью занимать этот высокий пост? Есть люди, самой судьбой предназначенные для того, чтобы властвовать и повелевать!
Польстив таким образом чувству гордости и самолюбию Джонатана Спайерса, Иванович сделал ловкий ход.
— Я так и знал, что мы в конце концов сговоримся! Я был несколько резок, быть может, но вот вам моя рука в знак дружбы. Я все-таки никогда не забуду, что вы первый поверили в бедного изобретателя, и это связывает нас на жизнь и смерть! — сказал Красный Капитан.
Иванович схватил его руку и крепко пожал ее, а на глазах его блеснули слезы.
— Я ошибся в вас, Иванович, — говорил Спайерс, заметивший эту слезу, — вы порядочный человек!
Ловкий казак внутренне торжествовал: как все демонические натуры, капитан был грозен и неумолим, когда ему противоречили, и мягок и податлив до слабости, когда ему льстили, и он полагал, что эта лесть исходит от искреннего чувства. Но наряду с этой слабостью, порожденной в нем его громадным честолюбием, Джонатан Спайерс был человек необычайной энергии, чуткости и проницательности, позволявшей ему по малейшим признакам угадывать истину. И сколько он ни насиловал себя, но чувство недоверия к Ивановичу постоянно брало в нем верх.
Между тем добиться всеми средствами, чтобы Джонатан Спайерс доверил ему управление «Лебедем» или «Осой», что, в сущности, являлось равносильным управлению самим «Римэмбером», так как два спутника его являлись во всех отношениях его точной копией, и затем преспокойно убить капитана во время сна, уничтожить его труп и остаться единственным владельцем «Римэмбера» и обладателем тайны его управления было теперь единственной целью Ивановича,
— целью, к которой он шел неуклонно и настойчиво.
Но с другой стороны, капитан Спайерс отлично сознавал, что его грандиозное изобретение является завидным для многих и собственная жизнь отныне зависит главным образом от его умения сохранить свою тайну.
Между тем ему необходимо было иметь второго самого себя, которому он мог доверить участь своего судна и свою собственную, человека, безгранично ему преданного, человека бескорыстного, неподкупного и неумолимого. Иначе он был осужден никогда, ни на минуту не расставаться со своим «Римэмбером». Естественно, что правительства всего мира рады были воспользоваться случаем овладеть капитаном, как только он сойдет со своего «Римэмбера», и, лишив этого колосса его души, уничтожить его, как простую груду металла. Имея же надежного заместителя, который бы явился отомстить за него или вызволить его с грозным «Римэмбером», капитану нечего было бы опасаться никаких врагов в мире. Сознавая все это, Джонатан Спайерс в минуту откровенности сообщил свои мысли Ивановичу, который при этом вздрогнул от невыразимой радости, но ничем не подал вида, соблюдая необходимую осторожность.
— В самом деле, — согласился он, — без такого доверенного заместителя вы точно Прометей, прикованный к своей скале!
— Да, но где найти такого человека, которому я мог бы так безгранично довериться, чтобы отдать в его руки и свою судьбу, и судьбу моего великого «Римэмбера»?
— Если бы вы захотели, то я мог бы быть этим человеком, — хотел было воскликнуть Иванович, но воздержался, сознавая, что капитан никогда не доверится человеку, в котором заподозрит желание стать его заместителем.
— Человек, которого вы изберете, — заметил он, — будет нести тяжелую ответственность; но главное, этот человек должен быть вам безгранично предан, должен любить вас больше, чем себя!
При этом Джонатан Спайерс взглянул на него своим проницательным, испытывающим взглядом, но не сказал ни слова.
На этом разговор и кончился и с тех пор больше не возобновлялся. Капитан изучал почву под своими ногами и если, с одной стороны, чувство признательности говорило в пользу Ивановича, то с другой — чувство недоверия и какого-то инстинктивного отвращения к этому человеку решительно говорило против него.
Таким образом, ситуация создалась щекотливая, и можно было с каждым днем ожидать драматической развязки.
Тем временем приготовления к предстоящему торжеству и на прииске, и в нагарнукской деревне шли своим чередом, и Оливье настолько был поглощен ими, что время до вечера прошло незаметно.
VI
Виллиго во Франс-Стэшене. — Джильпинг у нготаков. — Письмо Люса.
Около двух часов пополудни великий вождь Виллиго вошел в хижину своего верного Коанука, который с ним почти не расставался.
Прошло уже более года, как Виллиго смыл краски со своего лица и жил спокойной, мирною жизнью частью среди своих единомышленников, частью среди своих белых друзей, проводя добрую половину своего времени во Франс-Стэшене, охотясь и рыбача с Оливье и другом своим Диком.
С того момента, как он справил страшную тризну по Цвету Мелии, уничтожив чуть не всех лесных бродяг, в душе его воцарились мир и спокойствие, и сумрачный, грозный вид его сменился ясным, приветливым и гордым взглядом, какого раньше никто не видал у него.
Гостя во Франс-Стэшене, Виллиго иногда в угоду своим друзьям надевал на себя белые полотняные штаны и куртку, но не носил ни обуви, ни шляпы. Он садился за стол со своими друзьями, но не признавал ни вилок, ни ножей. После вкусного обеда он охотно садился в спокойное кресло-качалку и дремал, как добрый французский буржуа, почивший от своих дел. Но временами его горячий взгляд ясно говорил, что воинственный пыл не угас в его груди, что каждую минуту в нем может проснуться неустрашимый грозный воин, и громкий клич «Вага! Вага!» огласит воздух.
Никто не мог предвидеть, как скоро этому суждено было случиться и как близок был момент, когда его друзьям должна была понадобиться вся его ловкость, мужество и энергия.
Несколько дней тому назад скваттер Вальтер Кэрби со всем своим семейством прибыл во Франс-Стэшен для присутствия на празднике в честь Дика; кроме того, друзья отправили Виллиго в страну нготаков с приглашением Джону Джильпингу. Старый вождь отправился туда в сопровождении своего неразлучного Коанука, и некоторое время спустя они вернулись с письмом от англичанина, адресованным на имя Оливье.
Письмо это было следующего содержания:
«Дорогие друзья!
Я получил ваше приглашение через посредство старого друга Виллиго и его молодого и прекрасного спутника, любезного Коанука. Весьма одобряю вашу мысль отпраздновать с надлежащей торжественностью день рождения высокочтимого и достоуважаемого джентльмена, получившего при крещении имя Дика и впоследствии украшенного современным прозвищем Канадца. Вам достаточно известны, я полагаю, мои чувства к нему и ко всем вам, чтобы быть уверенным, что я был бы весьма счастлив присоединиться к вам с моим кларнетом и усладить ваш слух звуками мелодичной музыки.
Но я не могу отлучиться из селения нготаков без опасения предоставить их на забаву Вельзевула, Люцифера и Астарота в образе католического проповедника, который бродит теперь окрест их, готовый внести в австралийский буш свою безбожную ересь и посеять плевелы там, где я сеял чистую и добрую пшеницу.
Этот римский сеид, зная влияние музыки и гармонии на души австралийских неофитов, запасся шарманкой, исполняющей новые напевы и молитвы, с целью затушить этими вульгарными механическими звуками задушевные и сладостные мелодии моего кларнета. Из этого вы видите, что мое отсутствие предоставило бы ему свободное поле действий для его постыдных махинаций.
Кроме того, мои возлюбленные нготаки, опасаясь, что я не вернусь к ним больше, открыто заявили, что они готовы силой воспротивиться моему уходу, и потому я предпочел остаться.
Моя зоологическая коллекция почти закончена; двойные экземпляры я сохраняю для коллекции моего доброго и уважаемого друга графа Оливье Лорагюэ д'Антрэга, да сохранит его Всевышний!
Подписано — Джон Джильпинг. В Джильпинг-Холле».
Оливье не мог читать без добродушного смеха это послание будущего лорда Воанго. Дик, которому он передал его, также добродушно и искренне рассмеялся.
Затем друзья приступили с расспросами к Виллиго и Коануку относительно истинного положения вещей и из слов своих туземных друзей узнали, что досточтимый Джильпинг так очаровал своим пением псалмов и звуками кларнета нготаков, что те, фактически окружая его всяким уходом и знаками видимого почета, в сущности, держали его в плену и ни за что не согласятся добровольно отпустить его из своей деревни. То, что наивный англичанин высокопарно именовал Джильпинг-Холлом, то есть замком Джильпинга, было довольно просторное жилище, сооруженное для него нготаками и обнесенное глубоким рвом и валом наподобие крепости, а когда Джильпинг пожаловался, что ему тесно в этой ограде, то ему прирезали еще кусок земли около двух гектаров и обнесли точно таким же высоким частоколом, рвом и валом — не с намерением оградить почтенного Джильпинга от могущей грозить ему опасности, а исключительно с целью удержать его у себя в плену и воспрепятствовать его бегству. Прирезанное к его жилищу пространство было засажено кустами и деревьями, что дало Джильпингу повод называть свое владение Джильпинг-сквером или Джильпинг-парком; в этой крепости он пребывал под строжайшим присмотром постоянно сменявшихся нготакских воинов, как птица в откормочной клетке. Простодушные дикари совершенно серьезно считали его кобунгом, то есть добрым гением, явившимся к ним с луны из страны предков, чтобы принести им счастье, тем более что старое предсказание относило именно к этому времени появление такого кобунга, а потому нготаки твердо решили ни за что не отпускать от себя своего доброго гения и всеми средствами помешать ему вернуться в страну предков, откуда он пришел. Конечно, Джильпинг не имел ни малейшего желания переселиться на луну, но желал бы быть свободен, чтобы вернуться в Англию. Впрочем, он не сознавал своего положения и приписывал все происходящее исключительно трогательной заботливости об его безопасности. Каждый раз, когда он пытался выйти за ограду Джильпинг-сквера, двое рослых нготаков, постоянно стоящих на часах у входа, с умильными улыбками и гримасами, с коленопреклонениями и молящими жестами, упрашивали вернуться назад.
— Ах, эти добрые люди! — восклицал Джильпинг, — они опасаются, чтобы со мной не случилось что-нибудь. Но, право, дети мои возлюбленные, мне не грозит ни малейшей опасности!
— Кобунг! Натта кобунг! Натта кобунг! Не надо выходить! Не надо выходить, кобунг! — молили с самыми умильными улыбками черномазые дикари Австралии, и если он, не внимая их мольбам, все-таки желал перешагнуть за ограду, то рослые нготаки бережно брали его к себе на плечи и относили обратно в жилище, после чего удалялись, облобызав ему ноги.
— Какую любовь я стяжал у этих людей! — думал про себя умиленный Джильпинг. — И какое изумительное рвение к делам веры!
Ежедневно два раза, утром и вечером, чуть не все население деревни, женщины, воины, дети и старцы, приходили в его парк и, рассевшись полукругом на земле, с лицами, обращенными к нему, внимали с детским любопытством и вниманием пению псалмов, затем под аккомпанемент кларнета сами насвистывали мотив или молча слушали музыку Джильпинга. Но однажды, когда после слишком обильного возлияния из своих неистощимых запасов бренди и виски достопочтенный мистер Джильпинг после гнусавого пения псалмов и довольно продолжительного наигрывания на кларнете пустился отплясывать самый отчаянный танец, нготаки, глядя на него, так воодушивились, что принялись также отплясывать кто во что горазд, подражая его жестам и движениям, и с этого времени каждое молитвенное собрание должно было неминуемо оканчиваться танцем. «Но ведь и царь Давид тоже плясал перед Ковчегом Завета, следовательно, в пляске нет ничего греховного, так как царь Давид, без сомнения, пример, достойный подражания!» — думал английский проповедник.
Слух о кобунге нготаков дошел и до нирбоасов, и до дундарупов, и счастливые обладатели доброго гения, пришедшего из страны предков, стали еще усерднее сторожить своего кобунга из опасения, чтобы его не похитили у них.
Джильпинг написал Лондонскому евангелическому обществу о том, что он обратил весьма многочисленное и могучее племя австралийских туземцев и что теперь необходимо прислать сюда настоящего проповедника — священника. Но до сих пор еще не было известно, какие последствия имело в Лондоне его письмо; кроме того, было также неизвестно, пожелают ли нготаки примириться с этим заместителем.
Узнав обо всем этом от Виллиго и Коанука, наши друзья весело посмеялись, но вместе с тем решили отправиться к нготакам вскоре после празднества и освободить своего друга Джильпинга.
Кроме того, Виллиго сообщил, что они встретили на дороге курьера, развозившего европейскую почту, который сказал, что сегодня же прискачет во Франс-Стэшен.
В то время еще не существовало в Австралии регулярной почты, и местные фермеры, скваттеры и владельцы крупных участков держали на свой счет курьера, исполнявшего должность почтальона, и содержали для этой цели специально разгонных лошадей.
Прибытие такого курьера считалось настоящим событием в жизни переселенцев из Европы. Не успели Виллиго и его юный спутник докончить свой рассказ о путевых встречах, как раздался рожок курьера, возвещающий о его прибытии. Дик и Оливье бросились навстречу ему и, распорядившись, чтобы почтальона накормили, пока будут седлать для него свежую лошадь, принялись разбирать письма.
Прежде всего были отобраны письма капитанов, механиков и других служащих на прииске и тотчас же отосланы им, затем уже занялись и личной корреспонденцией.
— Мне некому писать: все мои близкие и родные давно умерли, а все, кого я люблю, здесь! — сказал Дик с легким оттенком грусти в голосе.
Для Оливье было около двадцати писем, в том числе одно заказное; заказные письма почему-то обладают свойством привлекать особое внимание получателя, и Оливье, взглянув на него, недоумевал, от кого бы оно могло быть. Сорвав конверт, он пробежал его глазами, и невольно восклицание сорвалось с его губ.
— Что такое? — спросил заинтересованный Дик. — От кого это?
— Люс, бывший барон де Функаль, бывший португальский консул в Мельбурне! — прочел Оливье.
— Тот, кто так предательски обманул нас!
— Но который не захотел, чтобы мы погибли от удушения… не надо забывать и этого, милый Дик: без него этот человек в маске…
— Упокой, Господи, его душу! — прошептал Дик. — Ну, что же господин Люс пишет?
— Вот увидим. Слушайте! — сказал Оливье и принялся читать вслух.
«Граф!
С того самого дня, как вы и ваш друг пощадили мою жизнь, на что я не имел никакого права рассчитывать, я только и думал о том, чем бы мог быть вам полезен в вашей трудной борьбе не с обществом Невидимых, как вы полагаете, а с предателем, обманывающим и общество и вас, имени которого я, к несчастью, не смею вам назвать, связанный клятвой, но которого вы знаете под именем «человек в маске».
— Он, вероятно, не знает, что этот негодяй погиб! — заметил канадец.
Оливье продолжал:
«Человек в маске», которого вы, вероятно, считаете мертвым, так как он рассказал мне все подробности страшного взрыва в Рэд-Маунтене, только чудом избегнул смерти благодаря тому, что за несколько минут до взрыва, схоронившего под обвалом горы 350 лесных бродяг, возымел желание осмотреть поближе серное озеро и отошел шагов на двадцать по его берегу, где и находился в момент катастрофы. Несмотря на то, силою сотрясения его сбило с ног и засыпало комьями земли и камнями так, что он на мгновение лишился сознания. Но, придя в себя, он услышал вблизи голоса, хотел было позвать на помощь, но сдержался, и это спасло его. Вы стояли всего в нескольких шагах от него, и он слышал, как вы рассуждали об его смерти, в которой были вполне уверены.
Сейчас он проехал через Париж, где я с ним виделся, по пути из Петербурга в Австралию через Сан-Франциско; его намерения — страшно мстить всем вам, но какими именно средствами он рассчитывает на этот раз достигнуть своей цели, он благоразумно умолчал. Мне удалось уловить только из его слов, случайно оброненных им в общем разговоре, что он совершенно уверен теперь в своем торжестве… Он говорил, между прочим, об адских машинах и электричестве как средствах для вашей гибели, о каких-то новых научных открытиях и новейших изобретениях. Но когда я пытался добиться от него чего-нибудь более определенного, он стал давать уклончивые ответы, видимо не доверяя мне. Пусть это предостережение послужит вам на пользу и хоть отчасти загладит мою вину по отношению к вам. Меня бы никогда не склонили действовать против вас, если бы не уверили, что вы интриган, старающийся всеми средствами завладеть одним из крупнейших состояний в России!
С того момента, как вы получите это письмо, будьте настороже во всякое время дня и ночи, где бы вы ни находились. Это мой дружеский совет! Будьте настороже и ожидайте тайного или явного нападения!»
Не дочитал еще Оливье этого письма, как Виллиго беззвучно вышел вон; живя со своим другом Тиданой в постоянном общении, он настолько научился понимать по-французски, что для него не пропало ни единого слова из письма Люса. Вероятно, он поспешил предупредить своего верного Коанука о важной новости и опасности, снова грозящей молодому французу.
— Значит, «человек в маске» жив! — проговорил Оливье, весь побледнев.
— Что ж, мы покажем этому подлому господину, который не решается открыто выступить против нас, что мы не из тех, кто отступает. И я со своей стороны клянусь, что не положу ружья до тех пор, пока не рассчитаюсь по справедливости с этим темным авантюристом!
— Ах, это ужасно! — воскликнул граф, разражаясь рыданиями. — Опять борьба, опять кровь, опять новые ужасы!..
— Успокойтесь, друг мой! Чего нам бояться? Теперь положение изменилось в нашу пользу: мы теперь у себя, а он пришлый человек… Где теперь его сторонники? А за вас встанут, как один человек, все племя нагарнуков, все рабочие с прииска, экипаж двух наших судов и мы все, ваши близкие друзья! Право, наша жизнь начала становиться уж слишком однообразной и скучной, а это нас немного расшевелит и, быть может, даже позабавит!
— Ну, я просто баба, милый Дик! — уже почти весело воскликнул Оливье.
— Это все мои проклятые нервы: пустяк может меня расстроить, но и такой же пустяк может меня ободрить.
Решено было ничего не изменять в программе задуманных торжеств, даже не откладывать экскурсии по озеру, назначенной на этот вечер.
— Теперь более, чем когда-либо, я настаиваю на этой поездке по озеру. В письме упоминается об электричестве! Весьма вероятно, что электричество не имеет ничего общего с галлюцинациями Ле Гюэна и Бигана, но я хочу все-таки убедиться в этом.
В этот момент вошли Виллиго и Коанук в полном боевом уборе и вооружении.
— Вага! — воскликнул Виллиго вполголоса. — Черный Орел и Сын Ночи (дословное значение имени Коанук) вырыли свои топоры из-под порога их хижины; теперь они на военной тропе!
Дикая радость и гордая уверенность светились в глазах грозного вождя, придавая ему вид мощного африканского льва. Оливье радостно поспешил им навстречу и крепко пожал обоим руки.
— Спасибо вам, друзья! — сказал он. — Я уже давно не могу высчитать всех своих обязательств по отношению к вам, но я вам сердечно благодарен за все!
VII
Преследование на озере. — Таинственный огонь на воде. — Подводный пленник. — Призрачное судно. — Разряд электричества. — Гибель «Феодоровны». — План «человека в маске».
Когда командиры обоих судов известили графа и его друзей о своей полной готовности, Черный Орел и Сын Ночи просили разрешения сопутствовать Оливье и Дику, что им, конечно, было разрешено, причем предусмотрительный вождь нагарнуков предложил взять с собой на всякий случай одного из самых выдающихся пловцов-ныряльщиков его племени, что было встречено всеобщим и единогласным одобрением.
Солнце только что зашло, оставив на краю горизонта узкую багрово-красную полосу, когда маленькое общество разместилось на двух судах. Погода стояла тихая; кругом ничто не шелохнулось. Озеро было спокойно, как зеркало. Но ночь на озере не была столь безмолвной, как ночь в австралийском буше: здесь в тростниках по берегу ютились тысячи птиц, отдыхающих ночью от томительного зноя дня и весело щебетавших на все лады, отыскивая себе место для ночлега.
Оливье и друзья взошли на «Марию», где был заказан ужин, а «Феодоровна» была предназначена сопровождать «Марию», и, кроме ее экипажа, на ней не было никого. Капитану Ле Гюэну было предписано держаться все время в кильватере «Марии» и ожидать распоряжений графа, которые будут передаваться ему с «Марии».
Раздались слова команды, и оба судна отчалили от пристани, направляясь прямо к середине озера.
Все были взволнованы, и никто не старался этого скрывать. Вскоре берега исчезли из виду, и получилась полная иллюзия открытого моря. Чувствовалось что-то жуткое в этом глубоком мраке тропической ночи; чтобы сбить это общее настроение, Оливье распорядился, чтобы подали ужин. Кают-компания «Марии» была ярко освещена; стол накрыт белоснежной скатертью и уставлен вкусными яствами. Доброе старое французское вино из погребов графа лилось в изобилии. Общее настроение быстро изменилось к лучшему; все повеселели и начали даже высказывать предположение, что команды судов, вероятно, плотно пообедали вчера и под впечатлением выпитого им померещилось нечто невероятное.
— Берегись, милейший Кэрби, — пошутил канадец, — если вы будете продолжать все так же усердно прогуливаться по виноградникам Бургиньона, с вами произойдет то же самое!
— И вместо одной луны на небе вы увидите 36 лун в воде! — подтвердил Лоран.
Чтобы окончательно развеселить маленькое общество, Оливье приказал подать шампанского. Из чувства молодечества и удали кто-то из сидевших за столом, смеясь, провозгласил тост за здравие капитана призрачного судна, «Летучего Голландца». Не успели, однако, присутствующие поднести свои бокалы к губам, как Биган, стоявший все время на мостике, громко крикнул:
— Огонь под левым бортом! Впереди…
Все кинулись наверх. Ночь была такая темная, что в двух саженях от носа ничего нельзя было различить. Луна еще не взошла; звезд тоже не было; никакого отражения быть не могло; а между тем на расстоянии приблизительно одной мили от «Марии», несомненно, нырял на воде светлый белый огонь.
— Точно так же это началось и вчера! — мрачно заметил капитан «Марии».
— Странно! — сказал Оливье. — Что вы на это скажете, Дик?
— Вы знаете мое мнение: в природе много такого, что не может быть объяснимо естественными причинами!
— Ну, а я все таки продолжаю утверждать, что без естественных и логичных причин ничего не бывает! Весь вопрос в том, чтобы найти эти причины. Все, что мы приписываем сверхъестественному, это только результат нашего невежества, нашего незнания истинных законов природы! — проговорил Оливье.
— Ну, вот перед вами сейчас одно из таких явлений, превосходный случай отыскать его естественные причины! Что же касается меня, то я часто слышал, что души усопших приходят просить молитв для успокоения своей души, если они умерли без покаяния, насильственной смертью, от руки какого-нибудь преступника, и, по-моему, Биган, может быть, прав в том отношения, что здесь, на этом месте было некогда совершено преступление!
— Что касается меня, — сказал Лоран, — то я не раз своими глазами видел огни над могилами на нашем деревенском кладбище!..
— И ты думаешь, что эти огни — души умерших?
— Кто же зажигает их там, над могилами?
— Это чудо можно при желании повторить в любом месте, — засмеялся Оливье, — это фосфорические выделения газов, происходящие от разложения тканей животной материи или растительных тканей, которые, выделяясь из земли или от болота, воспламеняются при соприкосновении с воздухом…
Лоран недоверчиво покачал головой, но не возражал.
Между тем судно, продолжавшее идти вперед, теперь уже приблизилось на такое расстояние к огню, что до него оставалось не более 200 метров.
— Остановите ход, Биган, — сказал Оливье, — и правьте так, чтобы перерезать ему путь!
Но огонь, словно понимая команду, стал вдруг погружаться вглубь, а когда «Мария» встала, снова появился над водой под противоположным бортом, на глубине двадцати локтей от поверхности.
— Посмотрим, — сказал молодой граф и, обращаясь к Виллиго, добавил: — Где твой пловец-ныряльщик?
— Здесь, — отозвался Виллиго и знаком подозвал молодого нагарнука, который приблизился к Оливье.
— Нырни под этот огонь! — сказал Оливье.
Не задумываясь ни на минуту, туземец прямо через борт кинулся в воду; приблизившись к огню, нагарнук протянул вперед руку, как будто хотел схватить что-то у самого огня. Но в тот же момент огонь стал постепенно опускаться все глубже и глубже, а вместе с ним и нагарнук, как будто он был привязан к этому огню невидимой цепью и как будто этот огонь увлекал его за собой. Вскоре свет стал едва заметным, а затем совершенно исчез вместе с пловцом, и кругом воцарились прежнее безмолвие и непроглядный мрак южной ночи.
— Призрак увлек его за собой! — воскликнул Биган. — Надо уходить отсюда, граф, не то с нами случится беда! Скорее вон отсюда!
— Не можем же мы так бросить человека, не предприняв ничего для его спасения! — возмутился граф.
Но прежде, чем он успел сделать какое-нибудь распоряжение, Виллиго и Коанук, умевшие плавать, как рыбы, подобно большинству туземцев, уже кинулись в воду на поиски своего товарища. Вскоре они появились опять на поверхности, затем снова нырнули… Каждый из них нырял по четыре или пять раз, и все совершенно безрезультатно: нигде не было следов исчезнувшего Таганука.
Но странное дело: вернувшись на судно, оба нагарнука утверждали, что они слышали под водой какие-то голоса и какой-то своеобразный шум, объяснить который они не в состоянии. Это сообщение еще более осложняло разрешение трудной задачи.
— Каракулы (призраки), — шептал Виллиго, видимо расстроенный.
Таганук был такой пловец, что никому в голову не могло прийти предположение, что он утонул; для всех, кроме Оливье, казалось несомненным, что исчезновение молодого нагарнука можно было приписать только сверхъестественным причинам, и всех присутствующих охватил такой безумный страх, что, не будь здесь молодого графа, они, наверное, давно бы бежали к берегу.
— Я, конечно, не могу идти против желания графа, — сказал Биган конфиденциальным тоном Дику, — и, когда он на судне, должен ему повиноваться. Но все, что здесь творится эти две ночи, слишком похоже на чертовщину, чтобы предвещать что-либо доброе! Употребите на графа ваше влияние, господин Дик, и постарайтесь уговорить его, чтобы он позволил нам вернуться к пристани. Я предчувствую, что нам здесь грозит какая-то серьезная и большая беда, быть может, даже какое-нибудь непоправимое несчастье!
— Я думаю так же, как вы, Биган, — согласился с ним канадец. — Но что делать, никто не может уйти от своей судьбы!
— Конечно, но все-таки на берегу мы были бы в меньшей опасности, по крайней мере хоть видели бы ее!
Вдруг из груди капитана вырвался подавленный крик, и он чуть было не лишился чувств.
— Что с вами? — спросил Дик, поспешив поддержать его.
— Смотрите… там! — прошептал капитан заплетающимся языком и указал рукой под бокборт.
Действительно, на расстоянии менее 200 сажен виднелся удлиненный черный выпуклый предмет, неподвижный и грозный, напоминающий спину кита или кашалота.
Дик подозвал к себе Оливье.
— Смотрите, — сказал он ему, не скрывая своего волнения, — что это, мираж или плод воображения?
— Это точное повторение вчерашнего случая; призрак это или действительность, мы это сейчас увидим! Ведь за этим мы и предприняли эту поездку. Капитан, прикажите зарядить кормовое орудие картечью!
— Мой долг повиноваться, господин граф, — отвечал суеверный бретонец,
— но я должен сказать, что все мы погибли!
Командиру «Феодоровны» было отдано то же самое приказание; «Феодоровна» находилась в данный момент несколько впереди «Марии», так как последняя маневрировала, чтобы перерезать путь огню, и потому несколько отстала.
— Ле Гюэн, начинайте! — скомандовал Оливье.
Наступила минута тягостного ожидания. Канадец решился проститься с жизнью и был совершенно спокоен. «Что суждено, того не избежишь» — говорил он, как истинный фаталист, и это придавало ему мужества и бодрости.
— Слушай! Заряжай… Целься!.. Пли! — прозвучала в тишине ночи команда Ле Гюэна, и голос его звучал твердо и спокойно благодаря тому, что он сознавал, что исполнял свой долг.
Прогремел выстрел, и целый град картечи посыпался на черный выпуклый предмет. Когда же дым рассеялся, загадочный предмет остался на том же месте, и картечь, очевидно, не причинила ему ни малейшей царапины. Но прежде, чем удивленные свидетели этого факта успели обменяться двумя словами по этому поводу, вокруг «Феодоровны» забурлила и запенилась вода, подымаясь высоким столбом, и тотчас же раздался голос Ле Гюэна:
— Тонем! Помогите! Мы идем ко дну!
«Феодоровна», разрезанная надвое, стала тонуть на глазах у всех. Все это случилось менее чем в полминуты, и притом совершенно беззвучно; ничего, кроме движения воды, не предвещало катастрофы. На «Марии» все обезумели и потеряли головы; все ждали для себя той же участи, но, к счастью, этого не случилось, и Биган, сумевший в момент реальной опасности вернуть» все свое спокойствие духа, не теряя ни секунды, принял все меры для спасения погибающих товарищей. Вскоре все шесть нагарнуков, составляющих экипаж «Феодоровны», Ле Гюэн и механик Дансан были приняты на «Марию». К счастью, никто из них не был ни ранен, ни зашиблен в момент катастрофы. «Мария» была под парами, и Биган, не признававший в такую минуту никакой другой власти на судне, кроме своей, тотчас же направил яхту к берегу и стал уходить на всех парах. И что же? Громадная черная масса, все время остававшаяся неподвижною, вдруг также тронулась следом за судном и, следуя за ним в кильватере, постепенно развивала все большую быстроту, наконец опередила «Марию» и, как накануне, три раза обошла вокруг нее, затем скрылась, пойдя, как камень, ко дну.
Страшно взволнованный, Оливье был почти насильно уведен канадцем и Лораном в каюту, и только в тот момент, когда «Мария» подошла к пристани, все наконец вздохнули с облегчением.
Вернувшись в имение, Оливье собрал своих друзей на совет; в том числе были приглашены и командиры обоих судов, а также оба механика, чтобы обсудить всем вместе случившееся. Конечно, большая часть приписывала все сверхъестественному влиянию, но на стороне Оливье стояли оба механика как люди, более близко стоящие к науке и слыхавшие кое-что об электричестве. В связи со словами письма Люса эти трое сознавали, что все случившееся, то есть и огонь, горящий на воде и под водою, и гибель «Феодоровны», — все могло быть приписано электричеству.
Тукас и Дансан, конечно, были тоже люди простые и не Бог весть с каким научным балластом, но они оба прошли и окончили школу прикладных знаний по морскому делу, прошли курс механики и, так сказать, расширили круг своих познаний и в других областях науки, а также были знакомы, конечно, с электричеством и многими его применениями.
Но был один пункт, в котором сторонники сверхъестественного как будто торжествовали: каким образом могли люди, пользующиеся для всех этих фокусов электричеством, доставить сюда, на дно озера, в самое сердце Австралии, эти электрические машины, когда не было возможности появиться в буше ни одному европейцу без того, чтобы это сразу не привлекло внимания как туземцев, так и лесных бродяг?! Как же могли бы пройти незамеченными эти сложные машины, для доставки которых непременно потребовался бы целый караван мулов и погонщиков?! Кроме того, допустив, что они прошли, не будучи никем замечены, весь австралийский буш, как могли они миновать территорию нготаков, нирбоасов, дундарупов и нагарнуков, со всех сторон окружающих это озеро?!
Как и всегда в подобных случаях, эти рассуждения не привели ни к чему, и всякий остался при своем мнении, что, однако, не помешало самому искреннему единению друзей.
— Слова и взгляды ничего не значат, — заметил канадец, — важны только чувства, связывающие нас. Пусть это будут призраки, созданные нашим воображением, или механическая сила, применяемая нашими врагами, мой милый Оливье, мы с одинаковым упорством будем отстаивать против них вас и себя!
— Как бы то ни было, во всяком случае, нам предстоит борьба не с одними призраками, раз Невидимые снова собираются вступить с нами в препирательство! — сказал полушутливо Оливье.
Между тем эта борьба не на жизнь, а на смерть уже началась, но благодаря письму Люса и экспериментам Красного Капитана, желавшего испробовать все приспособления «Римэмбера» и его двух спутников, Оливье и его друзья были, так сказать, предупреждены.
В ту же ночь несколько сторожевых постов было расставлено по берегу озера и вдоль ограды поместья.
Исчезновение Таганука ничуть не нарушило программы завтрашнего дня, так как, согласно туземным обычаям, даже ближайшие родственники его могли участвовать в празднестве, и до тех пор, пока не всплывет его труп, он не признавался погибшим.
В ожидании наступления завтрашнего дня и торжества мы воспользуемся маленьким перерывом в ходе событий в жизни наших друзей и заглянем на «Римэмбер», чтобы дать некоторые пояснения к ряду фактов, закончившихся гибелью «Феодоровны».
Первая встреча Красного Капитана с судном Ле Гюэна была чисто случайная; вторая же, напротив, была заранее предусмотренная. Джонатан Спайерс совершенно правильно предвидел, что капитан маленького судна перескажет обо всем случившемся владельцу поместья и возбудит его любопытство и желание лично удостовериться в истине его слов, и потому решил задать репетицию вчерашнего представления.
Во всем этом он не видел ничего, кроме простой игры и случая проверить исправность всех деталей скомбинированных им машин. Этот каприз Красного Капитана сильно возмущал Ивановича, который не без основания утверждал, что совсем незачем делать подобные предостережения обитателям Франс-Стэшена. Он предвидел, что достижение его цели сильно затруднится, если молодой граф будет, так сказать, о многом предуведомлен заранее и будет держаться настороже. Но ввиду того плана, который созрел теперь в его голове, казак не решался даже и в самых почтительных выражениях формулировать свои соображения и опасения.
Иванович выжидал: вероятно, недалек был тот момент, когда Джонатан Спайерс, несмотря на свое нежелание поделиться с кем-либо своей тайной, вынужден будет это сделать. Ведь не мог же он наконец всю свою жизнь оставаться прикованным к «Римэмберу» или одному из его спутников; к тому же он был страстный охотник, и австралийский буш представлял собою немалый соблазн для него. Рано или поздно он вынужден будет избрать себе какого-нибудь доверенного и обучить его по крайней мере нескольким главнейшим приемам управления, чтобы в крайнем случае иметь своего заместителя в свое отсутствие. И так как дружба и расположение Красного Капитана к Ивановичу за последнее время, по-видимому, сильно возросли, то последний рассчитывал, что выбор Джонатана Спайерса падет именно на него. Добившись этого, Иванович, как нам уже известно, решил не останавливаться перед преступлением.
Став хозяином «Римэмбера», он тотчас же уничтожит имение Франс-Стэшен со всеми его обитателями, удовлетворив одновременно и свою жажду мщения, и свои честолюбивые замыслы, и исполнив вместе с тем и возложенную на него, по его настоянию, обществом Невидимых миссию.
Благодаря этому новому плану немедленное задержание графа д'Антрэга являлось теперь лишь вопросом второстепенной важности; главные его устремления были направлены на то, чтобы ничем не раздражать Джонатана Спайерса.
VIII
Разговор между Красным Капитаном и Ивановичем. — Отправление Джонатана Спайерса во Франс-Стэшен. — Новый подвиг Виллиго и Коанука.
Чтобы иметь возможность лучше наблюдать за всем, что происходило во Франс-Стэшене, Красный Капитан, покинув со своей флотилией середину озера, избрал своей квартирой глубокий омут, где его никак нельзя было заметить, хотя он находился всего в 500 метрах от берега. Благодаря осторожно приспособленной системе рефракторов, ничто из происходящего на берегу или на поверхности озера не могло укрыться от него.
Все, что говорилось на берегу, тотчас же передавалось ему посредством телефонных пластинок, расположенных таким образом, чтобы воспринимать звуковые волны и передавать их благодаря соединяющему их проводу акустической пробкой «Римэмбера». Благодаря этому приспособлению капитан «Римэмбера» слышал, как в момент отправления Оливье спросил Виллиго, здесь ли пловец, могущий нырять на глубину. Из этого он заключил, что там собирались заставить туземца нырнуть для исследования дна озера, и тут же решил захватить этого пловца в плен. Это он устроил весьма осторожно.
Кроме того люка вверху, через который входили в «Римэмбер», было еще другое отверстие в кормовой его части. Это была, собственно говоря, часть блиндированной обшивки, отделенной перегородками и образующей род тамбура высотою в два метра, глубиною 60 сантиметров и шириною в 80. Тамбур этот имел две двери, одну, ведущую прямо во внутренний салон капитана, а другую
— отворявшуюся наружу. Обе эти двери были оправлены в толстый слой каучука и запирались герметически, так что ни вода, ни воздух не могли проникать через них. На суше этим выходом можно было пользоваться свободно; под водою же приходилось надевать водолазный шлем и запасаться резервуаром с кислородом. Затворив плотно дверь, ведущую во внутреннее помещение, отворяли дверь наружу, и маленький тамбур наполнялся водой: можно было взять из воды все, что только угодно, унести в «Римэмбере» и закрыть наружную дверь, после чего вода, находившаяся в тамбуре, тотчас уходила в нарочно с этою целью устроенные стоки, и тогда можно было отворить дверь внутрь.
Таким способом решил Джонатан Спайерс увлечь пловца и сделать его своим пленником. С этою целью он снабдил с двух сторон электрический фонарь, имеющий форму стеклянного шара, металлическими ручками, за которые пловец должен был ухватиться, чтобы схватить фонарь. Беспрерывный почти электрический ток, парализуя руки, не давал возможности разжать пальцы и совершенно обессиливал несчастного. А Самуэль Дэвис, стоя в тамбуре и раскрыв наружную дверь, выжидал момента, когда, постепенно подтянув к себе за кабель фонарь и пловца, он мог схватить последнего и тотчас же захлопнуть наружную дверь. Дав уйти воде из тамбура, на что требовалось шесть секунд, он раскрыл внутреннюю дверь в салон и положил на ковер лишившегося чувств пленника. Напуганный тем, что он не мог оторвать рук от рукояток фонаря, Таганук, приняв это обстоятельство за действие колдовства, обезумел от страха и лишился чувств, причем хлебнул известное количество воды. Но Прескотт, тотчас же явившийся освидетельствовать его, уверил, что через четверть часа он будет жив и здоров.
Между тем капитан, проделав остальную часть фантасмагории по отношению к «Марии», вернулся на свою стоянку между «Лебедем» и «Осой».
Тем временем Таганук, придя в себя, недоумевал, где он находится и, не находя никакого объяснения, видя кругом себя позолоту, шелк, море света и всю эту непривычную для него роскошь и незнакомые лица, в том числе двоих негров, наивно вообразил, что он умер.
Но Иванович подошел к нему и заговорил с ним на его родном наречии; за время пребывания своего в Центральной Австралии казак, со свойственной славянской расе легкостью, изучил язык туземцев настолько, что мог свободно объясняться на нем.
При первых произнесенных им словах Таганук бросился ему в ноги и, приняв его за доброго гения из страны предков, то есть с луны, стал молить его, чтобы он не делал ему зла и не превращал его в каракула, то есть блуждающего призрака, — душу, не знающую упокоения.
Ивановичу с большим трудом удалось уверить беднягу, что он не отошел в страну предков и что никто не думает делать ему зла. Но Таганук продолжал недоверчиво озираться на двух негров, и капитан, заметив это, приказал им удалиться. В это время Прескотт и Литльстон опять заспорили, но Джонатан Спайерс прервал их словами:
— Господа, свой нескончаемый спор вы окончите у себя, а теперь позвольте мне допросить нашего пленника.
Здесь, на «Римэмбере», все беспрекословно повиновались Красному Капитану по первому его слову, и никто не противоречил ему.
Страшно перепуганный австралиец сообщал все, что только хотели знать, откровенно отвечая на все расспросы относительно прииска и его обитателей, относительно его племени и местных отношений, обычаев и условий. Джонатан Спайерс ободрил его несколькими ласковыми словами и уверил, что через несколько дней он будет снова свободен и среди своей семьи. Затем, отдав приказание, чтобы его отвели в казарму, отнюдь не обижали и не запугивали и хорошенько следили за ним, чтобы он не совершил какой-либо неосторожности, капитан увел Ивановича в свой кабинет и здесь имел с ним следующий разговор:
— Как вы могли убедиться, все мои опыты, или, вернее, испытания «Римэмбера» и его двух спутников, дали блестящие результаты! Признаюсь, они даже превзошли мои ожидания. То, что мне удалось создать, — это настоящее чудо. Вместе с тем ведь я ничего не изобрел, не сделал, в сущности, никакого открытия; я только применил и совместил законы, открытые задолго до меня, только скомбинировал все это в одно целое!.. Теперь я намерен приступить к подробному разбору всего механизма «Римэмбера» для руководства моему помощнику и впоследствии преемнику. Я решил, мой милый Иванович, сделать этим преемником — вас!
При этих словах Ивановичем овладело такое страшное волнение, что он едва мог пролепетать несколько бессвязных слов.
— Теперь вы видите, — продолжал капитан, — что вы были не правы, сомневаясь в моей признательности. Но не будем говорить об этом! Теперь, когда мои старания увенчались успехом, я, понятно, стремлюсь осуществить грандиозные планы, составленные мной, но прежде всего хочу исполнить принятое на себя по отношению к вам обязательство и приложу все старания, чтобы граф д'Антрэг стал как можно скорее нашим гостем на «Римэмбере», после чего мы немедленно отправимся с ним в Петербург. Не спрашивайте меня сейчас о том, как я думаю это сделать; у меня в данный момент зреет план, который поможет нам овладеть графом в самом непродолжительном времени! А пока я намерен немного исследовать местность; из слов нашего пленника мы знаем, что завтра готовится большое торжество в деревне туземцев и в помещичьей усадьбе. В этой праздничной сутолоке на меня мало обратят внимания. Кроме того, я выдам себя за охотника, прибывшего из Сиднея, и никто не будет в состоянии опровергнуть этого. Надо же мне наконец подышать вольным воздухом, посмотреть на солнце — и ознакомиться с этой чудной австралийской природой! Я убежден, что двое или трое суток, проведенных мною вне «Римэмбера», не принесут мне вреда. Что вы на это скажете?
— Я совершенно с вами согласен, но считаю нужным предупредить, чтобы вы не возбудили в нагарнуках никаких подозрений относительно исчезновения их единоплеменника, иначе вам не сдобровать: это беспощадные враги!
— Не беспокойтесь, я сумею сыграть роль бродячего охотника. «Лебедь» доставит меня к берегу на несколько километров выше деревни нагарнуков и высадит еще до рассвета; таким образом, я едва ли буду замечен. Вы, конечно, не будете в претензии, что командование «Римэмбером» в мое отсутствие я передам моему лейтенанту Дэвису; это его право, и я ни за что на свете не хотел бы обидеть его, моего верного старого товарища.
Иванович был внутренне несколько обижен распоряжением, но не показал даже вида.
— Как вам угодно, мой милый друг, но я хотел бы знать, каким образом вы обойдете этот вопрос о правах на командование «Римэмбером» Дэвиса, когда сделаете меня своим заместителем.
— Очень просто: управлять судном и командовать им — две вещи разные. Вы будете замещать меня в управлении судном, то есть в должности кормчего или рулевого; командование же «Римэмбером» останется за Дэвисом. Что же касается «Осы» и «Лебедя», то я предоставлю их в полное ваше распоряжение.
Удовлетворенный таким распоряжением, Иванович рассыпался в благодарностях, после чего Красный Капитан отправился заняться своими сборами для поездки на берег.
Когда он был готов, то сделал еще кое-какие распоряжения; Дэвису же, к которому он питал полное и безусловное доверие, дал еще некоторые личные указания. Он говорил с ним несколько минут, отойдя в сторону, чуть слышным шепотом, и с хронометром в руке указал ему глазами на небольшую бронзовую кнопку, скрытую в обшивке стен салона. Затем лично поднял «Римэмбера» с его двумя спутниками, находящимися теперь на своих бакенцах, на поверхность озера и, приведя в движение механизм «Лебедя», раскрыл входной люк и перешел на него в сопровождении своих двух негров и одного из людей экипажа, предварительно позаботившись лично закрыть входной люк «Римэмбера» и заставить посредством одному ему известного наружного механизма опуститься на дно вместе с «Осой», так как не мог же он их оставить на поверхности озера на все время своего отсутствия. С этого момента жизнь всех находящихся на «Римэмбере» зависела всецело от возвращения Красного Капитана. Какой-нибудь несчастный случай или преступление, могущее помешать его возвращению, — и этот металлический гигант, которого никто из оставшихся в нем не мог ни открыть, ни сдвинуть с места, неминуемо должен был стать гробом для всех этих людей!
Едва только люк «Римэмбера» закрылся, как Иванович почувствовал невыразимую жуткость от сознания, что он заключен, замурован в этом металлическом футляре, тогда как раньше эта мысль никогда не приходила ему в голову. «Что же делать? — думал он. — Что делать?!. Ах, вот что! Я выйду в перегородку тамбура, открою наружную дверь и вырвусь на свободу, отделавшись только не совсем приятным купанием!»
И под влиянием этих мыслей он пошел в выходному отверстию и хотел проверить, хорошо ли он запомнил, как именно капитан приводил в действие эту дверную пружинку. Но едва он коснулся пальцем до кнопки, как почувствовал сильный удар электрического тока, отбросивший его далеко на другой конец комнаты. Он поднялся на ноги с болезненным ощущением во всем теле.
— Ого! — воскликнул Иванович. — Как видно, Красный Капитан не доверяет мне! Посмотрим! Он мне за это заплатит!.. Пусть он бережется!..
Между тем тот, кому грозился Иванович, быстро несся на «Лебеде» по направлению к самой пустынной части берега, выискивая наиболее удобное место для стоянки своего судна. Не имея возможности оставить судно на несколько суток на воде, он должен был подыскать такое место для стоянки, где его можно было бы совершенно укрыть от посторонних взглядов, так как опустить его на дно тоже было невозможно: на «Лебеде» не было никого, кто бы мог заставить его в момент надобности опять подняться на поверхность.
Найдя наконец подходящее место, где диковинный спутник «Римэмбера» мог быть совершенно бесследно скрыт за лианами, прибрежными кустами и деревьями, капитан приказал, чтобы никто не смел сходить на берег, и, цепляясь за кусты и деревья, вышел на берег.
Небо начинало бледнеть; время близилось к восходу. Осмотрев внимательно свое ружье и револьвер, Красный Капитан с наслаждением вдохнул в себя свежий утренний аромат мелии и других растений и собрался уже двинуться в путь, когда ему послышался шорох в кустах, по ту сторону отмели. Он прислушался; легкий шелест листьев повторился еще раз, затем все стихло. Желая узнать, в чем дело, Джонатан Спайерс направился к этим кустам и обыскал их длинным дулом своего ружья, — никого и ничего не было.
«Верно, какой-нибудь зверек, которого я потревожил раньше времени», — решил капитан.
Вдруг у него мелькнула мысль, что появление в этих местах приличного европейца, хотя бы даже и в поношенном платье, без провожатых, без слуг, должно было показаться странным и подозрительным, и, одумавшись, он позвал одного из своих негров и приказал ему сопровождать себя.
Едва он успел скрыться из виду, как кусты, соседние с теми, которые он так тщательно обыскивал, неслышно раздвинулись, и в них появилась размалеванная физиономия туземца в военном уборе; невыразимое злорадство отражалось на этом лице, и что-то кровожадно-жестокое светилось в его глазах, так что даже и самый смелый человек мог бы устрашиться при виде его. Трижды он пропел, как молодой жаворонок, пробуждающийся на рассвете, и почти в тот же момент по этому условному знаку другой туземец, не кто иной, как Коанук, показался из того самого куста, который только что обыскивал капитан. Ему удалось укрыться только благодаря довольно глубокой яме, совершенно скрытой кустами, куда он залез.
Счастье, что поиски Джонатана Спайерса не увенчались успехом, так как Коанук уже приготовился всадить в него нож, а Виллиго не задумываясь пустил бы в него свой бумеранг.
Переглянувшись с Виллиго, так как туземец, пропевший жаворонком, был не кто иной, оба нагарнука поползли беззвучно к тому месту, где находился «Лебедь». Чтобы не быть замеченными, они ползли обходом; вдруг по знаку Виллиго оба вскочили разом на ноги, как два тигра, готовые броситься на добычу; бумеранги их высоко пролетели в воздухе, и оба оставшиеся на «Лебеде» человека с раздробленными черепами упали на край открытого верхнего люка.
С криком торжествующей радости оба туземца бросились к диковинному судну, спугнув целую стаю диких лебедей.
IX
Рассуждения графа д'Антрэга. — Приготовления к празднику. — Статуя Дика. — Честолюбивые замыслы Джонатана Спайерса. — Виллиго и Коанук на страже.
Проведя целую ночь в упорном размышлении о причинах всего случившегося на озере, Оливье пришел к убеждению, что в данном случае они имели дело с подводной лодкой, пользующейся электричеством. Блуждающий и ныряющий огонь, горящий даже под водой, был, несомненно, электрическим фонарем. Точно так же почти беззвучную гибель «Феодоровны» можно было приписать только электричеству. И все эти предположения как нельзя более согласовались с тем, что писал барон де Функаль.
Таким образом, в общих чертах Оливье был прав в своих предположениях; теперь оставалось только решить важный вопрос, следовало ли все это приписать враждебным действиям его заклятого врага, «человека в маске». «Без сомнения, да!» — решил молодой граф, хотя вместе с тем сознавал, что вокруг его предположений группируется целый ряд всяких более или менее серьезных невероятностей, которых он не умел рассеять, хотя бы начиная с того, какими судьбами могла попасть в озеро Эйрео подводная лодка, подвоз и доставка которой даже в разобранном виде не могли пройти незамеченными. Затем, не менее необъяснимым явилось еще и то обстоятельство, что этот представитель Невидимых, или «человек в маске», выказывавший себя всегда чрезвычайно ловким и осторожным, имевший обыкновение наносить решительный удар именно в тот момент, когда этого всего менее ожидали, на этот раз точно умышленно вздумал похвастать своими средствами истребления прежде, чем покончить с ненавистным врагом. Без сомнения, вся эта комедия, разыгранная накануне с Ле Гюэном, имела свою цель: его хотели выманить на озеро, привлечь любопытством. Но затем, почему же этот ловкий, жестокий человек не затопил вслед за «Феодоровной» и «Марию», как того ожидали все бывшие в эту ночь на озере? Ведь таким образом борьба была бы разом окончена и вместе с тем это было бы прекрасное отомщение за обвал в Рэд-Моунтэне?
Как мог этот ловкий человек не подумать о том, что после последнего эксперимента ему невозможно будет вторично выманить графа на озеро и что ему теперь придется подстерегать и преследовать его на суше, что будет несравненно труднее благодаря его многочисленным друзьям, искренне расположенным к нему туземцам, нагарнукам, многочисленным приисковым рабочим и хорошо защищенному и прекрасно охраняемому жилищу. Все это вместе взятое, несомненно, сильно осложняло и без того нелегкую задачу «человека в маске», которому, так сказать, приходилось теперь начинать борьбу снова и при менее благоприятных для него условиях, чем в первый раз.
Никакого объяснения всему этому Оливье не мог подыскать; одну минуту у него мелькнула даже мысль, уж не шайка ли смелых пиратов явилась сюда с целью разграбить прииск. Но такое предположение страдало не меньшею невероятностью, а письмо Люса прямо предостерегало против возобновления враждебных действий со стороны Невидимых и даже указывало на электричество как на средство борьбы.
Ранним утром в комнату графа вошел канадец, взволнованный последними донесениями туземцев, которые пришли сказать ему, что под утро, перед рассветом, они видели большой черный продолговатый предмет, всплывший на поверхность озера и направившийся к верхней части озера.
Дик чистосердечно заявил, что, хотя он и не отрекается от своей веры в сверхъестественное, тем не менее и ему кажется, что разрезать целое судно пополам и затопить его в несколько секунд, пожалуй, все-таки не под силу привидению.
После этого друзья приступили к разработке плана защиты на следующие дни.
— Признаюсь, дорогой Дик, я бы лучше хотел составлять план нападения, а не защиты! Мне хотелось бы поскорее покончить со всей этой историей: меня положительно выводит из себя мысль, что самый непримиримый враг мой здесь, под водами нашего озера и я ничего не могу предпринять, чтобы уничтожить его!
— Но каким образом очутились они здесь, эти Невидимые? — заметил Дик.
— Этого я не знаю, — сказал Оливье, — во всяком случае, надо им отдать справедливость: они сумели это сделать, не быв никем замеченными. Ах, если бы только Джильпинг был здесь: он такой высокообразованный, можно сказать, ученый человек, при всех своих чисто британских недостатках, что с ним вместе мы могли бы придумать что-нибудь дельное и выступить, вооружившись, наукой против их науки.
— Что же нам мешает сходить за Джильпингом и привезти его сюда?
— Я уже подумывал об этом! — признался молодой граф.
— Вооружим наших приисковых рабочих, захватим с собой человек 50 нагарнуков, и нготаки волей-неволей принуждены будут отпустить его с нами.
— Ну, а если ваш англичанин задался мыслью обратить в христианство нготаков, так он, пожалуй, сам не пожелает идти с нами.
— Не думаю, — возразил Оливье, — коллекции его почти закончены, как он сам пишет, и, вероятно, ему уже надоело разыгрывать кобунга. Кроме того, если его запасы консервов, знаменитого честера, неизбежного бренди и виски истощились, то он будет вдвойне рад последовать за нами.
— Прекрасно! — согласился Дик. — Так когда же мы отправимся?
— После празднества, которое мы справляем в честь вас, мой добрый друг!
— Ну, и без этого можно было бы обойтись! — скромно заметил старый траппер. — Я весь день не буду спокоен и все буду опасаться, как бы ваши враги не воспользовались этим временем, чтобы предпринять что-нибудь для вашей гибели!
— Не бойтесь ничего, милейший Дик, я уверен, что нам сейчас не грозит ни малейшей опасности; что-то говорит мне, что мы на этот раз восторжествуем над всеми их кознями и происками!
— Услышь вас Бог! — набожно проговорил канадец. — Но что меня удивляет, так это то, что Виллиго и Коанук до сих пор еще не вернулись. Я условился ждать их здесь с восходом солнца, чтобы узнать от них, что они видели или заметили ночью. Все остальные ночные стражи оставались все время на своих постах и все уже побывали здесь, а Черный Орел и Сын Ночи должны были совершать все время обход и наблюдать повсеместно.
— Солнце еще не взошло, — возразил Оливье, — даже «Мария» еще не начинала своего салюта; а Виллиго, вероятно, захотел пройти через свою деревню, чтобы отдать распоряжение относительно празднества, тем более что это вместе с тем одно из их величайших религиозных торжеств.
В этот момент грянул пушечный выстрел: то «Мария» начинала свой салют. Мгновенно десятки радостных голосов с берега и с судна огласили воздух громкими «виват» в честь виновника торжества, одинаково любимого и чтимого как туземцами, как и приисковыми рабочими. Вслед за этим приисковые рабочие, в полном своем составе и с Коллинзом во главе, двинулись по направлению к дому, неся род носилок из веток зелени, на которых виднелся какой-то громоздкий предмет, окутанный холстом.
Дик в сопровождении Оливье вышел на крыльцо встретить поздравителей, и Коллинз после краткой, но прочувствованной речи откинул холст с принесенного рабочими предмета. Возглас удивления и восторга вырвался разом из всех уст. То была статуя канадца в натуральную величину в его обычном наряде траппера, с ружьем в руке, вылитая из чистейшего золота с Лебяжьего прииска. Она весила 70 килограммов и по местной, мельбурнской, оценке, стоила 46, 892 доллара и 16 центов; рабочие выплатили это из их собственных прибылей. Даже участие Оливье в этом подношении было энергично отклонено рабочими, которые желали изобразить на пьедестале этого памятника трогательную надпись:
«Дику Лефошеру от рабочих Лебяжьего прииска».
Под этими словами стояли имена жертвователей.
Эта грандиозная статуя являлась настоящим произведением искусства и была выполнена одним флорентийским художником, которого злополучная судьба случайно занесла в Австралию.
В одну из своих поездок в Мельбурн, Оливье и Дик заказали ему свои бюсты из терракоты, а впоследствии бюст Дика послужил моделью и для статуи канадца. Старик, которому благодаря этому обстоятельству не нужно было позировать для статуи, конечно, никак не мог предполагать подобного сюрприза и был им тронут до слез.
Он был изображен в полном своем охотничьем снаряжении, с ружьем в руке и охотничьей фляжкой у пояса, с подвешенной к нему шкурой морской выдры и сетями, силками и капканами, лежащими на земле у его ног.
Но где же был Виллиго, его верный и добрый друг? Разве его место было не здесь в эти торжественные минуты? Нужна была какая-нибудь очень уважительная причина, чтобы удержать его вдали от него в этот день. Не вытерпев долее, Дик отправил в нагарнукскую деревню гонца с поручением узнать, что с Виллиго и где он находится в данный момент.
Громадные столы были накрыты для гостей с самого раннего утра и уставлены вкусными яствами; еще накануне ради этого торжества зарезали двух быков и 6 баранов, и теперь мясо их в жареном и вареном виде со всякими приправами предлагалось гостям. У туземцев не понимают праздника, если не представляется возможности есть сколько влезет в продолжение всего дня, с рассвета и до поздней ночи, не соблюдая ни времени, ни меры. Для европейцев же, главных вождей и старшин дружественных нагарнуков готовился особый банкет в 6 часов вечера, после которого предполагалось пустить фейерверки.
Целые бочки вина и эля были расставлены на высоких подставках для утоления жажды гостей, но водка всех видов и всякие другие спиртные напитки были совершенно изгнаны со столов пирующих и вообще изъяты из употребления во Франс-Стэшене. Несмотря на это, начавшийся праздник, как и все празднества туземцев, должен был окончиться оргией, даже и без содействия алкоголя. Предоставив гостям из туземцев и рабочих прииска угощаться за приготовленными для них столами, хозяева в сопровождении нескольких привилегированных гостей направились в столовую, где была приготовлена мелкая закуска, в ожидании парадного завтрака.
Едва хозяева и гости собирались подойти к столу, как один из слуг доложил, что какой-то неизвестный белый в сопровождении слуги-негра явился сюда и просит разрешения представиться хозяевам дома. Прибытие чужеземца, тем более белого, в этой части Австралии являлось настоящим событием; гость мог только быть или бродягой, или же порядочным джентльменом, путешествующим для своего удовольствия. Но и в том, и в другом случае всякий помещик и фермер обязан был оказать ему гостеприимство в продолжение трех суток; таков был колониальный закон, и это вменялось в обязанность каждому приобретающему участок земли.
Если вновь прибывший производил с первого взгляда впечатление бродяги, ему отводили помещение где-нибудь в службах, но дальше от господского дома и, продержав его установленные три дня, предлагали ему убираться подобру-поздорову, снабдив его съестными припасами на несколько дней и кое-какой одеждой, если он в этом нуждался. Если же, напротив, прибывший оказывался приличным джентльменом, то все ему были чрезвычайно рады, так как его прибытие нарушало обычное однообразие жизни.
Услыхав о прибытии белого, Оливье распорядился попросить его войти в дом и сам со своими гостями пошел навстречу. Как нам уже известно, это был не кто иной, как капитан Джонатан Спайерс.
Он вошел свободно и непринужденно, с видом человека из хорошего общества и с первой же минуты расположил к себе все сердца.
— Вы меня извините, господа, что я явился сюда без всякой иной рекомендации, кроме своей личной! Я Джонатан Спайерс, инженер по профессии, приехал сюда отчасти для своего удовольствия, отчасти — для изучения почвы и руды. Но я, право, страшно сконфужен, так как являюсь нарушителем какого-то собрания, быть может, даже семейного праздника…
— Ах, нисколько. Все мы сердечно рады! — возразил Оливье. — Вы действительно не ошиблись: это настоящий семейный праздник, в котором мы просим вас принять участие; мы празднуем сегодня день рождения лучшего из людей, которого все мы чтим, как родного отца… Дик Лефошер — владелец Лебяжьего прииска! — добавил граф, представляя гостю своего друга.
— Совместно с вами, мой милый Оливье, — поправил его канадец, — позвольте вам представить: граф Лорагюэ д'Антрэг, мой компаньон и лучший из моих друзей!
Пожав друг другу руки, все направились в столовую, где ожидала закуска. В дверях столовой Дик заметил слугу, посланного им в деревню нагарнуков; он подозвал его к себе и спросил:
— Ну, что? Где Виллиго?
— Его никто не видел со вчерашнего вечера, ни его, ни Коанука! — был ответ.
— Хорошо, не уходи, ты мне скоро понадобишься!
Между тем, пока провозглашались тосты, чокались и перекидывались дружескими словами под общий говор и смех, Джонатан Спайерс не переставал наблюдать за молодым графом, мысленно обдумывая план овладеть им теперь же и таким образом разделаться со своим обязательством по отношению к Ивановичу и вернуть себе полную свободу действий.
От одного из служащих на телеграфе, проведенном между Франс-Стэшеном и Мельбурном, Красный Капитан узнал, что отношения между Англией и Соединенными Штатами обострились и внушительный английский флот крейсирует в Ла-Манше, ожидая предписания выйти в Атлантический океан. У Красного Капитана явилась мысль уничтожить этот флот с помощью своего «Римэмбера» и двух его спутников, управление которыми он собирался поручить Дэвису и Ивановичу.
Какая громкая реклама! Какое удовлетворение его честолюбия, когда во всех газетах, европейских и американских, будет сказано: «Американец Джонатан Спайерс, прозванный Красным Капитаном, уничтожил английский флот с помощью своей воздушной флотилии, состоящей из усовершенствованных аэропланов его собственной конструкции!»
Но с этим надо было спешить; быть может, уже теперь политические сношения между обеими нациями были прерваны; известие об этом ожидалось с часу на час.
За отсутствием дорог и регулярной почты все крупные землевладельцы Центральной Австралии на общий счет провели к себе телеграф, благодаря которому ежедневно получались важнейшие известия из австралийских портов, из Европы и Америки, курс биржи Сиднея и Мельбурна, словом, все, что было важнейшего и необходимого для жителей Центральной Австралии.
Известие о натянутости взаимных отношений Англии и Америки совершенно изменило планы Красного Капитана. Он жалел теперь о потерянном времени и спешил захватить и доставить молодого графа в Петербург.
— Всякий план, чем он проще, тем лучше, — рассуждал капитан, — в этот же вечер, когда все будут заняты фейерверком, я отправлюсь на «Лебедь», вернусь на «Римэмбер», подымусь на поверхность и оставлю его с раскрытым верхним люком, под прикрытием прибрежных кустов и лиан, в нескольких саженях от набережной. Мне будет вовсе не трудно заманить молодого графа в пылу разговора к этим прибрежным кустам, где я спрячу пять своих матросов. Они набросятся на графа и стащат его в открытое отверстие «Римэмбера» даже на глазах его друзей, которые не успеют вступиться за него. «Римэмбер» сейчас же канет под воду, а в нескольких саженях взовьется под облака и направится в Европу. Но для всего этого необходимо заручиться полным доверием молодого графа, приучить его к себе и склонить под вечер на маленькую прогулку вдоль набережной.
Вскоре капитан убедился, что молодой граф легко поддается его настояниям и ничто не помешает исполнению его плана. Оливье был крайне предупредителен и внимателен к нему, и, даже отвлеченный на короткое время своими обязанностями хозяина от капитана, тотчас же спешил к нему извиниться.
— Ах, пожалуйста, — успокаивал его Джонатан Спайерс, — я вполне понимаю ваши хозяйские обязанности и отнюдь не претендую. Мне хотелось только попросить вас об одном, а именно: я слышал, что здесь сегодня должно состояться большое туземное празднество, и мне хотелось бы во время его оставаться подле вас, так как вы могли бы дать мне кое-какие разъяснения местных обрядов и обычаев.
— О, с большим удовольствием! Но, к сожалению, я в данном отношении почти такой же новичок, как и вы, так как впервые присутствую на празднестве Огня!
— А-а… Наконец-то! — воскликнул Дик. — Вот и Виллиго и Коанук!
— Кто такой Виллиго? — спросил гость.
— Виллиго — один из главных вождей племени нагарнуков, это — неразлучный друг и товарищ моего друга Дика, а Коанук — молодой воин того же племени, его родственник и бессменный адъютант! — отвечал Оливье.
В этот момент Виллиго торжественно вошел в комнату в сопровождении своего молодого друга. Их вид произвел на Джонатана Спайерса сильное впечатление, особенно их пестрая и яркая татуировка на едва прикрытом теле, с высоко зачесанными волосами, убранными пучком перьев. Величественный и грозный Виллиго нимало не походил на тех туземцев, каких видел здесь до сих пор Красный Капитан. А пленник его, тощий и слабенький нагарнук, не мог дать ему настоящего представления о своем племени.
Теперь перед глазами капитана были две внушительные фигуры, с широкой, мощной грудью, сильными руками и ногами и энергичными, выразительными чертами лица, конечно, не греческого типа, но все же не уродливыми и не безобразными. Не желал бы я иметь их своими врагами!» — мысленно воскликнул капитан, следя глазами за двумя нагарнуками.
Между тем Виллиго подошел к Дику и дружески пожал ему руку.
— Я тебя ждал с рассветом! — с дружеским упреком заметил канадец.
— Я хотел освидетельствовать побережье на возможно большем протяжении, и мы зашли так далеко, что не успели вернуться сюда раньше! — отвечал Виллиго, не подавая вида, что произошло нечто необычное. Таково было его правило — никогда никому не сообщать ни о чем и во всем рассчитывать только на самого себя и на своих одноплеменников, сохраняя за собою свободу действий.
— Что нового? — спросил Дик.
— Ничего, Тидана! — коротко ответил вождь.
— Вам надо больше, чем когда-либо, охранять Оливье, — сказал канадец,
— мне кажется, что никогда еще ему не грозила такая опасность, как теперь.
— Тидана знает что-нибудь? — спросил Виллиго.
— Ничего, кроме того, что все мы видели вчера! Но и этого довольно!
— А что Тидана думает о том, что мы вчера видели? — осведомился снова туземец.
— Я полагаю, что ни ваши каракулы, ни наши призраки, в которых верят наши моряки, не могут разрезать в одну секунду целое судно пополам и потопить его, как щепку. По моему мнению, злые люди утащили «Феодоровну» и утащили ко дну Таганука!
— Так, значит, Тидана думает, что белые люди могут жить под водой и что сейчас на дне нашего озера есть люди, которые опасны для твоего друга?
— Это возможно, Виллиго! Мне только сегодня сообщил Оливье, что подводные лодки давно придуманы и давно существуют, но что ими еще мало пользуются только потому, что в случае порчи механизма это очень опасно для жизни людей; кроме того, трудно запасать достаточное количество воздуха, необходимого для дыхания людям. Но, быть может, теперь придумали, как устранить и эти неудобства.
— Да!.. — задумчиво протянул Виллиго. — Оливье так же мудр, как старейшие в Совете. В этой молодой голове много всяких знаний, которых нет даже в голове, убеленной сединами!
— Предупредил ты своих воинов, чтобы они все были наготове, на случай надобности? — осведомился Дик.
— Все уже вырыли топор из-под порога своих хижин, — ответил Виллиго, — и завтра все озеро будет оцеплено нашими воинами, а пока Никуба, Ви-Вага, Ваиа-Нанди, Муоигонг, Пороэ и Отунэ ждут у дверей. Они весь день будут окружать Юного Опоссума, — как называл иногда Виллиго Оливье, — и не будут спускать с него глаз.
— Мы больше, чем когда-либо, рассчитываем на тебя, Черный Орел! Есть только одно средство покончить разом навсегда эту травлю, это — овладеть «человеком в маске» и приковать его к столбу пыток!
— Черный Орел позаботится об этом! — спокойно и величественно сказал Виллиго и стал оглядываться, чтобы отыскать в толпе Оливье и поздороваться с ним.
Вдруг глаза его налились кровью; выражение лица стало страшным, хотя ни один мускул его не дрогнул: Черный Орел увидел подле Оливье Красного Капитана, того самого человека, которого он с Коануком выследил сегодня утром. Однако он и теперь не сказал никому ни слова.
Спокойный и радостный, он направился с протянутой рукой к Оливье, который весело и сердечно приветствовал его.
— Славнейший из вождей австралийских, Черный Орел, — представил его граф своему гостю, — и вместе с тем наш лучший и надежнейший друг! — Затем, обращаясь к Виллиго, прибавил: — Мистер Джонатан Спайерс, американский инженер, пожелавший на короткое время быть нашим гостем!
Американец протянул руку, но Виллиго, не желая принять ее, отдал ему поклон по туземному обычаю, то есть наклонившись вперед и закрыв лицо обеими руками. После этого Виллиго умышленно громко заявил графу, что он, Черный Орел, сформировал для графа почетную стражу из лучших своих воинов, которые ни на минуту не будут покидать его ни днем, ни ночью.
«Что за дурацкая мысль пришла этому проклятому дикарю, — подумал про себя Джонатан Спайерс, — это может в значительной степени помешать моим планам!» Он еще раз пожалел о своих бесполезных забавах в течение последней и предшествующей ночи, которые только предостерегли об опасности этих людей и осложнили его задачу.
— Впрочем, несколько револьверных выстрелов легко образумят их! — закончил он свое рассуждение и на этом успокоился.
Но с этого момента он стал чувствовать себя как-то неловко под упорным взглядом туземца, который, казалось, проникал в самую глубь его мыслей. И он, человек с железной волей, которого ничто не страшило и не смущало, самое имя которого являлось синонимом холодной жестокости и отчаянной смелости, чувствовал себя неприятно и неловко под этим взглядом; он испытывал какое-то непреодолимое чувство смущения, почти пришибленности в присутствии этого дикаря-австралийца, которого до сих пор считал немногим выше обезьяны.
Продолжая разговаривать с Оливье, капитан сделал едва приметный жест рукой своему негру, который тотчас же уловил и понял его, и самым непринужденным образом вышел из дома.
Можно было подумать, что Черный Орел сознавал производимое им на чужестранца впечатление, так как он, видимо, умышленно продолжал мучить его своим настойчивым, испытующим взглядом. Но, обменявшись несколькими пустыми фразами с некоторыми из присутствующих, он вдруг, к невыразимому удовольствию американца, решительным шагом вышел из зала. Коанук, как верная тень, последовал за ним.
Оба не спеша прошли через сад и эспланаду, ведущую от дома к берегу озера. Но едва они исчезли из глаз обитателей дома и гостей за ветвями прибрежных порослей и кустов, как, прижав руки к бедрам и вытянув вперед шеи, пустились бежать по направлению к тому месту, где на рассвете подстерегали «Лебедя».
X
Внезапное нападение. — Захват «Лебедя». — Убийство негра Джонатана Спайерса. — Старые знакомцы. — Десять лет назад спасен им.
Виллиго, разделяя отчасти суеверные предрассудки своего племени, все же был выдающегося ума человек и потому не верил безапелляционно всем басням и рассказам своих колдунов-жрецов, но из традиции поддерживал престиж этих колдунов, исполняющих роль священнослужителей во всех религиозных торжествах и обрядах, при которых всегда неотступно присутствовал, подавая остальным пример уважения к ним.
Это, однако, не мешало рассуждать совершенно так же, как Дик по поводу вчерашних событий, и внутренне отрицать возможность или вероятие вмешательства каракулов или злых духов в события этой ночи.
Решив не спускать глаз с озера до тех пор, пока какой-нибудь факт не явится подтвердить или опровергнуть его предположения, Виллиго был несказанно обрадован, когда увидел незадолго перед рассветом, что вода в озере в одном месте запенилась, как будто что-то двигалось под ней, вслед за тем на поверхности появился какой-то громадный черный предмет, раза в четыре больше самой «Феодоровны» и ее вчерашнего таинственного спутника, но совершенно тождественный с последним по внешнему виду; по обе стороны этой черной громады виднелись еще два таких же черных выпуклых предмета, как бы прикрепленных к ней. Коанук, который также не дремал, тоже видел все.
Благодаря счастливой случайности Виллиго и Коанук избрали местом наблюдения как раз ту часть берега, которая находилась против того омута, где устроил себе стоянку Джонатан Спайерс. Таким образом нагарнуки видели, как раскрылся на «Римэмбере» верхний люк и как из него появился сперва один человек, вслед за ним еще три, и все четверо перебрались на находящийся слева черный плавучий предмет малых размеров.
Эти четыре человека, представлявшихся нагарнукам лишь в виде темных силуэтов на темном фоне ночного неба, не проронили во все время ни слова, не произвели ни малейшего шума, так что их можно было принять за привидения.
Жуткое чувство суеверного страха начало было овладевать душой Виллиго, когда он с чувством невероятного облегчения явственно расслышал произнесенные шепотом слова двух людей: «Все благополучно, капитан» — и ответное: «Хорошо!»
Значит, это действительно были белые люди, и туземцы мгновенно вернули себе обычное самообладание.
Едва прозвучали эти слова, как верхний люк на черной громаде бесшумно захлопнулся, и она исчезла под водой; маленькое же чудовище, на которое перешли четыре человека, быстро направилось к верхней части озера, придерживаясь берегов.
Тогда Виллиго и Коанук пустились бежать со всех ног в том же направлении, но им, конечно, невозможно было догнать этот черный плавучий предмет, если бы он вскоре не замедлил ход, как бы присматриваясь к берегам и выбирая для себя удобную пристань. Отыскав, по-видимому, то, что им требовалось, пассажиры плавучей громады двинули ее прямо к берегу, и как раз в это время Виллиго и нагарнук успели притаиться в прибрежных кустах, где могли свободно наблюдать, не будучи замечены никем.
Что было дальше, уже известно читателю. Убедившись в том, что оба стража «Лебедя» мертвы, Виллиго и Коанук привязали мертвым по камню к ногам и спустили их в воду, так чтобы тела их не могли всплыть и послужить предостережением их товарищам. Покончив с этим, они отправились на странное судно, очень походившее по своему наружному виду на громадную рыбу. Но смотреть здесь оказалось нечего: открытый люк давал доступ в довольно просторный коридор, куда выходило четыре двери, две по обе стороны судна, одна в конце и одна в начале коридора.
Виллиго, желая надавить одну из дверных ручек с целью открыть дверь, был отброшен с такой силой, что едва не переломил себе спины о лестницу люка. Напуганные этим, дикари поспешили вылезти на палубу и выпрыгнуть на берег.
Что это была за сила, которая так давала чувствовать себя? Они отлично знали, что на таинственном судне не осталось никого; на него взошли четыре человека, из которых двое были мертвы, а другие двое отсутствовали. При этом они вспомнили «Феодоровну», которая почти беззвучно пошла ко дну без всякой видимой причины. Неужели эти белые обладают каким-нибудь могучим фетишем, который охраняет их судно в их отсутствие? Но в таком случае, рассуждал Виллиго, почему же этот фетиш не защитил их самих от бумерангов нагарнуков, не помешал им даже войти на судно?.. «Жалкий фетиш, который умеет только охранять ручки дверей!» — презрительно подумал Виллиго. И вдруг вспомнил, что уже испытал однажды совершенно подобный же толчок, но только в несравненно слабейшей степени, при прикосновении к маленькому металлическому шарику какой-то машины, когда он смотрел, как проводили телеграф во Франс-Стэшене. И Оливье, который вращал в это время какое-то стеклянное колесо, весело смеялся над вождем, прикоснувшимся к аппарату.
Вспомнив это, Виллиго вторично отправился на судно с Коануком и убедился, что, кроме дверных ручек, можно было безнаказанно касаться всего
— стен, пола, планок, перегородок, — всего, кроме металлических кнопок. Теперь являлся вопрос, каким образом могли эти белые люди управлять этим странным судном. Ведь оба, и Виллиго, и Коанук, видели, что все четверо белых сидели наверху, на палубе, спустив ноги в открытый люк. Тогда Виллиго вспомнил опять, что механик «Марии» приводил машину в действие посредством простого рычага, и старался сопоставить оба эти факта, но, не придя ни к чему, стал рассуждать так:
— Раз эти люди сидели на палубе, то следует искать на палубе какого-нибудь такого же рычажка! — И он принялся шарить руками по палубе на таком расстоянии, на какое могла хватить рука человека, сидящего на краю люка. Он стал попеременно надавливать листы обшивки, пытаться приподнять их, как крышку коробки, или сдвинуть их вправо или влево, на себя или от себя. Долгое время все его усилия оставались тщетными; наконец глухое восклицание вырвалось из его уст: узкая полоска меди, по-видимому скреплявшей между собой листы полированной стали обшивки, скользнула у него под рукой, обнаружив небольшое углубление в 20 сантиметров, в глубине которого были расположены в три ряда 10 хрустальных кнопок, по три вверху и внизу и четыре посредине.
«Очевидно, эти кнопки не должны производить толчков, — решил Виллиго,
— иначе зачем бы их так хитро запрятывать?» Чтобы убедиться в справедливости своих рассуждений, он коснулся каждой из них слегка пальцем, полагая, что чем легче будет прикосновение, тем слабее будет толчок, если только он должен произойти.
Однако никакого толчка он не почувствовал.
— Ага! — весело крикнул он. — Здесь нет невидимых кулаков! — И он позвал Коанука, притаившегося на берегу, чтобы успеть вовремя предупредить Виллиго в случае неожиданного возвращения белого хозяина этого судна: судя по тому, что капитан ушел в охотничьем снаряжении, Виллиго, никак не предполагавший, что он осмелится явиться в дом Дика и Оливье, думал, что он ушел просто поохотиться в лес и мог каждую минуту вернуться.
— Виллиго нашел секрет, как управлять этим судном! — с гордостью заявил вождь своему юному другу.
— Ну так пусти его в ход! — воскликнул молодой нагарнук, слепо веривший во всем Черному Орлу.
Бедный Виллиго теперь внутренне сожалел о своем хвастливом возгласе, но, не желая уронить своего престижа в глазах юного воина, наугад нажал первую из кнопок. Каково же было его удивление, когда «судно» вдруг тронулось с места! Тогда Виллиго начал кнопку покрепче, и движение вперед заметно усилилось.
Тогда Виллиго, уже совершенно осмелев, нажал вторую кнопку, и судно стало плавно заворачивать налево, при более усиленном нажатии той же кнопки оно стало поворачивать вправо. Надавив третью кнопку, Виллиго убедился, что судно пошло назад. Теперь он знал, как дать передний ход, как — задний, как свернуть направо и как налево, и от восхищения забил в ладоши!
Каково же было действие остальных кнопок? После некоторого колебания он наконец осторожно нажал первую кнопку второго ряда, и почти машинально диковинное судно взлетело на воздух, как стрела, широко распустив по воздуху крылья. Виллиго громко вскрикнул от испуга и, бросив кнопки, ухватился обеими руками за края люка, чтобы удержаться на месте. Не будучи управляемо, воздушное судно стало медленно и постепенно опускаться на своих крыльях, игравших теперь роль парашютов; но так как первый импульс при подъеме его был слишком силен, то после подъема на 40 метров судно очутилось уже не над озером, а над берегом и потому плавно и спокойно опустилось на землю в нескольких саженях от воды. Трудно себе представить огорчение и разочарование Виллиго, мечтавшего уже увезти чудесное судно и запрятать его так, чтобы никто другой не мог его найти; но теперь, когда эта громадина очутилась не в воде, а на суше, как ее спрятать или столкнуть обратно в воду, где он мог так легко и свободно направлять его по своему желанию?
Вдруг Коанук воскликнул:
— Вождь, смотри, у нее колеса, как у тележек белых людей!
— Колеса! — повторил Виллиго, и это слово явилось для него настоящим откровением: очевидно, это судно может идти так же по земле, как и по воде или по воздуху, и недолго думая он нажал первую кнопку первого ряда. К его немалой радости, судно плавно и послушно покатилось вперед. Виллиго хотел было нажать вторую кнопку и отвести его обратно в озеро, когда ему пришло на ум, что белые люди, находящиеся на громадном чудовище, которое ушло под воду, могут обойти под водой все озеро и, наверное, найдут пропавшее судно, куда бы он его ни запрятал; это заставило его изменить план. Он нажал кнопку, и судно, ставшее громадным автомобилем, быстро покатилось вперед; он направил его в маленькую долинку в полумиле от озера и здесь, дав полный ход, загнал свой диковинный экипаж в узкое ущелье, усеянное обломками гранитных скал и заканчивающееся глубоким естественным гротом, уходившим в глубь горы на несколько сот метров. Сюда-то он и ввел свой «приз», будучи уверен, что, кроме него, никто не разыщет его здесь.
Сойдя с судна, Виллиго чувствовал себя как римский триумфатор; в нем проснулось чувство невыразимой и сладкой гордости. Он, нагарнукский воин, никогда нигде не обучавшийся никаким премудростям белых людей, сам, своим умом, без всякой посторонней помощи и всяких указаний разгадал секрет этих ученых людей, разгадал в несколько часов.
— Мату-Уи (Бог), — воскликнул он обращаясь к Коануку с чувством великой гордости, — создал белых людей для того, чтобы работать, как женщины, изобретать и придумывать множество вещей, но он создал черного человека с большим умом для того, чтобы тот, не трудясь и не работая, угадывал все их хитрости и смеялся над их коварством.
Коанук был положительно поражен, он в этот момент смотрел на возлюбленного вождя с чувством благоговейного уважения, почти трепетного страха, и ему думалось, то Великий Дух — Мату-Уи вдохнул в мозг Виллиго ум превыше обычного человеческого ума.
Между тем то, что сумел сделать Виллиго, было еще далеко не много; дело в том, что Джонатан Спайерс, сознавая, что ему рано или поздно придется поручить управление «Лебедем» и «Осой» кому-нибудь постороннему, распорядился провести на верхнюю палубу некоторые из простейших проводов, посредством которых можно управлять судном. Однако, управляя его движением, человек, знакомый с применением этих хрустальных кнопок, не знал ни одного из секретов механизма; он не мог ни привести в движение механизма в случае остановки, ни регулировать машин, вырабатывающих воздух или электричество, не мог приводить в действие электрические аккумуляторы, словом, не знал ничего из сложного механизма. Кроме того, предусмотрительный американец благодаря известному рычажку мог совершенно остановить действие этих кнопок или ограничить ток известным временем, несколькими часами, сутками или месяцами или действие всего механизма или отдельных частей его, смотря по желанию.
Таким образом, оба судна, даже управляемые кем-нибудь посторонним, все же оставались в полной его зависимости; но так как, уходя, капитан, не предвидевший того, что произошло в его отсутствие, не принял этой меры предосторожности, то «Лебедь», черпавший свои запасы электричества из воздуха или воды, мог действовать в продолжение 50 лет, до полного износа некоторых своих частей.
Придя во Франс-Стэшен, Виллиго никому ничего не сказал ни слова о случившемся, точно так же и Коанук хранил полное молчание.
— Слишком много глаз, слишком много ушей, слишком много языков в большом доме, — сказал Виллиго, — и если Коанук не сумеет удержать своего языка, то Туа-Нох, прибывший сегодня утром, будет предупрежден, и нам не удастся захватить громадное чудовище! — Так Виллиго называл «Римэмбер».
— Коанук не женщина, и его язык не болтает без его воли! — отвечал в тон ему юный воин.
Когда же во время разговора с Оливье Джонатан Спайерс сделал знак своему негру, то Виллиго, от взора которого ничего не могло укрыться, разом понял, что Туа-Нох, то есть «восточная птица», как он прозвал Красного Капитана, посылал своего негра передать какое-нибудь приказание людям, оставшимся на судне. Чтобы не допустить этого чернолицего убедиться в исчезновении «нашего чудовища», Виллиго и Коанук пустились по его следам. Вскоре они нашли его и, забежав вперед и притаившись в кустах цветущего лавра, дали ему пройти мимо себя, затем разом, точно по команде, послали ему вдогонку свои бумеранги. Страшные орудия, попав негру в голову, уложили его на месте без стона, без вздоха.
Спустя несколько минут волны озера поглотили труп несчастного негра. Радуясь тому, что они лишили Красного Капитана последнего его союзника и всяких вестей о его судне, оба австралийца направились в свою деревню, где им предстояло исполнить свою роль на Празднике огня, который должен был начаться тотчас же по прибытии в деревню канадца и его друзей.
Виллиго был доволен собой, хотя не предвидел даже всей важности того, что ему удалось сделать. В самом деле, каким образом мог теперь вернуться на «Римэмбер» Красный Капитан? А если он не мог этого сделать, то что станется с остальными заключенными в подводном колоссе и лишенными возможности выйти наружу?
Действительно, если бы Джонатан Спайерс знал о случившемся, он, конечно, не последовал бы за гостеприимными хозяевами Франс-Стэшена в деревню нагарнуков, но он даже не подозревал, что мог лишиться благодаря пустячной случайности плода всех десяти лет своей трудовой жизни, своей смелой настойчивости, своих бессонных ночей.
В данный момент его всего более занимал один вопрос, над разрешением которого он трудился с самого момента своего знакомства с молодым графом. Все в этом молодом человеке — и звук его голоса, и фигура, и манеры казались ему знакомыми, точно он уже видел его когда-то, и, чем больше он прислушивался к его голосу, чем больше смотрел на него, чем больше приглядывался к нему, тем сильнее в нем сказывалось это впечатление.
Наконец он не выдержал и прямо обратился к молодому человеку за разъяснением мучившего его вопроса.
Идя подле графа по пути к большой деревне нагарнуков и беседуя с ним о том о сем, он вдруг прервал этот пустячный разговор словами:
— Простите меня, граф, но я положительно сгораю от нетерпения предложить вам один вопрос!..
— Сделайте одолжение, — воскликнул Оливье, — я весь к вашим услугам!
— Чем больше я на вас смотрю, тем более мне кажется, что я уже раньше когда-то имел удовольствие видеть вас! Скажите, моя наружность не кажется вам знакомой?
— Возможно, конечно, что мы с вами когда-нибудь встречались, но признаюсь, ваши черты не запечатлелись в моей памяти. Я много путешествовал! Вы, вероятно, тоже, а при таких условиях мимолетные встречи так часты, что их с трудом запоминаешь! Быть может, мы виделись с вами в России?
— Я совершенно не знаю этой страны!
— Так, может быть, во Франции?
— Тоже нет, я, как всякий американец, мечтаю о поездке в Европу, и главным образом во Францию, но до сих пор еще там не был!
— Ах, да, ведь вы американец; значит, мы, вернее всего, встречались где-нибудь у вас на родине!
— А какие города Америки вы изволили посетить?
— О, весьма многие… Нью-Йорк, Филадельфию, Балтимор, Цинциннати, Новый Орлеан, Сан-Луис, Сан-Франциско…
— Сан-Франциско?!
— Да, я состоял давно, лет десять тому назад, при нашем посольстве в Вашингтоне; в то время наш консул в Сан-Франциско заболел, и я был командирован временно исполнять его должность…
— Десять лет тому назад! — прошептал Джонатан Спайерс, разом побледнев как полотно.
— Что с вами? Вам, кажется, дурно! — участливо осведомился Оливье.
— Не беспокойтесь, граф… Это сейчас пройдет: я не мог сразу совладать со своим волнением! Позвольте мне рассказать, граф, один маленький случай!
— Сделайте одолжение, я вас слушаю! — сказал Оливье.
— Это было давно, лет десять тому назад. Однажды вечером на углу улицы Кияй, близ Вашингтонского сквера, молодой человек лет двадцати, доведенный нуждой, самой горькой нуждой до полного отчаяния, не находя нигде работы, в отчаянии решил наложить на себя руки и покончить расчеты с жизнью. Вдруг случайно проходивший мимо молодой человек приблизительно одних с ним лет, заметив его бедственное положение, подошел к нему, и, точно прочитав в его душе его намерение, достал из своего бумажника сто долларов и сунул в руку несчастного, сказав ему по-французски только два слова…
— «Работай и надейся!» — подсказал ему Оливье, стыдливо улыбнувшись.
— Так это были вы? Вы?! — воскликнул капитан. — Вы, которого я разыскиваю вот уже скоро десять лет, чтобы отблагодарить вас, чтобы сказать вам, что моя преданность вам безгранична, чтобы сказать, что та жизнь, которую вы тогда спасли, теперь всецело принадлежит вам!.. И я… и я… — Но он вовремя спохватился, что сознаться в том, что он виновник всего случившегося вчера, значило бы погубить себя навсегда в глазах графа и рисковать своей жизнью, так как все эти дикари набросились бы на него, чтобы отомстить за исчезновение нагарнука, и даже граф не мог бы защитить его от черной толпы.
— Так это были вы — тот молодой человек, которому мне случилось помочь, — сказал Оливье, — очень рад! Я часто потом думал о вас… Но я сейчас только припоминаю, что вы назвали себя Джонатаном Спайерсом. Неужели вы тот самый выдающийся изобретатель, подаривший нам столько полезных открытий, как лампочка вашего имени, рисующий телеграф и многие другие изобретения, сделавшие ваше имя столь популярным?!
— Да, я — тот самый Джонатан Спайерс!
— Гениальный изобретатель?!
— Благодаря вам, граф, не забывайте этого!
— Я счастлив, я горжусь тем, что случай помог мне спасти не только страждущего, нуждающегося брата, но и столь великого человека, который уже оказал и окажет еще, вероятно, столько услуг человечеству!
— О, вы преувеличиваете мои заслуги, граф! Всем, чем я стал, я обязан вам — и потому я рад посвятить вам всю мою жизнь.
— Нет, я принимаю только вашу дружбу и расположение! Но у меня явилась одна мысль… Ведь ты первый электротехник нашего времени; вы можете оказать мне громадную услугу, от которой для меня может зависеть не только моя жизнь, но и все счастье моей жизни!
— Надо ли мне говорить вам, что вы можете на меня рассчитывать!
— Сейчас я не стану говорить вам об этом: это слишком длинная история, а мы уже почти пришли к месту. Сейчас начнется торжество; а вечером все мы будем слишком утомлены. Но завтра поутру, если вы позволите, я зайду в вашу комнату и расскажу вам все!
XI
Торжество. — Происхождение, обычаи, нравы и верования «пожирателей огня».
В этот момент громкие крики приветствия огласили воздух; все, как один человек, приветствовали Тидану, этого любимого всеми приемного сына племени, и его друзей, сегодняшних гостей. Оливье, извинившись перед капитаном, направился навстречу вождям, которых он в свою очередь должен был приветствовать.
— Так это он, мой спаситель! — шептал про себя Джонатан Спайерс. — А я дал свое слово Ивановичу предать его или по крайней мере поставить его перед судом Невидимых! Я не могу сдержать этого обещания! Предать единственного человека, который пожалел меня и протянул мне руку помощи, о, никогда! Я ненавижу, презираю человечество, которое угнетает и попирает все слабое и беззащитное, осмеивает все святое и честное. Только грубая сила внушает страх и уважение и удерживает людей от их злодейств. Люди хуже зверей! Их следует держать под плетью, как собак, если кто не хочет, чтобы они хватали его за горло, и я буду уничтожать их беспощадно, срезать, как серп спелые колосья на ниве. Но неужели мне начать со своего благодетеля, с единственного человека, тронувшегося моим горем?! О, нет! Иванович должен вернуть мне мое слово; если он не захочет этого, я прибегну к своей силе. Разве не я господин?! — Он засмеялся едким беззвучным смехом. — О… мое слово! Когда кругом себя я вижу только ложь, обман, двуличие и злоупотребление силой, что обязывает меня так свято держаться своего слова? Если на свете царит сила… так я стану пользоваться своею силой! Предать единственного честного, открытого и доброго человека, которого я встретил в своей жизни?! Нет! Лучше я подожгу весь свет со всех четырех сторон!
При виде ласки и любви, с какой относились к Оливье нагарнуки, Джонатан Спайерс продолжал мысленно рассуждать.
— Ты сумел приобрести любовь даже этих дикарей, и тебе нечего бояться меня — я буду охранять тебя… Буду оберегать твое счастье, и, быть может, часть твоей радости, твоей доброты и человеколюбия проникнет и в мое скорбное сердце… А-а… эти Невидимые, твои враги! Так пусть они теперь дрожат!
И Джонатан Спайерс готов был сейчас же поспешить на «Римэмбер» и объясниться с Ивановичем, так как он чувствовал, что в отношениях последнего к графу кроется что-то иное, чем то, что он говорил ему, какая-то тайная ненависть, какое-то гадкое мстительное чувство. И вдруг многое, чему он раньше не придавал значения в поведении Ивановича, стало для него ясно, и он понял, что этот человек подличал, льстил и унижался, чтобы вкрасться в его доверие и вырвать у него тайну.
— А-а, я выведу его на чистую воду! Я доведу его и всю его шайку до полного бессилия! Я высмею их басню о владычестве над миром и торжестве славянской расы! Все это ложь и обман; вы просто алчная орда, сгребающая в свои руки капиталы, жаждущая власти и наслаждений и всяких житейских благ исключительно для себя и порабощающая массы запугиванием и угрозами, эксплуатирующая слабых и доверчивых в свою пользу. Теперь померяемся силами со мной. Вы, Невидимые, вы вечные эгоисты и эксплуататоры, вся социальная миссия которых заключается в разделении народов, в натравливании одних на других для того, чтобы самим в мутной воде ловить рыбу… О, вы вечно существовали, я знаю вас! Это вы кидали римскому народу в подачку хлеб и зрелища, чтобы превратить их в скотов и убить в этом народе всякое благородное, человеческое чувство! Это вы заливали кровью Азию, эту благословенную страну, до тех пор, пока под этим солнцем юга не осталось ничего, кроме человеческого праха! Это вы разжигали костры инквизиции! Вы заряжали аркебузы в Варфоломеевскую ночь… Да, это все делали вы, Невидимые. Разящую руку видит всякий, но руку, повелевающую всем, никто не видит! Но придет и ваш час! Вы представляете собою отжившие начала: невежество, насилие и суеверие, а «Римэмбер» — символ науки, разума и труда; это — начало будущего; «Римэмберу» суждено истребить вас, рассеять и стереть с лица земли!
Так рассуждал Джонатан Спайерс, не подозревая, что, быть может, в этот момент он уже бессилен и безоружен.
В первый момент он хотел было сейчас же бежать к берегу и вернуться на «Римэмбер», но затем одумался и решил прежде все узнать, а потом уже приступить к объяснению с Ивановичем.
Между тем праздник должен был уже начаться, так как все были в сборе.
«Праздник огня» редкому из путешественников случалось видеть, так как он происходит только при вступлении в обязанность нового Аруэнука, то есть «великого хранителя огня», что случалось только раз в полвека и даже реже, потому что должность Хранителя Огня пожизненная и переходит по наследству.
Название племени «нагарнуки» означает в переводе «пожиратели огня»; в этнографическом отношении происхождение этого племени, как и всех других племен Австралии, неизвестно.
Со слов первых путешественников, посетивших Австралию и видевших только жалких побережных жителей, питающихся исключительно ракушками, кореньями, травами и полусгнившей рыбой, выбрасываемой морем, долгое время полагали, что все жители Австралийского материка — низкорослые, рахитичные, уродливые чернокожие. Но затем, по мере более близкого ознакомления с туземцами, этот предрассудок был опровергнут.
В Австралии насчитывается около 14 или 15 типов туземного населения, причем с этнографической точки зрения некоторые из племен стоят несравненно выше желтой и монгольской рас. К числу таких принадлежали и нагарнуки, которые по формам тела, строению и общему физическому развитию не уступали лучшим человеческим расам. Что касается лица, то черты его, конечно, не столь прекрасны, как черты лица арийской или кавказской расы, но, во всяком случае, не лишены своеобразной красоты.
Однако и этим, более развитым племенам не удалось избегнуть общей участи туземцев.
Когда англосаксонская раса, сохранившая под личиной Высшей цивилизации и культуры всю грубость и жестокость примитивных народов, стала здесь беспощадно истреблять туземцев, то из 500000 или 600000 дикарей, населявших этот материк до прибытия сюда европейцев, осталось едва две-три тысячи душ. Страшно даже подумать о таком истреблении мирных жителей, коренных владельцев этой страны; даже сами англичане, сознавая это, стараются уменьшить свою вину, утверждая теперь, будто Австралийский континент насчитывал всего 100000 или 80000 жителей, а некоторые из них доводят свое бесстыдство даже до того, что говорят всего о 10 тысячах жителей. Но официальные документы некоторых более правдивых из их же администраторов страны явно противоречат им и называют цифру, упомянутую выше.
Установлено также официальными документами, что сначала австралийцы очень охотно принимали европейцев, что они усердно работали на них, не проявляя ни малейшей враждебности, и только впоследствии, в силу возмутительного отношения англичан, сердца их озлобились, и они начали выражать протест против их насилия, коварства и бесчеловечности.
Официально установлены следующие возмутительные факты:
1) Лейтенант Мур приказал стрелять в мирную толпу туземцев, состоящих из мужчин, женщин и детей, проходивших неподалеку от его жилища, просто ради забавы.
2) Солдаты и все вообще переселенцы, находясь в лесах на охоте, имели обыкновение стрелять в попадавшихся им навстречу туземцев.
3) Некоторые зажиточные колонисты убивали туземцев для того, чтобы кормить их мясом своих собак.
4) Англичане вырывали у туземцев их младенцев и для забавы кидали их в пламя костров, иногда на глазах обезумевших от ужаса матерей…
У англичан испокон веков существует два способа колонизации стран: если они захватывают в свои руки такую страну, как Индия, где их единоплеменники не могут управляться с землей по чисто климатическим условиям, они поощряют увеличение туземного населения с тем, чтобы превращать его в рабочую силу, которую они эксплуатируют всеми средствами, не говоря уже об обложении их непосильными податями и обременении принудительными работами, которые они считают унизительными для себя; если же они овладевают такой страной, как Австралия или Тасмания, где белые могут преуспевать без посторонней помощи, там они истребляют всеми средствами туземный элемент, не зная ни совести, ни сожаления.
Нагарнуки, так же как и береговые жители, не избежали этих массовых истреблений со стороны колонизаторов. Еще всего 150 лет тому назад их насчитывалось до 25 тысяч, а в 1869 году оставалось всего только 500 душ, считая в том числе женщин и детей. В настоящее же время осталось только несколько разрозненных семей. Таким образом погибло славное, здоровое и красивое племя туземцев, правда стоявшее еще на первых ступенях цивилизации, но которое было, как мы сейчас увидим, не более суеверно и не более дико, чем все остальные расы, достигшие впоследствии высших ступеней цивилизации.
XII
Нагарнуки. — Священный огонь. — Церемония посвящения в главные жрецы.
Нагарнуки живут исключительно охотой и рыбной ловлей; они не возделывают земли, хотя и питаются известными кореньями, например, гиньяма и таро, растущими только в Центральной Австралии в окрестностях озера Эйрео. Здесь же встречается и artocarpus, род хлебного дерева, о существовании которого в Австралии долго спорили. Туземцы знают также некоторые сорта трав и листьев, которые они употребляют в пищу, как мы салат и шпинат. Таким образом, пища нагарнуков довольно разнообразна и обильна, что в значительной мере влияет на красоту их телосложения и общее физическое развитие, а наряду с этим и на умственное развитие, как эта обыкновенно бывает.
Как известно, прежде чем заняться какой-нибудь работой, физической или умственной, человек в силу закона природы должен восстановить свои силы, постепенно расходуемые им, посредством пищи. И чем обильнее и питательнее эта пища, тем бодрее и сильнее чувствует себя человек, тем лучше в нем развиваются все его способности; чувствуя в себе избыток сил, человек ищет им применения. Когда же пища недостаточна, человек слабеет и телом, и духом; его организм, нуждающийся в поддержке, уродуется; умственные способности слабеют; человек, вместо того чтобы совершенствоваться, падает все ниже и ниже, опускаясь почти до уровня животного.
Нигде эта истина не подтверждается с такой ужасающей ясностью, как именно в Австралии.
У нагарнуков, находившихся в благоприятных условиях, даже социальные идеи достигали уже известной высоты; так, например, брак, усыновление, родительские чувства и общественные чувства признавались всеми представителями этого племени; даже понятия об обязанностях и чести стояли у них довольно высоко.
Согласно установленному обычаю, совсем не исключительно присущему этому племени, а встречающемуся у весьма многих примитивных народов, молодой воин, получавший посвящение посредством Священного Огня и, следовательно, причисленный уже к взрослым, похищал вооруженной силой себе жену из одного из соседних племен. Но это применение вооруженной силы уже давно являлось у нагарнуков простой символической формальностью; на самом же деле брак устраивался заранее, по обоюдному соглашению между родителями молодой четы.
После похищения и примирения обоих семейств праздновалось бракосочетание; будущих супругов с торжеством отводили в хижину Священного Огня, где Оуэнук, или один из хранителей Священного Огня, сыпал им на голову раскаленные красные уголья и клал по маленькому красному уголечку каждому из них на язык.
Почти та же церемония проделывалась и над новорожденными, с тою только разницей, что угольки, которые им клали на язык, были уже несколько потухшие.
Мы уже видели, какую важную роль играл у них огонь и в похоронных церемониях, и, если бы несчастный Менуали пал неподалеку от своей большой деревни, Виллиго должен был сходить за огнем в хижину Священного Огня и зажечь от него свой факел, которым он поджег бы погребальный костер.
Вообще огонь играл огромную роль во всех явлениях жизни у нагарнуков. Ни одна церемония, ни одно семейное торжество или общественное событие, ни один договор не обходились без содействия Священного Огня, освящавшего все важнейшие моменты жизни и скреплявшего своею силой всякий договор, обязательство и клятву.
Если нагарнук клялся Священным Огнем, то на его клятву можно было смело положиться.
Все это имеет, без сомнения, много общего с обычаями и верованиями огнепоклонников Персии и Индии.
В случае преступлений, когда виновник не был пойман на месте, существовал род Божьего Суда посредством огня. Прежде чем совет старейшин устанавливал степень и род наказания за данную вину, необходимо было, чтобы кто-нибудь из представителей племени выступил в качестве обвиняемого, после чего самый факт виновности устанавливался путем свидетельских показаний и предварительного следствия, затем в назначенный день и час обвинитель и обвиняемый препровождались в хижину, где поддерживался Священный Огонь; оба пребывали там в сокровенной беседе с Верховным Хранителем Священного Огня, после чего, уже в присутствии всей собравшейся толпы Оуэнук или Арэнук — наполнял рот того и другого, обвинителя и обвиняемого, горячими угольями, и те, закрыв рот, должны были продержать их во рту до тех пор, пока верховный жрец не сосчитал дважды пять на пальцах своих рук. После того они должны были раскрыть свои рты, и тот, у кого во рту оказывались ожоги, считался виновным либо в деянии, либо в клевете, а совет старцев присуждал ему соответствующее наказание.
Понятно, что тут возможна была некоторая сделка с огнем, и виновным чаще всего мог явиться тот, кто оказывался менее щедрым во время своего предварительного совещания с Хранителем Священного Огня.
Многоженства вовсе не было у нагарнуков, и брак не расторгался даже в случае смерти одного из супругов. В этом отношении права мужчины и женщины были совершенно равны; ни тот, ни другая не имели права избрать себе второго мужа или вторую жену, кроме как только с особого разрешения верховного совета старейшин, и то только в том случае, если усопший или усопшая не оставили потомства. Тогда вдовец или вдова получали разрешение избрать себе второго супруга или супругу для восстановления потомства умершему, и перворожденный ребенок считался ребенком умершего и его наследником; достигнув возмужалого возраста, он должен был прежде всего отпраздновать тризну по усопшему, и если умерший по каким-либо обстоятельствам предполагался блуждающей душой, то на обязанности наследника лежало доставить ему тело, в котором его душа могла бы представиться в лучшее царство и войти в страну предков. Этот обычай давать сына умершему существовал также в Индии и во многих частях Азии.
Последующие дети считались уже детьми действительного отца и матери. Но любопытно, что брачная церемония посредством Священного Огня происходила лишь после рождения сына, а до того времени новый супруг считался лишь заместителем первого, и первый брак оставался в силе.
Все нагарнуки были хорошие супруги и прекрасные, нежные отцы, любящие и заботливые. На охоту и на рыбную ловлю ходили только одни мужчины, точно так же и для сбора кореньев, съедобных растений и листьев. Женщины же постоянно пребывали дома, заботясь о детях и хозяйстве. При переходах или переселениях матери несли на руках малых ребят, о старших же заботились отцы. Всю домашнюю утварь и имущество также должны были нести на себе женщины, потому что для мужчины считалось унизительным нести что-нибудь, кроме оружия и принадлежностей охоты или рыбной ловли.
Даже когда нагарнук убивал на охоте дичину или налавливал рыбу, он оставлял ее на берегу или в лесу, точно так же и коренья, а женщины его семьи должны были сходить за ними и принести домой.
Когда молодой нагарнук подрастал, он прежде всего начинал охотиться на кенгуру, но охотиться без всякого оружия, так сказать, брать его измором, соревнованием в беге. Он выходил из дома с рассветом и преследовал поднятое им животное без устали и с невероятным упорством; он бежал за животным в продолжение многих часов, иногда в продолжение целого дня, все время по следу животного, как хорошая охотничья собака, до тех пор пока животное, выбившись из сил, не давалось ему в руки.
Тогда молодой воин тотчас же перерезал ему горло своим кремневым ножом и, распластав на ложе из сухих листьев, возвращался домой, попутно делая зарубки на деревьях для того, чтобы женщины могли найти оставленную на месте добычу.
Но если он бежал по следу зверя весь день и все-таки не мог настигнуть или загнать его, то с закатом солнца должен был прекратить свою охоту и вернуться в свою деревню по возможности незамеченным, тихонько войти в родительский дом и, не говоря ни с кем ни слова, лечь на свое ложе, а поутру, с рассветом, должен снова быть на ногах и снова травить зверя до тех пор, пока не затравит его.
Но это требовалось от него лишь в том случае, когда молодой человек готовился для получения звания воина. Это — первое испытание, из которого он должен был выйти победителем. Если бы он отказался от него после целого ряда неудач, то это было бы равносильно позору и посрамлению не только для него, но и для всей его семьи, которая через это утратила бы часть уважения односельчан. После того женщины стали бы закрывать свои лица при встрече с ним, чтобы не видеть лица малодушного человека, и даже малые дети стали бы провожать его насмешками. Вот почему на памяти людей, говорили нагарнуки, никогда еще ни один юноша из их племени не отказывался состязаться с кенгуру в беге.
Второе испытание для каждого юноши, добивавшегося чести быть принятым в ряды воинов, было испытание его искусства владеть бумерангом, которое он обязан был проявить на глазах всего своего племени, и только в том случае, если испытание оканчивалось благополучно, то есть если испытуемый удостаивался похвал и одобрения старейшин, он получал свое первое вооружение и отныне приобретал право носить копье, лук, стрелы и бумеранг.
Бумеранг состоит из куска дерева, плоского с одной стороны и выпуклого с другой; изготовляется он из железного дерева, отличающегося невероятной крепостью и плотностью; выбирается такой кусок, который по изгибу своему походит на полусогнутое колено. С одного конца бумеранг слегка обтачивается, с другого же — оставляется значительно утолщенным. Способ употребления этого оружия чрезвычайно оригинален, и, когда о нем впервые заговорили в Европе, почти никто не хотел верить; многие ученые утверждали, что для того, чтобы изготовить бумеранг, нужно обладать громадными знаниями законов физики и механики и нельзя допустить, чтобы такое орудие могли изготовлять дикари. Между тем это именно так.
Способ употребления бумеранга следующий: туземец крепко схватывает его за середину правой рукой, затем выходит вперед перед той целью, куда он желает попасть, приблизительно на расстоянии в 7-10 сажен, опытный же воин отходит в случае надобности на целых 25 сажен и поворачивает спину к намеченной цели. Обернув голову назад, австралиец измеряет расстояние, какое должен пролететь в воздухе его бумеранг, с минуту размахивает им взад и вперед, затем с силой пускает его вперед. Замечательно, что бумеранг, пущенный таким образом, стрелой пролетев расстояние в том направлении, по которому он был пущен, возвращается обратно с невероятной быстротой и страшной силой, громко гудя в воздухе, и разбивает в осколки тот предмет, куда наметился туземец. Это оружие в руках опытного человека вернее всякого другого.
Третье испытание состоит в упражнениях с копьем, с луком и стрелами, а главным образом с щитом. Под последним словом мы все привыкли обыкновенно разуметь известного вида плоскость, которой воин прикрывает важнейшие части своего тела, защищая себя от неприятельского оружия. Но щит нагарнуков — совершенно иное, ничуть не похожее на то, что мы вообще привыкли называть щитом. Это средней толщины, довольно короткая палица, таких размеров, чтобы ее удобно было вертеть во всех направлениях. Вооружившись этой палицей, соревнователь на звание воина становится в конце арены, и человек десять — двенадцать старых воинов пускают в него стрелы, копья, камни, бумеранги, словом, кто что хочет, а он должен отражать все эти снаряды одним проворным вращением своей палицы. Обыкновенно он с честью выходит и из этого испытания: до того у них развито проворство, ловкость, смелость и верный глазомер.
Четвертым испытанием является испытание быстроты бега: испытуемый должен в известный промежуток времени пробежать определенное расстояние.
Пятое испытание состоит в рукопашной схватке между всеми испытуемыми в этот день юношами. Все допущенные до испытания на звание воина запираются на трое суток в большую пустую хижину, откуда ни под каким предлогом не могут выходить раньше означенного срока; никто также не может в течение этого времени навещать их, а для питания им ставится такое количество пищи, которого, по расчету, должно хватить на трое суток.
Время от времени верховный жрец подходит к дверям хижины, где заперты юноши, и шепчет какие-то заклинания. Когда юношей снова выпускают на свободу, они вступают уже официально в корпорацию воинов путем посвящения и освящения огнем. С горячим углем во рту будущие воины обязаны пробежать расстояние приблизительно с полверсты, и вернуться обратно к месту своего отправления, после чего Оуэнук с помощью раскаленного добела ножа срезает на лбу их маленький кружочек кожи, величиной в грош или серебряный пятачок; рану затирают золой, что впоследствии, когда она заживет, придает этому месту слегка синеватый оттенок. Эта метка на лбу является, так сказать, штемпелем или тавром этого племени.
После этой операции юного, вновь посвященного воина обривают, как мужчину, оставив только на темени пук длинных волос, которые завязываются узлом на верху головы и украшаются орлиными или лебедиными перьями. Затем юные воины поступают в руки татуировщиков, которые начинают с того, что вырисовывают у каждого из них на груди какую-нибудь эмблему — кобунг его семьи: у одного — кенгуру, у другого — какую-нибудь птицу или даже растение; затем уже татуировщик разрисовывает и остальные части тела иероглифическими знаками, так как каждый из изображенных знаков имеет свое специальное и вполне определенное значение; так, например, один молодой воин пожелал изобразить на своем теле всю историю своего племени.
После всего этого остается только дать имя каждому вновь посвященному воину — имя, соответствующее его новому званию и заменяющее то, которое он носил со дня своего рождения по сие время.
Личной собственности у нагарнуков не существует: территории, принадлежащие всему племени, представляют общее достояние всех. Крааль, или хижина, также представляет общую собственность всей семьи, личную собственность воина составляет только его оружие, а у женщины — ее уборы, браслеты и сережки.
Таким образом, все события в жизни нагарнука, начиная с его рождения и кончая смертью, освящаются огнем, — и этот Священный Огонь, без всяких союзников — идолов, фетишей или чего-нибудь в этом роде, — является единственной святыней, единственным символом религиозных верований нагарнуков.
Моту-Уи, или Высший Дух, однажды отрезал край солнца, этого огненного шара, и, загасив этот отрезок, разломал его надвое; один обломок образовал землю, другой — луну. Бог бросил их в пространство, затем дунул на землю, и на ней народились люди; в то же время дуновение его раздуло искру, еще тлевшую в недрах земли. Тогда один из обитателей земли тотчас же воспользовался этою искрой, чтобы разжечь палицу, которую он держал в своей руке; таким образом человек завоевал огонь, который с того времени свято хранится нагарнуками.
Человек, сберегший Священный Огонь, получил предписание от остальных людей вечно блюсти его и не давать ему угаснуть, после чего эта священная обязанность стала наследственной в его семье, переходя преемственно от отца к сыну. Так как человек этот неотступно стерег и поддерживал огонь для общего блага, то остальные люди обязались охотиться для него, ловить рыбу и доставлять ему все необходимое для жизни. Его хижина, особа и вся его семья считались священными и неприкосновенными даже во время войны, и чтились не только нагарнуками, но даже и враждебными им племенами, даже бродячими, кочевыми австралийцами.
Луна была предназначена Моту-Уи служить местопребыванием умерших. Но не все попадали беспрепятственно в это блаженное жилище мертвых. Для того чтобы переселиться туда, тело покойного должно быть сожжено, чтобы очиститься огнем, а душа, витая над погребальным костром, ждет очищения своего тела, чтобы снова войти в него и переселиться в страну предков. Но если покойный жил дурно, то есть совершил в своей жизни какие-нибудь крупные проступки, то он не мог вновь войти в свое мертвое тело; в последнее тогда входила чья-нибудь другая блуждающая душа, окончившая срок своих скитаний, а он был обречен в свою очередь блуждать в пространстве в образе каракула, или призрака, до тех пор, пока не искупит своих вин и не сможет в свою очередь воспользоваться чужим телом.
Посмертные жертвоприношения, совершаемые сыном умершего, обладали свойством в значительной мере сокращать срок скитаний грешной или преступной души; вот почему для каждого нагарнука было чрезвычайно важно не умереть без наследника; отсюда произошел обычай дарить умершему сына, если он не оставил его после себя.
Ежегодно, в день годовщины смерти своего отца, старший сын в семье должен был сооружать небольшой костерок, по образу погребального костра, зажечь его огнем от Священного Огня и исполнить с благоговением весь похоронный обряд, повторяя это ежегодно в день годовщины смерти отца.
В тех случаях, когда умерший был холост, все погребальные обряды над ним по его душе совершал его ближайший родственник, а за неимением родственников мужского пола — его ближайший друг.
После каждого боя, как бы ожесточенна ни была война, обе стороны по соглашению устраивали перемирие, чтобы успеть убрать мертвых и исполнить над ними похоронные обряды.
Как видно, все это не глупо, не смешно и не столь дико, чтобы ставить австралийцев на более низкую степень развития, чем остальных дикарей, и не признавать за ними человеческого достоинства. Напротив, в их верованиях есть даже нечто возвышенное и благородное, чего мы не встречаем у других дикарей. Животные и растения после своей смерти также, по их верованиям, переселяются на луну; отсюда произошло верование в кобунгов.
Кобунг — это добрый друг. Кобунгом, конечно, должен быть каждый человек, вернувшийся из страны предков. Но это совершенно исключительные кобунги, обыкновенно же каждая семья имеет своего кобунга, или своего доброго гения; таковым является первое животное или растение, какое старший сын встретит или заметит в течение первых трех дней после смерти отца. Это кобунг, посланный ему отцом, который, переселившись в блаженную страну предков, куда переселяются и животные, и растения, выбирает для своего сына какое-нибудь из этих животных или растений и посылает его на землю как гения-хранителя своей семье. Отсюда произошло совершенно ошибочное мнение, будто австралийцы боготворили животных и растения. Они не боготворили, а чтили только кобунга своей семьи.
Как уже было сказано, все нагарнуки хорошие мужья и отцы семейств, что довольно редко даже и не у дикарей; еще удивительнее, какое место занимала у них женщина как в семье, так и в общественных делах. Не говоря уже о том, что в семье и в доме она — полновластная госпожа, что она по своему усмотрению воспитывает детей и что право матери на детей признавалось выше прав отца на них, — вообще женщина у австралийцев отнюдь не была рабой, а равноправной гражданкой своего племени. Девушке предоставлялось право избирать себе мужа точно так же, как юноше — избирать себе жену, и лишь после того, как будущая чета входила в соглашение между собой, родители с той и другой сторон вступали в переговоры и решали условия брака, после чего устраивалось похищение якобы вооруженною силой избранной невесты. Женщина-мать считалась более тесно связанной со своими детьми, чем отец, что видно уже из того, что девушка до брака, а юноша до посвящения в воины носили не имя отца, а имя матери; так, например, говорили: сын Угрананы, дочь Упавы и т.д.
Женщины всегда поддерживали друг друга во всем и крепко стояли одна за другую. Так, если случалось, что одна из них подверглась дурному обращению со стороны мужа, что было совершенно исключительным явлением, то все женщины племени брали за руки своих детей и уходили с ними в лес; ни одна не оставалась в деревне, и тогда мужчины принуждены были посылать к ним посольство и подчиниться тем условиям, на каких женщины соглашались вернуться.
Кроме того, существовал еще совет старейшин-женщин, с мнением которого всегда справлялись, когда подымался вопрос о том, чтобы вырыть топор из-под порога хижины, иначе говоря, начать войну. Женщины пели воинственные гимны, возбуждая мужество своих мужей и сыновей; они же воспевали их победы и славу, встречая победителей; наконец, они же казнили и замучивали насмерть изменников, трусов и пленников.
Любопытным является манера объявления войны у нагарнуков; эта манера опять-таки говорит в пользу их умственного развития. Обычными причинами начала военных действий между двумя племенами являлись или захват охотничьей территории одного племени другим, или предательское убийство одного из детей племени. Когда Совет Старейшин, под председательством старейшего из вождей, решал, что оскорбление, нанесенное племени, требовало возмездия, то к врагу отправляли трех послов: один из них нес, вместо знамени, шкуру кенгуру, привешенную к копью, другой — топор, а третий — соты меда. Для их встречи собирался Совет Старейшин враждебного племени и выслушивал их претензии. Несший знамя обыкновенно излагал подробно, образно и красноречиво все вины врага, на которые имели основания жаловаться его соперники, за тем ставил перед Советом мед, клал топор и добавлял одно только слово: «Выбирайте!»
Тогда начинались бесконечные обсуждения и взаимные обвинения, продолжавшиеся иногда двое и даже трое суток. Редко случалось, чтобы племя, к которому явились послы, со своей стороны не имело достаточных оснований жаловаться на сторону, считающую себя оскорбленной, и потому после долгих прений, обыкновенно оканчивающихся ничем, вождь, председательствовавший на Совете Старейшин, избирал в большинстве случаев топор, что означало войну, и лишь в редких случаях мед, что означало, что его племя согласно удовлетворить требования посланных и пойти на те или иные уступки.
Когда постановлялась война, то носитель знамени бросал вызов и назначал день начала военных действий, причем обе стороны честно выжидали указанного срока.
Нагарнуки, подобно краснокожим индейцам Америки, имели обычай снимать скальп, но только с мертвых врагов, а не с живых, что у австралийцев считалось непростительным преступлением. Рабства у них также не существовало, пленных своих они обменивали, и лишь немногие несчастные, которых не на кого было обменять, отводились в деревню, привязывались к столбу пыток и отдавались на поругание и истязание женщинам и детям.
При объявлении войны огонь также играл свою роль: посланный, придя на границу территории враждебного племени, раздавливал на ней горящий уголь, что означало, что впредь между этими двумя племенами не будет обмена огнем.
Много спорили о том, откуда взялось это почитание огня у многих народов. Всего естественнее предположить, что первый человек, случайно открывший огонь, понял всю важность его для различных человеческих нужд и пуще всего боялся утратить его, а потому поручил хранение горящего угля одному какому-нибудь человеку — затем, чтобы все живущие вокруг могли по мере надобности заимствовать огонь от этого неугасимого огня.
Этим объясняется существование хранителей Священного Огня у всех младенческих народов, римлян, греков, индо-азиатов и др. и наказание смертью виновного в том, что огонь угас.
Таковы, в общем, были нравы, обычаи и верования нагарнуков, последние представители которых вскоре переселятся в страну предков; тогда все, касающееся этнографии Центральной Австралии, канет в вечность; ведь через несколько лет на всем Австралийском материке не останется ни одного туземца.
Теперь скажем несколько слов о суевериях и предрассудках нагарнуков для полноты представления о них.
Мы уже говорили об ужасе, внушаемом им каракулами, или приведениями, а также колдунами и кораджи. Но кроме колдунов, которые, по их мнению, могли причинять только зло, у них были еще специальные врачи, занимавшиеся исключительно врачеванием ран и болезней. Но так как понятия их о медицине были очень примитивны, то, в сущности, эти врачи были, скорее, знахарями, и способ их лечения состоял главным образом в возложении рук и заклинаниях. Главными врачебными приемами являлись, попеременно, или глубокий надрез в больной части тела и высасывание крови из этой умышленной раны, причем врач предварительно набирал в рот мелкие камни, шипы, насекомых и даже червей и, высосав известное количество крови из больного, выплевывал эту кровь вместе со всем, что у него было во рту, и говорил: «Видишь, вот что было в твоем теле и что причиняло тебе боль! Я высосал это из тебя; теперь ты здоров!» Слепая вера больного во врача часто действительно приносила облегчение и даже совершенно излечивала больного благодаря самовнушению. Другое, более естественное средство было пиявки, которыми изобилуют все воды Центральной Австралии. Для этой цели знахарь приказывал вырыть небольшую ямку, которую наполняли водой; в эту воду он пускал известное количество пиявок и окунал или сажал в эту яму больного, который оставался в ней до тех пор, пока вода в яме не превращалась в кровь. В некоторых случаях и это лекарство приносило пользу.
Несмотря на то что в общем нравы нагарнуков были мягки и человечны, у них был один чрезвычайно жестокий обычай: если в семье рождались близнецы, то отец семейства должен был задушить одного из двух, так как существовало убеждение, что если он этого не сделает, то не только его семью постигнут всякие несчастья, но и все его племя.
Другим их предрассудком было то, что нагарнуки не употребляли в пищу ни опоссумов, ни особого рода слепого угря, чрезвычайно вкусного и встречающегося в изобилии в местных водах. Они боялись стать трусливыми, как опоссумы, и слепыми, как этот угорь, полагая, что употребляемые в пишу животные имеют известное физическое и моральное влияние на человека.
Нагарнуки приписывают душу не только животным, птицам, каменьям, но и всем неодушевленным предметам. Так, один землевладелец, славившийся в округе своим фруктовым садом, послал десяток яблок соседу со своим слугой, молодым нагарнуком; тот по дороге съел половину яблок, а остальные доставил по назначению. Но так как при посылке было письмо, то нагарнук был уличен в преступлении. Так как нагарнуки не имеют ни малейшего представления о письменности, то вор полагал, что присланное письмо заговорило и выдало его, и когда получивший подарок сосед вручил ему письмо для господина, то нагарнук, полагая, что это то самое, которое наябедничало на него, отойдя на некоторое расстояние от дома, принялся колотить письмо, приговаривая, что если оно еще донесет на него, то он отколотит его вдвое больнее.
Другим, не менее странным представлением нагарнуков является их боязнь перед позволением писать с себя портрет; они уверены, что написать с человека портрет нельзя, не отняв у него части его существа. Один вождь, будучи задарен подарками и прельщен всевозможными обещаниями, согласился было позволить написать с себя портрет в профиль, но, увидав его, пришел в такой ужас, что, зажав голову обеими руками, убежал в лес и пропадал там в продолжение нескольких дней. Он был уверен, что эти пол-лица предвещают, что вскоре у него останется только пол-лица, и успокоился относительно этого только много времени спустя, убедившись, что решительно ничего неприятного с ним не случилось.
Кроме того, нагарнуки не верят в естественную смерть; для них всякая болезнь или несчастный случай, влекущий за собою смерть, являются последствиями колдовства какого-нибудь врага, и это дает повод к возмутительной и ужасной мести. Поэтому, едва только нагарнук серьезно занемогает, он, прежде чем обратиться к знахарю, обращается к колдуну, чтобы тот произнес наговор и накликал болезнь на предполагаемого недруга, и это суеверие представляет собою чуть ли не главный доход колдунов.
Вера в то, что белые люди — это вернувшиеся с луны на землю предки или недавно умершие родственники, давала не раз повод к самым забавным случаям. Так, один молодой американец, путешествовавший для своего удовольствия, случайно зайдя в главную деревню нагарнуков, был принят ими за недавно умершего молодого воина Вахиа-Нуу, оставившего после себя неутешную мать и жену. Увидев молодого американца, мать умершего тотчас же признала в нем своего безвременно погибшего сына Вахиа-Нуу; она с криком радости кинулась к нему на шею, плача от восторга и счастья; все присутствующие при этом одноплеменники также признали в нем умершего воина. Между юным американцем и Вахиа-Нуу было, вероятно, известное сходство, так как вернувшийся с охоты отец также признал в нем своего сына. Побежали к его жене, которая, скорбя по мужу, не выходила со дня его смерти из своего крааля; молодая женщина прибежала и, не помня себя от радости, безумно счастливая, осыпала ласками и поцелуями своего вернувшегося супруга. Сколько ни протестовал молодой американец, ему не верили.
— Я не Вахиа-Нуу, — кричал он, через переводчика, — меня зовут Уильям Дигби! Я — американец! Видите, я не знаю вашего языка, я не понимаю вас!
Но нагарнуки все это отлично знали: он там, на луне, в стране предков, утерял память о земном; он забыл свой родной язык, но может положиться на них, на свидетельство всего племени, на прозорливость материнского сердца и любовь его молодой жены. И все кричали ему радостно со всех сторон.
— Здравствуй, Вахиа-Нуу! Как ты поживаешь, как хорошо, что ты вернулся! Мы снова будем с тобой охотиться на кенгуру и ловить рыбу на озере Эйрео!
— Но я вас не знаю! Я никогда не бывал на луне! Я прибыл сюда из Сан-Франциско!
Но все было напрасно: его окружили со всех сторон и с триумфом понесли в его хижину, впереди шла его жена с младенцем на руках.
Возвратившегося с луны так усердно сторожили потом, что только два года спустя молодому американцу удалось наконец бежать, похитив коня на одной из ближних плантаций. Двадцать раз пытался он бежать от нагарнуков, но те каждый раз всем племенем устремлялись на поиски и каждый раз водворяли его в хижину.
Кроме того, нагарнуки верят еще в счастливые и несчастливые дни и числа. Вы ни за что не заставите нагарнука предпринять что-либо в годовой день смерти кого-нибудь из родственников или даже из друзей, а также в первую или последнюю четверть луны. Так же опасаются нагарнуки и всех нечетных чисел — 3, 5, 7, 9; дальше этого они не идут, так как считают только до десяти, по числу своих пальцев на руке, а затем начинают снова и говорят: десять и один, десять и два, десять и три и т.д., затем — два десять и один и два десять и два, два десять и три. Свыше десяти для них всякая цифра уже есть «неимоверное, громадное число».
XIII
Праздник огня. — Столб пыток. — Борьба на берегах озера. — Виллиго и Коанук ранены насмерть.
Нагарнуки соорудили большой навес из листьев для защиты от солнца своих друзей-европейцев.
В племени у них насчитывалось 6 великих вождей, которые владычествовали над ними поочередно, каждый в течение двух месяцев, лунных, конечно. Виллиго был один из этих шести вождей; кроме того, он носил еще звание военачальника, и, когда топоры вырывались из-под порога хижин, то есть в военное время, он становился единственным главнокомандующим всего племени. Это почетное и пожизненное звание военачальника присуждалось Советом Старейшин самому мужественному, отважному и разумному из вождей, благодаря чему он даже и в мирное время пользовался особым почетом и уважением.
Ныне правящий великий вождь и Виллиго встретили Дика и его спутников у входа в деревню и проводили под навес, где центральное место было предоставлено канадцу, по правую его руку поместились Оливье и Лоран, по левую — фермер Кэрби и Джонатан Спайерс. Во втором ряду разместились оба капитана с «Марии» и «Феодоровны» и оба механика.
В этот момент появился верховный жрец, или Хранитель Огня, и все племя, разделившееся на два лагеря, по одну сторону — мужчины, по другую — женщины, общим хором запело гимн во славу огня:
Колак туннамэ пеанимэ Певуиллах пуньяра.
Роонах Леппака маламатта Линналлэ!
Ренапэ тауна невурра певурра Номека павуана поолапа Лелапах, Нутанэ майеах мелароотера Коабах ремавурра!
Что в переводе значит:
О огонь, великолепный и грозный, Тебя унесла в свою хижину Леппака, Приняв от своего супруга Лииналлэ Священную палицу, которою он зажег Священный огонь земли!
Продолжай же согревать нас в холод, В бурное время года, продолжай Готовить нам пищу и закалять Острия наших стрел, сжигать наших врагов И ограждать Лелапаха и его семью и всех нас.
Лелапах было имя Великого Хранителя Огня, а Леппака и Лииналлэ — имена той четы, которой предание приписывало открытие огня.
Нагарнуки отличались действительно музыкальными способностями: они умели так хорошо подбирать голоса, что хор в 8000 или 10000 тысяч голосов производил превосходное общее впечатление стройного и благозвучного концерта, то достигавшего высших нот, то спускавшихся на низшие. Прелесть и своеобразность этого пения трудно себе даже представить, а не только передать.
По окончании пения гимна были приведены 6 пленников, нарочно сберегавшихся для этого случая со времени последних военных действий против нирбоасов; их привязали к столбам пыток, но ни один не выказал ни малейшего страха или волнения перед грозящей ему ужасной участью. Все они стройно пели свой военный гимн, смело глядя в глаза своим врагам, с наслаждением и гордостью перечисляя, сколько они перебили нагарнуков, и прерывая себя только для того, чтобы возбудить злобу нагарнуков новыми издевательствами и оскорблениями, как бы желая этим вызвать врагов поскорее прикончить их мучения.
— Что с ними будут делать? — спросил Джонатан Спайерс.
— Эти несчастные обречены на пытки и на смерть на костре! — пояснил Оливье.
— И их сожгут сейчас на наших глазах, а мы будем спокойно смотреть на такое злодеяние и ничего не сделаем, чтобы помешать им?!
— Успокойтесь, на этот раз нам удалось уговорить наших друзей нагарнуков, чтобы они в нашем присутствии сделали только вид или подобие казни; только под этим условием мы согласились присутствовать на их торжестве. Таким образом, вы будете избавлены от этого ужасающего зрелища, и я даже думаю, что ради дня рождения Дика этим несчастным возвратят свободу после того, как попугают их всей видимостью пыток и казни. Но это в первый раз австралийский буш увидит подобный акт милосердия!
Однако сам канадец не особенно верил возможности подобного мягкосердечия со стороны своих друзей нагарнуков.
Между тем после священного гимна началась пляска, в которой принимали участие все взрослые члены племени, кроме старцев и женщин. Танцующие держали в руке по большому зажженному смоляному факелу и плясали вокруг большого разложенного на площади костра; целые снопы искр сыпались от факелов, и в полумраке леса, обрамлявшего деревню, эти сотни движущихся факелов и черных пляшущих фигур представляли собою чисто фантастическую картину какого-то шабаша, на котором, для полноты иллюзии, не было даже недостатка в ведьмах: старухи, прилежные запевалы племени, воодушевляя танцующих выкриками и жестами, также принимали участие в пляске; то тут, то там мелькали их седые космы, тощие руки и горбатые спины.
На опушке леса стоял отряд воинов в полном вооружении с копьями в руках и луком со стрелами за плечом, неподвижных и грозных, точно привидения.
— А что делают эти люди? — спросил капитан.
— Они на страже, чтобы предупредить возможность внезапного нападения врагов: они, или, верите, все мы в настоящее время стоим на тропе войны! — отвечал Оливье.
— Чего же вы, собственно, опасаетесь и с кем воюете?
— Мы ежечасно опасаемся нападения Невидимых, тайных врагов, сокрытых от нас!
— Сокрытых, где? — спросил капитан.
— На дне озера!
Джонатан Спайерс невольно вздрогнул, но тотчас же, овладев собой, громко рассмеялся.
— Извините меня, но вы, конечно, шутите, граф! — проговорил он.
— Нисколько, но так как этот вопрос находится в тесной связи с тем разговором, который я хотел иметь с вами завтра, то…
— То вы хотите, чтобы я подождал разъяснения до завтра?
— Только потому, что в настоящее время у меня нет ни времени, ни возможности приступить к этому серьезному разговору; но если вы предпочитаете, чтобы это было сегодня…
— О нет, весьма возможно, что и мне придется поделиться с вами кое-какими важными сообщениями, и потому лучше будет, если мы отложим этот разговор до завтра!
— На этот раз вы задеваете мое любопытство, капитан, — пошутил Оливье.
— Тем не менее подождем до завтра, мне что-то говорит, что этот разговор будет иметь серьезное значение для нас обоих и решающее влияние, быть может, на всю нашу дальнейшую жизнь!
Встреча с человеком, о котором он с умилением и благодарной нежностью так часто думал в течение десяти лет, совершенно изменила все планы и намерения Красного Капитана, даже, так сказать, совершенно переродила его, Джонатан Спайерс по природе своей был человек пылкий и страстный, способный любить так же безмерно, как и безмерно ненавидеть. Теперь ему казалось, что он нашел наконец брата, друга, и он ощущал в своем сердце такие не тронутые еще сокровища любви и нежности, которые теперь только хотел применить к этому благородному, прямому и добросердечному юноше, которого он едва знал, но уже давно любил, не зная. Отныне всякий, кто только осмелится покуситься на счастье или спокойствие Оливье, должен будет считаться с ним, с Красным Капитаном; отныне он имел в этом молодом друге человека, который будет делить с ним его успехи, заставит его забыть его прежнее горе и обиды; отныне он не будет более одинок. Он не допускал даже мысли, чтобы со временем Оливье не полюбил его: разве не он, не этот добрый юноша сделал его тем, чем он теперь стал? О, с каким нетерпением дожидался капитан Спайерс теперь ночи, чтобы скорее переговорить с Ивановичем! Он твердо решил, чем бы ни окончился этот разговор, передать все дословно и рассказать всю правду молодому графу и в случае надобности окончательно порвать всякие сношения с Невидимыми. По счастливой случайности забыли упомянуть в договоре срок его обязательств, а также не было никакой статьи в договоре, оговаривающей невозможность выхода из членов этого тайного общества. Словом, он теперь решил не только ничего не предпринимать против Оливье, но даже, напротив, выступить на его защиту против всего мира, и в том числе против Невидимых.
Между тем праздник шел своим чередом; после пляски вокруг костра было разыграно подобие схватки между двумя лагерями нагарнуков, или, вернее, даже подобие грандиозного боя, так как в нем принимало участие до 6000 воинов. Только благодаря тому, что участники этого примерного боя были вооружены мягкими тростниковыми копьями, стрелами с закругленными наконечниками и топориками из легкой дранки, не произошло страшного кровопролития — и то некоторые участники в азарте схватывались врукопашную,
— и только вмешательство вождей во время приостанавливало кровавый исход.
За этим примерным боем глазам присутствующих представилось новое зрелище, более ужасное, а главное, более отвратительное. Около пятисот или шестисот женщин, окружив громадный костер в форме пирамиды, исполнили вокруг него танец огня, затем, вооружившись горящими головнями, как настоящие мегеры, устремились к привязанным к столбам пыток несчастным, продолжавшим петь свой родной гимн в ожидании пыток и смерти. Женщины заплясали теперь вокруг них с горящими головнями в руках, возбуждая себя громкими дикими криками и неистовыми телодвижениями. Возбуждение их, можно даже сказать, дикий экстаз стал доходить до того, что для Оливье стало ясно, что вряд ли они будут считаться с условиями, заключенными с вождями племени. Подозвав Виллиго, он попросил его положить конец неистовствам освирепевших мегер.
Виллиго сомнительно покачал головой.
— Я сильно опасаюсь, — проговорил он, — чтобы обещание, скорее вырванное вами, чем данное вам нашими старейшинами и вождями, было исполнимо!
— Виллиго, — воскликнул Оливье тоном неоспоримой энергии, — я требую, чтобы было исполнено то, что твои одноплеменники торжественно обещали нам! Дик, помогите мне, — обратился он к канадцу, — не можем мы допустить, чтобы эти люди, жизнь которых нам обещана, были замучены на наших глазах!
Канадец бросил умоляющий взгляд на Виллиго, но тот не дал ему времени раскрыть рот.
— Молодой Мэннах говорит неправду, — с беспощадной настойчивостью и упорством сказал Черный Орел. — Наше племя ничего ему не обещало; только одни вожди обещали пощадить жизнь пленников, и, конечно, ни один из вождей не тронет их. Но вожди не могут проявлять свою волю ни на воинах, ни на женщинах, не могут ничего предписывать или воспрещать им, особенно женщинам. Вожди повелевают, и им повинуются потому только, что сами они повинуются нашим законам, нравам и обычаям. А если они вздумают приказать что-либо, несогласное с нашими законами и обычаями, унаследованными от предков, то никто не послушает их: вождь, не являющийся блюстителем закона, ниже последнего из воинов.
— Так, значит, мы были обмануты?! — воскликнул Оливье, побледнев от бешенства.
— Нет, Мэннах, но вожди не могли предполагать, что ты потребуешь от них того, что не в их власти сделать. То, что они обещали тебе, они сдержат, но больше этого ничего сделать не могут!
— Прекрасно! — воскликнул Оливье, совершенно выведенный из себя этим препирательством. — Скажи своим вождям, что они нарушают данное слово и что я ухожу. Дик, идем!
— Черный Орел, — возразил Виллиго с невозмутимым спокойствием и величавой гордостью, — не передаст вождям тех слов, какие сейчас произнес молодой Мэннах, а если молодой Мэннах уйдет, то Черный Орел сотрет свои военные татуировки; его примеру последуют и все остальные! Пусть же молодой опоссум прежде, чем поступить подобно неразумному детенышу опоссума, выбирающемуся из гнезда раньше времени и ломающему себе спину, послушает совета Тиданы!
С этими словами старый воин повернул спину к графу и удалился, гордый и спокойный, как всегда.
— Идете вы, Дик? — почти повелительно спросил граф. — Я не останусь здесь ни минуты более!
Капитан встал, готовый следовать за Оливье.
— Благодарю! — воскликнул молодой человек, найдя в нем поддержку. — Благодарю! — И он с чувством пожал ему руку.
— Дорогой Оливье, — сокрушенным тоном заговорил траппер, — вы этого не сделаете… Во имя нашей старой дружбы, прошу вас, выслушайте меня!
— Хорошо, говорите, но только покороче, Дик!
— Поверьте моей опытности, вы не должны так вести себя здесь. Вы смертельно оскорбили Черного Орла, который десять раз спасал вам жизнь! Я готов поклясться, что вожди поняли ваше требование именно так, как он вам говорит: иначе они не дали бы вам никакого обещания. Из снисхождения к вам они согласились сами не вмешиваться в это страшное дело, которое я считаю столь же возмутительным, как и вы, но на которое я смотрю с другой точки зрения, чем вы! Привязывать пленников к столбу пыток — исконный обычай всех племен Австралии, от которого вы никогда не заставите их отказаться, так как они считают это своим неотъемлемым правом! Еще на прошлой неделе, несмотря на то что до настоящего времени нагарнуки и нирбоасы не состояли в войне между собой, нирбоасы привязали к столбу пыток пять молодых нагарнуков, которых они также сохраняли для какого-то своего празднества, и нагарнуки не сделали ничего, чтобы спасти этих несчастных от их ужасной участи! А теперь вы требуете, чтобы нагарнуки, зная об этом, отказались от наслаждения мести! Эти пять замученных нирбоасами на прошлой неделе нагарнуков были молодые и еще неопытные в военном деле воины, которые по неопытности своей дали себя захватить в плен на аванпостах, и их матери теперь в числе этих женщин. А вы хотите, чтобы они оказались милосердными по отношению к пленникам! Если бы даже они согласились пощадить их, никто в целом буше не мог бы объяснить себе их странного поведения: это было бы в глазах всех туземцев постыдной слабостью, неуважением к своим погибшим единоплеменникам, за которых не захотели отомстить; мало того, все взглянули бы на это как на доказательство того, что нагарнуки боятся нирбоасов! Вы должны знать, что для туземцев не существует прощения врагам. У них в языке нет даже слова, соответствующего этому понятию! Как же можно требовать от них того, чего они даже понять не могут, когда у них пощадить врага считается постыдным как для отдельного лица, так и для целого племени?! Кроме того, милый Оливье, вы смотрите на вождей нагарнуков как на каких-то европейских начальников или губернаторов. Австралийский вождь не властен подчинять своей воле никого из своих одноплеменников; его власть начинается только с того момента, когда начинаются военные действия. А вне этого он не может отдать даже самого пустячного приказания самому младшему из воинов. Даже Совет Старейшин только улаживает распри и недоразумения, наказывает за преступления и объявляет войну, вне этого его власть не простирается. Я говорю это к тому, чтобы вы правильно взглянули на вещи и не стали упорствовать в своем намерении демонстративно удалиться с их празднества, так как, в случае если вы это сделаете, мне останется только посоветовать вам немедленно покинуть буш и переселиться в Мельбурн. Помните, ваш уход явится смертельной обидой людям, которые двадцать раз ставили свою жизнь на карту ради вас; они все до единого станут вашими врагами, так как в их представлении ваше поведение будет значить, что вы предались на сторону нирбоасов и заплатили им, за их самоотверженную любовь к вам, самой черной неблагодарностью! Едва вы уйдете, как Виллиго, а за ним и все воины смоют военную татуировку с лица, и тогда ничто на свете не заставит их снова взяться за оружие ради защиты ваших интересов! Подумайте только обо всем, что эти нагарнуки делали для вас за эти два года; подумайте, что с минуты на минуту их услуги могут снова понадобиться вам! Кроме того, я должен вам сказать, Оливье, что я, ваш испытанный друг, не последую за вами, если вы уйдете теперь отсюда: я не хочу оказаться изменником в глазах этих людей.
— Что вы на это скажете, капитан? — обратился Оливье к Джонатану Спайерсу.
— Я согласен с вашим другом, — отвечал Красный Капитан, — по-моему, он прав. Но если вы все-таки сочтете нужным удалиться, то я последую за вами!
— Благодарю! — сказал граф, пожимая его руку. — Я решил остаться!
Между тем женщины продолжали истязать пленников. Вооружившись острыми кремневыми ножами, они срезали тонкими пластами мясо с разных частей тела несчастных и тотчас же прижигали рану горящей головней, чтобы остановить кровь. Время от времени мегеры прерывали свое ужасное занятие ликующими песнями и пляской вокруг своих жертв, которые с геройским мужеством воспевали не переставая подвиги своего родного племени.
— Вах! Вах! — пели они хором. — Нагарнуки не дети Моту-Уи, Великого Духа; они рождены из грязи! Они не смеют глядеть в глаза воинам! Покажите нам ваши раны, трусливые опоссумы, вонючие коршуны, вас ранили только в спину! Вах! Вах! Нирбоасы — славные воины, нагарнуки — женщины!
И так продолжали они петь часами, днями. Если смерть долго не приходила, они все-таки должны были петь при самых невыразимых пытках и смеяться, когда обнажали их кости, когда им отсекали член за членом; петь до последнего издыхания, до последнего проблеска жизни, чтобы не прослыть малодушными трусами. Оливье отворачивался, чтобы не видеть всех этих ужасов. Канадец стоял неподвижно, с удивительным равнодушием к происходившему: он уже не впервые видел все это, и сам был некогда привязан нирбоасами к столбу пыток.
При каждом новом стихе их военного гимна, при каждом их военном кличе женщины придумывали новые пытки для несчастных. Когда же муки становились непосильными, страдальцы выли свой военный клич и в этом вое заглушали крик невыносимой муки. Но сколько ни крепился Оливье, нервы его не выдержали наконец, и, слабо вскрикнув, он лишился чувств. К счастью, перед этим гостям были предложены освежительные напитки, в том числе и вода, и несколько капель воды помогли привести графа в чувство, так что случай этот, среди общего возбуждения и шума, прошел незамеченным.
— Ах, Дик, Дик! Зачем вы принудили меня присутствовать при подобном зрелище! — воскликнул он, и старый траппер был растроган этой почти детской жалобой до слез.
Между тем страшная сцена подходила к концу. День начинал клониться к вечеру; солнце спускалось к горизонту. Матери пяти молодых нагарнуков, замученных нирбоасами на прошлой неделе, стали просить, чтобы им было предоставлено удовольствие нанести несчастным смертельный удар, что и было исполнено: это было их законное право. Тогда каждая из них избрала то, что она могла только придумать самого ужасного; перо отказывается описывать все эти ужасы; достаточно будет сказать, что когда эти изуродованные до неузнаваемости останки человеческих тел были наконец брошены на костер, то они уже не имели ни рук, ни ног, ни глаз, ни носа, ни ушей, ни губ; это были просто окровавленные торсы, не имеющие даже подобия человеческого.
Остальная часть праздничной программы была более отрадной и представляла собою не столь кровавое зрелище. На громадную площадь, то есть целую поляну, окруженную сплошным кольцом воинов, вооруженных длинными копьями, были выпущены с десяток живых кенгуру, и молодые нагарнуки должны были, состязаясь с ними в быстроте ног, затравить их, то есть загонять так, чтобы в конце концов изловить их руками; воины же с копьями не давали затравленным животным прорваться через их цепь. Менее чем в полчаса времени все десять животных были изловлены и затем торжественно доставлены Верховному Жрецу. После этого молодые воины упражнялись еще в разных играх, проявляя необычайную ловкость, меткость и проворство.
Последний, и важнейший, акт торжества, то есть самое посвящение преемника Хранителя Священного Огня, произвело громадное впечатление на нагарнуков, еще не видавших этого обряда. В тот момент, когда солнце скрылось за горизонтом, громадный хор, состоящий из мужчин и женщин всего племени, запел еще раз гимн Священному Огню, и Великий Хранитель, или Верховный Жрец, держа за руку своего старшего сына и преемника по должности, медленно, не торопясь прошли через громадный костер, достигавший свыше 10 сажен длины и сооруженный наподобие двух толстых стен, сходящихся между собой в вершине, то есть наподобие туннеля в пирамиде. Под этою горящею пирамидой, сквозь этот узкий проход должны были пройти, торжественно и плавно, отец и сын — хранители Священного Огня. Три раза повторили они этот акробатический фокус, приведший всех в восторженное недоумение, кроме графа и Красного Капитана.
— Я готов сейчас же проделать то же самое, — сказал американец, — всем изучавшим физику давно известно, что человек безнаказанно может провести две или две с половиной минуты в раскаленной хлебной печи при условии быть совершенно нагим, как эти жрецы: происходящее при этом сильное испарение тела образует вокруг него пар значительно низшей температуры, чем окружающая среда, и этого достаточно, чтобы на короткое время предохранить человека даже от ожогов. Таким образом плавильщики безнаказанно погружают свои руки в котлы с расплавленным оловом! — объяснил Красный Капитан Дику.
— Да… великое дело наука! — протянул канадец задумчиво.
Тем временем совершенно стемнело, и нагарнуки направились вслед за хозяевами Франс-Стэшена к усадьбе, где был приготовлен для них пир. Обильные яства и питье красовались на длинных низких столах, скорее, мостках, под открытым небом для туземцев, а в столовой был накрыт стол для европейцев и избранных гостей.
Какое громадное количество яств требовалось на 8000 человек, аппетит которых был возбужден всеми разнообразными переживаниями этого дня и всяческими телесными упражнениями, трудно себе представить, тем более что австралийцы имеют обыкновение есть до полного изнеможения, до потери ясного сознания! Когда после трапезы гости успели немного соснуть и прийти в себя, были пущены фейерверки, которые своим эффектом превзошли все ожидания. Нагарнуки, никогда не видавшие ничего подобного, в неописуемом восторге огласили воздух громкими криками; европейцы в свою очередь приветствовали виновника торжества единодушными «ура», как вдруг, ровно в 8 часов вечера, громадный сноп серебристо-белого света вырвался из середины озера и, охватив весь небесный свод, заставил поблекнуть ракеты фейерверка. Свет этот озарил все озеро, как солнце освещает всю окрестность; кругом стало светло, как днем, и фейерверк утерял всякую прелесть и красоту. Оливье тотчас же распорядился прекратить его, да и никто уже не интересовался им более. Туземцы кинулись на животы и лежали, уткнувшись лицом в землю, полагая, что это проявление Моту-Уи, по случаю Праздника огня, а европейцы полагали, что это сюрприз, приготовленный графом для них и для всеобщего увеселения.
Только Джонатан Спайерс в тот момент, когда сноп света вырвался из середины озера, спокойно взглянул на свои часы и прошептал:
— Прекрасно, этот Дэвис точен, как хронометр!
Оливье, бледный как смерть, не в состоянии был вымолвить ни единого слова в ответ на приветствия и поздравления своих гостей, отлично зная, кому и чему следует приписать это удивительное явление.
— Что вы на это скажете? — обратился он к Джонатану Спайерсу.
— Поздравляю вас с успехом; вам для этого понадобился рефлектор очень большой силы, конечно!
Оливье не стал разуверять его и решил отложить до завтра все разъяснения своих отношений с Невидимыми и все то, что ему уже пришлось пережить благодаря этому. Джонатан же только и ждал этого сигнала, чтобы знать, что на «Римэмбере» все благополучно и все в готовности для его возвращения. Он как раз избрал это время, чтобы под предлогом усталости попросить у любезных хозяев разрешения удалиться. Оливье нашел это весьма естественным, и, извинившись, что не может лично проводить его в предназначенное для него помещение, так как не может оставить своих гостей, нагарнукских вождей, одних за трапезой, на которой он, как хозяин, непременно должен председательствовать, если не желает нанести им оскорбление, он приказал одному из своих слуг проводить капитана в его комнату, затем простился с ним дружеским рукопожатием со словами:
— До завтра!
— Непременно, я буду ждать!
Как только Красный Капитан остался один в той части дома, которая была предоставлена ему, он вздохнул с облегчением: наконец-то он может начать действовать! Не теряя ни минуты времени, он осмотрел свой револьвер, изготовленный по его специальному заказу, 12-миллиметрового калибра, с коническими разрывными пулями, начиненными фульминатом, бьющий на двести шагов. Ружье свое он оставил на столе, так как оно могло только стеснить его на ходу, и с револьвером в руке крадучись выбрался задним ходом из дома.
Но в тот момент, когда он готов был перешагнуть через порог, ему показалось, что какая-то темная тень скользнула в кусты. Он тотчас отступил назад и, выждав некоторое время, напряженно присматривался. Прошло десять минут. Ничто нигде не шелохнулось; тогда он тихонько пробрался в ближайшие кусты и по ним, обходом, выбрался к озеру много дальше того места, где все еще пировала вблизи дома чернокожая толпа. Теперь он пустился бежать со всех ног к тому месту, где оставил утром «Лебедя». Он рассчитывал застать своих людей наготове, так как знаком, сделанным им негру, извещал, что вернется на судно через несколько часов после заката. Менее чем в 50 саженях позади него две черные тени неслись, как на крыльях ветра, едва касаясь ногами земли, словно призраки. То были Виллиго и Коанук, который сегодня более, чем когда-либо, оправдывал свое прозвище Сына Ночи.
Сухощавый и мускулистый, Джонатан Спайерс был чрезвычайно проворен, и нагнать его было тем труднее для Виллиго и Коанука, что те должны были остерегаться быть замеченными. Кроме того, ночью они не могли так твердо рассчитывать на меткость своих бумерангов.
В Красном Капитане Виллиго чувствовал незаурядного противника, и захватить его врасплох было не так-то просто. Правда, им казалось, что он был безоружен, но тем не менее обоих нагарнуков томило какое-то мрачное предчувствие и невольное уважение к личности этого человека, построившего такое удивительное судно, как то, которым они завладели сегодня утром.
Удивительно, что и Джонатан Спайерс чувствовал какую-то страшную тревогу. «Что, если я не захвачу на месте „Лебедя“?» — спрашивал он себя, и холодный пот выступал у него на лбу. Но разве подобная мысль не была безумием? Кто мог узнать секрет управления этим судном? Разве он не был уверен в своих людях, как в самом себе? Пусть так! Но все же он был неосторожен, оставив верхний люк «Лебедя» открытым, благодаря чему можно было отодвинуть медную планку, скрывавшую хрустальные кнопки, чего при иных условиях невозможно было бы сделать. И капитан внутренне дал себе слово никогда больше этого не делать.
Еще несколько минут, и он уже на месте; вот и большая поляна, представлявшая собой продолжение того леса, который начинается у того самого места, где схоронен «Лебедь». Еще минута, и он уже на отмели; он подает условный знак, но ответа нет.
Дрожащей рукой он раздвигает прибрежные кусты, мешающие ему видеть эту часть озера, и жадно впивается глазами в его хрустальную поверхность, но «Лебедь» исчез. Нигде, куда ни кинешь взгляд, на всем громадном водяном пространстве ни малейшего признака исчезнувшего судна. Между тем на озере, залитом луной, светло, как днем!
Горло у него пересохло; он пытается крикнуть, но что-то сдавило ему горло, и, не успей он вовремя ухватиться за ствол корявой ивы, он упал бы в воду.
— Уж не с ума ли я схожу! — пролепетал он вне себя от страха. — Нет, я, вероятно, ошибся: это невозможно… «Лебедь» стоит на якоре несколько выше! — Он делает еще несколько шагов вперед, опять смотрит. Нет, он не ошибся: это то самое место, где он поутру оставил свой корабль!
Одну минуту его отчаяние было столь велико, что машинально блуждавшие по револьверу пальцы его руки внушили ему мысль покончить с собой. Но в тот же момент в нем вспыхнула такая жажда мщения, что он вновь захотел жить, хотя бы только ради этого. Теперь его мучило уже не столько самое исчезновение «Лебедя», сколько та тайна, которая окружала все происшедшее. Один момент у него мелькнула мысль, уж не завладел ли Иванович одним из его рукописных мемуаров, относящихся к управлению «Римэмбером», и не воспользовался ли он почерпнутыми из него сведениями, чтобы, соответственно маневрируя «Римэмбером», захватить «Лебедя», но ему тотчас стало невероятно это предположение. Разве бы его верный Дэвис и весь преданный ему экипаж допустили бы что-либо подобное?! Кого же в таком случае обвинять?! Весь персонал Франс-Стэшена был все время там налицо; на туземцев подозрение ни на одну секунду не пало: до того это казалось немыслимым.
И, не зная виновника, капитан поклялся отомстить ему хуже, чем мстили сегодня утром своим пленникам нагарнукские женщины за своих сыновей. Если ему не удастся найти «Лебедя», то ведь все его десять лет каторжного труда пропали тогда даром! А что станется с его несчастными друзьями там, в «Римэмбере», на дне озера? Как может он добраться до них на глубину свыше 100 сажен?! Для этого необходимо вернуться в Сан-Франциско и приказать построить специальный аппарат, так как обычного подводного колокола в данном случае было бы недостаточно. Но на это потребовался бы год, а как знать, что за это время могло произойти на «Римэмбере»! Нарушение дисциплины могло породить ужасные вещи… Может ли Дэвис удержать механиков от какой-нибудь безумной попытки с целью вырваться из этой подводной тюрьмы! Малейший пустяк мог приостановить нормальное и беспрепятственное выделение электричества из аккумуляторов, и тогда машина, продолжающая вырабатывать электричество, настолько насытит им все аппараты, что «Римэмбер» разорвет, как паровой котел без предохранительных клапанов.
Все эти мысли с быстротой молнии пронеслись в голове капитана, и он решил дождаться дня, чтобы предпринять дознание, так как не могли же бесследно исчезнуть судно и три человека. Оставалось еще одно предположение
— что «Лебедь» унесло одним из подводных течений, и так как экипаж не мог ничем воспротивиться этому, то оно и пошло ко дну вместе с ним. Эта страшная мысль почти утешила его!
Теперь он удалился на несколько шагов от берега, чтобы при свете ослепительно яркой луны посмотреть, нет ли каких следов, оставшихся от пропавшего судна, как вдруг ему показалось, что вдали, шагах в пятидесяти от него, мелькнула какая-то темная тень! То же самое впечатление было у него и тогда, когда он выходил из дома Франс-Стэшена, и это заставило его призадуматься.
На этот раз он решил убедиться, ошибался он или нет. С этою целью он вышел на дорогу и, постояв с минуту как бы в нерешительности, затем вдруг бросился в сторону, обратную той, с какой пришел, а спустя несколько минут, воспользовавшись поворотом дороги, одним прыжком очутился в кустах, где и притаился, держа наготове револьвер. Вскоре двое австралийцев, очевидно преследовавших его, показались на дороге. Они миновали его, но, пробежав шагов тридцать или сорок, остановились, почуяв своим инстинктом дикарей, что сбились со следа. Красный Капитан видел, как они, жестикулируя о чем-то, затем расстались и принялись исследовать кусты по обе стороны дороги.
Спайерс все это видел, не будучи труслив; он все еще хотел сомневаться в намерениях туземцев и ничего не предпринимал против них. Но, не желая, чтобы они напали на него в кустах, сам решительно выскочил на дорогу и встал в полосе лунного света прямо лицом к ним.
При виде его оба австралийца радостно вскрикнули от удивления и, точно сговорившись, отскочили назад и пустили свои бумеранги с уверенностью людей, никогда не промахивавшихся. Но капитан предвидел их движение и как раз вовремя бросился на землю пластом, и бумеранги обоих дикарей просвистали над его головой. Опоздай он на две секунды — и страшное оружие раскроило бы ему череп.
Австралийцы же были так уверены в меткости своего удара, что внезапное падение на землю капитана объяснили делом рук своих и с криком торжества устремились к нему, чтобы снять скальп. Но радость их была непродолжительна; капитан дал им приблизиться на половину расстояния и прежде, чем нагарнуки успели прийти в себя от изумления, вскочил и, наведя на них револьвер, спустил курок. Виллиго упал, как сноп, без стона, без крика. Коанук кинулся к нему, вероятно желая поднять его на плечи и скрыться вместе с ним в буше, но едва он склонился к вождю, как раздался еще выстрел — и молодой воин пал мертвым подле своего друга.
— Ага, друзья мои, чтобы справиться с Красным Капитаном, нужно побольше двух человек! — воскликнул Джонатан Спайерс. — Теперь-то я знаю хоть первое слово загадки!
Снова зарядив свой револьвер, он подошел к австралийцам, держа наготове оружие, но оба нагарнука лежали на траве, окрашенной их кровью, со сжатыми кулаками; оба они были ранены в грудь. Джонатан склонился к Коануку и осторожно приподнял его руку, которая тотчас же безжизненно упала вдоль тела юноши.
— Да… этот готов! — прошептал капитан и стал вглядываться в его лицо. Но оно не было ему знакомо. Тогда он наклонился над другим нагарнуком, и при первом же взгляде у него вырвался невольный крик: это был Виллиго, друг молодого графа.
«А… так, значит, граф подослал их убить меня, меня, который готов был посвятить ему всю свою жизнь! Так стань же вновь Красным Капитаном, живи лишь ненавистью и мщением! — мысленно вскрикнул он. — Гостеприимство, честь и дружба — все это глупые слова, которые люди играют, чтобы обмануть себе подобных!»
Но вскоре его мысли приняли другой оборот.
«Нет, я безумец! Как я мог заподозрить графа? Разве это такой человек? Он единственный человек, который подал мне руку помощи, он, рискуя своей жизнью, хотел сегодня спасти несчастных пленников. Нет! Нет!.. Разве он не говорил, что рассчитывает на мое содействие, разве он не готовился открыть мне через несколько часов свою душу, свои опасения и надежды?! Нет, нет, он здесь ни при чем! В таком случае дело еще больше осложняется… значит, здесь, во Франс-Стэшене, должен быть удивительно сильный человек, удивительно умный, которому рабски повинуются туземцы, который всех здесь проводит и который какими-то судьбами добрался до моей тайны! Чем же иначе объяснить исчезновение „Лебедя“ и безумное покушение на мою жизнь?! Но кто может быть этот человек? Какую цель он преследует? Я во что бы то ни стало должен найти его, и молодой граф поможет мне в этом!»
В этот момент, взглянув на труп Виллиго, капитан невольно содрогнулся: ему казалось, что австралиец смотрит на него грозно и свирепо. Широко раскрытый глаз нагарнука смотрел неподвижно, как глаз мертвеца, который забыли закрыть после смерти; казалось, действительно он смотрел с упорной настойчивостью на капитана. Последнему стало жутко под этим упорным, неподвижным взглядом, и он машинально вытянул вооруженную револьвером руку и хотел было спустить курок, чтобы уничтожить эти назойливые глаза, но раздумал. «А что, если он не мертв, — подумал капитан, — какую невероятную силу воли должен он иметь, чтобы оставаться таким неподвижным под дулом моего револьвера?! Нет, не следует обезображивать труп врага!» — и он опустил свой револьвер.
Теперь он подумал о том, что надо избавиться от трупов; в его интересах, чтобы никто до поры до времени не узнал о смерти этих двух туземцев. Подозрение в их смерти легко могло пасть на него, и тогда их единомышленники непременно отомстят ему за их смерть. Если бы он мог добраться до «Римэмбера», то, конечно, не стал бы даже и думать об этом, но раз ему приходится отправиться в Соединенные Штаты, то необходимо было, чтобы смерть этих туземцев оставалась в тайне на то короткое время, которое ему придется провести в доме Оливье.
Озеро было тут под рукой, и всего проще было, конечно, сбросить туда трупы нагарнуков. Он знал, что они всплывут не раньше, как на седьмые или восьмые сутки, а этого было для него более чем достаточно.
Поэтому, стащив трупы обоих убитых за ноги на край обрывистого берега, он слегка подтолкнул их ногой — и они сами скатились под откос в озеро.
Джонатан Спайерс некоторое время смотрел на воду, по которой расходились концентрические круги, пока все не успокоилось.
— Ну, а теперь, — сказал Красный Капитан, направляясь к дому графа д'Антрэга, — посмотрим, какой свет прольет на это дело мой разговор с молодым графом!
XIV
Письмо Джона Джильпинга. — На откорме у нготаков. — Приключения и гастрономия. — Похищение.
Ночь после Праздника огня была богата событиями. Часов около двух ночи молодой нирбоас, посланный тайком Джильпингом к своим друзьям, прибыл во Франс-Стэшен и просил быть немедленно допущенным к Оливье.
Оливье принял его тотчас же, и молодой нирбоас, оставшись с ним наедине, достал из пучка перьев, украшавших его прическу, маленькую свернутую в трубочку бумажку, которую и вручил графу. Молодой нирбоас сделал это для того, чтобы нготаки не увидели этой бумажки, так как со времени ухода Виллиго и Коанука, приходивших звать Джильпинга в гости, нготаки стали еще бдительнее следить за своим кобунгом, опасаясь, чтобы его не похитили у них. Они не стали даже выпускать из своей деревни писем, которые бедный Джильпинг писал своим друзьям, и только каким-то чудом бедняге удалось умолить случайно зашедшего к нготакам молодого нирбоаса доставить во Франс-Стэшен его письмо.
Развернув скрученную бумажку, оторванную Джильпингом от края какого-то журнала, граф прочел следующие строки, наскоро набросанные карандашом:
«Дорогие джентльмены и друзья!
Ради Бога, спешите, спешите освободить меня. На рассвете следующего дня меня хотят татуировать, и это решение, принятое единогласно старейшинами, неотвратимо. Мой голос не подействовал на них; напрасно я старался убедить, что честь татуировки оскорбительна для моей скромности. Ничто не помогло; очевидно, традиция требует, чтобы кобунг носил на своем лице и теле всю историю своего племени. Я бы, может быть, и подчинился этому из уважения к древней традиции, но подумал о том, что будущий лорд и член палаты лордов не имеет права превращать себя в художественное произведение искусства. Спешите, завтра уже будет поздно!
Джон Джильпинг, будущий пэр Англии и член палаты лордов, лорд Воанго из Джильпинг-Голля, Кобунг племени нготаков».
Оливье тотчас же сообщил об этом письме канадцу, и решено было немедленно отправиться на выручку своего друга, чтобы спасти от татуировки хотя бы только его лицо.
Ввиду безотлагательности дела Оливье решил отложить свой разговор до послезавтра и, не желая беспокоить спящего гостя, думал предупредить его об этом лишь в момент ухода.
Канадец был того мнения, что с нготаками следует поступить дипломатично, не брать с собой никого из нагарнуков, чтобы не дать повода к новой войне между этими двумя племенами; в крайнем случае, если бы понадобилось прибегнуть к силе, двадцати человек приисковых рабочих было более чем достаточно, чтобы отбить у нготаков их друга.
Час спустя по получении письма все было уже готово. До большой деревни нготаков было около шести часов пути. Но Оливье и Дик, Лоран и Кэрби, сев на быстроногих мустангов и прихватив с собой молодого посланца, рассчитывали прибыть на место еще до рассвета. А их присутствия должно было быть достаточно, чтобы помешать насильственной татуировке Джильпинга; в случае же, если бы этого оказалось недостаточно, вслед за ними должен был прибыть и отряд приисковых рабочих.
Перед тем, как сесть на коня, Оливье зашел к своему гостю, но найдя его крепко спящим, просто оставил извинительную записку.
Минуту спустя маленький отряд мчался во всю прыть к территории нготаков; одновременно с ним выступил и маленький отряд приисковых рабочих под командою Коллинза.
Пока наши друзья спешили к нему на помощь, мы посмотрим, чему почтенный проповедник был обязан, что стал кобунгом нготаков.
Читатель, вероятно, помнит, что, когда Дик и Оливье поспешили на помощь осажденному нирбоасами ранчо Кэрби, Виллиго и Джильпинг остались в лесу, чтобы доставить до места все припасы, запасы, оружие и ящики с зоологическими коллекциями Оливье и Джильпинга.
Этими коллекциями Джильпинг дорожил настолько, что даже опасность оставаться при них не остановила его, несмотря даже на то, что в этот момент чуть ли не весь буш был в войне. И дундарупы, и нирбоасы, нготаки и нагарнуки были на военной тропе, и Виллиго отлично сознавал всю грозившую их маленькому каравану опасность. Джильпинг же совершенно не верил в нее, самонадеянно думая, что достоинство английского подданного ограждало его от всякого покушения на его особу.
Уверенность его доходила до того, что, оставшись один с Виллиго после ухода остальных, он заснул самым безмятежным сном, но вскоре ему пришлось пробудиться. Дело в том, что желудок англичанина не мог долгое время обходиться без работы, отличаясь необыкновенным трудолюбием. Несмотря на то что кругом пробуждалась природа в первых лучах восходящего солнца, все было полно красоты и гармонии, Джильпинг способен был ощущать красоты природы лишь с полным желудком и потому обратился к Черному Орлу с вопросом, не имеет ли он чего-нибудь против утреннего завтрака.
Так как Виллиго был очень в духе, то с готовностью согласился и, остановив караван под великолепным, раскидистым панданом, с наслаждением растянулся под арбой и заснул сном праведного: он две ночи подряд перед этим не смыкал глаз.
Джильпинг с блаженной улыбкой раскрыл свои жестянки с консервами и принялся готовить завтрак. Тут были и омары в горчичном соусе, и морские рыбы, и анчоусы, и сливочное масло, и знаменитый честер, и ко всему этому, в качестве приправы, пикули, горчица, три бутылки пэль-эля и фляжка бренди. Когда все было готово, англичанин любовно оглядел свой лукулловский завтрак и только что готовился сделать ему честь, как дикие крики огласили воздух, как будто весь лес наполнился нготаками в страшном военном снаряжении и ужасной татуировкой их лиц.
Черный Орел в одну минуту очутился на ногах; понимая всю опасность этого неожиданного нападения, он, притаившись за фургоном, открыл огонь из своего ружья с репетитором. Это заставило нготаков на время отступить. Судя по быстроте следовавших один за другим выстрелов, австралийцы, не знакомые еще с усовершенствованным оружием, подумали, что в фургоне запрятано по крайней мере человек двадцать белых.
Отступив несколько, они стали совещаться, что позволило Виллиго вставить полтора десятка новых зарядов в свое ружье и, зная по опыту, что мертвая тишина, наступившая после первого беглого огня, несравненно сильнее подействует на нготаков, чем беспрерывная стрельба, стал терпеливо выжидать удобного момента. Вспомнив при этом о ящике с оружием, Виллиго воспользовался этим небольшим перерывом, чтобы, вытащив ящик из фургона, спрятать в кустах, где его трудно было заметить и найти.
Покончив с этим, вождь, сознавая, что силы врага слишком превосходят их караван и что открытая борьба ни к чему не приведет, обратился к Джильпингу, который с простодушным любопытством наблюдал за дикарями, не прерывая своего завтрака:
— Воанго, возьмите ваше ружье, сделайте большой прыжок в эти кусты, что за вашей спиной, и бегите скорее вниз к реке, затем дальше по берегу Сван-Ривер (Лебяжьей реки). А я, чтобы отвлечь их внимание, кинусь в противоположную сторону; они станут преследовать меня, а вы тем временем успеете уйти! Спешите только, Воанго, а то через минуту уже будет поздно.
— Благодарю вас, Виллиго, — крикнул ему англичанин, — но я не понимаю, зачем мне вмешиваться в ваши маленькие дела: они касаются только вас, а я — англичанин. Какое мне дело до ваших маленьких счетов?!
Но Виллиго, не дожидаясь его ответа, уже бросился в кусты и почти тотчас же скрылся из виду.
Дикие крики огласили воздух, и человек 50 нготаков пустились по его следу. «Это будет славная гонка», — подумал про себя Джильпинг, продолжая свой завтрак и наблюдая за происходящим с благодушием постороннего зрителя.
— Положительно не понимаю, почему Виллиго хотел заставить меня бежать к реке, не дав мне окончить завтрак! Я, черт возьми, британский подданный, и эти дикари, конечно, не посмеют меня тронуть! Они отлично знают, что при малейшем оскорблении, нанесенном британскому подданному, должны будут уплатить 500000 франков штрафа, принести официальные извинения и салютовать двадцатью пятью пушечными выстрелами английскому флагу! Вот чем они рискуют! Но как они забавно смотрят на меня… Что, однако, значит быть урожденцем Лондона… и как мы можем гордиться, что находимся под защитой британского флага! Даже дикари чувствуют к нему невольное уважение и трепет!
Рассуждая таким образом, Джильпинг протягивал руку то к жестянке с омарами, то к анчоусам. Вдруг дикие крики и неистовый вой снова огласили воздух и раздались почти над самым его ухом; нготаки принялись перескакивать через кусты прямо на то место, где расположился Джильпинг.
— Пусть себе забавляются, — подумал тот, — то были их песни, а это их пляска. Предобродушные люди, можно сказать!
Но прежде, чем он успел отдать себе отчет в случившемся, эти добродушные люди набросились на него, повалили, связали ему руки и, накинув петлю на шею, привязали его к дереву так, что при малейшем движении он мог сам затянуть на себе петлю.
Сначала он отбивался и кричал:
— Да разве вы не знаете, что я — британский подданный?! Вы дорого поплатитесь за это нападение, за такое насилие над свободным гражданином Великобритании!
Но никто ему не отвечал; шум и гам только усиливались.
— Вот они теперь притворяются, что не понимают меня! Не понимают английского языка. Я заявляю, что протестую против подобного обхождения, и сейчас же напишу на вас донесение министру иностранных дел! Тогда пеняйте только на себя!
Между тем нготаки набросились на его завтрак и с удивительной прожорливостью стали уничтожать ростбиф, сыр и консервы, обнюхивая и облизывая все, затем накинулись на напитки; пиво австралийцам не особенно понравилось, но зато бренди приобрело всеобщее одобрение. Когда ничего более не осталось, туземцы принялись кривляться и плясать, потирая себе желудок.
Какое мучение это было для Джильпинга, который не успел еще утолить свой голод!
— Ах, негодяи, мерзавцы, дикари… Проглотить, как акулы, шесть фунтов сыра… настоящего честера! — И почтенный мистер погрозил им кулаком, затем, забыв про накинутую на шею петлю, рванулся вперед, так что чуть было не задушил себя.
Между тем дикари, уничтожив весь завтрак, кинулись к фургону, надеясь найти там еще другие лакомства, но первый ящик, который они раскрыли, содержал зоологические коллекции Джильпинга; к немалому ужасу туземцев, из ящика посыпались превосходно набитые чучела ящериц, змей и других животных, целой грудой выпавших на землю из ящика. При виде их туземцы, полагая, что вся снедь благодаря чарам колдовства обратилась в гадов, с ужасом бросились от фургона, и это обстоятельство спасло от гибели не только коллекции Джильпинга, но и громадные запасы снарядов, амуниции и разных припасов. Раздраженные до бешенства дикари окружили Джильпинга с угрожающими жестами, считая его виновником колдовства.
— Привяжите его к столбу пыток! — сказал вождь. — Посмотрим, как умирают белые люди!
С криками и гримасами окружили Джильпинга дикари и в одну минуту привязали его к высокому пню.
— Хорошо, хорошо! — твердил Джильпинг. — Это будет стоить вам еще лишних сто тысяч франков! Связать британского подданного! Да знаете ли, что это значит?
— Ты должен умереть! — сказал ему вождь на своем родном языке, которого, конечно, не понимал англичанин.
— Что ты бормочешь, полно шутить! Говори по-английски, и мы с тобой сговоримся!
— Пой свою предсмертную песню! — продолжал вождь и сделал жест рукой.
Джильпинг подумал, что вождь указал ему на его кларнет, висевший, по обыкновению, у него за плечом.
— А, ты хочешь, чтобы я сыграл тебе что-нибудь! Недурной у тебя вкус… Развяжи мне руки, и я тебе сыграю! — И он показал, что руки его связаны и их надо развязать.
Обычай требовал не отказывать ни в чем воину, который должен умереть, за исключением, конечно, возвращения ему свободы. Не заставляя просить себя, вождь одним ударом ножа перерезал лианы, связывавшие руки пленника. Джильпинг вздохнул с облегчением.
— Ну, вот так, теперь я сыграю маленькую вещицу, и вы вернете мне свободу, не так ли?!
Вождь кивнул головой в знак того, что, мол, мы ждем, но Джильпинг принял это за согласие и, радостно схватив свой кларнет, сыграл какую-то веселенькую прелюдию, затем заиграл блестящие вариации на тему одного известного вальса.
Туземцы впервые слышали подобную музыку, так как их австралийские музыканты до сего времени только ударяли в такт камень о камень. Их немое восхищение и удивление вскоре перешли в сладкое очарование; усевшись кружком на траве, они плавно раскачивали головами, в сладостной истоме закрывая глаза и давая убаюкивать себя гармонии звуков. Когда же в музыке стал слышен быстрый темп вальса, дикари, точно по команде, вскочили на ноги и принялись отплясывать, издавая при этом странные звуки, означавшие восторг и возбуждение.
Вдруг кто-то, точно под впечатлением внезапно озарившей его мысли, крикнул:
— Кобунг поппа! Кобунг поппа!
— Кобунг поппа! — повторили хором остальные, кидаясь в ноги Джильпингу, и терлись носом один за другим об его сапоги. Это означало «белый кобунг», дружественный дух какого-нибудь предка, за которого туземцы приняли Джильпинга. Простодушные дикари вдруг уверились, что он добрый дух их племени, пришедший принести им счастье, радость и всякое благополучие, как о том гласило старое предание, и предсказавшее появление такого кобунга по счастливой случайности как раз в это время. Джильпинга тотчас же отвязали от дерева со всевозможными знаками уважения, а британец приписал это тому обстоятельству, что в нем только сейчас признали англичанина.
— Ну хорошо, хорошо, друзья мои! Ошибка, конечно, возможна; я не буду требовать с вас никакой пени за вашу предерзость. Во всем остальном дело решит министр Пальмерстон… Правда, он не очень-то снисходителен, когда дело идет об английских интересах, но ведь вы сами понимаете, что тут задета честь английского флага! Впрочем, я постараюсь выгородить вас, а теперь оставьте мои сапоги в покое: вы слижете с них весь крем — и позвольте мне пожелать вам доброго утра. Впрочем, нет, не будете ли вы добры проводить меня на ферму Кэрби? Я не знаю туда дороги! Вы оказали бы мне этим большую услугу!
Пока он говорил, австралийцы благоговейно слушали его, говоря друг другу: «Так вот на каком языке изъясняются на луне наши предки…» Теперь для них казалось несомненным, что этот кобунг ночью упал с луны и что Виллиго хотел завладеть им для своего племени. Какая радость! Какое торжество для них — привести в их деревни настоящего кобунга! Он, несомненно, для них спустился с луны, так как в его наружности не было решительно ничего напоминающего нагарнуков; некоторые из старцев хвалились даже, что они узнают его, что это старый тучный вождь Каттвагонг, пришедший для того, чтобы осчастливить их после своей смерти!
Видя австралийцев покорными, Джильпинг воспользовался их миролюбивым настроением, чтобы позавтракать, и под конец угостил их пением псалма и повторением его мотива на кларнете, к вящему и неописуемому восторгу своих новых друзей.
После завтрака, собрав кое-какие свои пожитки, Джильпинг с большим трудом взобрался на спину своего верного Пасифика и двинулся вперед, как он полагал, к ферме эсквайра Кэрби.
Но едва он отъехал от места своей стоянки несколько сажен, как его стало клонить ко сну, веки его сомкнулись, и голова свесилась на грудь. Два рослых нготака, став по обе стороны его осла и шагая с ним в ногу, поддерживали почтенного мужа с двух сторон, не давая ему упасть. Убаюканный мерной качкой спокойного шага далеко не ретивого Пасифика, будущий лорд Воанго вскоре заснул крепким сном и пробудился только тогда, когда равномерная и баюкающая качка вдруг приостановилась: шествие, центральной фигурой которого являлся Джильпинг, прибыло на место.
Но увы! То была не ферма Кэрби, а большая площадь деревни нготаков, где предупрежденное об его прибытии скороходами, забежавшими вперед, население встретило его шумными и радостными приветствиями.
Таким образом Джильпинг остался у нготаков, где усердно работал, и, как он думал, работал с одинаковым успехом, и над составлением своих зоологических коллекций, и над обращением туземцев в лоно англиканской церкви.
Такое положение вещей длилось уже более года, когда Совету Старейшин вдруг пришла мысль зататуировать их кобунга, чтобы никакое другое племя не могло отнять его. Только это обстоятельство и вынудило Джильпинга обратиться за помощью к его прежним друзьям.
Благодаря их вмешательству все обошлось благополучно. Отправившись из Франс-Стэшена около трех часов утра, наши приятели еще до рассвета прибыли в деревню нготаков. Все еще спали крепким сном, в том числе и двое стражей Джильпинга-кобунга, завернувшихся в теплые кенгуровые шкуры и расположившихся у дверей, ведущих в священную ограду доброго духа племени. Они полагались на ограждавшие и само жилище, и сад кобунга высокую изгородь и глубокий ров, а также на необычайную тучность самого кобунга.
Действительно, Джильпинг, который был достаточно тучен и раньше, за время своего пребывания у нготаков растолстел так сильно, что с успехом мог бы присутствовать на ежегодном «обеде толстяков» в Цинциннати.
Собственно говоря, существование Джильпинга у нготаков было для него не без приятности, и, если бы не его мечты о будущем величии семьи Джильпинг, он, вероятно, с охотой остался бы здесь до конца дней своих на откорме у нготаков. Но ведь у него на руках тринадцать боев и мисс, которые еще требовали материальной, а главное, нравственной поддержки своего досточтимого родителя. Вот почему будущий лорд Воанго решил отказаться от сладости нготакской жизни и вернуться в туманный Лондон. Но осуществить это решение было не так-то легко; его караулили неустанно и днем, и ночью. Но эту ночь Джильпинг не спал: он поджидал прихода своих друзей из Франс-Стэшена, заранее высчитав время, нужное им, чтобы прибыть сюда. Чтобы не возбудить внимания нготаков, Оливье и его друзья привязали своих лошадей в ближайшем лесочке, в некотором расстоянии от деревни. Видя, что кругом царит мертвая тишина, у них явилась мысль похитить Джильпинга и тем самым избежать, с одной стороны, переговоров с нготаками, с другой — вооруженной схватки с ними. Ввиду этого они отправились пешком, под предводительством проводника, который хорошо знал здесь все ходы и выходы.
Подойдя на ружейный выстрел к ограде Джильпинг-сквера, они послали вперед молодого нирбоаса, чтобы высмотреть наиболее удобное место для осуществления своего замысла. Ловкий и цепкий юноша без труда взобрался на частокол, служивший оградой саду, со стороны, противоположной той, где находились ворота и где постоянно караулили нготаки. Едва только голова его показалась над частоколом, как он увидел в ограде сада самого Джильпинга, державшего в поводу Пасифика, который мирно жевал травку у себя под ногами.
Подав условный знак англичанину, молодой нирбоас поспешно вернулся к пославшим его и сообщил, что он видел. Не теряя ни минуты, решено было тотчас приняться за работу, то есть перерубить лианы, соединявшие колья бревенчатого частокола, так как австралийцы не знают ни гвоздей, ни железа; перерезав их осторожно, выворотить их так, чтобы они легли поперек рва и образовали собой мост, по которому могли бы пройти мистер Джильпинг и его верный спутник.
Работа была нетрудная, конечно, но требовала большой осторожности, так как малейший шум мог разбудить сторожевых нготаков и возбудить их подозрение.
Все работали дружно, и менее чем в полчаса времени все было готово, и Джильпинг на своем Пасифике благополучно присоединился к своим друзьям. Добравшись до лесочка, они проворно вскочили на своих коней и помчались в обратный путь к Франс-Стэшену. По дороге им встретился Коллинз с рабочими; им объявили, что услуги их не понадобятся, и те были очень довольны. К завтраку все уже были дома, в уютной столовой Франс-Стэшена, где Оливье весело представил своего нового гостя Джонатану Спайерсу под именем Джона Джильпинга, эсквайра, или лорда Воанго.
Джильпинг был очень счастлив, что снова очутился среди европейцев, людей, говорящих на его родном языке; его огорчало только одно обстоятельство, а именно что ему пришлось оставить у нготаков все свои великолепные коллекции, собранные им за время его пребывания у них. Но друзья утешили его, убедив, что после первых дней гнева и негодования нготаки, без сомнения, вернут ему коллекции взамен кое-каких приятных для них подарков.
Джильпинг даже прослезился от радости при виде стола, сервированного по-европейски, с копчеными окороками, языками, холодной индюшкой, пикулями и всевозможными гастрономическими лакомствами. Он ел и пил с удвоенным и утроенным усердием, так что после стола четверо слуг принуждены были отнести его на постель в комнату.
По окончании завтрака Оливье подошел к Джонатану Спайерсу и сказал:
— Дорогой гость мой, расположены ли вы уделить мне теперь немного вашего времени и вашего внимания?
— Я только что сам хотел спросить вас об этом! — ответил его собеседник.
— Дело в том, — продолжал Оливье, — что то, что я имею сказать вам, чрезвычайно важно. Моей жизни, моему будущему, а главное, счастью всей моей жизни грозят в настоящее время Невидимые, неуловимые враги. Я рассчитываю, что, в память прошлого, вы не откажетесь быть в числе моих защитников!
— Я, конечно, не знаю, какие могут быть у ваших врагов причины ненавидеть вас; но, кроме этого, мне остальное все известно!
— Вам все известно?!
— Да, и даже то, чего вы сами не знаете, — имя ваших врагов, их намерения и средства, которыми они хотят действовать против вас… Что должно отныне соединить нас и телом, и душой — это то, что ваши враги — те самые, что преследуют и травят меня в настоящий момент!
XV
Признание Оливье и Красного Капитана. — Убийца Виллиго. — Пропажа «Лебедя». — Ужасное недоумение.
В отсутствие Оливье капитан снова взвесил все причины и вероятия для объяснения удивительного исчезновения «Лебедя», потому что, как ни невероятен был этот факт, тем не менее он был неоспорим: маленького спутника «Римэмбера» нигде не было, а покушение на его жизнь, несомненно, находилось в связи с его исчезновением. По получении записки Оливье, откладывавшей их разговор на позднейшее время, он отправился на озеро и еще раз внимательно исследовал берег в том месте, где он оставил судно; он убедился, что никакого течения в этом месте не было. Волей-неволей пришлось вернуться к мысли, что это было дело рук Ивановича, что последний, желая овладеть его изобретением и поставить его в плотную зависимость от себя и от Невидимых, убедил последних отправить на всякий случай в Австралию несколько человек, выдающихся механиков и электротехников, чтобы они были у него под рукой. Эти господа, скрываясь в буше, сумели подкупить Виллиго и его товарищей, чтобы те осведомляли их обо всем происходящем на озере Эйрео и в его окрестностях, и так как опыты Красного Капитана на озере не могли не привлечь их внимания, то они учредили за озером еще более строгий надзор, причем от них, конечно, не могла укрыться его высадка. Тогда туземцы, заманив в ловушку оставленных им на «Лебеде» людей, убили их и предоставили инженерам возможность овладеть судном и открыть секрет управления им, что было особенно легко благодаря его собственной оплошности.
Как мы видим, Джонатан Спайерс был недалек от истины в некотором отношении. Но предположить, что его секрет открыли дикари, было настолько невероятно, что эта мысль, конечно, ни одной минуты не приходила ему в голову. Главным виновником всего был, несомненно, Иванович, и потому капитан с первых же слов его разговора с графом заявил ему, что у него общие с графом враги.
— Да, — повторил он еще раз, видя безмолвное удивление графа, — ваши враги те же, что и мои! И мы вместе будем бороться против них!
— Как, — воскликнул тот, — вы знаете имя моих врагов, знаете их намерения и планы, даже их средства борьбы… Назовите же их мне!
— Имя им легион, — ответил капитан, — и вы сами не знаете их, но они называют себя Невидимыми. А их агент здесь, в Австралии, которого вы знаете под именем «человека в маске»…
— Вы знаете «человека в маске»?!
— Да, знаю, но дал слово честного человека никому не называть его, и этого слова не могу нарушить! Но я не давал ему клятвы, что не поставлю его лицом к лицу с вами, что я не сорву с него его маски и не буду мстить ему за вас, и потому клянусь, что повешу его на первом дереве, которое попадется мне на глаза в удобную минуту!
— Но кто вы такой?
— Я № 333, член общества Невидимых! — сказал капитан, понизив голос до шёпота.
Если бы у Оливье над головой обрушилась крыша или под ногами провалился пол, он не был бы столь поражен.
— Член общества Невидимых! — пролепетал он, побледнев, как полотенце.
— Член общества Невидимых под моей кровлей!
— Сжальтесь, граф, сжальтесь! Неужели вы не видите, что я готов умереть за вас, что я рад отдать всю жизнь своему благодетелю! — рыдая, восклицал Красный Капитан.
При виде этого непритворного отчаяния Оливье сразу успокоился: он почувствовал, что в жизни этого человека есть какая-то тайна и что прежде, чем его осудить, надо его узнать. Протянув ему чистосердечно обе руки, он сказал:
— Я чувствую, что могу пожать вашу руку, чувствую, что вы много страдали и отчаяние ваше непритворно! Я верю, что вы любите меня… успокойтесь же и пойдемте отсюда: нам с вами неудобно говорить здесь!
Разговор этот происходил в отдаленном углу столовой; но никто ничего не заметил, так как за громким и веселым смехом и говором рабочих прииска, оставшихся завтракать после похода к нготакам, ничего не было слышно.
— Пойдемте, друг мой, — сказал Оливье, делая ударение на последнем слове, — нам с вами надо поговорить с глазу на глаз… Но если бы это не было вам неприятно, я бы очень желал, чтобы при нашем разговоре присутствовал мой верный друг Дик, от которого я не имею никаких секретов! До сего момента он всегда поддерживал меня, ободрял и защищал в борьбе против Невидимых, он сделал меня миллионером, поделившись со мной этим прииском, и ему, вероятно, показалось бы странным, если бы мы с вами стали говорить о столь важных делах, не пригласив его участвовать в нашем разговоре.
— Ваше желание для меня закон, — отозвался капитан, — кроме того, я сам того мнения, что ввиду серьезных решений, к которым мы должны прийти, разумные советы вашего друга могут нам быть весьма полезны!
В это время Дик оживленно разговаривал в саду с каким-то туземцем.
— Лоран, — обратился граф к своему слуге, — предупреди Дика, что мы ждем его в библиотеке! — С этими словами Оливье повел капитана в комнату первого этажа, служившую библиотекой.
Не прошло и пяти минут, как дверь порывисто распахнулась, и в комнату ворвался Дик вне себя от гнева и негодования, с глазами, полными слез.
— Оливье, — крикнул он с порога, — наш старый друг Виллиго, мой верный товарищ и брат, и молодой Коанук умирают в своей хижине!
— Виллиго… Коанук… умирают! — воскликнул Оливье, не веря своим ушам.
— Да, они вернулись сегодня ночью, — продолжал канадец уже грозно, многозначительно глядя на Красного Капитана, — у обоих грудь пробита револьверной пулей. Они ползли по кустам, с каждым шагом истекая кровью, поддерживая друг друга, чтобы добраться до своего жилища.
— Подло подстреленные в спину, потому что ни один человек не посмел бы напасть на Виллиго открыто! — воскликнул Оливье.
— Нет, не в спину, а прямо в грудь, — мрачно возразил Дик. — Наши бедные друзья были вооружены только одними бумерангами и не ожидали предательского выстрела. Но они будут отомщены, — добавил канадец, — они успели назвать своего убийцу.
При первых словах Дика Джонатан Спайерс побледнел. Так, значит, эти туземцы, хотевшие заманить его в западню, не умерли; у них хватило сил выплыть из озера и добрести до своей деревни!
В первый момент капитан не испытывал ничего, кроме некоторого удивления, но последние слова Дика, сказанные вызывающим тоном угрозы, взорвали его… Еще минута, и он вскипел гневом.
— И кто же этот убийца? — спросил Оливье, слишком взволнованный этой вестью, чтобы обратить внимание на угрожающие взгляды Дика по направлению капитана.
— К счастью, он в наших руках! И мы скоро расправимся с ним! Этот убийца подлый шпион, злоупотребляющий нашим гостеприимством…
— Берегитесь! — крикнул Красный Капитан, побледнев от сдерживаемого бешенства. — Меня зовут Красным Капитаном, и я не поручусь за себя.
— Вы видите, Оливье, — проговорил Дик с величайшим спокойствием, — убийца сам себя выдал.
— Как? Вы?.. Вы! — воскликнул Оливье с глубоким огорчением.
— Пусть он примет законное воздаяние! — сказал канадец и хлопнул два раза в ладоши.
В тот же момент в комнату ворвалось десять человек приисковых рабочих, вооруженных револьверами.
— Схватить этого человека! — приказал Дик.
— Первый, кто подойдет, будет убит! — заревел капитан, выхватив свой револьвер, который он постоянно носил при себе, и задвинул себя столом.
Рабочие замялись.
— Трус, — крикнул капитан Дику, — других натравливаешь, а сам не смеешь взять меня!
В один момент Дик выхватил револьвер у первого ближайшего рабочего и одним прыжком подался вперед, но Оливье обхватил его обеими руками поперек тела.
— Благодари этого благородного юношу, который защитил тебя своею грудью, не то тебя теперь уже не было бы в живых! — мрачно проговорил Дик.
— Благодетель мой, спаситель мой! Клянусь вам честью, мне не в чем себя упрекать… Выслушайте меня, молю вас!..
— Оставьте нас, — сказал Оливье, обращаясь к рабочим, — я за все отвечаю!
Смущенные решительным видом капитана, они поспешили уйти.
— О, благодарю вас, граф! — воскликнул Джонатан Спайерс. — Вы положили конец сцене, после которой оставшиеся в живых предавались бы самому горькому отчаянию, быть может, всю свою жизнь! Вы увидите, что я заслуживаю вашего уважения, только вашего, потому что ничьим другим я не дорожу!
Последние слова были брошены по адресу канадца, что тот прекрасно понял.
Видя, что граф берет сторону убийцы честного вождя, канадец, возмущенный этим до глубины души, не мог удержаться, чтобы не воскликнуть:
— Так вот как вы отблагодарили меня за все мои благодеяния вам, за все, что сделал для вас Виллиго!
Но едва он произнес эти слова, как понял, что вырыл между Оливье и собой бездонную пропасть, и готов был отдать теперь полжизни, чтобы вернуть эти слова.
При этом столь неожиданном ударе Оливье страшно побледнел, и старая родовая гордость заговорила в нем.
— Знаете, господин Дик Лефошер, что графы Лорагюэ д'Антрэг всегда платили свои долги… И я поступлю так же!
В первый момент Дик не понял всего значения этих слов, его поразило только, что он назвал его господином, и это болезненно укололо его, старого траппера.
— Оливье, милый Оливье! Простите меня, простите старого траппера за невольно сорвавшееся горькое слово! Не называйте меня так, как вы сейчас назвали, мне это больно… Оливье, протяните мне руку и скажите мне, что все забыто! — начал он молить.
Растроганный Оливье тотчас же протянул ему руку и добавил:
— Все забыто! И пусть об этом никогда больше не будет речи! — Затем, обернувшись к капитану, он спросил: — Так это вы стреляли в Виллиго и Коанука?
— Да, в ответ на предательское нападение, защищая свою жизнь, — ответил Красный Капитан. — Позвольте мне рассказать вам мою печальную историю, без чего вы не поймете моего появления здесь и моих действий, вероятно восстановивших против меня этих туземцев.
— Мы вас слушаем! — коротко сказал Оливье.
В кратких, но прочувствованных словах Джонатан Спайерс описал и свое злополучное и тяжелое детство, свои мучения, обиды и страдания, отчаяние, когда у него украли первое изобретение, и свой уход в Сан-Франциско, и решение наложить на себя руки, и счастливую случайность, пославшую в этот момент молодого графа, который спас ему жизнь и поднял его мужество. Затем, перейдя к рассказу, относящемуся к его изобретению «Римэмбера» и его связям с Ивановичем, он не скрыл от графа решительно ничего, кроме имени этого человека; не умолчал даже об обязательстве захватить в плен графа, которого он не знал и которого ему выдавали за отвратительного авантюриста, причем он поставил условием, что его жизнь пощадят, равно как и жизнь всех французов, в память доброго поступка того неизвестного француза, который тогда сжалился над ним. Он трогательно передал то, что он испытал, узнав, что граф и есть именно тот человек, который некогда спас его, и решение его тотчас же встать на его сторону в его борьбе с Невидимыми. Все это было так искренне, горячо и трогательно, что не только Оливье, но и Дик готовы были протянуть ему руку и с чувством пожать ее, но они ждали, когда он объяснит им свою схватку с Виллиго.
— На этот счет, — закончил свою исповедь Джонатан Спайерс, — я не могу сказать вам ничего особенного точного, так как самому мне не все ясно, или, вернее, многое вовсе не ясно. Когда я хотел вернуться на «Римэмбер», чтобы объясниться с уполномоченным Невидимых, то не нашел своего «Лебедя» на том месте, где его оставил, а когда стал исследовать берег, чтобы найти какой-нибудь след пропавшего судна, на меня вдруг напали эти два туземца, следившие за мной от самого Франс-Стэшена. Когда я в одном из убитых мною туземцев узнал вождя Виллиго, то была минута, когда я поверил в западню, устроенную мне по приказанию кого-нибудь из обитателей этого дома, но тотчас же откинул эту мысль. Как вы видите, я ранил обоих туземцев, защищая свою жизнь; впрочем, я в этом отношении всецело полагаюсь на их показания, если только они в состоянии сказать всю правду.
В этот момент Лоран доложил, что Нирруба, которого Дик послал в деревню узнать о состоянии здоровья вождя, вернулся. Туземца впустили в библиотеку, и он подтвердил, со слов обоих нагарнуков, что они первые напали на белого человека, которого считают шпионом Невидимых, подосланным на погибель графу. Ничего более он не мог узнать, так как оба умирающие были чрезвычайно слабы и поминутно теряли сознание…
Едва Дик дослушал эти слова, как подошел к Джонатану Спайерсу и, протянув руку, сказал: «Забудем все!»
— Да, — сказал капитан, — очевидность была против меня, и вам было больно за вашего друга — забудем же все!
— Да, забудем все, что было между нами неприятного, — заметил Оливье,
— с этого момента вы наш! — добавил он, обращаясь к своему гостю.
Но кто же похитил «Лебедя»? Этот вопрос оставался неразъясненным. Никаких сообщников Невидимых в буше не было, во всяком случае, Виллиго и Коанук не способны были войти с ними в соглашение, так как намеревались убить капитана только потому, что приняли его за сообщника Невидимых.
Дик и Оливье были чрезвычайно обрадованы, узнав, что «человек в маске» находится на «Римэмбере»: наконец-то они увидят лицом к лицу своего непримиримого и беспощадного врага и потребуют у него отчета в его возмутительных поступках и покушениях; Оливье собирался даже вызвать его на дуэль.
— Никогда! — воскликнул канадец. — Мы будем судить его судом Линча!
— И я того же мнения, — сказал Джонатан Спайерс. — Всюду, где только нет человеческого законного правосудия, безраздельно царит Линч, и только он один очищает землю от всяких негодяев, мерзавцев и преступников!
Но для того, чтобы захватить «человека в маске» и спасти от гибели честных обитателей «Римэмбера», необходимо было добраться до железного колосса. А без «Лебедя» это могло быть сделано лишь с помощью водолазного колокола и скафандра, который нужно было заказать в Америке или в Европе, так как в Австралии не было таких больших механических заводов.
— Так вы не видите никакого иного средства добраться до «Римэмбера»? — спросил Оливье.
— Никакого, хотя я всячески кручу свой бедный мозг все это время, чтобы придумать что-нибудь. Не могу же я, в самом деле, оставить там, под водой, Бог весть на сколько времени всех этих беззаветно доверившихся мне людей, которые в случае какой-нибудь оплошности с их стороны, могущей причинить порчу машине, вырабатывающей воздух, погибнут все, задохнувшись от отсутствия воздуха.
— Какой ужас! — воскликнули в один голос Дик и Оливье.
— Если бы мне удалось каким-нибудь образом поднять на поверхность «Римэмбер», то я разыскал бы пропавшего «Лебедя» в самое короткое время. Я обыскал бы все уголки Австралии и нашел бы его, так как похитители его, кто бы они ни были, не могли, не зная внутреннего устройства судна, перебраться за океан ни по воздуху, ни водой!
— Вот если бы наш приятель Джильпинг был в состоянии принять участие в нашей беседе, то, вероятно, нашел бы возможность подать нам какой-нибудь полезный совет! Несмотря на кое-какие свои слабости, это весьма серьезный ученый, — сказал Оливье, — один из выдающихся членов Лондонского королевского общества!
XVI
Идея Джильпинга. — Подводное путешествие «человека в маске» и «Лебедь». — Последнее объявление войны.
Решено было вечером собраться на совет, когда, основательно проспавшись, Джильпинг будет в состоянии принять в нем участие. Порешив на этом, канадец поспешил к своему умирающему другу Виллиго. Тот метался в сильном бреду; ни Черный Орел, ни Коанук не узнавали своего друга. Вокруг них собрались все колдуны и знахари племени, но все их заклинания оставались бессильны.
Канадец приказал прежде всего промыть раны, затем исследовал их зондом и с радостью убедился, что в обоих случаях пуля прошла навылет, и если она не задела какого-нибудь из жизненных органов, то надежда на выздоровление еще не была потеряна. Но об этом можно было судить лишь по прошествии нескольких дней.
Страшная слабость раненых происходила главным образом от громадной потери крови. Будучи ранены, они поняли, что малейшее движение должно погубить их, что, только прикинувшись мертвыми, они могли остаться в живых, и потому они дали сбросить себя в озеро и нашли в себе даже силы нырнуть, чтобы выплыть саженях в десяти от того места, где стоял капитан, под прикрытием развесистых ив выбраться на берег и с величайшим трудом добраться до родной деревни. Но здесь силы окончательно изменили им.
Однако канадец ушел от своих раненых друзей несколько успокоенным. В тот же вечер Джильпинг был посвящен в положение дел. Ясно было, что необходимо или поднять «Римэмбер» со дна озера хоть на несколько минут, чтобы капитан мог привести в действие пружину элеватора, или же опуститься на дно озера к «Римэмберу». То и другое казалось невозможным. Но каково было удивление Оливье и Дика, Кэрби и самого Джонатана Спайерса, когда Джильпинг, выслушав внимательно все подробности, какие только мог сообщить ему капитан, не без некоторой гордости сказал:
— Только-то! Ну, так я нашел средство поднять «Римэмбер» на поверхность и продержать его в таком положении хоть час!
— Но как?
— Ну, это уж мое дело! Я требую только, чтобы в мое распоряжение были предоставлены ваши двадцать приисковых рабочих, крытый сарай прииска и разрешение располагать по своему усмотрению всеми материалами и запасами, какие найдутся во Франс-Стэшене.
— И когда же вы думаете порадовать нас? — спросил Оливье?
— Ровно через две недели, милостивый государь!
— Две недели потерянного времени! — заметил капитан на ухо Оливье.
— Как знать?! — возразил граф.
— Позвольте мне узнать, — продолжал Джильпинг, — некоторые чрезвычайно важные для меня подробности, а именно точную длину вашего подводного судна!
— 50 сажен!
— А высота от киля до палубы?
— Десять сажен!
— А ширина?
— Двенадцать с половиной!
— А средняя толщина обшивки?
— Приблизительно двадцать пять сантиметров; она состоит из трех пластов стали, железа и бронзы.
— Прекрасно! — И Джильпинг с карандашом в руке стал делать какие-то вычисления и при этом бормотал сквозь зубы: — Всякое тело, погруженное в воду, утрачивает часть своего веса, равную весу того количества воды, которую оно вытесняет.
— Это несомненно! — сказал Оливье.
— Благодаря данным, доставленным мне этим джентльменом, я могу вычислить объем «Римэмбера». Теперь остается еще вычислить, как велика тяжесть, которую придется поднять, принимая во внимание огромное водоизмещение колосса «Римэмбера». Вот, мои вычисления почти готовы… Мне потребуется на поднятие «Римэмбера» напряжение силы, равное тому, какое потребно, чтобы поднять на воздух тяжесть в 7 с половиной пудов.
Присутствующие были крайне удивлены.
Затем Джильпинг продолжал:
— Почему броненосец с обшивкой в 30 сантиметров плавуч, тогда как собственный вес железа несравненно тяжелее удельного веса воды?
— Потому что его водоизмещение чрезвычайно велико! — сказал Оливье.
— Совершенно верно. Почему же тогда «Римэмбер», который, в сущности, построен, как всякое судно, не плавуч? Потому что вес его превышает на 7 с половиной пудов вес вымещаемого им количества воды. Так как 7 с половиной пудов очень незначительный вес, то в воде достаточно было бы толчка сильного человека, чтобы сдвинуть с места «Римэмбер». Это-то свойство судна позволяет ему одинаково хорошо двигаться и между двух вод, и на поверхности воды.
Джонатан Спайерс положительно недоумевал, как эта простая мысль могла не прийти ему в голову; это объяснялось только тем, что за последние двадцать четыре часа он пережил столько потрясений, что у него голова совершенно шла кругом.
— Теперь мне остается только сделать промер и убедиться, на какой глубине сидит теперь «Римэмбер», чтобы изготовить два каната, к концам которых надо прикрепить два громадных кольца: одно из них должно обхватить «Римэмбер» с носа, а другое — с кормы. Таким образом, судно, захваченное с обоих концов, будет в моей власти; соединив концы канатов, уже легко вытащить «Римэмбер», как рыбу на удилище, расходуя на это дело лишь силу, потребную на поднятие тяжести 7 с половиной пудов, или, иначе говоря, силу пары дюжих рук.
— Это просто великолепно! — воскликнул Дик.
— Таков логический вывод моих вычислений! — продолжал Джильпинг. — Но так как мне неизвестно, да и капитану, вероятно, тоже, каков вес машины, запасов живого и мертвого инвентаря, то весьма возможно уклонение в пять-шесть тонн (300-350 пудов) между весом, вычисленным нами, и действительным, и это могло бы причинить мне досадную помеху. Поэтому я подумал, что за отсутствием подъемного крана и набережной, где его можно было бы утвердить, нужно соорудить особого рода «элеватор» с силой в 600-700 пудов. Каков будет этот элеватор — это мой секрет. Затем спокойной ночи… Завтра утром я примусь за работу!
В заключение Джильпинг попросил, чтобы в его комнату прислали бутылку бренди и графинчик содовой воды для грога на ночь, без чего он никак не мог заснуть.
На другой день Джильпинг, при посредстве Джонатана Спайерса и капитана «Марии», произвел необходимый промер, чтобы определить местоположение «Римэмбера», причем оказалось, что судно сидит на сравнительно меньшей глубине, чем полагали, а именно не свыше 45 сажен. Убедившись в этом, Джильпинг отправился на прииск и заперся с капитаном и рабочими в громадном здании, служившем главным магазином.
Теперь, когда таинственные явления на озере Эйрео объяснились и «человек в маске», как достоверно было известно, находился на «Римэмбере», а Джонатан Спайерс был гостем и другом владельцев Франс-Стэшена, ничто, казалось, не мешало более спокойствию и полному благополучию наших друзей. Только таинственное исчезновение «Лебедя» оставило за собой как бы какую-то тень, омрачавшую несколько общее настроение.
Однако как бы для того, чтобы согнать последнее облачко с их горизонта, судьба устроила так, что и эта загадка разъяснилась сама собой.
По уходе Джильпинга Оливье и Дик собрались пойти навестить Виллиго, и Джонатан Спайерс попросил разрешения сопровождать их.
Оливье опасался, как бы присутствие капитана не усилило мучительного состояния Черного Орла, но канадец был другого мнения: он лучше знал великого вождя, знал, что именно мысль о том, что без него друзьям будут грозить опасности, от которых он не в состоянии будет защитить их, всего более беспокоит вождя и мешает его выздоровлению. Поэтому всего лучше, по мнению Дика, было сразу же уничтожить его предубеждение против капитана. Когда они прибыли в деревню нагарнуков, Виллиго был в сознании; бред совершенно прекратился; но он был еще так слаб, что не мог выговорить ни слова. Дик, подойдя к нему, подвел к вождю капитана и сказал:
— Черный Орел заблуждается и дорого платится за эту ошибку; капитан Джонатан Спайерс — друг, а не враг наш!
Виллиго, глаза которого при виде капитана разгорелись страшным, недобрым огнем, отрицательно покачал головой.
— Вождь может поверить своему старому другу Тидане; он знает, что я никогда не обманывал его, а в доказательство сообщаю тебе, что благодаря капитану наш невидимый враг, «человек в маске», теперь в наших руках.
При этих словах в чертах раненого вождя произошла поразительная перемена; они сразу смягчились, и когда канадец спросил его, согласится ли он подать теперь руку капитану, Виллиго знаком ответил утвердительно.
Тогда Джонатан подошел и осторожно взял руку раненого. Мир был заключен; в этот момент у капитана явилась мысль расспросить раненого кое о чем.
— Спросите у него, мистер Дик, — сказал он, — не был ли вождь на берегу озера вчера утром, когда я высадился на берег с «Лебедем».
Когда этот вопрос был повторен канадцем на нагарнукском языке, Виллиго ответил опять-таки утвердительным знаком.
Тогда капитан в нескольких словах сообщил Дику то, о чем бы он хотел расспросить раненого, после чего разговор велся уже непосредственно между канадцем и Виллиго.
— Знаешь ли ты, Виллиго, что сталось с судном капитана?
— Да! — ответил слабым движением Черный Орел.
— Знаешь тех, кто завладел им?
— Да…
— Белые люди захватили его?
— Нет! — ответил вождь отрицательным жестом.
— Так, значит, это были туземцы?
— Да!
— Нагарнуки?
— Да!
— Где они, эти похитители?
Черный Орел несколько раз моргнул глазами.
— Ты хочешь сказать, что они здесь?
— Да!
— Неужели это был ты и Коанук?
— Да!
— Значит, ты нашел способ управлять им?
— Да!
— Для того чтобы завладеть судном, вы должны были убить тех трех человек, которые были на судне!
Виллиго сделал энергичный утвердительный жест.
— И затем вы скрыли судно?
— Да!
— Где? В каком месте?..
Черный Орел попытался было объяснить знаками, движением глаз и поворотами головы, но это ему не удалось.
По новым указаниям Спайерса Дик продолжал расспрос.
— Судно в сохранном месте?
— Да!
— Никто из бродяг не может найти его?
— Нет!
— Переведя судно в сохранное место, вы не поломали ничего в его механизме?
— Нет!
— А закрыл ли ты медную пластинку, скрывающую кнопки?
Виллиго на этот раз ответил отрицательно, но неуверенно.
— Ты не вполне уверен, не помнишь? — спросил Дик, угадывая значение жестов по выражению глаз и лица своего друга.
— Да!
— А трупы обоих негров и белого ты сбросил в озеро?
— Да!
Теперь, казалось, допрос был окончен. Но Джонатан Спайерс хотел непременно оправдать себя в мнении своих новых друзей и попросил канадца спросить Виллиго еще только об одном, а именно: чтобы он сказал, кто первый напал — капитан ли на них или они на капитана.
— Это бесполезно! — заметил Оливье.
— Простите, для меня это чрезвычайно важно! — возразил Джонатан Спайерс.
— Ты первый напал на капитана? — спросил Дик, уступая желанию американца.
Виллиго ответил энергичным утвердительным жестом.
Сердце капитана преисполнилось теперь радостью: не только его «Лебедь» не пропал бесследно, но и не попал в руки врага, могущего воспользоваться им на погибель ему и его новым друзьям.
Следовательно, все было благополучно, и если, как можно было надеяться, Виллиго и Коанук, или, вернее, Виллиго, так как положение молодого воина было несравненно серьезнее, настолько оправится, что в состоянии будет сказать, где им скрыт «Лебедь», ранее, чем Джильпинг справится с сооружением своего подъемного крана, то можно будет с помощью «Лебедя» отправиться на «Римэмбер», завладеть «человеком в маске», сто раз заслужившим смерти за свои злодеяния, и, учинив над ним суд и расправу, зажить спокойно и безмятежно во Франс-Стэшене. А по истечении двухлетнего срока, назначенного княжной по той простой причине, что тогда она будет совершеннолетней, граф намеревался отправиться в Петербург вместе с капитаном и предстать вместе с ним перед Верховным Советом Невидимых, потребовав от них отчета в их поступках по отношению к молодому графу и под угрозой страшного наказания вынудить у них обязательство прекратить раз навсегда всякие преследования Оливье. До назначенного срока оставалось еще три месяца, и теперь, казалось, им оставалось только спокойно ждать. Но увы! Часто и несколько дней имеют громадное значение в жизни людей; и время испытаний еще не миновало для наших друзей.
Оставим на время обитателей Франс-Стэшена и перенесемся на «Римэмбер».
После бесплодной попытки Ивановича на случай надобности выйти дверью, через которую был проведен Таганук, казак, убедившись, что Красный Капитан оставил все свои секреты под охраною сильных электрических батарей, решил спокойно ждать возвращения Джонатана Спайерса и того момента, когда он пожелает поделиться с ним своими секретами, что, судя по его же словам, должно было случиться в непродолжительном времени. Тогда он не замедлит осуществить свой ужасный замысел! Ночью, когда Джонатан будет спать, он направит на него один из проводов аккумуляторов и убьет его спящего, а на другой день экипажу станет известно, что капитан убил себя по неосторожности при обращении с одним из этих опасных механизмов, и так как он один будет в состоянии управлять «Римэмбером», то все поневоле должны будут повиноваться ему. Тогда он уничтожит прежде всего Франс-Стэшен со всеми его обитателями, чтобы Оливье не мог еще раз уйти у него из рук, завладеет золотым прииском и вернется в Россию. А так как никто не будет в состоянии узнать полковника Ивановича под черной маской, то никто не посмеет приписать ему смерть графа д'Антрэга, и тогда, он льстил себя надеждой, княжна Мария примет его предложение, если он пообещает ей взамен вернуть из Сибири ее отца, чего он думал добиться тем же влиянием, каким он пользовался для того, чтобы добиться его ссылки. Тогда он станет первым богачом и магнатом России… и тогда… тогда, быть может, ему удастся благодаря «Римэмберу» создать для себя царство и воссесть на престол где-нибудь на Дальнем Востоке.
В ожидании возвращения капитана Иванович жил в полном одиночестве и держал себя настолько надменно по отношению к экипажу, что не поддерживал с ним никаких сношений. По его расчетам, Джонатан Спайерс должен был пробыть в отсутствии не более суток, и потому он думал, что его не совсем приятное одиночество будет непродолжительно. Когда прошла первая ночь и капитан не вернулся, это нимало не удивило Ивановича. Но когда миновала и вторая ночь то он начал уже беспокоиться. Что, если какая-нибудь неосторожность выдала его?! Ему по собственному опыту была известна решимость канадца и проницательная наблюдательность, хитрость и холодная жестокость Виллиго. Малейшего подозрения с их стороны достаточно было для того, чтобы капитан был мертв; при этой мысли холодная дрожь пробежала по всему телу. Смерть капитана — это такой ужас, какой даже трудно было себе представить! Это была и для всего экипажа, и для него самого страшная, неизбежная смерть, тем более ужасная, что медленная… При мысли об этом «Римэмбер» представлялся ему страшной могилой, громадным саркофагом.
Третий день прошел, а капитан все еще не возвращался. Иванович решился расспросить непроницаемого Дэвиса, но последний сказал ему, что капитан всегда поступает как знает и никогда никому не дает отчета в своих действиях; затем он повернулся к Ивановичу спиной и отошел в сторону. Прескотт ничего не знал, но безусловно верил в своего капитана, и если тот не возвращался, значит, ему нужно было оставаться на берегу.
Литльстон, мистер Джонас Хабакук Литльстон, жаловался с утра до вечера и с вечера до утра. Можно ли подумать, что человек, занимавший в суде столь видное положение, вдруг согласился жить в какой-то закупоренной жестянке под водою, в компании каких-то авантюристов… Ах, если бы миссис Литльстон не опередила его в лучшем из миров, всего этого, наверное, бы никогда не случилось!
Таково было положение дела на «Римэмбере», но, когда и на четвертые сутки капитан не вернулся, Иванович снова принялся обдумывать разные планы бегства.
— Бежать, бежать во что бы то ни стало! — думал он. Он готов был даже отказаться от всех своих планов мщения и торжества, так как был подлый, трусливый человек, больше всего дороживший своей жизнью.
Дверь в кабинет капитана, служивший ему для послеобеденного отдыха и курения, была оставлена полуоткрытой. Иванович осторожно попытался приотворить ее. Это удалось ему без труда, причем он не испытал ни малейшего сотрясения, из чего явствовало, что Спайерс не думал воспрещать вход в эту комнату.
Едва переступил Иванович порог этого кабинета, как услышал какое-то глухое бормотание, похожее на отдаленный шум голосов или рокот волн. В первую минуту он был крайне удивлен этим явлением, которое, впрочем, скоро объяснилось.
Как уже известно, капитан установил на озере целую сеть акустических проводов, которые все соединялись в акустическом рупоре, помещавшемся в этом кабинете, где благодаря превосходному акустическому приемнику можно было, подойдя к трубке, слышать все, что говорилось на воде или на суше на расстоянии не более 25 сажен от берега.
Тотчас же Иванович подошел к трубке и приставил к ней свое ухо; до него явственно донесся голос графа, разговаривавшего с Диком, с которым он прогуливался по берегу озера.
— Да, вы правы, Дик, — говорил граф, — никакое доброе дело никогда не пропадает даром!
— Так нам всегда говорили святые отцы, обучавшие меня в детстве! — сказал канадец.
— Кто бы мог подумать, — продолжал Оливье, — когда я десять лет назад дал эти сто долларов несчастному, бездомному юноше, что мне за это будет во стократ отплачено здесь, в дебрях Австралии!..
— Именно во стократ, — подтвердил канадец, — потому что без него я положительно не знаю, как мы могли бы завладеть этим негодяем, этим «человеком в маске».
Иванович вскрикнул и чуть было не лишился чувств, но тотчас же овладел собой и, с бешенством ухватившись за аппарат, стал жадно слушать: ему необходимо было все знать; дело шло, быть может, о его жизни.
— И на этот раз, надеюсь, вы не проявите вашей обычной слабости! Взгляните, например, на это великолепное дерево, с этим большим горизонтальным суком, протянутым вперед! Вот уже два года, как я любуюсь им, внутренне говоря себе, что на этом суку будет повешен «человек в маске». Но так как такая смерть слишком легка и приятна для такого злодея, то я намерен поручить экзекуторам нагарнуков пороть его розгами до тех пор, покуда на его теле не останется ни лоскутка кожи!
Иванович не в состоянии был ничего слышать более, так как без чувств упал на ковер. Когда он пришел в себя, ему показалось, что он видел дурной сон. Но акустическая трубка была тут, подле него, и слышанные им слова еще как будто вибрировали в воздухе. А в данный момент до его слуха доносилась песня нагарнукских матросов с «Марии», и вдруг Ивановичем овладело бешенство.
— Я должен выйти отсюда! — воскликнул он, — хотя бы мне для этого пришлось взорвать весь «Римэмбер»! Лучше такая смерть, чем медленная пытка, которую для меня готовят. Изменник! Предатель! Трижды клятвопреступник! Он предает меня человеку, давшему ему 100 долларов, а я дал ему 9000000! О, если мне удастся уйти от страшной участи, которую мне готовят эти люди: я клянусь всем, что есть святого в мире, что посвящу весь остаток дней моих на то, чтобы отомстить этому предателю! Надо бежать, и как можно скорее! Но как это сделать? Все равно, я все-таки попытаюсь.
Иванович, называя капитана изменником и предателем, совершенно упустил из виду, что его собственный обман, когда он уверял, что не питает никакой личной ненависти к графу, а действует только по предписанию Верховного Совета Невидимых, — что этот обман, собственно, развязывал капитану руки и освобождал его от всех его обязательств. Что же касалось 9.000.000, то Дик и Оливье тотчас решили уплатить эту сумму обществу Невидимых.
Несколько успокоившись, Иванович принялся обдумывать, как устроить бегство. Он пришел к убеждению, что единственный способ бегства — это бегство через тамбурованную дверь, которая, вероятно, легко отворялась, раз она была под защитой электрической батареи, и решил попытаться сделать это в эту же ночь. Пусть тогда Джонатан предает его!
Чтобы избежать электрического удара при прикосновении к дверной кнопке, Иванович обернул ручку этой двери шелковой бумагой, а так как он был первоклассный пловец, то вынырнуть на поверхность со дна озера было для него сущим пустяком. Затем у него явилась мысль уложить в ящик из белой жести предметы первой необходимости, в том числе карабин с репетитором и два револьвера. А чтобы предохранить все это от воды, он приказал одному из механиков запаять жестяной ящик и теперь мог быть уверен, что у него будет все необходимое на первое время. Что же касалось пищи, то, в бытность свою в Австралии в первый раз, Иванович знал, что в пищевых продуктах у него не будет недостатка.
Теперь он стал с нетерпением дожидаться удобного момента. Было около двух часов ночи; все спали; двери благодаря каучуковым подушечкам растворялись бесшумно.
Ударом молотка, завернутого в тряпку, Иванович надавил кнопку и благодаря этой предосторожности не испытал никакого сотрясения. Отворив дверь точно так же, как это делали при похищении Таганука, он втащил в тамбур свой ящик и, перевязав его промерным канатом, свернул этот канат кольцом на крышке ящика так, чтобы он легко мог развернуться, а конец захватил с собой.
Очутившись между двумя перегородками, ему оставалось только пустить дверь внутренней комнаты, которая захлопнулась сама собой. Теперь ему нужно было выждать шесть минут, чтобы через отворенную дверь хлынула вода: он вытолкнул в воду свой ящик…
Вдруг им одолел страх и необъяснимый ужас; весь день упражнялся он в задерживании дыхания сперва на 45 секунд, потом на пятьдесят, затем постепенно дошел до 60 секунд. Но, несмотря на все свои усилия, превзойти этой нормы он не мог. Но он не знал, на какой глубине находится «Римэмбер», не знал, на какое расстояние может он подняться в секунду… Допустим, он будет подыматься на метр в секунду, даже на 1 1/2. А что, если «Римэмбер» находится на 100 или 150 метрах глубины?.. Тогда… тогда он погиб, безвозвратно погиб!
Но теперь уже не время было идти назад: дверь в кабинет захлопнулась, а механизм, с помощью которого ее можно было открыть, был незнаком ему; не мог же он так и остаться между двумя перегородками судовой обшивки! Двадцать раз он подносил руку к кнопке и все не решался открыть дверь, стоял и дрожал как осиновый лист. Наконец, сообразив, что волнение, овладевающее им все сильнее, с каждой минутой только уносило его силы, он, судорожно схватив свой ящик и вдохнув в себя как можно больше воздуха, распахнул наружную дверь.
Вода хлынула внутрь. Выкинуть ящик и в то же время выкинуться наружу было делом момента. Подняв руки над головой и сильно работая ногами, Иванович стал всплывать кверху. Будучи выдающимся пловцом, он подымался значительно быстрее, чем на метр в секунду, не то никогда не выплыл бы на поверхность. Что такое минута, но какой бесконечно долгой показалась она ему! Вода шумела у него в ушах, грудь давило от недостатка воздуха, а он еще не достиг поверхности. Еще несколько секунд — и его рот раскроется сам собой и он, лишившись чувств, будет поглощен водой! Еще усилие, страшное, мучительное усилие — и вот ему кажется, что он погиб! Мучительная боль в груди не дает ему долее держать рот закрытым! Кровь стучит в висках, в мозгу, он не в силах более владеть собой и раскрывает рот. О счастье, он вдохнул в себя свежий воздух, и ему сразу стало легко: он достиг поверхности — он спасен. С минуту он держится на воде, спокойно держась на одном месте. Вот всплывает подле него маленький буек от каната, несколько запоздавший против него благодаря тяжести каната. На озере все тихо и спокойно; он медленно направляется к берегу, толкая перед собой буек. Выйдя на берег, он тотчас же подтянул к себе белый жестяной ящик и ножом для откупорки консервов вскрыл его, поспешно оделся, засунул револьверы за пояс, зарядил свой карабин и, сбросив обратно в воду пустой ящик, пустился в путь вверх по берегу озера со стороны, противоположной той, где стояла усадьба Франс-Стэшен.
Что теперь делать и куда идти? Он находился в стране нагарнуков и ежеминутно рисковал быть задержанным кем-нибудь из туземцев. Если бы ему удалось благополучно добраться до территории нготаков, своих прежних друзей, то там нетрудно было бы достать себе проводника и вернуться в Мельбурн. Но у него не было ни гроша денег, следовательно, ему нечем было подействовать на них. Устоят ли эти люди перед искушением выдать его врагам?
Ивановичу оставалось только одно: избегать всяких населенных мест, скрываясь целый день в буше, а идти только ночью.
День начинал уже брезжить; чтобы не быть замеченным кем-нибудь, Иванович забрался в буш, уходя все глубже и глубже в чащу, чтобы отойти как можно дальше от жилья своих врагов.
Пускай теперь Джонатан отправляется на «Римэмбер» и заметит его бегство! Пусть даже разошлет нагарнукских воинов по всем направлениям разыскивать его: он сумеет укрыться от них в этой чаще!
С рассветом он добрался до конца леса. Перед ним раскинулась ровная зеленеющая долина, слева которой тянулась цепь скалистых холмов; он направился сюда в расчете найти здесь какое-нибудь ущелье или пещеру, где бы можно было провести день до наступления ночи.
Он не ошибся. В конце узкой долины чернелось темное отверстие пещеры. Не без некоторых предосторожностей он вошел в нее: она легко могла служить убежищем охотникам; ведь туземцы, охотясь на кенгуру, часто по четверо и по пять суток кряду ночуют в пещерах и гротах, коими изобилует Австралия.
Та пещера, куда теперь вошел Иванович, была, по-видимому, глубока и весьма обширна. Когда глаза его мало-помалу привыкли к царящей здесь темноте, он стал различать в глубине пещеры какую-то громадную черную массу. Осторожно он стал подходить ближе, и каково было его удивление, когда он увидел здесь «Лебедя»!
Тотчас же ему пришла в голову мысль, что трое людей, взятых с собою капитаном, вероятно, спят теперь внутри судна. Эта мысль сильно смутила его. Он слишком хорошо знал Спайерса, чтобы допустить возможность, что тот оставит свое столь ценное изобретение без надежной стражи. Беглец собирался уже удалиться неслышно, чтобы не возбудить подозрений и не обнаружить своего присутствия. Но абсолютная тишина на судне ободрила его, и он решил убедиться, есть ли здесь люди. Затаив дыхание, он подкрался ближе; верхний люк был открыт. После некоторого колебания он решился наконец взойти на палубу. Нигде никого… Он заглянул вниз, под палубу; тоже никого.
«Ах, если бы я мог управлять им, — подумал Иванович, — какая блистательная отместка! Какой реванш! Но, увы, Джонатан хранил строго свои секреты!»
Однако, вернувшись на палубу, Иванович заметил хрустальные кнопки в углублении, которые Виллиго забыл задвинуть медной дощечкой. Эта забывчивость вождя должна была иметь роковые последствия: Иванович вздрогнул от радости.
«Ах, — подумал он, — если бы эти кнопки находились в связи с механизмом!» — Он осторожно надавил первую кнопку первого ряда — судно слегка двинулось вперед; он надавил вторую — и судно двинулось назад. С Ивановичем чуть не сделалось дурно от радости: этот неожиданный результат искупал все его мучения. Но он был так поражен этим фактом, что не сразу мог собраться с мыслями и отдать себе отчет, что с ним происходит. Он смеялся и плакал, бил в ладоши и был близок к тому, чтобы совершенно лишиться ума. Подумать только, что еще пять минут тому назад он совершенно отчаивался, скрывался в чаще, как дикий зверь, а теперь он будет иметь возможность говорить, как победитель, как властелин мира, и вот теперь она у него в руках!.. Вдруг ему пришло на память, что без «Лебедя» Красный Капитан не может вернуться на «Римэмбер», что этот грандиозный колосс навсегда останется на дне озера, откуда никакая человеческая сила не сможет поднять его. И от этой мысли Иванович совершенно обезумел от радости.
— Смерть! Смерть предателям! — кричал он. — Да торжествует Иванович, властелин вселенной! Ура! Ура! Ура…
Несколько минут он был близок к умопомешательству. Когда же несколько успокоился и собрался с мыслями, лицо его искривилось злостной улыбкой, полной непримиримой ненависти: он решил быть беспощадным ко всем, уничтожить всех обитателей Франс-Стэшена; он сотрет с лица земли деревни нагарнуков, словом, поступит так, что все обитатели буша долго будут помнить его!
Что же касается канадца, то он подвергнет его той самой пытке и смерти, какие тот готовил для него.
Но прежде всего следовало позаботиться отвести «Лебедь» в надежное место. Ведь Иванович не знал еще очень многого, не знал, как заставить его производить различные эволюции, как им маневрировать, не знал и способа пользования аккумуляторами, чтобы направить всю силу электричества на известную точку, которую желают поразить.
Он знал, что малейшая ошибка могла повлечь за собой страшную катастрофу, а потому хотел не спеша, терпеливо изучить все части этого сложного механизма и только тогда, когда вполне овладеет им, только тогда хотел вступить в бой со своими врагами.
Он решил направиться в страну нготаков, которых теперь решил переманить на свою сторону, пообещав им владычество над всем бушем и полное уничтожение их исконных врагов — нагарнуков.
Остановившись наконец на этом решении, Иванович нажал вторую кнопку — и «Лебедь» плавно вышел задом из пещеры, где его скрыл бедный Виллиго. Иванович стал продолжать свои опыты и в несколько минут убедился, что может по своему желанию управлять судном и на суше, и в воздухе. А это было все, чего ему было нужно в настоящий момент. Раз пробравшись к нготакам, он сумеет как-нибудь открыть каюту управления, чтобы изучить во всех подробностях диковинное судно. Вдруг у него явилась мысль, которую он решил тотчас же осуществить: он хотел отправиться к нготакам воздушным путем и пролететь над Франс-Стэшеном, чтобы с подоблачной высоты кинуть дерзкий вызов этим людям! Разве это не будет некоторым предвкушением будущей мести? И это он мог сделать совершенно безнаказанно. Разве Джонатан Спайерс не был теперь совершенно бессилен?
Иванович тотчас поднял «Лебедя» на воздух и направил его прямо на жилище своих врагов, держась на высоте приблизительно 250 сажен, затем зарядил свой карабин несколькими разрывными снарядами и, держа его наготове, стал ждать.
Маленькое воздушное судно неслось с высшей быстротой, на какую только было способно, и менее чем в 10 минут было уже над Франс-Стэшеном, куда он прилетел, как бомба. Иванович замедлил ход и стал носиться в воздухе над жилищем, описывая плавные круги.
Тогда произошла неописуемая сцена. Все обитатели дома вышли на эспланаду. Оливье, канадец, Джонатан Спайерс, все смотрели в немом оцепенении, точно загипнотизированные этим зрелищем. Между тем Иванович, все продолжая носиться в воздухе, спустился настолько, что можно было слышать его голос, и крикнул:
— Привет предателю Джонатану Спайерсу, Красному Капитану! Привет графу д'Антрэгу и Дику-канадцу! Привет всем от «человека в маске»!
— Негодяй! — воскликнул капитан с криком бешенства. — Он бежал и похитил «Лебедя»!
— Прощайте, господа! — злобно крикнул Иванович. — «Человек в маске» дает вам сроку восемь дней, чтобы вы успели приготовиться к смерти! Через восемь дней мы с вами свидимся! — И, направив свое воздушное судно на запад, он вскоре скрылся из виду.
— И подумать только, что я бессилен! — воскликнул Красный Капитан, скрежеща зубами. — Сейчас этот негодяй не знает управления аккумуляторами, но через восемь дней, как знать, что будет через восемь дней?
— Бежим скорее на прииск и заявим Джильпингу, что если ранее восьми дней нам не удастся поднять «Римэмбер», то все мы погибли!
На другой день три нготакских вождя, при закате солнца, явились, торжественные и важные, у крыльца Франс-Стэшена: они пришли для того, чтобы воткнуть топоры в двери белых людей по поводу похищения их кобунга и объявляли войну всем жителям этого прииска, а также помогавшим им нагарнукам.
Часть четвертая. ТАИНСТВЕННАЯ МАСКА
I
Смерть Виллиго. — Похороны вождя. — Тревога в лесу. — Птица-Пересмешник.
Прежде чем пригласить читателя последовать за нами на новое поле битвы, той отчаянной битвы, которая вот уже более двух лет велась между графом д'Антрэгом и Невидимыми, следует сообщить последние события, вследствие которых Оливье и его друзья покинули Австралию.
Виллиго и Коанук умерли от своих ран в ту самую ночь, которая последовала за объявлением войны нготаками и наглым вызовом «человека в маске». Никакие заклинания знахарей не помогли.
Предупрежденный Ниррубой о близости смерти вождя, канадец поспешил к нему, чтобы закрыть глаза дорогому другу, который в течение 15 лет был неразлучным товарищем его бродячей жизни, разделяя все его горести и радости.
Небо было покрыто тучами; порою сверкали огненные молнии; воздух был насыщен электричеством… То была настоящая похоронная ночь, и суеверный канадец невольно содрогался…
Когда Дик вошел в крааль своего друга, бывшего теперь в полном сознании, как будто он не хотел умереть, не сознавая великого акта смерти, Виллиго встретил канадца ласковой улыбкой, полной кротости и радости. Он был счастлив тем, что мог унести в большие луга охот своих предков взор своего приемного брата, которого он так любил. Согласно поэтическому поверью нагарнуков, умирающий сохраняет в своем взгляде, как в зеркале, отражение тех образов, какие он видит в последние минуты своей жизни. Затем вся вереница этих милых образов и предметов постоянно сопровождает его в стране загробной жизни, так что умерший воин постоянно видит вокруг себя все, что он всего больше любил при жизни.
Взяв за обе руки пришедшего, Черный Орел с усилием произнес:
— Брат Тидана, старый воин прежде, чем умереть, очень хотел бы видеть подле себя и молодого Мэннаха!
Так называл он Оливье.
— Он тоже хотел прийти, но не посмел помешать нашему последнему свиданию! — проговорил Дик, и тяжелая слеза упала на исхудавшие руки умирающего.
— Не плачь, — проговорил Виллиго, — разве мы не отомстили за Цвет Мелии? Моту-Уи (Великий Дух) решил, что Черный Орел достаточно жил, и направил пулю белого человека, которая должна была отправить старого воина в страну предков.
Взор умирающего устремился куда-то в пространство, как будто какое-то чарующее зрелище непреодолимо приковывало его.
— Вот они, — сказал он, — я их вижу, — все храбрые воины нашего племени, ушедшие раньше меня в страну предков; они пришли за мной — проводить меня в обширные охотничьи угодья, где кенгуру больше, чем листьев на деревьях, где опоссумы кричат днем и ночью на берегах озер, усеянных цаплями и лебедями… Подождите меня! Я сейчас иду за вами!
Минута спокойствия и ясности рассудка позволила Виллиго узнать своего верного друга, когда тот вошел к нему, но затем бред, предсмертный бред раненого, снова овладел им, и хотя железная натура Черного Орла еще некоторое время боролась со смертью, но он уже не приходил в себя. Бред сменился полной потерей сознания, и, наконец, великий воин угас.
Хотя в последние дни канадец потерял всякую надежду на выздоровление своего друга и ждал его смерти, но, когда она наступила, это было все-таки страшным ударом для него. Ему казалось, что в жизни его произошел какой-то ужасный перелом, что отныне он, как сбившийся с пути путник, будет бродить без цели в жизни. Пятнадцать лет совместной жизни и тесной дружбы сроднили его душу с душой Черного Орла; борьба и удача, радость и горе тесно связали их, и эти узы, спаянные долголетней привязанностью и привычкой, стали неразрывными. А теперь, когда смерть порвала их, ничто на свете не могло заменить их. Конечно, дружба молодого графа со временем должна была утешить его скорбь, но она не могла заставить его забыть верного друга и товарища лучшей поры его жизни!
Старый траппер опустился на колени подле ложа, на котором отошел в вечность его друг, и в продолжение долгих часов предавался сладким воспоминаниям прошлого. Временами тяжелые слезы капали на грудь покойного, и подавленные рыдания вырывались из уст живого. На рассвете он очнулся от крика и воя туземцев, приступавших к похоронной церемонии. Все племя, воины, женщины, старцы и дети, узнав о смерти великого вождя, пришли к его краалю, чтобы отдать ему дань печали, причем крики мщения преобладали над всем остальным.
— Кто убил Виллиго, нашего великого вождя, кто убил Коанука? — воскликнула толпа. — Мщение! Мщение убийце!
Когда канадец появился на пороге крааля, в толпе поднялись громкие крики:
— Тидана! Тидана, кто убийца твоего брата Виллиго, кто лишил нас нашего возлюбленного вождя?
Во все время своей болезни и Виллиго, и Коанук, точно по взаимному соглашению, упорно молчали относительно своих ран и той ночной схватки, которая произошла между ними и белолицым пришельцем, а потому, кроме европейцев, никто не знал, кто был виновником смерти вождя и его неразлучного спутника. Несмотря на свое горе, Дик был достаточно справедлив, чтобы не вменить в преступление Джонатану Спайерсу смерть своего друга и молодого Сына Ночи. Те напали на него, он защищался; это было его право, и потому он не считал справедливым выдать его туземцам. Но не таков был взгляд нагарнуков: по их понятиям, кровь вопияла о крови, о мщении. Были ли Черный Орел и Коанук первыми зачинщиками или нет, в их глазах это не имело никакого значения; смерть двух доблестных воинов должна быть отомщена.
Крики толпы становились все более и более угрожающими. Дик не знал, что ответить на их вопрос; все знали, что раны были нанесены европейским оружием. Не желая выдать истинного виновника смерти Виллиго, он думал сначала приписать этот поступок человеку, который был непричастен к этому делу, хотя целым рядом преступлений вполне заслуживал всякого мщения; он мысленно представлял себе «человека в маске», но все-таки не мог решиться свалить вину капитана на него, когда голос Ниррубы вывел его из затруднения.
— Нашего брата Тиданы не было с Виллиго и Коануком в ту ночь, когда они вернулись, истекая кровью; иначе он, наверное, заставил бы заговорить свое ружье! И, быть может, наши воины были бы еще живы!
— Это правда, меня не было с ними, — сказал канадец, обрадованный тем, что он будет избавлен от необходимости произнести смертный приговор.
— Но я знаю, кто, скрываясь в кустах, как трусливый опоссум, нанес среди ночи смертельный удар великому вождю и Сыну Ночи! Знаю! — крикнул Нирруба.
— Говори же, Нирруба! Говори! — требовала толпа.
У Дика захватило дыхание; никогда еще положение жителей Франс-Стэшена не было столь отчаянное: если Нирруба обвинит Красного Капитана, то, согласно обычаям страны, белые должны будут выдать американца нагарнукам, а если бы они вздумали воспротивиться этому, то ненависть всего племени обрушилась бы на них самих, и это в тот момент, когда им и без того уже грозили: «человек в маске» и нготаки, раздраженные похищением их кобунга.
С замиранием сердца канадец ждал, что скажет Нирруба.
— Убийца наших братьев, — воскликнул юноша, — подло убивший их, не вонзив топор в притолоку двери их крааля, — это тот, кого все вы знаете; это враг нашего брата Тиданы и наших белых друзей и союзников. Все вы знаете его, это Отонах-Но («человек в маске»), друг подлых нготаков!
Единодушный крик бешенства и ненависти был ответом на слова юноши.
— Смерть Отонах-Но! Смерть нготакам!
Тут же собрался Совет Старейшин, и Нирруба должен был дать свои показания в присутствии всех собравшихся здесь нагарнуков. Он объявил во всеуслышание, что, ухаживая во все время болезни за молодым Коануком, он все время слышал от него о человеке, прилетевшем на воздушном судне, которого тогда еще никто не видал; только вчера это воздушное судно прилетело из-за озера и стало летать над большим краалем белых и над деревней нагарнуков; человек, управлявший этим судном, и был Отонах-Но, виновник смерти Черного Орла и Сына Ночи!
Совет старейшин был того же мнения, тем более что никто из обитателей Франс-Стэшена не мог быть заподозрен. Тидана был приемный сын племени, все его друзья были друзья нагарнуков.
Тотчас же были посланы гонцы к нготакам и «человеку в маске», чтобы объявить им, что, когда луна трижды взойдет и зайдет, армия нагарнуков вступит на тропу войны против нготаков.
При этом достойно внимания, что посланным поручено было передать главному вождю нготаков «черный камень проклятия», чего уже давно не бывало в буше. Этот черный камень, над которым колдуны и колдуньи в течение двадцати четырех часов произносили заклятия, означал беспощадную войну, где ни один воин племени, которому был послан камень, не сохранит своего скальпа, ни одна женщина или дитя не встретит пощады, ни один крааль не устоит на месте. Словом, на этот раз нагарнуки решили окончательно истребить своих исконных врагов, вечно терпевших поражение и вечно восстававших снова.
Иванович со своей стороны, обнадеженный своим временным превосходством благодаря тому, что ему удалось завладеть «Лебедем», готовился сделать свою последнюю ставку против молодого графа и его союзников, на что и те со своей стороны собирались ответить как можно энергичнее. Таким образом, легко было предвидеть, что эта долгая и упорная борьба хитростей, засад и предательств должна была наконец окончиться полным поражением одной из сторон.
Под вечер состоялись похороны Виллиго и Коанука со всем установленным для подобных случаев погребальным обрядом и церемониалом, описанным нами при погребении бедного Менуали. Две тысячи воинов в полном боевом наряде и вооружении присутствовали при погребении великого вождя, и каждый из них подходил в свою очередь к двойному костру и издавал военный боевой клич и клятву отмщения. Это было самое крупное и отборное войско, какое когда-либо выставляло туземное племя против другого племени; оно могло выступить даже против коалиции трех других племен — нирбоасов, дундарупов и нготаков, соединенных вместе. Шесть военнопленных были зарезаны перед двойным костром и брошены в его огонь, чтобы сопровождать двух нагарнукских воинов в загробных краях, а главное — во время их дальнего пути с земли на луну; вся корпорация кораджи, расположившись цепью вокруг костра, во все время церемоний не переставая произносила заклинания, долженствовавшие отгонять от сжигаемых трупов бродячих духов или каракулов. В то же время женщины племени, рассыпавшись по лесу, пели гимн смерти, издавая время от времени жалобные стоны и вой.
Во все время долгой своей жизни в австралийском буше канадец никогда не видал более страшного и потрясающего зрелища. Он стоял подле костра до тех пор, пока труп его друга и товарища не истлел окончательно и не смешался с золой костра. Затем, послав ему последний прощальный привет рукою, траппер поспешно направился к Франс-Стэшену, беспокоясь за участь своих друзей, которых он оставил накануне в ожидании ежеминутного нападения, так как на восьмидневное перемирие, обещанное «человеком в маске», нельзя было слишком полагаться. Что же касалось бесчестных нготаков, то можно было почти с уверенностью сказать, что они не окажут требуемого всеми племенами буша уважения назначенного срока военных действий и начнут свои враждебные действия раньше времени.
Дик шел лесом той размеренной, эластичной походкой охотников и дикарей, походкой, почти не оставляющей по себе следа и совершенно беззвучной, прислушиваясь к малейшему шуму и ожидая уловить по какому-нибудь едва заметному признаку присутствие врага.
Не доходя приблизительно двух миль до большого дома Франс-Стэшена, он счел нужным подвигаться дальше ползком, как это делают туземцы. Затаив дыхание, осторожно раздвигая руками кусты и приостанавливаясь по временам, чтобы прислушаться, он пробирался таким образом с полчаса, как вдруг остановился, с трудом подавив крик. Он увидел невдалеке от себя две человеческие фигуры, наполовину скрытые темнотой ночи, за гигантским стволом эвкалиптового дерева, к которому они, по-видимому, прислонились.
Притаившись под нижними ветками другого дерева, канадец не сводил глаз с этих двух фигур, остававшихся совершенно неподвижными.
«Быть может, это только иллюзия, оптический обман, — начал было думать Дик, — подождем! Немыслимо, чтобы два живых существа долгое время могли оставаться так неподвижно!»
Однако прошло четверть часа без всяких перемен. Дик все еще не решался продолжать свой путь: он знал, что любой туземец, если ему это нужно, простоит совершенно неподвижно несколько часов кряду. С другой стороны, не мог же он, в самом деле, оставаться здесь до утра?! Он решился прибегнуть к хитрости, очень употребительной у лесных бродяг и охотников. Он издал крик, который часто во сне издает опоссум, чем всегда выдает ночным охотникам свое присутствие и за что всегда платится жизнью, если есть поблизости охотник.
Дик был мастер подражать крикам различных птиц и животных, и хитрость его удалась. Ни один туземец, даже и на тропе войны, никогда не откажется изловить опоссума, особенно когда животное так близко от него.
Едва только раздался крик опоссума из-под куста, как Дик услышал следующие слова одного из ночных стражей:
— Вот прекрасный обед на завтра зовет нас из-под кустов, пусть же Птица-Пересмешник хорошенько раскроет свои глаза, чтобы нас не застигли врасплох, пока я изловлю опоссума!
Тот, к кому обращены были эти слова, что-то пробормотал в ответ, и его товарищ, отделившись от ствола, стал осторожно подкрадываться к тому кусту, где он слышал крик. Но Дик воспользовался временем переговоров, чтобы отойти дальше назад, продолжая время от времени издавать тот же крик в расчете заманить молодого нготака, так как оба туземца, стоявшие под деревом, были воинами этого племени. Отведя его достаточно далеко от оставшегося на страже товарища, Дик издал еще один, последний, крик, затем, быстро поднявшись на ноги, спрятался за стволом пандануса, держа наготове свой широкий охотничий нож.
— Я не думал, что он так далеко, — прошептал нготак, быстро продвигаясь вперед по направлению последнего крика опоссума. В этот момент он поравнялся с деревом, за которым стоял канадец; он не успел заметить его, как тот одной рукой схватил его за волосы, а другой вонзил ему в горло свой широкий нож по самую рукоятку, так что бедняга не успел даже вскрикнуть.
Звук падения его тела привлек было внимание его товарища, но тот подумал, что это охотник набросился на свою добычу, чтобы не дать ей уйти из рук, и поэтому спросил охотника, удалось ли ему изловить зверя.
— Ноа! (Молчи!) — ответил также шепотом канадец. — Птица-Пересмешник навлечет на нас внимание попа (белого)!.. Не беспокойся, зверь у меня в руках!
Старый траппер так же превосходно говорил на наречии нготаков, как и нагарнуков, да и благодаря шепоту различить его голос не было никакой возможности. Теперь ему оставалось только избавиться от второго врага; но вдруг он изменил намерение и, вложив нож в ножны, проворно стал разворачивать плетеную ременную веревку, с которою никогда не расставался. Подкравшись ко второму нготаку, ничего не подозревавшему, в расчете на свою необычайную силу, он обхватил его вокруг пояса и разом повалил на землю со словами:
— Только крикни или шевельнись, и ты умрешь. Если ты дорожишь жизнью, отвечай мне, но не пытайся обмануть меня… Тебя зовут Воан-Вах — Птица-Пересмешник?
— Да, Тидана!
— Что ты здесь делал с товарищем?
— Великий вождь поставил нас здесь, чтобы сторожить дорогу от нагарнукских деревень к краалю белых!
— Чтобы подстеречь Тидану во время его возвращения с похорон и убить его вашими бумерангами прежде, чем он успеет остеречься, не так ли?
— Да, Тидана!
— А в это время воины вашего племени, пользуясь последними часами ночи перед рассветом, когда сон всего крепче, должны напасть на крааль белых? Да?
— Нет, Тидана, не таково было их намерение!
— Берегись, если ты говоришь неправду!
— Воан-Вах говорит правду; воины должны напасть не на крааль, а на прииск!
— Почему?
— Потому что наш кобунг ночует в большом сарае на прииске, а мы хотим вернуть его себе!
— Пусть Птица-Пересмешник скажет мне, есть ли еще другие воины по дороге к краалю белых!
— Нет, нет!
— Скажи, последуешь ли ты за мной, не подавая голоса, не призывая на помощь и не пытаясь сбежать, если я пощажу твою жизнь?
— Ты можешь делать со мной что хочешь: я твой пленник, Тидана, и судьба моя в твоих руках!
— Сколько тебе лет?
— Двадцать два времени цвета! — ответил Воан-Вах.
Австралийцы считают года по временам цвета деревьев и кустов, когда весь лес превращается в сплошной шатер цветов. В это время, соответствующее нашему маю и июню, у них бывает сентябрь и ноябрь.
Внезапная мысль зародилась в мозгу канадца при взгляде на юного воина. До сих пор он никогда не думал обзаводиться слугой из туземцев, да ему и не было в этом надобности, пока был жив его друг Виллиго и его верный Коанук. Но теперь он почувствовал себя осиротелым. Общество европейцев не могло заменить ему туземцев, с которыми он так сроднился; его вкусы, привычки, наклонности и самый образ его жизни — все это было больше сродни вольным сынам лесов. Он приобщился многих их предрассудков и взглядов; ему дороги многие их обычаи и предания; у него, наконец, была потребность говорить на их языке. Он не только по имени, но и на деле стал членом великой семьи нагарнуков, братом Виллиго, сыном его отца. Кроме того, он теперь чувствовал потребность постоянно иметь кого-нибудь при себе, кто бы был ему всецело предан и на кого бы он мог во всякое время рассчитывать, и ему пришла мысль привязать к себе этого молодого нготака, Птицу-Пересмешника.
Всеобщий закон австралийских племен гласит, что пленник становится собственностью и вещью того, кто захватит его в плен. Если пленивший врага дает пленному торжественное обещание, что отказывается от своего права умертвить или замучить его в пытках, то пленник с этого момента становится не рабом — идея рабства совершенно незнакома австралийцам, — а слугой и вместе с тем членом семьи того, кто его взял в плен. В своем родном племени его вычеркивают из числа живущих; он даже утрачивает свое первоначальное имя, чтобы получить новое, которое дает его господин. С другой стороны, и пленник, пока не принял «дара жизни», считает себя вправе бежать, если ему это удастся, сопротивляться и даже убить, если может, того, кто захватил его в плен. Избежав плена, он вправе вернуться к своим и занять свое место в родной семье и свое прежнее положение в своем племени. Но раз уж добровольно принял «дар жизни», то лишается права предпринимать что-либо для возвращения себе свободы; с этого момента он уже принадлежит семье и племени своего благодетеля, даровавшего ему жизнь, и если бы он после того вздумал бежать и вернуться к своим, то его единоплеменники прогнали бы его от себя со словами: «Иди платить свой долг за дар жизни!»
У него нет больше в родном племени ни жены, ни детей; ему может наследовать ближайший родственник в имуществе и правах; он считается как бы умершим. С разрешения своего господина он может взять себе новую жену и обзавестись новой семьей в том племени, к которому теперь принадлежит.
Этот обычай настолько глубоко укоренился у всех племен австралийских туземцев, что никогда не было примера, чтобы австралиец не соблюдал всех условий его. Но случаи, когда воины отказывались принять «дар жизни», весьма часты, потому что редкий воин соглашается отречься от своего племени даже ради жизни; так, ни один вождь никогда не согласится принять «дар жизни» и всегда предпочтет ему самые страшные пытки и смерть. Пощаженный, которых в Австралии называют Тода-Нду, то есть «обязанный до смерти», обыкновенно в семье благодетеля считается скорее близким человеком и товарищем, чем слугой; обыкновенно они до самой смерти остаются как бы обязанными жизнью своему благодетелю и всегда проявляют по отношению к нему трогательную благодарность и преданность. Их положение несколько сходно с положением вольноотпущенников в Древнем Риме.
Поддавшись этой явившейся у него мысли, канадец продолжал свой расспрос.
— Воан-Вах женат?
— Нет, Тидана!
— Выдержал ли он испытания на звание вождя?
— Нет, Тидана, Птица-Пересмешник — простой воин!
— И никто не станет оплакивать твою смерть?
Бедняга задрожал всем телом.
— Отвечай мне! — настаивал Дик.
— У Воан-Ваха есть в его краале старая мать! — отвечал пленник.
— Хорошо. Ну, а если я дарую тебе жизнь, примешь ты от меня «дар жизни?
Глаза юноши блеснули слезами.
— Приму, Тидана!
— Будешь ли ты верен мне до самой твоей смерти?
— Клянусь тебе в этом, Тидана!
— Ну так произнеси страшную клятву!
— Пусть мой дух, лишенный тела на погребальном костре, вечно блуждает по свету в образе каракула и никогда не будет допущен в блаженные охотничьи угодья предков, если я не сдержу своих обязательств! — проговорил отчетливо и не торопясь, с некоторой торжественностью молодой воин.
— Хорошо, — сказал Дик, — встань, Воан-Вах, ты сохранишь свое прежнее имя!
— Благодарю тебя, Тидана! — отвечал юноша и разом вскочил на ноги.
— Теперь скажи мне, есть ли еще другие часовые по дороге отсюда к нашему большому краалю?
— Нет, Тидана!
— Тем лучше! — проговорил траппер и теперь уже смело пошел вперед в сопровождении Птицы-Пересмешника. Спустя четверть часа оба они подошли к аванпостам Франс-Стэшена.
— Кто идет? — спросил густой бас Кэрби.
II
Военный Совет. — «Лебедь». — Бегство лесом. — Джильпинг исчез.
— Франция и Канада! — отвечал траппер, знавший пароль.
— А-а… это вы, Дик, — произнес фермер, — вас ожидают с нетерпением. Едва ли эта ночь пройдет благополучно: эти нготаки, как вы знаете, имеют привычку нападать незадолго перед рассветом… А это еще что за птица, что вы с собой привели? — И Кэрби поднял свой фонарь к самому лицу туземца.
— Оставьте его, Кэрби, это мой Тода-Нду, обязанный мне до смерти! — отвечал канадец.
— А-а, это дело другое, — сказал фермер, — иди себе с Богом, никто тебя не обидит!
— Кто на страже сегодня? — спросил Дик.
— Ле Гюэн и Биган со своими нагарнуками-матросами охраняют с трех сторон блокгауз, а Коллинз с четырьмя приисковыми рабочими — с четвертой!
— А Джильпинг?
— Он здесь с нашими друзьями. Он намеревался провести ночь на прииске, чтобы наблюдать за работами!
— За какими работами?
— Да разве вы не знаете, что он взялся в восемь суток поднять со дна подводное судно капитана Спайерса?!
— Ах, да, да… смерть бедного Виллиго совершенно отшибла у меня память!
— Мы узнали от наших лазутчиков, что нготаки собираются сегодня ночью напасть на прииск, чтобы похитить обратно своего кобунга, и потому его превосходительство, лорд Воанго, уступил нашим настояниям и остался во Франс-Стэшене.
— Ну, в таком случае сегодня ночью ничего не произойдет; нготаки не в состоянии напасть на наш блокгауз: им потребовались бы пушки, чтобы разбить наши стены! Прикажите всем забраться в дом, Кэрби, так как нет надобности утомлять наших людей охраной эспланады! А завтра во всей округе не останется ни одного вражеского воина!
— Что вы хотите этим сказать?
— То, что наши друзья нагарнуки послали им «черный камень проклятия», и нготакам не хватит всех их воинов даже для зашиты их деревень. Не пройдет и суток, если не ошибаюсь, как они поспешат предложить мир, так как едва ли соберут 500 человек, тогда как нагарнуки уже сейчас выставили 2000 душ!
— Ну, я не так уверен в этом, Дик, нготаки соединятся с другим племенами!
— А вы забываете, что и мы можем выставить 30 карабинов в помощь нашим союзникам! Разве вы не знаете, что все племена буша вместе взятые не посмеют пойти против наших, вооруженных карабинами и шестизарядными револьверами! Нет, Кэрби, я опасался нападения сегодня ночью, пока нагарнуки не заявили, что становятся на нашу сторону! Кроме того, огнестрельное оружие ночью, в темноте, стоит не больше, чем стрелы. Я опасался, чтобы эти черти не подожгли нашего дома и не наделали нам хлопот, а теперь, раз они пропустили этот случай, нам их нечего бояться!
— Но вы забываете, что они найдут поддержку в вашем исконном враге!
— Вы говорите о «человеке в маске» и его воздушном судне?! — засмеялся старый траппер. — Счастье его, что у меня не было под рукой моего дальнобойного ружья, когда он явился сюда и кружился над головой; вперед я ему от души советую держаться подальше, если он снова вздумает повторить свой полет над Франс-Стэшеном!
— Не таково мнение капитана Спайерса!
— Пусть он говорит о том, что его касается, — грубовато заметил канадец, — я, конечно, не могу обвинять его в смерти моего бедного друга Виллиго, так как он только защищался, и Виллиго был, конечно, не прав, что напал первый, не предупредив меня о своем намерении, на человека, которого мы приняли в свой дом. Но я все-таки никогда не забуду, что если бы его не привело сюда какое-то злосчастье, то мой верный старый товарищ был бы еще жив… Впрочем, не будем лучше говорить об этом; пусть только капитан Спайерс не занимается обороной Франс-Стэшена: это вовсе не его дело!
— Вы услышите его и всех наших друзей, которые собрались там наверху и ждут вас, и, наверное, измените ваше мнение, не то останетесь один при своем мнении… Нам грозит страшная беда, Дик! Я, конечно, недостаточно сведущ, чтобы понять, в чем дело; но и граф, и Джильпинг, который, при всех своих недостатках, человек ученый, и оба капитана, и их механики — все согласны с мнением Спайерса, а я понял только из их слов, что жизнь всех нас висит на волоске!..
— Ну, это мы посмотрим! — проговорил старый траппер, бывший, по-видимому, сильно не в духе, и, подозвав Коллинза, попросил его немедленно предупредить капитанов Ле Гюэна и Бигана, а также и обоих механиков, что он желает немедленно говорить с ними и будет ждать их в библиотеке. Затем, обернувшись к Кэрби, он сказал:
— Следуйте за мной, и вы увидите, что во всем этом больше дыма, чем огня!
Оба приятеля направились к укрепленной части дома в сопровождении Воан-Ваха, который, как тень, следовал за своим господином.
Этот юный нготак был рослый красивый молодой человек, с открытым, приятным лицом, крепкий и сильно сложенный; как мы увидим впоследствии, канадец поступил очень благоразумно, пощадив ему жизнь.
Дик уже присутствовал при той сцене между капитаном и Джильпингом, когда последний взялся поднять «Римэмбер» со дна озера на поверхность, но все это принимал за фантазии изобретателей; кроме родной стихии, то есть вод озера, Дик не допускал, чтобы это диковинное судно могло что-либо сделать, равно как и его маленькие спутники.
Едва только Дик вошел в библиотеку, где находились на совете ожидавшие его друзья, как тотчас же заговорил на эту тему.
На этот раз ему отвечал не капитан, а молодой граф, выведенный из себя упорством своего друга.
— Дорогой Дик, — сказал он, — теперь не время вступать в пререкания и в десятый раз доказывать то, что отсутствие некоторых познаний мешает вам понять! Достаточно вам знать, что капитан Спайерс нашел средство сосредоточить на носовой и кормовой частях своих судов такое громадное количество электричества, что, будучи направлено в известную точку, оно действует, как удар молнии. Эти суда его, как вы сами видели, Дик, могут не только держаться на воде и под водой, но и подыматься на воздух, как это сделал вчера «человек в маске», и могут истребить целую армию, затопить целый флот, стереть с лица земли целый город, и нет на свете такой силы, которая могла бы помешать этому. И вот теперь одно из этих страшных судов находится во власти нашего злейшего врага, и потому мы должны ожидать каждую минуту быть стертыми в порошок со всеми нашими блокгаузом и прииском силою электрического разряда!
Присутствующие подтвердили слова графа.
— Все это весьма чудесно, Оливье, — сказал Дик, — и напоминает мне те фантастические сказки, которыми меня забавляли в детстве. Но допустим, что все, что вы мне говорите об этих судах со слов капитана Спайерса, правда; скажите же, каким образом этот человек, которого вы называете по справедливости нашим злейшим врагом, удовольствовался простой прогулкой над нашими головами, вместо того чтобы уничтожить нас, обратить нас в порошок, как вы говорите, стереть с земли?! Это — мое последнее возражение, так как я вижу, что все против меня!
— Ответить на ваше последнее возражение нетрудно, Дик! Дело в том, что, завладев «Лебедем», «человек в маске» тем легче сумел управляться с ним на воде, на суше и в воздухе, что в продолжение нескольких дней видел, как капитан управлял «Римэмбером». Но капитан позаботился скрыть опасный механизм от нескромных взглядов; чтобы эти электрические аккумуляторы привести в действие, надо знать секрет скрытого механизма, а наш враг еще не знал вчера этого секрета; вот почему он и не мог вчера ничего предпринять против нас. Но он знает об этих страшных силах, какими обладает «Лебедь», и если ему удастся раскрыть этот секрет раньше, чем Джильпинг сдержит свое обещание поднять «Римэмбер» на поверхность, то мы погибли. Даже сам изобретатель не знает иного средства воспротивиться этим батареям, как противопоставить им более сильные батареи; но эти более сильные батареи покоятся на глубине 50 сажен под водою!
— Простите мое недоверие, Оливье, но я ведь человек неученый, — сказал канадец, — и мне очень трудно поверить вещам, превосходящим мое понимание. Не понимая же опасности, я не могу придумать и средства к отвращению ее; поэтому скажите мне, что вы думаете делать и как рассчитываете помочь беде!
— Одно только может спасти нас и дать время Джильпингу исполнить свое обещание, а именно: капитан полагает, что наш враг не сумеет открыть секрета, не рискуя при этом жизнью; возможно, что момент его торжества будет вместе с тем и моментом его смерти! Не так ли, Джонатан? — спросил Оливье.
— Совершенно верно! Если этот негодяй не будет руководствоваться указаниями известного механика-специалиста, то можно почти с уверенностью сказать, что он убьет себя при первой попытке воспользоваться электрическими аккумуляторами. Все двери во внутреннем помещении заперты, и первая дверь, которую он попытается раскрыть, угостит его таким зарядом электричества, которое могло бы убить быка! Но на это нельзя слишком сильно рассчитывать, так как, бежав с «Римэмбера», лежащего на глубине 50 сажен под водою, этот человек сделал такой фокус, на какой не всякий был бы способен, а это доказывает, что мы имеем дело с человеком недюжинным!
Последние слова как-то угнетающе подействовали на всех. Все были люди смелые и не раз доказали это, но эта нависшая над их головами опасность, против которой они были совершенно бессильны, невольно угнетала их; почти бессознательно каждый из них кидал украдкой взгляд в окно, не виднеется ли где-нибудь на горизонте страшное судно, грозящее всем им гибелью. Воцарилось тяжелое, давящее молчание.
— Несомненно, верно, — заговорил капитан, — что до сего момента он еще ничего не открыл, иначе этот человек ни на час не отсрочил бы торжества своей ненависти, и если мы еще существуем, то это доказывает только, что он еще ничего не знает. А теперь будем ждать, когда мистер Джильпинг объявит нам, что эта тягостная неопределенность нашего положения должна прекратиться.
— Ага! — сказал Джильпинг. — Вы ждете моего ответа? Ну так скажу: я потребовал 8 суток, а теперь думаю, что завтра к вечеру, перед заходом солнца, «Римэмбер» будет на поверхности!
Громкое «ура» огласило комнату.
— Если так, то вы наш спаситель! — воскликнул капитан. — Я буду обязан вам более чем жизнью! Благодаря вам десять лет трудов, мучений и лишений не будут потеряны ни для меня, ни для человечества!
— Я хотел было сделать одно предложение, — сказал канадец, — но теперь оно утрачивает свой смысл.
— А вы все-таки скажите, милый Дик! — заметил граф.
— Я думал во главе нашего отряда и сотни нагарнукских воинов двинуться форсированным маршем к деревням нготаков и похитить «Лебедя» прежде, чем кто-либо успеет догадаться о нашем появлении!
— Что же, мысль недурна, и в случае, если Джильпинг опоздает, ею можно будет воспользоваться! — заметил Оливье.
— Господин, Птица-Пересмешник хотел бы сказать свое слово! — произнес вдруг молодой нготак, сидевший на корточках за стулом своего господина.
— Говори, — сказал канадец, — мы тебя слушаем!
— Господин, Отуа-Нох и его крылатое судно уже не в деревнях моего племени!
— Что ты говоришь?
— Воан-Вах сказал правду, господин: «человек в маске» улетел на своем судне в Мельбурн!
— Когда?
— В тот самый день, когда он уговорился с великими вождями моего племени!
— Неужели он отказывается от борьбы? — сказал Оливье.
— Отнюдь нет, граф, — возразил капитан, — этот человек крайне предусмотрителен и осторожен: он отправился в Мельбурн, чтобы захватить там лучшего механика и руководствоваться его советами!
— Что же, все к лучшему! Значит, он не успеет вернуться сюда ранее завтрашнего вечера!
— Я в этом не столь уверен, — заметил капитан, — «Лебедь» настолько быстроходен, что может пролететь это расстояние, туда и обратно, менее чем в одни сутки!
Вдруг он вскрикнул, кинулся к лампе и загасил ее. Но прежде, чем успели его спросить, что случилось, он заговорил громко и отчетливо:
— Господа, как можно больше спокойствия и порядка, прошу вас, иначе мы погибли! Видите вы два красных огня на краю горизонта?! Это электрические рефлекторы «Лебедя»! Зная их силу, я могу определить расстояние, на каком судно находится в данный момент, а именно в пяти или шести милях отсюда! Через десять минут, если оно несется полным ходом, «Лебедь» будет здесь; я погасил свет для того, чтобы он не мог служить неприятелю путеводным огнем. Не зная хорошо местности, ему придется замедлить ход, чтобы отыскать блокгауз и не сбиться с направления. Мы же и все обитатели Франс-Стэшена, все до последнего, должны бежать в лес, бежать как можно дальше от жилья! Предупредите об этом всех, кто находится здесь и на прииске, так как враг непременно направит свои уничтожающие силы прежде всего на жилье: он нарочно явился сюда ночью, рассчитывая застать нас всех спящими!
Все как бы остолбенели и напряженно глядели на две красные светящиеся точки, которые постепенно становились все ярче.
— Надо спешить, господа! Глупо оставаться здесь, дать себя прихлопнуть, как мышат в мышеловке!
И спустя десять минут все, что было живого во Франс-Стэшене и на прииске, находилось в глубине леса, на расстоянии не менее 400 сажен от жилища, на маленьком лесистом холме, откуда можно было следить за маневрами воздушного судна.
Так как кругом было страшно темно, то Оливье вздумал сделать перекличку, и только Джильпинг один не отозвался на свое имя, равно как Тукас и Дансон. Где же остался англичанин и оба механика? Что сталось с ними?
III
Секрет «Лебедя». — Четыреста миль в восемь часов. — Ошеломленный Дадсон. — Разряд электричества. — Уничтожение «Феодоровны». — Страшные опасения.
Вскоре страх беглецов превзошел всякую меру: «человек в маске» вернулся со своим воздушным судном. Но для того ли, чтобы снова только напугать их, или с тем, чтобы осуществить свою угрозу? Судя по решительному ходу маленького судна, капитан склонялся к последнему предположению.
Иванович действительно вернулся из Мельбурна, где ему посчастливилось напасть на инженера-электротехника, которого администрация вынуждена была уволить за пьянство. Стоит ли говорить, что это был англичанин, звали его мистер Дадсон. Предупрежденный о необычайной силе электрических машин воздушного судна, этот господин, вырядившись в резиновые перчатки и налокотники, мог безнаказанно экспериментировать над механизмами «Лебедя» и в несколько часов достаточно хорошо ознакомился с ними. Иванович, стоя подле него, тщательно записывал все, что Дадсону удавалось открыть или понять; делал он это для того, чтобы впредь не быть в зависимости от этого человека. Дело значительно упрощалось тем, что каждая кнопка была занумерована, и это было большой неосторожностью со стороны Джонатана Спайерса; объяснялась она тем, что, не имея возможности лично управлять всеми тремя судами, он хотел облегчить задачу доверенных лиц, которым намеревался передать управление маленькими спутниками «Римэмбера».
Чтобы не возбудить любопытства обитателей Мельбурна, Иванович прибыл туда ночью, не зажигая огней на «Лебеде», и спустился в тенистом и громадном саду итальянского посольства, глава которого, как помнит читатель, был также членом общества Невидимых, а потому и персонал посольства был благорасположен к Ивановичу.
Пять человек членов общества Невидимых, остатки из числа многих, командированных Великим Советом в Австралию, еще находились в Мельбурне в ожидании его распоряжений. «Человек в маске» посвятил этих лиц в свои намерения и в ту же ночь покинул Мельбурн, вместе с этими господами и Дадсоном, на «Лебеде», отправившись прямо на Франс-Стэшен и заранее предвкушая свое торжество.
Вместо того чтобы пользоваться для управления «Лебедем» хрустальными кнопками, помещавшимися снаружи, что препятствовало закрытию верхнего люка, Иванович теперь благодаря содействию Дадсона управлял им изнутри, из механического отделения. Теперь он мог одинаково свободно управлять судном на море, на суше и в воздухе.
Несясь вперед с невероятной быстротой, Иванович помышлял о том, чего ему удалось достигнуть в эти несколько дней: теперь изобретение Красного Капитана стало его собственностью, и через несколько часов он истребит Франс-Стэшен со всеми живущими в нем и утолит свою ненависть, а затем овладеет «Римэмбером», что теперь весьма нетрудно сделать. Конечно, надо было рассчитывать на известное сопротивление со стороны Дэвиса, но, обладая теперь всеми секретами механизма, он легко мог прекратить доступ воды в машины, и тогда через несколько часов машина, вырабатывающая воздух, перестанет работать, и на «Римэмбере» не останется ни одного живого существа, которое могло бы воспротивиться воле Ивановича.
При всем том, однако, его теперь стеснял еще один человек, а именно Дадсон. Он сделал снимки нескольких аппаратов и приспособлений, то есть занес в свою записную книжку важнейшие части механизма, изобретения Красного Капитана… К чему он это делал? Намерение его было очевидно.
— На свете не должно быть двух людей, владеющих этим секретом! — решил Иванович и созвал одного за другим всех пятерых Невидимых в свою каюту, где довольно долго беседовал с ними по-русски.
Отбыв в шесть часов вечера из Мельбурна, «Лебедь» к трем часам ночи был уже в виду Франс-Стэшена; по пути останавливались только раз, чтобы испробовать силу аккумуляторов; с высоты 200-300 сажен направили электрический ток на большое ранчо с населением в тридцать человек или более, с изрядным количеством скота и постройками, — и в одну секунду не осталось камня на камне, не уцелела ни одна кошка, ни один цыпленок: все было сметено с лица земли.
С Дадсоном сделалось дурно; он обладал слишком чувствительными нервами, и потому когда «Лебедь» достиг своей конечной цели, то злополучного электротехника уже не было более на воздушном судне: Иванович приказал во время пути раскрыть верхний люк, чтобы пассажиры могли подышать свежим воздухом, и вдруг с Дадсоном сделалось головокружение; несчастный, громко вскрикнув, исчез в пространстве; так по крайней мере доложили Ивановичу его подчиненные.
— Бедняга умрет раньше, чем коснется земли! — проговорил Иванович. — Отворять этот люк слишком опасно. Распорядитесь его закрыть! — приказал он Амутову, тому из пяти Невидимых, которого он возвел в должность помощника командира на «Лебеде» и которого за короткое время полета обучил всем секретам управления этим воздушным судном.
Не спуская глаз с двух рефлекторов, Джонатан Спайерс с болью в сердце следил за полетом неприятеля. Еще несколько минут, и «Лебедь» будет над Франс-Стэшеном.
С того момента, как граф и его друзья схоронились в лесу, никто не проронил ни слова. Но в ту минуту, когда «Лебедь» спустился над его домом, Оливье подошел к капитану и спросил его вполголоса:
— Как вы думаете, что он может сделать?
— Молите Бога, граф, чтобы бешенство этого человека не обрушилось на ваш дом; иначе из всего, что там есть, не уцелеет ни одна былинка: все обратится в жалкую груду мусора!
Вдруг слабый крик радости вырвался из груди капитана; «Лебедь», описав круг над домом, направился к озеру, и через секунду раздался оглушительный удар: «Феодоровна», стоявшая на якоре на некотором расстоянии от берега, исчезла в клубах пенящихся волн и страшном водовороте, образовавшем глубокую воронку. Сотрясение воздуха было настолько сильно, что, несмотря на большое расстояние, все укрывавшиеся в лесу попадали на землю.
Когда они снова поднялись на ноги, то при свете рефлекторов «Лебедя», освещавших озеро, как днем, на его поверхности увидели плавающие жалкие обломки судна. Онемев от ужаса, все смотрели на эту страшную картину, не решаясь обменяться своими впечатлениями. Но это было еще не все. Теперь, когда все они думали, что «человек в маске» обрушится на жилые строения Франс-Стэшена, они вдруг увидели, что «Лебедь» стал быстро уходить под воду. При виде этого Джонатан Спайерс не мог удержаться, чтобы не воскликнуть:
— Негодяй, он попытается теперь завладеть «Римэмбером»!
Но он тотчас же успокоился, вспомнив, что внешний механизм большого судна был совершенно иной, чем механизм малых судов. Тем временем на поверхности озера снова появились «Лебедь» и вместе с ним «Оса». Теперь Джонатан понял, зачем Иванович опускался на дно: он хотел похитить у него на глазах и второе судно. Если бы люди умирали от бессильного бешенства, то Красный Капитан, наверное, умер бы в этот момент.
Тем временем оба воздушных судна плавно поднялись в воздух, как две морские чайки, и с минуту носились над озером, затем «Лебедь» выдвинулся вперед, и оба медленно понеслись по направлению к деревням нготаков.
Джонатан Спайерс впился ногтями себе в грудь; то, что он испытывал в эти минуты, не поддается описанию.
— Клянусь, — воскликнул он, — что, если когда-нибудь этот негодяй попадется в мои руки, я заставлю его испытать во сто раз худшие мучения! Он издевается теперь над моим бессилием… Но что же делает Джильпинг? О, я отдал бы двадцать лет моей жизни за то, чтобы «Римэмбер» был теперь в моих руках хотя бы всего только на один час!
— Как вы думаете, — спросил Оливье, — вернется он сюда еще раз в эту ночь?
— Несомненно! — отозвался Спайерс. — Он отлично понимает цену времени, и если отсрочил на несколько минут свое мщение, то только для того, чтобы лучше и полнее насладиться им. Вероятно, «Лебедь» уже перерасходовал весь свой запас электричества на уничтожение «Феодоровны», а «Оса» не была еще готова. Теперь потребуется около часа, чтобы зарядить аккумуляторы обоих судов; через этот промежуток времени он и вернется, чтобы совершить свое дело уничтожения и разрушения. Запоздай он всего только на 24 часа — и мы были бы спасены. Мой бедный «Римэмбер», бедные мои товарищи! — И, закрыв лицо руками, Красный Капитан заплакал, как дитя.
— Если бы мы предупредили нагарнуков, то, быть может, нам удалось бы помешать ему! — заметил Дик.
— О нет! Это повлекло бы за собой только большее число жертв! — проговорил капитан.
В этот момент перед ним, точно из-под земли, вырос туземец и шепнул ему на ухо:
— Иди, Воанго ждет тебя!
Так называли нагарнуки по старой памяти Джильпинга.
Капитан сразу повеселел: в этих двух словах ему почудился луч надежды.
— Подожди, я сейчас иду за тобой, — ответил он туземцу также шепотом, затем, обращаясь к остальным, громко заметил: — Если вы дорожите жизнью, то пусть никто не уходит отсюда до тех пор, пока я не вернусь!
— А куда вы идете? — спросил граф.
— Попытаться спасти всех вас! — сказал капитан и исчез в кустах, где его поджидал нагарнук.
IV
Джонатан Спайерс и Джильпинг.
Красный Капитан быстро пробирался по кустам вслед за проворным и привычным туземцем и, спустившись с холма, услышал знакомый голос:
— Простите, капитан, что я побеспокоил вас, но я думал, что вам будет приятно совершить маленькую прогулку!
— Что вы хотите сказать? — спросил капитан.
Но вместо ответа почтенный проповедник затянул своим гнусавым голосом 65-й псалом.
— Бога ради, — воскликнул Спайерс, — скажите, что значит эта штука!
— Я вовсе не шучу; я думаю, что вы никогда не слыхали музыку этого псалма на кларнете! — отвечал Джильпинг.
— Побойтесь Бога! — умоляюще проговорил капитан.
— Ну, ну… пойдемте… Вы, пожалуй, правы, и нам нельзя терять времени. Садитесь позади меня на моего осла. Это очень смирное и кроткое животное, привычное к музыке, и ему будет очень приятно везти нас обоих, я в этом уверен!
Не зная, что ему делать и положительно теряя голову, несчастный Джонатан Спайерс счел за лучшее беспрекословно подчиниться оригинальному англичанину.
— Прекрасно, — продолжал тот, — вот так, надеюсь, вам хорошо сидеть. А ты, нагарнук, возьми повод и веди нас! — добавил он, обращаясь к туземцу.
Когда они тронулись в путь, Джильпинг достал свой кларнет и принялся услаждать слух капитана музыкой 65-го псалма, и звуки церковного пения, плавные и протяжные, будя ночную тишину, приводили в неописуемое удивление бедных ара, зеленых попугайчиков и какаду, нарушая их мирный сон.
А Джонатан Спайерс только молил Бога, чтобы Он помог ему удержаться от преступления: ему хотелось задушить Джильпинга, чтобы только прекратить его музыкальные излияния.
Между тем почтенный проповедник, окончив псалом, тщательно разобрал и сложил свой инструмент в футляр, затем, обернувшись к своему спутнику, сказал:
— Кстати, капитан, я пришел к убеждению, что можно попытаться поднять ваше судно и менее сложным механизмом, чем я первоначально думал!
— Что вы хотите сказать? — спросил капитан.
— Да это очень просто! Могу вас уверить, я вам обещал окончить эту историю к сегодняшнему вечеру, но, видя, что ваш «Римэмбер» нужен вам, сейчас же решил позвать своего осла Пасифика.
— Мистер Джильпинг! — воскликнул капитан, едва сдерживаясь.
— Вы понимаете?! Да, я позвал Пасифика и сказал ему тихонько, потому что он ужасно не любит, когда с ним обращаются резко: друг мой, нам необходимо быть ровно в десять минут на прииске!
— Мистер Джильпинг! — снова воскликнул капитан умоляющим тоном.
— Что? Вы больны? Нет!.. Прекрасно, так я продолжаю; мы отправились с ним на прииск; я шел рядом — когда нам надо спешить, то мы скорее идем пешком оба. Ровно в десять минут мы были на прииске; люди не прекращали работы, и иголки работали быстро и хорошо!
— Иголки? — переспросил капитан.
— Ну да, иголки — парусный холст лежал грудами.
— Парусный холст? — повторил капитан.
— Ну да… ведь не думали же вы, в самом деле, что я его построю из дерева! — И англичанин громко расхохотался.
Джонатан Спайерс ничего не мог взять в толк: ему казалось, что он теряет рассудок.
— Построить из дерева… что? — переспросил он.
— Что? Ну конечно, тот аппарат, который должен поднять на поверхность ваш «Римэмбер»! При мне в какие-нибудь четверть часа все было окончено и перевезено на берег озера, равно как и десять снопов соломы и маленькая печь. С восходом солнца, как только немного рассветет, мы приступим к делу
— и ваш «Римэмбер» будет на поверхности озера. Я, конечно, не могу вам обещать, что он долго продержится, нет, так как аппарат очень слаб, но все же мы его поднимем.
Из всего, что говорил Джильпинг, капитан ничего не мог сообразить; он понял лишь одно: что англичанин сдержит свое обещание и, не будучи долее в состоянии владеть собой, под влиянием внезапного прилива крови к голове, слабо вскрикнул и без чувств скатился на траву.
V
Приготовления. — Идея мистера Джильпинга. — На борту «Римэмбера». — Волнения Джонаса Хабакука Литльстона. — Заговор.
И нагарнук, и Джильпинг бросились на помощь капитану, но последний усилием воли уже поднялся на ноги и прежде всего бросился к Джильпингу и, до боли пожимая ему руки, воскликнул:
— Сто раз за эту ночь я обещал полжизни за обладание «Римэмбером» в течение одного часа, а потому я теперь говорю вам, мистер Джильпинг: когда бы вам ни понадобилась моя жизнь и при каких бы то ни было условиях, она — ваша!
— Полноте, капитан! Да это такая простая штука, что ребенок мог бы ее придумать! Вес «Римэмбера», по вашим словам, превосходит весьма немного его водоизмещение; потому-то он и может держаться между двумя водами — и подыматься, и опускаться при самом незначительном давлении. Он и подымается, и опускается под водою на основании тех же законов, как и воздушный шар в атмосфере. Сжатый воздух между стенками его корпуса легче воды и заменяет ему газ. Если вы выпустите часть этого сжатого воздуха, «Римэмбер» опустится ко дну, а как только ваша машина, вырабатывающая воздух, возместит утраченное количество воздуха, он начнет всплывать. Но для управления надо, чтобы ваше судно во всякое время было послушно малейшему давлению. Так вот, это небольшое количество воздуха, которое вы не в состоянии при настоящих условиях возместить ему, так как находитесь вне вашего судна, я думаю заменить маленьким воздушным шаром.
— Шаром! Действительно, как это просто! — воскликнул Джонатан Спайерс.
— Это положительно «Колумбово яйцо». Как это не пришло мне в голову!
— Единственное затруднение, — продолжал Джильпинг, — это было соединить наш шар с вашим судном, лежащим на глубине 40 сажен от поверхности озера. Я придумал сделать это с помощью двух колец из кованого железа, укрепленных на длинных канатах и надетых одно на нос, другое на корму судна, после чего канаты обоих колец, соединенные вместе, привяжут к канатам шара — и дело в шляпе! Еще вчера ночью Биган, Тукас и я на одной из шлюпок «Феодоровны» навели и надели кольца на нос и на корму «Римэмбера», теперь остается только привязать шар к канатам от колец, наполнить его нагретым воздухом с помощью маленькой печи и рубленой соломы, которые теперь уже заготовлены на берегу, — и через какие-нибудь пять минут вы увидите на поверхности озера ваш «Римэмбер». Но вам надо будет поспешить воспользоваться коротким моментом, в течение которого нам можно будет сообщиться с ним, так как шар почти наверное не выдержит увеличившейся тяжести судна вне воды и лопнет почти в тот самый момент, когда судно появится над поверхностью.
Все это Джильпинг говорил, продолжая продвигаться вперед, и вскоре собеседники, в сопровождении туземца, вышли на берег озера.
Здесь было все в полной готовности; Тукас и Дансон были на своих местах. Джонатан Спайерс был вне себя от радости: он уже не сомневался в полном успехе придуманного Джильпингом приема и, в порыве невыразимой благодарности судьбе, даровавшей ему спасение тогда, когда он все считал безвозвратно погибшим, внутренне дал клятву во имя графа и ради тех добрых людей, которые захотели помочь ему теперь, посвятить весь остаток дней своих на благо человечеству, а не на горе ему, как он мечтал раньше.
«Покорив Ивановича и рассчитавшись с ним, я употреблю свое изобретение на то, чтобы даровать народам мир вместо уничтожения и войны. Народы восстают друг на друга, только побуждаемые или принуждаемые к тому честолюбивыми завоеваниями и человекоубийцами, себялюбивыми и жестокими, между тем сами по себе они желают жить в мире и трудиться над своим благосостоянием. И я буду стоять на стороне народов против тех, которые натравливают их друг на друга для своих личных выгод и тщеславия; буду стоять за слабых против сильных, за жертв против их палачей!» — думал Красный Капитан.
Между тем время шло; звезды начинали бледнеть на горизонте; близился рассвет. Очевидно, и Иванович дожидался этого момента, чтобы действовать с большей уверенностью и полнее насладиться своею местью.
Капитан вырвал из своей записной книжки листок и набросал на нем карандашом следующие строки:
«Все обстоит хорошо. Через четверть часа я буду на „Римэмбере“! Предупредите нагарнукских воинов, чтобы они рассыпались по всему лесу, так как возможно, что, потерпев поражение, „человек в маске“ покинет своих и будет стараться укрыться в лесу. Не надо дать ему возможности бежать: настал час возмездия за все его преступления!»
Эту записку он отослал с туземцем молодому графу, чтобы успокоить его.
— На места, господа! — скомандовал Джильпинг.
Красный Капитан встал на самом краю берега, как раз против того места, где в нескольких саженях от берега находился его «Римэмбер», готовый каждую минуту кинуться в воду и вплавь добраться до своего судна.
— Биган, растопите печь! — продолжал Джильпинг.
Солома разом вспыхнула и ярко запылала; люди без устали подбрасывали ее в огонь, и спустя несколько минут аэростат стал надуваться.
Оба механика держали наготове причалы, чтобы спустить по первому слову команды…
Вернемся, однако, к тому, что происходило внутри судна, которое теперь поднимали на поверхность воды. Прошло всего только пять дней с того времени, как капитан покинул «Римэмбер», но эти пять дней показались целою вечностью экипажу. Мрачный и безмолвный, как грозный призрак, Самуэль Дэвис наблюдал за тем, чтобы все исправляли свою службу совершенно так же, как при капитане. Но уже на третьи сутки Холлоуэй, старший механик, осмелился явиться к Дэвису и спросить его, долго ли они будут оставаться в этом положении. В ответ на этот вопрос Дэвис указал ему на свои пистолеты и сказал:
— В следующий раз они вам ответят!
И Холлоуэй ничего не спрашивал больше, но среди механиков началось глухое брожение; открытый бунт неминуемо разыгрался бы на судне, если бы все эти люди не были глубоко убеждены, что их жизнь находится в зависимости от жизни лейтенанта Дэвиса, которому одному из всех, как они думали, был известен секрет управления судном; если его не станет, то ни один человек не выйдет живым из этого металлического гроба. И этого было достаточно, чтобы держать всех в границах самой строгой дисциплины.
Чудесное бегство Ивановича не возбудило никакого удивления или недоумения, потому что Дэвис объявил Прескотту и Литльстону, что он отправил его с поручением к капитану, сам же он, не зная, как объяснить себе это непонятное исчезновение, полагал, что сам капитан приходил за своим другом и увез его с собой ночью, не предупредив никого о том. Это предположение, вполне согласовавшееся с характером Джонатана Спайерса, было тем более вероятно, что Дэвис всегда считал русского за ближайшего друга и поверенного капитана.
Таким образом, все волей-неволей мирились с существующим положением. Но если бы кто-либо мог заподозрить, что секрет «Римэмбера» был так же известен Дэвису, как и последнему механику, и что жизнь всех находящихся на судне всецело зависела от возвращения капитана, то волнение было бы велико и едва ли бы Дэвис был в состоянии поддержать дисциплину.
Особенно неспокойным было поведение почтенного Джонаса Хабакука Литльстона: в противоположность мрачному спокойствию всех остальных он проводил большую часть дня в своей каюте, давая полную волю своим горьким мыслям.
— Ну виданное ли дело, чтобы в мои годы, в сорок пять лет, человек, занимавший почетное положение в калифорнийском суде, вдруг очутился в какой-то закупоренной жестянке, на дне австралийского озера, где можно пить только дистиллированную воду и дышать искусственно выработанным воздухом? Нет, без сомнения, это фамильная наследственность! Мой отец в один прекрасный день исчез, и никто никогда ничего не слыхал о нем; шестнадцати лет от роду, сестра моя Анна Мария вышла замуж за какого-то траппера-канадца и вместе с ним покинула цивилизованное общество и пошла скитаться по лесам и дебрям и жить жизнью дикарей. Наконец, мой младший брат забрал себе в голову перелететь на воздушном шаре через Атлантический океан и тоже пропал бесследно. Я один вел нормальный и разумный образ жизни, но и мне, очевидно, суждено кончить, как они. Какая злая насмешка судьбы: начинать делать глупости в сорок пять лет! После этого я готов ждать от себя всего, что угодно; я поверю, что могу сделаться вождем дикарей, что меня будут звать Дубонос или Летучий Змей, что я стану скальпировать своих собратьев, поклоняться какому-нибудь Маниту и есть человеческое мясо! Я как сейчас помню, как моя незабвенная миссис Литльстон говорила мне: Хабакук, если меня не станет, ты сделаешь еще что-нибудь худшее, чем все они, твои родственники. И что же? Что же? Едва только она успела умереть, как я тотчас же поступаю казначеем на судно, летающее под облаками, и на шар, ныряющий на дно океана… Другой бы сразу сбежал на моем месте, когда его встретили два немых негра, которые посмотрели на меня, как будто желая съесть, и когда владелец чудовищного судна, взглянув на меня, как будто собираясь вышвырнуть меня в окно, дал мне всего один час сроку перед отправлением в бесконечное путешествие, цель которого мне не была известна! Ах, миссис Литльстон, миссис Литльстон, зачем вы так рано переселились в лучший из миров! Если бы вы не покинули меня, я не был бы заключен, как сардинка, в запаянную жестянку и не разгуливал бы в железной клетке, как африканский лев в зоологическом саду, не жил бы на глубине 50 сажен под водою, как морская рыба… Нет, надо положить этому конец! — неизменно восклицал Хабакук в заключение и шел разыскивать Дэвиса.
— Мистер Самуэль Дэвис! — обращался он к нему, но тот обыкновенно откликался не раньше как на пятый или шестой раз своим обычным ледяным тоном, сопровождаемым холодным, непроницаемым взглядом его строгих суровых глаз:
— Чем могу вам служить?
Вся решимость Литльстона при этих словах Дэвиса как-то разом пропадала; он робко спрашивал грозного лейтенанта:
— Который теперь час?
Однажды даже, смущенный ледяным тоном и строгим взглядом лейтенанта, Литльстон настолько смутился и растерялся, что на вопрос Дэвиса ответил:
— Сегодня прекрасная погода, мистер Дэвис, превосходная погода!
Врач Прескотт разразился громким смехом, и даже сам Дэвис не мог удержаться от улыбки.
Однако Холлоуэй не мог забыть оскорбительной для него угрозы Дэвиса и мало-помалу, заручившись сочувствием своих подчиненных, решил совместно с ними завладеть особой лейтенанта и силой принудить его под угрозою смерти поднять «Римэмбер» на поверхность озера. Условившись в способе действий, заговорщики отложили осуществление своего замысла на 24 часа, бесповоротно решив действовать в случае, если к этому времени не вернется капитан.
Дэвис был превосходный лейтенант, знающий свое дело, свято помнящий свой долг и беззаветно смелый, но это был не такой человек, какой требовался для поддержания дисциплины на судне в отсутствие капитана, особенно на таком исключительном судне, как «Римэмбер», где люди подолгу принуждены были оставаться без света, без солнца, без всего, что может разнообразить жизнь на судне. При таких условиях нужен был человек строгий, но вместе с тем и обходительный, который мог бы поддерживать свой авторитет одновременно и строгостью, и расположением подчиненных к себе.
Упомянутые 24 часа прошли, а капитан еще не вернулся, Холлоуэй и остальные механики стали ночью совещаться и, порешив не терпеть далее подобной жизни, вооружились револьверами и ножами и направились к каюте лейтенанта, который только что заснул крепким сном, посвятив часть ночи на обход судна для наблюдения за порядком.
Было около пяти часов утра.
Заговорщики подошли уже к самым дверям каюты Дэвиса, как вдруг ощутили легкое содрогание судна, как будто оно собиралось тронуться с места. Холлоуэй, шедший впереди, остановился; «Римэмбер» снова дрогнул, и привычные моряки на этот раз несомненно почувствовали, что судно снялось со дна и постепенно подымается на поверхность. В этот момент распахнулась дверь, и на пороге показался Дэвис.
— Что тут происходит? — спросил он. — Что вы здесь делаете? — строго и повелительно спросил он механиков.
— Мы пришли предупредить вас, лейтенант, что «Римэмбер» снялся!
VI
Шар Джильпинга. — Военная хитрость. — Амутов. — Лев и лисица.
Первые признаки зари начали появляться на небе, когда Джильпинг громовым голосом крикнул: «Отдать причалы! Все отдать!» Приказание было выполнено с таким проворством, что маленький шар разом, почувствовав свободу, тотчас же стал подыматься. Громкое «ура» приветствовало этот результат стараний Джильпинга.
После первого подъема, всего на высоту нескольких метров, шар как бы судорожно вздрогнул; канаты и даже самая ткань его как будто натянулась вследствие тяжести, которую им приходилось выдерживать; это продолжалось всего одну секунду, но капитан побледнел как полотно.
Что, если канаты не выдержат или шар лопнет? Эта мысль молнией обожгла его мозг, и он чуть было не упал в обморок. Но его решение было принято: если несчастье случится, он моментально кинется в озеро и исчезнет с лица земли. Но вот шар снова стал медленно подыматься с быстротой, приблизительно один метр в секунду, быстротой, постепенно уменьшающейся вследствие убыли газа, но, по расчетам Джильпинга, все-таки должен был подняться на нужную высоту.
Вдруг Джонатан Спайерс громко и радостно воскликнул и, закинув руки вверх над головой, кинулся в озеро, завидев под водой очертание своего судна. Проникнуть в него тем же путем, каким Иванович выбрался из него, было делом одной минуты, а затем «Римэмбер», управляемый капитаном, поднялся до ватерлинии и подошел к набережной. Верхний палубный люк раскрылся, и Джонатан Спайерс вышел на палубу, окруженный всем своим штабом. Легкий утренний ветерок донес до его слуха приветственные возгласы графа и его друзей, следивших за всеми перипетиями подъема «Римэмбера» с лесистого холма, где он их оставил.
— А теперь, друзья, — сказал Джонатан Спайерс Джильпингу и другим собравшимся на берегу, — спешите как можно скорее в лес к графу; с этой естественной обсерватории вы сумеете, ничем не рискуя, присутствовать при последнем действии этой страшной драмы. Час возмездия пробил для «человека в маске»! А пока мы снова уйдем на несколько метров под воду, чтобы он не увидел нас раньше времени!
— Не нужно ли кому-нибудь из нас остаться здесь, в кустах, чтобы предупредить вас о появлении на горизонте врага условным сигналом, револьверным выстрелом или камнем, брошенным в озеро?
— Нет, посредством двух превосходных рефлекторов я могу наблюдать весь горизонт, держась между двух вод. Уходите скорее, вы едва успеете укрыться от опасности!
Сказав это, Джонатан Спайерс срезал канаты, прикреплявшие шар к «Римэмберу», затем с помощью людей своей команды сбросил кольца в озеро, так как теперь они могли только стеснять судно во время маневрирования в воде и в воздухе.
Однако «человек в маске» все еще не показывался, хотя все уже было готово для его встречи: в каждом кусте и за каждым деревом скрывался нагарнукский воин, а все европейцы собрались на лесистом холме, где граф и его друзья провели ночь.
Когда Джон Джильпинг с остальными прибыл сюда на своем возлюбленном Пасифике, то был встречен, как триумфатор, и только появление на горизонте двух темных точек прервало ряд громких приветствий по его адресу. Эти две темные точки были «Лебедь» и «Оса», являвшиеся сюда, чтобы довершить дело уничтожения, начатое вчера. Иванович удалился ночью только для того, чтобы зарядить аккумуляторы и дать нужные наставления Амутову, которому он поручил управление «Осой». Из осторожности он направился на территорию нготаков, своих союзников, чтобы не рисковать быть захваченным врасплох: он опасался, что капитан Спайерс предпримет что-нибудь, чтобы вернуть себе хоть одно из своих малых судов, не имея возможности пользоваться большим.
Всего несколько часов назад он еще видел «Римэмбер» на дне озера, и ничто не давало ему повода думать, что за это короткое время положение вещей могло хоть сколько-нибудь измениться.
Уверенный в успехе своего предприятия, Иванович отдал своему лейтенанту, то есть Амутову, самые несложные приказания, а именно: следовать за ним и во всем подражать его действиям.
Прежде всего, он намеревался окончательно уничтожить жилой дом Франс-Стэшена, а также магазины и другие строения Лебяжьего прииска, а затем, если кто-либо из обитателей уцелеет, он станет преследовать их одного за другим, пока не останется в живых ни одного европейца. Двух человек особенно преследовала его ненависть: графа д'Антрэга и Джонатана Спайерса, а между тем он знал, что вместо того, чтобы бежать, эти люди будут стоять в первых рядах защитников. Покончив со своими личными счетами, он обещал своим союзникам нготакам истребить и стереть с лица земли деревни нагарнуков и помочь им истребить их врагов, всех до последнего.
Ввиду этого нготакская армия подошла к границе своей территории, чтобы присутствовать при истреблении всех белых, за исключением кобунга, которого они просили пощадить.
Но Иванович ничего не обещал: разве он мог что-нибудь сделать, если этот кобунг будет находиться в момент разряда электричества в районе его действия?
Подойдя на расстояние полуверсты от дома Франс-Стэшена, оба воздушных судна спустились на землю, и Иванович с несомненным издевательством отправил к неприятелю парламентера-туземца с предложением всем белым сдаться на его милость, причем всем им обещал жизнь, за исключением троих, имена которых будущий победитель не пожелал назвать. Но посланный вернулся обратно со следующим надменным ответом: «человеку в маске» дается 10 минут, чтобы вернуть оба судна, похищенные им, их настоящему владельцу и объявить себя его пленником, после чего он будет расстрелян, как солдат, вместо того чтобы быть повешенным, как лесной разбойник!
При этих словах Иванович невольно вздрогнул: он положительно не понимал подобной смелости со стороны противников.
— Довольно, — воскликнул он, — идем на них, и не щадить никого!
Оба судна плавно поднялись прямо на главное здание Франс-Стэшена.
Тогда произошло что-то необычайное: граф сообщил своим друзьям явившуюся у него мысль, которая тотчас же была единодушно принята всеми.
— Человек этот трус! — сказал он. — Это мы видели из того, что он всегда выставляет кого-нибудь вместо себя там, где ему может грозить опасность! Перенесемте стол и нужное количество кресел на эспланаду и расположимся там кто с книгой, кто с шахматами, кто с полевым биноклем, наблюдая за их полетом как бы ради развлечения как за самым обычным любопытным явлением. Я уверен, что этот трус при виде нашего хладнокровия смутится. Мы же ничем при этом не рискуем, так как капитан, который не спускает с него глаз, успеет вовремя предупредить всякую беду!
Действительно, и «Лебедь» и «Оса» были построены так, что могли посылать свой разряд электричества не иначе, как вертикально, то есть лишь тогда, когда они находились непосредственно над своею мишенью, а прежде, чем это могло случиться, «Римэмбер» имел достаточно времени, чтобы помешать Ивановичу осуществить их намерение. Кроме того, можно было сказать с уверенностью, что одно появление «Римэмбера» должно было заставить Ивановича прежде всего подумать о самозащите или даже искать спасения в бегстве.
Каково же было, в самом деле, удивление и недоумение Ивановича, когда, поднявшись на достаточную высоту, чтобы видеть эспланаду Франс-Стэшена, которую до того скрывали от него деревья, он вдруг увидел на ней всех европейцев в полном сборе, расположившихся как было упомянуто выше, причем почтенный Джильпинг, взобравшись на спину своего возлюбленного Пасифика, пытался заставить его проделать приемы «высшей школы», чему последний упорно не поддавался. В тот момент, когда установленные на «Римэмбере» рефлекторы передали эту картину, Джонатан Спайерс, не смеявшийся уже много дней, не мог не разразиться громким смехом; его примеру последовали и остальные.
— Браво, — воскликнул он, — я уверен, что это испугает и внушит страх этому трусу Ивановичу!
Действительно, оба воздушных судна держались в воздухе на расстоянии 150-200 сажен от жилища графа и Дика, не смея приблизиться к нему. Вдруг они наклонили свои носы и стали медленно спускаться к земле: удивленный донельзя поведением своих врагов, Иванович почувствовал безотчетный страх и подал сигнал спуститься на землю, чтобы посоветоваться со своим помощником Амутовым.
— Ну чего вы ждете? Отчего разом не поразите всех этих дерзких?! — грубо воскликнул Амутов, как только палубные люки обоих судов раскрылись. — Право, если бы я не находился у вас под началом и если бы смерть этих людей не была мне глубоко безразлична, я бы стал действовать помимо вас!
— Да разве ты не понимаешь, что для того, чтобы так бравировать в их положении, они должны рассчитывать на что-нибудь верное, на что-нибудь такое, что может парализовать наши действия?!
— Тем лучше, — сказал Амутов, — роль убийцы мне не по душе. А вы разве деретесь только без риска, наверняка?
Бледный и нерешительный Иванович был жалок в эту минуту.
— Ты не знаешь Джонатана Спайерса, — заметил он, — он способен изобрести в несколько дней какую-нибудь адскую машину, которая заставит всех нас дорого поплатиться за нашу смелость!
— Как! Имея в своем распоряжении такие сильные орудия, вы способны отступить?! Так зачем было срывать меня из Мельбурна? Нет с этим надо покончить; дайте мне попытать счастья! Я пойду вперед, а вы будете держаться на некотором расстоянии позади меня, чтобы в случае надобности оказать мне поддержку!
Иванович все еще не решался.
— Ничего не может быть естественнее, — продолжал Амутов, которому были известны намерения Невидимых касательно графа. — Предводитель всякой экспедиции руководит действиями, а не выставляет себя вперед!
— Пусть так, — согласился Иванович, — в таком случае ты примешь командование «Лебедем», батареи которого уже испробованы нами вчера, это будет вернее!
— Хорошо, — согласился Амутов, — мне все равно!
Он не подозревал скрытой мысли Ивановича, который при этом имел в виду, что вчера Красный Капитан видел его на «Лебеде» и потому, если он в состоянии защищать Франс-Стэшен, то, наверное, направит свои главные силы на «Лебедя», полагая, что Иванович на нем, и, быть может, оставит без внимания «Осу» с неизвестным командиром.
Сотни человеческих душ были преданы смерти Ивановичем ради его интересов, но собою он никогда не рисковал, и теперь он помышлял только о том, как бы самому избежать опасности в случае неудачи. Его природная хитрость и осторожность пробуждались в нем с удвоенной силой при малейшем признаке опасности, и тогда он не задумываясь отказывался от всех своих планов и замыслов, только бы не рисковать своей особой. Вот почему его враги, несмотря на все мужество и настойчивость, не могли до настоящего времени наложить на него руки; они даже не знали его имени, кроме некоторых, которых он связал честным словом, уверенный, что эти люди никогда не изменят своему честному слову, даже если бы он сто раз изменил своим обещаниям.
Собираясь перейти на «Осу», Иванович сообразил, что находившиеся на этом судне двое Невидимых могли только стеснить его в момент бегства, и решил избавиться от них. В несколько минут в голове его создался новый план, который должен был обеспечить его несомненную победу впоследствии. Зная упорство Джонатана Спайерса в злобе и ненависти и решение канадца и графа преследовать его хоть до края света, Иванович был уверен, что ему без труда удастся заманить их вслед за собой куда угодно и таким образом заставить их попасть в расставленную им для них западню.
— Степи Урала безмолвны! — прошептал он сквозь зубы и приказал людям, находившимся на «Осе», перейти к Амутову на «Лебедь».
— Тебе будут нелишними еще два человека, — сказал Иванович, — а мне никого не надо!
У Амутова родилось подозрение, что этот трус хочет бежать. Но что он мог сделать против этого?! Кроме того, не все ли ему было равно, раз он решил действовать на свой страх, не рассчитывая на его поддержку?!
Оба воздушных судна одновременно поднялись на воздух, и Амутов, не оглядываясь, следует ли за ним Иванович, смело направился прямо на Франс-Стэшен. Видя его решительный образ действий, «человек в маске» на мгновение устыдился своего малодушия и, не рассуждая о том, что он делает, последовал за ним.
Завидев «Лебедя», мчавшегося прямо на Франс-Стэшен, наши друзья невольно устремили тревожные взгляды на озеро. Всего одна минута промедления — и могло быть уже поздно. Но едва успели они это подумать, как «Римэмбер», точно стрела, взлетел на воздух и преградил дорогу обоим суднам, вызывая их на бой. В один момент все обитатели Франс-Стэшена очутились на ногах и с напряженным вниманием вперили взоры вверх. Из-за кустов и деревьев буша также всюду вынырнули черные головы туземцев, нагарнуков и нготаков, сгоравших от нетерпения наброситься друг на друга, но выжидавших, когда белые люди окончат свои счеты между собой.
VII
Бой. — Смерть героя. — Бегство под водой. — Последний день нготаков.
Бой обещал быть тем более интересным, что все суда внутри нисколько не страдали от электрических залпов; чтобы победить врага, нужно было идти на абордаж, причем малейшая авария крыльев или руля должна была неизбежно повлечь за собой моментальное падение судна на землю, а это была неизбежная и страшная смерть для всего экипажа.
В данном случае если сила ударов была несомненно на стороне «Римэмбера», то проворство движения и численность были на стороне противника.
Достаточно было, чтобы одно из судов атаковало «Римэмбер» с носовой части, как другое могло наброситься со всего разлета на одно из крыльев колосса, и во всяком случае, повредить его. Понятно, что при этом и атакующее судно погибнет вместе с атаковавшим, и тогда победа останется за третьим маленьким судном, которое и сотрет с лица земли Франс-Стэшен и всех его обитателей.
Необходимо поэтому было, чтобы весь экипаж того из двух судов, которое атакует «Римэмбер», согласился пожертвовать своею жизнью.
Не подлежит сомнению, что если бы Амутов и Иванович могли сообщаться между собой, то первый предложил бы пожертвовать собой ради удачи предприятия, но Красный Капитан, предвидевший опасность, решил не дать времени своим противникам сговориться. Да и вид внезапно вынырнувшего из озера «Римэмбера» произвел на русского ошеломляющее впечатление, и некоторое время «Оса» бесцельно носилась в воздухе. Спайерс приписал это обстоятельство неосведомленности человека, которому Иванович должен был спешно поручить управление этим судном; думая, что его смертельный враг находится на «Лебеде», он направил «Римэмбер» на последний.
Амутов сразу понял, что не может рассчитывать на своего союзника, и решил смело выдержать схватку. Чтобы лучше владеть своим судном, он убавил ход, и в тот момент, когда «Римэмбер» устремился на него с целью нанести решительный удар, «Оса» кинулась книзу, и колосс, увлекаемый силой инерции, стремительно пронесся над ним. Едва только «Лебедь» остался позади, как тотчас же поднялся и пытался нанести «Римэмберу» удар своим тараном в кормовую часть. «Римэмбер» едва успел обернуться носом к противнику, который, видя, что его маневр не удался, пользуясь своей быстротой, взвился вверх и пронесся над гигантом.
То было поистине грандиозное зрелище, и зрители невольно испытывали известное сочувствие к этому маленькому судну, так геройски сражавшемуся с гигантом врагом.
После нескольких счастливо избегнутых атак маленькому «Лебедю» удалось наконец всадить свой таран в корму «Римэмбера», но — увы! — он не мог уже вытащить своего тарана и очутился как бы на буксире у своего неприятеля. Джонатан Спайерс тотчас же понял свое преимущество и направил свое судно к земле, рассчитывая, что если «Лебедь» не успеет высвободиться раньше, то «Римэмбер» возьмет приз. Иванович думал, что Амутов погиб; надо было бежать, но куда направиться, чтобы «Римэмбер» не нагнал его благодаря своей усиленной быстроте вследствие более сильных машин? Внезапно ему пришла в голову мысль хоть на время затерять свои следы. Его лавирование, к которому ему приходилось прибегать, чтобы не попасть в боевую линию, привело его к озеру, над которым теперь носилась в воздухе «Оса»; не задумываясь, Иванович направил свое судно к озеру и проворно нырнул в его глубь, сопровождаемый громкими криками присутствующих, видевших этот маневр. Этот поступок Ивановича лишил бедного «Лебедя» последней надежды в самый критический момент. Однако отважное маленькое судно все еще не сдавалось; оно употребляло теперь все свои усилия, чтобы высвободить свой таран, но это ему не удавалось. Тогда у Амутова явилась мысль произвести разряд электричества; моментально раздался оглушительный удар. «Лебедь» весь задрожал, точно готов был разлететься в щепки, но в тот же момент, освободившись, снова устремился на «Римэмбер» для фланговой атаки, которой «Римэмбер», однако, благополучно избежал, опустившись неожиданно вниз.
Один момент Амутов надеялся, что пробоина, нанесенная гиганту его тараном, сделает его негодным в бою, но блиндированная обшивка делала «Римэмбер» неуязвимым.
Тем не менее эта блестящая борьба маленького судна с гигантом подняла во мнении присутствующих личность Ивановича. Даже Джонатан Спайерс удивлялся его мужеству.
— А я-то считал его подлым трусом! — бормотал он, продолжая следить за всеми движениями своего противника… — Я положительно не узнаю его, и если бы его товарищ обладал хотя бы десятой долей его мужества, я был бы разбит своим собственным оружием… Если мне удастся взять его живым, то мы окажем ему честь и расстреляем его: таких людей не вешают, как собак! Какая жалость, что он так же подл, как и смел!
Но надо было покончить с ним как можно скорее: с таким врагом малейшая забывчивость могла повлечь за собой самые роковые последствия, и он решил преследовать его, не давая времени перевести дух, чтобы при первой же возможности выбить его из позиции. С этой целью Спайерс следовал за «Лебедем», не давая ему времени обернуться и стать лицом к лицу. Затем вдруг «Римэмбер послал в его крылья все шесть разрядов своих шести аккумуляторов, которые в противоположность „Лебедю“ и „Осе“ могли действовать и горизонтально, и вертикально, смотря по желанию и надобности. Самый ток не имел, собственно, разрушающего действия на арматуру „Лебедя“. Но течение воздуха было настолько сильно, что маленькое судно, захваченное в образовавшийся вихрь, закружилось, как осенний лист; этим моментом воспользовался „Римэмбер“: с быстротой молнии он настиг его и ударом своего мощного тарана сорвал у врага одно крыло. В тот же момент „Лебедь“, как раненая птица, рухнул на землю с высоты 200 или 300 сажен и разлетелся в щепки.
Спустя несколько секунд Джонатан Спайерс уже спустился на землю. Среди обломков погибшего «Лебедя» в лужах крови лежало пять страшно изуродованных трупов. Красный Капитан с жадностью и напряженным вниманием вглядывался в черты погибших. Но Ивановича среди них не было!
Подоспевшие в этот момент Оливье и его друзья, желавшие поздравить Джонатана Спайерса с победой, с изумлением увидели, что он был в бешенстве.
— Этот негодяй опять ушел от нас! — воскликнул он вне себя, — а вот пять смельчаков пожертвовали жизнью, чтобы дать ему возможность бежать! Какая жалость, что такое самоотвержение не нашло себе лучшего применения! — и, склонившись над убитыми, он долго разглядывал их одного за другим.
— Все пятеро были члены общества Невидимых, — сказал наконец капитан.
— Видите, у каждого железное кольцо на пальце; это — злополучные наивные солдаты, которых таинственное общество посылает умирать за неизвестные им цели, и ни один из них не отступает даже перед смертью!
Оливье и Дик были сильно удивлены, что «человека в маске» не было в числе погибших. Опять была пролита кровь, и опять этот неуловимый враг ушел из их рук в решительную минуту.
— Но он, во всяком случае, не успел еще совершенно уйти от нас, — продолжал Джонатан Спайерс, — отсюда до Мельбурна далеко, и я сумею отыскать последнего раньше, чем он успеет покинуть Австралию. Этот человек настоящий бич: каждый его шаг запечатлен кровью, и я клянусь не отдыхать до тех пор, пока не будут отомщены все несчастные жертвы этого негодяя!
— И все мы поможем вам в этом! — заявили Оливье и Дик.
— В таком случае все на борт! — крикнул капитан своему экипажу, который сошел было на берег, обрадованный случаю погреться на солнце и подышать свежим воздухом, чего он был лишен с самого отъезда своего из Америки. Прескотт и Дэвис тотчас же направились к судну, лежавшему всего в нескольких саженях с широко раскрытыми люками, но Холлоуэй и его подчиненные не тронулись с места.
Джонатан повторил свое приказание. Тогда старший механик подошел к Красному Капитану.
— Вы имеете что-нибудь сказать мне? — спросил последний, смерив его ледяным взглядом.
— Да, капитан! — как-то неуверенно пробормотал Холлоуэй.
— Прекрасно, но прежде повинуйтесь! Раз я отдал приказание, то оно тотчас же должно быть исполнено!
Холлоуэй все еще стоял в нерешительности, а капитан не спускал с него своих проницательных холодных глаз.
Бунт на судне был делом немаловажным, и морские законы всех стран отличаются необычайной строгостью; в Америке, как и во всех других странах, командир судна пользуется правом жизни и смерти над всеми находящимися на судне, в случае малейшей попытки бунта. А Джонатан Спайерс выправил все необходимые документы до отправления своего из Сан-Франциско; поэтому никто из служащих на его судне не мог считаться свободным в своих действиях против него.
Холлоуэй знал это; знал также и то, что Красный Капитан не задумается пристрелить его при первой попытке неповиновения. И хотя самолюбие старшего механика, двадцать раз заявлявшего своим подчиненным о том, что он не намерен долее повиноваться и снова сесть на судно, сильно страдало, тем не менее он медленно направился к «Римэмберу», куда за ним последовали остальные механики. Не успел он ступить ногой на судно, как Джонатан Спайерс, подозвав Дэвиса, приказал ему громким, отчетливым голосом:
— На двое суток в кандалы мистера Холлоуэя, чтобы научить его повиноваться с большей поспешностью!
Дэвис молча исполнил приказание и отвел Холлоуэя в междупалубное помещение, предназначенное для арестов.
Признаки участия в заговоре и остальных механиков не укрылись от наблюдательного капитана, но он предпочел сделать вид, что ничего не замечает. Покорно принятое Холлоуэем наказание совершенно дискредитировало его во мнении подчиненных, и дальнейшее его влияние на них было погублено теперь навсегда; следовательно, дальнейшие попытки бунта были, так сказать, уничтожены в зародыше.
Собственно говоря, маленький экипаж «Римэмбера» был отчасти прав в своем возмущении против существующих на судне порядков, и, будь Холлоуэй человеком с более сильным характером, он бы смело сказал капитану:
— Мы обязались служить не на военном судне, а вы с первых же дней плавания позволяете убить троих из нас и рискуете, не спросясь, жизнью всех остальных! На подобных условиях мы отказываемся продолжать службу на вашем судне!
И Джонатан Спайерс должен бы был примириться с этим; иначе, если бы он прибегнул к револьверу, то был бы повешен, как только ступит на берег Соединенных Штатов.
Тем временем все, кроме Тома, негра и мистера Литльстона, уже вошли на судно. Видя это, капитан обратился к последнему строгим, холодным тоном:
— Вы меня слышали?
— Слышал, капитан!
— Так чего же вы ждете?
— Я хочу заявить, капитан, что подаю в отставку!..
— Во время плавания я не могу принять вашей отставки, кроме того, напоминаю вам, что вы приняты мною на службу на два года!
— Да, в качестве казначея на судне, но «Римэмбер» вовсе не судно!
— Что же это такое, сударь? — спросил Джонатан, чувствуя, что им овладевает бешенство.
— Это баллон, капитан!
— Баллон?
— Да, баллон! Заметьте, мы прибыли из Америки в Австралию воздушным путем, затем простояли пять суток под водою, что также не может считаться нормальным положением для судна, а в заключение снова совершили небольшой воздушный полет, который мне вовсе не пришелся по вкусу. И так как мы по сие время плавали исключительно в воздухе, то «Римэмбер» должен быть прозван баллоном, а не судном. А я, повторяю, не обязался служить на баллоне, и потому не вернусь больше на «Римэмбер».
— Берегитесь, сударь! — воскликнул Джонатан Спайерс, посинев от бешенства и выхватив свой револьвер.
Но на этот раз он имел дело с упрямцем, что в некоторых случаях хуже человека энергичного.
— О, вы меня не устрашите, — продолжал Литльстон, — я недаром служил 20 лет в суде и знаю свои права американского гражданина!
При последних словах Дик подошел ближе к спорящим и стал вглядываться в лицо непокладистого казначея.
— Но вы не знаете, сударь, морских законов! — заревел капитан.
— Смеялся я над вашими морскими законами! — возразил тем же тоном Литльстон. — Ваш «Римэмбер» — все, что хотите, только не судно, а потому морские законы к нему вовсе не применимы. Это какая-то жестянка для сардинок, подводный колокол, баллон, все, что хотите, но только не судно. Я сам подам жалобу в адмиралтейство, и вы увидите, сударь, что скорее послушают меня, бывшего старшего делопроизводителя калифорнийского суда Литльстона, чем вас, какого-то пирата!
— Нет, это уж слишком! — захрипел капитан и кинулся с револьвером в руке на своего непокорного казначея, который предусмотрительно попятился назад.
— Стойте, — крикнул канадец, становясь перед капитаном, — дайте мне расспросить этого человека!
— Что вы вмешиваетесь? — крикнул Джонатан Спайерс, желая оттолкнуть Дика и заставить его дать ему дорогу, но рослый канадец удержал его одной рукой, как малого ребенка, а другой выхватил у него револьвер и зашвырнул его далеко в траву.
— Вы мне ответите за это насилие! — захрипел капитан, выбиваясь из рук Дика.
— Когда вам угодно! — спокойно ответил старый траппер. — А все же я помешал вам совершить бесполезное убийство!
— Простите меня, Дик! — проговорил, приходя в себя Спайерс, пристыженный спокойствием и сдержанностью канадца.
— Я не вмешивался в ваши дела с экипажем, так как думаю, что вы ввели в их условия необходимые оговорки, но что касается казначея, который полагал, что ему предложили службу на обыкновенном судне, вы не можете принудить его против воли проводить жизнь под обломками или на дне моря, и никакие морские или иные власти не признали бы за вами права на это. Кроме того, я хотел еще узнать: вас зовут Джон Хабакук Литльстон? — обратился он к спасенному им человеку.
— Да, так меня зовут! — отозвался спрошенный.
— Если так, — сказал Дик, — то я Дик Лефошер, муж Анны Марии Литльстон!
— Так это вы, Дик! О, я давно искал вас и Анну Марию, — отвечал Литльстон как-то робко, словно опасаясь услышать ответ, что ее нет уже в живых.
— Уж десять лет, как она умерла! — продолжал канадец. — Это была прекраснейшая женщина! — И слезы закапали у него из глаз.
— Дик! Дик! — воскликнул растроганный казначей. — Правда, мы не особенно ладили прежде. Но, если хотите, станем теперь любить друг друга, как братья, в память умершей!
— Я готов! — сказал канадец, протягивая ему руку.
При виде этой сцены Джонатан Спайерс протянул руку Литльстону в знак примирения.
Дэвис предусмотрительно позаботился закрыть люки «Римэмбера», чтобы разыгравшаяся на берегу сцена не уронила престижа капитана в глазах экипажа.
Решено было, что Джонас Хабакук Литльстон, у которого, по-видимому, не было ни малейшего призвания к морю и воздухоплаванию, останется на суше со своим зятем Лефошером, а Красный Капитан без него будет продолжать преследование общего врага — «человека в маске». Все эти маленькие препирательства и без того уже отняли много драгоценного времени.
— Прежде всего мы исследуем озеро Эйрео! — сказал капитан.
— Едва ли «человек в маске» дожидается вас, — заметил Оливье, — он опустился под воду только для того, чтобы заставить вас потерять его след, и, наверное, покинул озеро, как только заметил, что вы не увидите его!
— Я согласен с вами, — проговорил капитан, — и потому намерен преследовать его по пути в Мельбурн или Сидней, но не могу не осмотреть озера: может быть, я найду там какой-нибудь след или указания!
Нготаки после поражения своего союзника поспешно отступили к своим деревням, но в ту же ночь, окруженные двумя тысячами нагарнуков, были перебиты все до последнего. Не осталось в живых ни одного человека, чтобы возродиться. Это племя исчезло с лица земли. Эта страшная ночь по сие время сохранилась в памяти австралийцев под именем «черного истребления».
Спустя два месяца Красный Капитан один вернулся со своим верным негром Томом во Франс-Стэшен. Неподалеку от берега озера он нашел обломки своего «Лебедя», представлявшие собой груду железа и меди.
Что касается Ивановича, то его и след простыл, и Джонатан Спайерс, обыскав всю Австралию, убедился, что негодяй, вероятно, отплыл из Мельбурна под каким-нибудь чужим именем.
Капитан вернулся взбешенный, но не обескураженный, а более, чем когда-либо, горящий жаждой мщения, вернулся с тем, чтобы предложить своим друзьям принять участие в преследовании негодяя в Европе, или, вернее, в России, куда тот, наверное, бежал от преследования.
Но неудачи продолжали преследовать Красного Капитана: однажды, устроив дневку на расстоянии пути от Франс-Стэшена, чтобы дать отдохнуть своему экипажу, он отошел на некоторое расстояние, увлекшись охотой, и вдруг услышал страшный взрыв. Он тотчас же поспешил к тому месту, где находилось его судно, и его глазам представилось ужасающее зрелище: вследствие ли неосторожности или злого умысла, кто-то из экипажа произвел взрыв в электрических аппаратах, до неузнаваемости исковеркавший судно. Взрыв был до того силен, что люди, завтракавшие на берегу на довольно значительном расстоянии, были убиты наповал.
— Подозреваете вы кого-нибудь в этом деле? — спросил граф, узнав о катастрофе.
— Холлоуэй, — ответил капитан, — я признал всех убитых, и среди них не хватает только одного, а именно его. Может быть, он в момент взрыва находился на судне; тогда от него, конечно, не осталось и атома, но если он жив, то пусть молит Бога о защите: я разыщу его хоть в тундрах Сибири, в джунглях Индии или пампасах Америки!..
— Но это дело поправимое, — заметил граф, — как бы велика ни была сумма, потребная на сооружение нового «Римэмбера», Дик и я предоставляем ее в ваше распоряжение!
— Соорудить второй «Римэмбер»?! Нет, я этого не хочу! Разве вы не знаете, что я десять лет секретно работал над ним, заказывая на разных заводах отдельные его части, чтобы у меня не похитили секрета? Но тогда я был молод, полон надежд и ненависти!
— Ненависти? — спросил Оливье. — Кого же вы так сильно ненавидели?
— Человечество!
— Человечество?
— Да, все человечество, подлое и жалкое, благоговеющее перед грубой силой и, в свою очередь, давящее все слабое и обездоленное, что не может защищаться, все великое и благородное, чего оно не может понять, что пристыжает его и возбуждает в нем зависть!
— А теперь? — спросил взволнованный граф.
— А теперь у меня нет больше сил ненавидеть и презирать людей — и причиной этому являетесь вы! Много лет тому назад вы подали мне надежду и заронили в мою душу веру в добро и справедливость. Вы сказали однажды: «Если есть страждущие на земле, то лучше помочь и утешить их, чем мстить за них!» Эти слова запечатлелись в моей душе! Нет, я не построю второго «Римэмбера»: боюсь снова поддаться дурным инстинктам! Я очищу землю от двух негодяев, так как, пока они живы, другие люди никогда не будут иметь от них покоя. Это «человек в маске» и Холлоуэй. Затем я навсегда хочу почить от злых дел; это — мое бесповоротное решение!
Спустя шесть недель молодой граф и Дик, поручив прииск Коллинзу, — отправились вместе с Джонатаном Спайерсом, Лораном, негром Томом и Воан-Вахом в Париж, где мы их вскоре увидим и где граф при самых удивительных обстоятельствах узнает наконец, что «человек в маске» и Иванович одно и то же лицо.
Далее мы увидим, что после серьезного совещания, на котором обсуждался этот вопрос, граф и его друзья решили отправиться в уральские степи, где должно было состояться общее собрание членов общества «Невидимых».
VIII
Генерал дон Хосе Коррассон. — Ночное нападение. — Глаз сыщика.
— Полночь, господа! Позвольте мне покинуть вас! — проговорил молодой человек, лет 28, со смуглым, загорелым и энергичным лицом, в котором читатели без труда узнали бы молодого графа д'Антрэга.
С этими словами он обратился к небольшой группе молодых элегантных джентльменов, собравшихся в одной из гостиных клуба на Вандомской площади.
Присутствующие стали было удерживать молодого графа.
— Еще не время уходить; в такое время только маленькие дети ложатся спать! — говорили ему. — Ведь это просто недобросовестно — разлакомить нас рассказом о самых необычайных приключениях, затем прервать их на полуслове,
— как фельетонный роман, даже не пообещав продолжения!..
— Право, господа, не могу! — заметил граф и, послав прощальный привет присутствующим, быстро удалился.
— Прикажете позвать карету, граф? — спросил его мальчик, прислуживающий у дверей.
Оливье взглянул на часы и, пробормотав: «Еще целый час времени», — ответил: — «Нет, не надо, я пойду пешком!»
Закурив сигару, он не торопясь дошел до набережной Сены, по-видимому погруженный в глубокое раздумье, которое помешало ему заметить, что с самого момента его выхода из клуба какие-то два чрезвычайно элегантных господина все время следовали за ним на расстоянии двадцати шагов.
Сделав небольшой крюк как бы с тем, чтобы убить лишнее время, граф вышел на берег Сены. Несмотря на то, что на дворе стоял только март, ранняя весна давала себя чувствовать, в тюильрийских садах каштаны уже стояли в полном цвету. Молодой граф направлялся в улицу Сан-Доминик, в отель, занимаемый его отцом, где у него было свое помещение.
Оливье прибыл в Париж с неделю тому назад из Австралии вместе со своим другом Диком, Джонатаном Спайерсом, Литльстоном, неизменным Лораном и несколькими слугами из туземцев буша.
Франс-Стэшен и Лебяжий прииск остались на попечении Коллинза, под охраною нагарнуков. За два года эксплуатации прииск дал Дику и Оливье чистого барыша сто миллионов долларов.
Что касается мистера Джильпинга, то он еще не закончил приведения в порядок своих ценных коллекций и потому намеревался вернуться в Европу со следующим пакетботом вместе со своим возлюбленным Пасификом, с которым решил никогда не расставаться. Благодаря щедрости графа и Дика, которым он оказал немало услуг, этот нготакский кобунг возвращался на родину с состоянием в 500000 долларов, и так как путь его лежал через Суц, то попутно почтенный джентльмен собирался заглянуть в Париж — повидать своих друзей.
Оливье покинул Австралию, не думая уже вернуться туда, но Дик, не желавший покидать своего юного друга, пока положение его по отношению к Невидимым оставалось невыясненным, внутренне дал себе обещание вернуться в Австралию, как только успокоится относительно дальнейшей судьбы Оливье, и провести остаток дней своих в созданном им Франс-Стэшене, в непосредственном соседстве с дорогими его сердцу нагарнуками, подле могильного холма его незабвенного друга и брата Виллиго.
Красный Капитан, совершенно утративший свое бешеное честолюбие, также посвятил себя интересам Оливье, но и он, подобно Дику, к которому теперь беззаветно привязался, мечтал о возвращении на берега озера Эйрео, где рассчитывал вдали от волнений цивилизованных стран найти для своей измученной души спокойствие и мир, в которых он так нуждался.
Вся эта маленькая группа людей, переселившаяся из далекой Австралии в Париж, готовилась теперь отправиться в Россию, где они намеревались дать последнее, решительное сражение Невидимым.
В голове Джонатана Спайерса созрел необычайно смелый план, единодушно принятый его друзьями: захватить не только Верховный Совет Невидимых, но и самого Великого Невидимого и предписать им свои условия мира.
Ежегодно в каком-нибудь уединенном месте громадной русской территории, неизвестной вплоть до последнего момента, собиралось годичное собрание делегатов общества, рассеянных по всему лицу Земли. Эти делегаты получали в запечатанном конверте предписание явиться в такой-то город, и там им сообщали таинственное место избранное для годичного совещания. Обыкновенно это почти всегда было какое-нибудь дикое, уединенное место, где-нибудь в ущельях кавказских гор, в уральских или донских степях или побережье Каспийского или Аральского моря.
Таким образом, осуществление задуманного Красным Капитаном плана представляло громадные затруднения, но Джонатан Спайерс ручался, что он сумеет заблаговременно узнать о месте собрания, а остальное сделают деньги, которых на этот раз нечего жалеть.
В этот самый вечер должно было происходить совещание в квартире графа, на котором должен был присутствовать и Люс, теперь всецело преданный интересам графа. Его участие в этом деле могло быть тем более полезным, что он состоял членом общества Невидимых, и до сего времени поведение его было таково, что он слыл за одного из самых деятельных и надежных членов общества в глазах Верховного Совета и даже был назначен главным делегатом от Франции и Парижа, на которого возлагалось наблюдение за всеми остальными русскими агентами в Париже.
Поутру на бульваре к Оливье подошел негр, слуга Люса, и сообщил, что последний явится на вечернее совещание к назначенному времени, затем, почтительно раскланявшись с графом, удалился.
Этим негром был сам Люс. Он обладал гениальной способностью перевоплощения; про него рассказывали в префектуре положительно невероятные вещи: так, например, он на любой фотографической карточке, сев перед зеркалом, в полчаса времени изображал из себя оригинал портрета с таким совершенством, что никто не мог усомниться в том, что данный портрет снят не с него.
Однажды по желанию префекта полиции он преобразился в него самого, в течение целого часа принимал всех подчиненных, не будучи узнан никем. Все удивлялись, что такой искусный человек был отставлен от службы, но никто не знал истинной причины его отставки.
Когда он вернулся из Австралии, то доложил Верховному Совету Невидимых о великодушном поведении графа по отношению к нему и заявил, что предпочитает выбыть из членов общества, чем действовать против человека, которому он обязан жизнью. Этот благородный образ мыслей только возвысил его в мнении начальников, которые совершенно освободили его от всякого участия в этом деле. Но впоследствии, когда благодаря обещанному миллиону франков он согласился заняться интересами графа против тайного общества, то сожалел, что совершенно отстранился от этого дела; он даже не знал, известно ли Верховному Совету о возвращении Оливье в Париж и какие меры против него думают принять.
Благодаря своему громадному навыку, ловкости и наблюдательности Люс надеялся разузнать все это, тем не менее в данный момент это было сопряжено с такими затруднениями, каких бы, конечно, не было, если бы он не отказался от всякого участия в деле графа.
Несмотря на самые лучшие дружеские отношения, Оливье все-таки не мог добиться от Люса имени «человека в маске».
— Я буду защищать вас против него, — говорил он, — и, если буду иметь возможность, сведу даже вас с единственным человеком, который видел его лицо в Австралии, — с негром, слугой борца Тома Поуеля, исчезнувшим бесследно с 250. 000 франков заклада, положенного на имя его господина; но не требуйте от меня, чтобы я нарушал данное слово!
— Но скажите, почему этот человек так упорно не желает, чтобы я знал его? Неужели он боится?
— Отчасти и это, но, кроме того, так как он является вашим соперником и рассчитывает, покончив счеты с вами, завладеть вашей невестой, то, зная, что она никогда не согласится стать женой убийцы, желает, чтобы имя этого убийцы для всех оставалось тайной.
Граф не стал более настаивать.
Странный человек был Люс. Считая себя рабски связанным данным словом, он не задумываясь изменял тому обществу, которому обязался служить и членом которого состоял. Быть может, это являлось результатом влияния его профессии. Действительно, многие из сыщиков и полицейских агентов, будучи безупречно честными людьми в своих личных отношениях, не задумываясь вступают в общества и ассоциации, получая даже с них вознаграждение, и тем не менее становятся предателями этих обществ. Таковы требования их профессий.
Во всяком случае, Люс был весьма ценный союзник и стоил тех денег, которые ему обещали.
Как мы видим, молодому графу было о чем призадуматься по пути с Вандомской площади к дому на улице Сан-Доминик.
Дойдя до площади Согласия, он вступил на мост, почти совершенно безлюдный в этот момент. Следовавшие за ним два господина, ускорив шаг, очутились теперь всего в каких-нибудь десяти шагах. Достигнув средины моста, граф заметил вдруг человека, который, перекинув ногу через перила, собирался броситься в Сену. Оливье кинулся было к нему, чтобы предупредить несчастье. Но в это время мнимый самоубийца вместе с шедшими за Оливье незнакомцами кинулись на графа и прежде, чем тот успел сообразить, в чем дело, сбросили его в Сену.
Будучи превосходным пловцом, граф инстинктивно принял положение пловца, ныряющего вглубь, и вскоре, выплыв на поверхность, направился к ближайшему берегу, к набережной дворца Бурбонов. В это время от берега отделился ялик, где сидело двое мужчин; один из них крикнул:
— Держитесь, мы сейчас подъедем к вам!
Через минуту ялик подошел настолько близко, что граф ухватился левой рукой за борт и протянул правую своим спасителям, но в этот момент получил сильный удар веслом по голове, который совершенно ошеломил его, хотя он вовремя успел парировать его поднятой рукой. Сообразив, что мнимые спасители — те самые люди, которые сбросили его в реку, граф снова нырнул. В этот момент раздался торжествующий возглас одного из убийц:
— Ну, на этот раз мы его прикончили!
Так как это случилось неподалеку от моста, то Оливье, невзирая на сильную боль в руке, поплыл, держась под водой, под опорами моста, рассчитывая, что мрак поможет ему укрыться от убийц. Действительно, достигнув одной из опор, он вынырнул и, плотно прижавшись к каменным бокам, совершенно слился с ними в царящем здесь густом мраке. Ощупью он добрался до одного из больших железных колец, нарочно укрепленных для спасения погибающих или же для прикрепления к ним причалов лодок, и, ухватившись, стал наблюдать за негодяями. Ялик некоторое время качался на волнах посреди реки: очевидно, сидевшие в нем хотели убедиться, что загубленный ими человек не всплыл на поверхность. Затем спустя четверть часа лодка, вместо того чтобы вернуться к берегу, направилась вверх по реке и стала проходить под тем самым пролетом, где притаился Оливье.
Здесь было до того темно, что граф не мог даже различить очертаний проходившей мимо него лодки, но зато явственно слышал, как один из сидевших в ней сказал своему товарищу:
— Жалею, что не кинул ему мое имя в тот момент, когда ты его ударил: он бы по крайней мере узнал перед смертью, кто этот пресловутый «человек в маске»!
Лодка вышла из-под пролета моста и вскоре скрылась из виду. Считая себя на этот раз вне опасности, Оливье в несколько минут доплыл до берега и выбрался из воды. Но едва он успел перенести ногу за каменный парапет, как двое точно из-под земли выросших человека накинулись на него, и в тот же момент он почувствовал сильный удар в плечо: очевидно, метили в сердце. Громко вскрикнув, Оливье грузно упал на землю.
Два полицейских-сержанта выбежали из-за угла дворца Бурбонов, но убийцы, оставив свою жертву, бросились бежать по двум противоположным направлениям, чтобы разделить погоню. Этот маневр удался им как нельзя лучше; оба полисмена кинулись в первый момент к раненому и только потом, спохватившись, что убийцы от них уходят, один из них, крикнув другому: «Спеши к раненому!» — сам бросился в погоню за тем из двух негодяев, который был ближе от него, но тот уже скрылся.
Тогда полисмен также вернулся к раненому, которого поддерживал его товарищ, и оба вместе собирались донести до полицейского управления, как вдруг подъехал элегантный экипаж, запряженный парой щегольских лошадей; по приказанию сидевшего в экипаже господина он остановился подле раненого.
— Я слышал крик о помощи, — проговорил господин, выходя из экипажа, — и приказал своему кучеру ехать в эту сторону!
Говорящий был мужчина лет сорока, чернокожий, но с благородной, величественной осанкой, во фраке и с лентой ордена Аннунциаты Панамской.
В этот момент Оливье пришел в себя, очнувшись от обморочного состояния.
— Странно, — заметил один из полисменов, — раненый мокр, как будто только что вылез из воды!
— Вы не ошибаетесь: какие-то негодяи с полчаса тому назад сбросили меня с моста в Сену, — слабым голосом сказал раненый, — затем пытались добить меня ударом весла по голове и, наконец, едва мне удалось выйти на берег, прибегнули к кинжалу!
— Какая наглость! — воскликнул один из полисменов, — в двух шагах от нашего поста!
— Помогите мне дойти до дому, — продолжал граф, — моя рана несерьезна: удар пришелся вскользь по плечу…
— Мой экипаж к вашим услугам! — любезно вмешался чернокожий господин.
— Благодарю, я рад буду воспользоваться вашей любезностью! — ответил Оливье.
— Потрудитесь сообщить нам ваше имя и адрес, — обратился к графу один из полицейских, — мы обязаны составить донесение о случившемся!
— Граф Оливье Лорагюэ д'Антрэг, отель Лорагюэ на улице Сан-Доминик! — ответил молодой человек.
Чернокожий господин и оба полицейских почтительно поклонились графу.
— Я генеральный консул и уполномоченный министр республики Панама дон Хозе де Коррассон, — проговорил чернокожий джентльмен, — я весьма рад быть вам полезен в настоящем печальном случае, граф!
Полицейский поместился в экипаж подле раненого, чтобы поддержать его.
— Графу не нужны более ваши услуги, — высокомерно заметил иностранец, обращаясь к полицейскому, — я сам доставлю его до дома!
— Весьма сожалею, ваше превосходительство, что не могу поступить согласно вашему желанию, но мы не имеем права покинуть пострадавшего, пока не доставим его в дом или больницу, сдав с рук на руки родственникам! — отвечал полицейский.
— Да, это в том случае, когда пострадавший один, — настаивал дон Хосе.
— Но в данном случае…
— Во всяком случае, ваше превосходительство, так гласит наше предписание!
Настаивать далее не было никакой возможности, и чернокожий генерал замолчал.
Рана молодого графа была действительно пустячная, так как кинжал пропорол только верхнее и нижнее платье графа и едва царапнул плечо, а обморок был вызван скорее чрезмерным волнением, чем болью или потерей крови.
Подъехав к своему отелю, Оливье горячо поблагодарил панамского посланника за любезность и, вручив полицейскому свою карточку, попросил его не входить в дом, чтобы не встревожить старого графа своим неожиданным появлением. Потом Оливье вложил ключ в замок двери своего личного помещения и по маленькой боковой лестнице прошел к себе твердым, решительным шагом, как будто с ним ровно ничего не случилось.
Полицейский почтительно поклонился дону Хозе и сделал вид, что собирается удалиться. Но едва только успел отъехать экипаж панамского уполномоченного, как он тотчас же нагнал его и, уцепившись за задние рессоры, повис на них, бормоча про себя:
— Этот господин мне что-то подозрителен: он, видимо, сильно желал остаться один с графом… Да и вырос он со своим экипажем, точно из-под земли, как раз после трех последовательных покушений на жизнь этого молодого человека!.. Надо посмотреть, там будет видно!
Проехав площадь Согласия и Елисейские поля, немного не доезжая до Триумфальных ворот, экипаж свернул на улицу Тильзит и, не убавляя хода, вкатился в ворота богатого отеля, которые почти тотчас же захлопнулись за ним.
Полицейский едва успел соскочить: опоздай он всего хоть на одну секунду, он очутился бы во дворе отеля.
Заметив через дорогу винного торговца, собиравшегося закрывать свою лавочку, полисмен подошел к нему и, позевывая, небрежно осведомился, кто живет в этом роскошном отеле.
— Генерал дон Хозе де Коррассон, — сказал винный торговец, — панамский посланник.
— Спасибо, спокойной ночи, приятель!
— Спокойной ночи, — отозвался в свою очередь торговец, после чего Фролер — как звали полисмена, — бывший первоклассный сыщик, утративший свое положение из-за пьянства и переведенный в разряд рядовых городовых, медленно поплелся к своему посту.
Потеря его положения была для Фролера тяжким ударом, навсегда излечившим его от пьянства и заставившим его поклясться вернуть себе это положение и, даже более того, достичь почетного звания начальника сыскного отделения каким-нибудь блестящим делом.
Фролер денно и нощно помышлял о каком-нибудь таком деле; и каково бы ни было действительное положение черномазого генерала, но с этого дня он нажил себе такого соглядатая, который был опаснее всякого другого.
IX
Совещание. — Двойной смертный приговор.
Пройдя в свою комнату, Оливье поспешно переоделся, выпил немного коньяку для восстановления сил, и, когда вошел в комнату, где его ожидали друзья, никому бы и в голову не могло прийти, что с ним только что произошло несчастье.
В это время в отдаленном углу гостиной сидел чрезвычайно элегантный морской офицер, разглядывавший альбом. Он вошел без доклада и его присутствие вносило некоторое стеснение, тем более что он ни с кем не заговаривал и держался в стороне.
Предупрежденный о той бесцеремонности, с какой сюда явился этот моряк, Оливье прежде всего подошел к нему и спросил:
— Позвольте узнать, с кем имею честь говорить, и чему я обязан честью вашего посещения в такое неурочное время!
— Боже мой, да, я с вами согласен, теперь несколько поздно, — заметил гость, — но я слышал, что вы только что приехали из Австралии, и так как я собираюсь поехать туда, то желал бы получить от вас некоторые сведения относительно этой страны!
Оливье стоял в нерешимости, как отнестись к словам своего гостя, когда тот вдруг разразился громким хохотом.
— Не будем продолжать этой комедии! Я — Люс! Видите, капитан, вы проиграли пари! — обратился он к Джонатану Спайерсу, который держал пари, что узнает его под каким угодно костюмом.
— Да, честь вам и слава, господин Люс! — сказал капитан, — не подлежит сомнению, что при вашем таланте вы сумеете быть нам очень полезны!
Появление Люса в образе элегантного моряка являлось не только простой шуткой, но и необходимостью в глазах сыщика, который для того, чтобы отвлечь подозрение шпионов Невидимых, каждый раз являлся к графу под видом какого-нибудь другого лица.
Оливье рассказал со всеми подробностями о трех произведенных на него покушениях; друзья решили, что отныне он никогда не будет выходить из дома один, а только в сопровождении канадца и его верного Воан-Ваха, которые вызвались служить ему телохранителями.
— Париж опаснее австралийского буша! — меланхолически заметил старый траппер.
— И скрываться здесь гораздо легче! — добавил Люс.
Бедный канадец чувствовал себя здесь совершенно выбитым из колеи; он сознавал, что здесь он бесполезен в тяжелой борьбе с Невидимыми, — здесь, где сыщики и полицейские вполне заменяют ружье и револьвер; и старый траппер с нетерпением ждал, когда он очутится наконец среди русских широких степей, где снова почувствует себя вольной птицей полей и лесов.
— Итак, — проговорил Красный Капитан, — «человек в маске» здесь?
— Только он один мог задумать такое сложное покушение! — заметил Люс.
— Впрочем, — продолжал Оливье, — тот отрывок фразы, который я слышал под мостом, не оставляет никакого сомнения!
— Я не думаю, чтобы после вчерашней неудачи он еще долго остался в Париже, — сказал Люс, — к тому же Великий Совет, вероятно, спешит узнать от него все подробности событий, разыгравшихся в Австралии. С рассветом я предприму свой поход и вечером дам вам отчет о результатах моих наблюдений и поисков!
При этом Люс умолчал, что он решил проследить посланника Панамы, дона Хосе Коррассона, участие которого в печальных приключениях графа казалось ему подозрительным.
Между тем разговор невольно коснулся черного генерала.
— Мне он показался совершенным джентльменом и вполне порядочным человеком, — заметил Оливье, — и я завтра же лично поеду к нему отблагодарить его за его участие ко мне!
— Вы этого не сделаете, граф, — сказал Люс тоном, не допускающих возражений. И сыщик, не скрывая своих подозрений, решил высказать их собравшимся.
— А почему же нет? — спросил Оливье.
— Потому что я считаю это опасным для вас, может быть, даже для вашей жизни!
— Я вас не понимаю!
— Этот господин не внушает мне никакого доверия!
— Как? Только потому, что он поспешил ко мне на помощь?
— На помощь к вам поспешил не он, а те два полицейских; генерал же явился уже тогда, когда вам не грозила ни малейшая опасность!
— Но он поспешил на мой зов!
— Это он вам сказал?
— Не только сказал, но и доказал, так как очутился подле меня почти одновременно с полицейскими!
— А я все-таки продолжаю настаивать, граф, чтобы вы не ездили к дону Хосе Коррассону: вы еще не сознаете коварства и всей силы ваших врагов. Неужели вы забыли, при каких условиях мы с вами познакомились? Помните, агент, избранный вашим отцом и Лораном, приехавший в Мельбурн для того, чтобы охранять вас и ваши интересы, человек, к которому вы питаете полное доверие, оказывается одним из членов общества Невидимых! И после этого вы продолжаете еще быть доверчивым! Позвольте мне изложить вам факты так, как я их понимаю: «человек в маске» прибыл в Париж раньше вас и, зная, что вы должны приехать, заранее мастерски подготовляет вам ловушку: двое из его приверженцев следят за вами, третий вводит вас в заблуждение ложным маневром. Все прекрасно придумано. Но «человек в маске» дальновиден, он предвидит, что вы умеете плавать, и у него уже наготове лодка; он наносит вам удар веслом, чтобы обеспечить себе успех. Но и этого еще мало: он предвидит, что вы и на этот раз можете остаться живы и добраться до берега, поэтому и там держатся наготове люди, вооруженные кинжалами. Но ведь и кинжал может промахнуться; на этот случай готов мнимый спаситель и экипаж, который должен предложить свои услуги, чтобы довезти раненого до дома… При этом чем же, собственно, рискует этот услужливый человек? Ровно ничем! Полиция констатировала рану, имя и звание пострадавшего. Кому же может показаться странным, что вы умерли от нанесенной вам раны? А мнимый генерал дон Хосе Коррассон доставил бы труп в отель Лорагюэ. Разве это не гениально придумано?!
— Вы заставляете меня содрогаться, милый Люс, — сказал, улыбаясь, молодой граф, — но не смотрите ли вы на все на свете, как человек своей профессии? На таком же основании мне бы следовало подозревать и обоих полицейских!
— Да, если бы генерал спас вас помимо полицейских, как это сделали последние, спасшие вас от генерала; тогда и полицейские могли бы быть подосланными Невидимыми!
— У вас на все находится ответ!
В то время как Люс говорил, старый траппер слушал его, сочувственно кивая головой, что не ускользнуло от внимания сыщика, поспешившего воспользоваться этим союзником.
— Послушайте, граф, — продолжал он, — обратитесь хоть к господину Лефошеру, своему лучшему испытанному другу; пусть он выскажет вам свое мнение относительно этого генерала!
— Оливье не поедет к этому генералу! — воскликнул канадец твердым голосом.
— Как, и вы, Дик, того же мнения?
— Господин Люс прав, мой друг! Я, конечно, не отрицаю, что этот господин может быть и весьма порядочным, случайно подоспевшим к вам на помощь, но в том положении, в каком мы теперь находимся, вы должны никому и ничему не доверять!
— А если мы ошибаемся, то какого же мнения был бы обо мне этот господин, посланник Панамы, с которым я легко могу встретиться в обществе?!
— Ну, а если мы не ошибаемся, — возразил Дик с удивительной настойчивостью, — и если вы не выйдете из дома этого господина?! Помните, как мы в доме консула в Мельбурне были заманены в западню, устроенную для нас самим господином Люсом?!
— Кроме того, — проговорил Люс, — вы, граф, вовсе не обязаны нанести ему визит непременно завтра, особенно ввиду вашей раны; вы можете сделать это и спустя некоторое время! Так дайте же мне два дня срока, и я берусь доказать вам, что я не ошибаюсь!
— Охотно, — сказал молодой граф, — делайте то, что вы считаете нужным!
В этот момент Лоран, не присутствовавший при совещании, вошел и подал графу, бледный как смерть и дрожа всеми членами, большой конверт с печатью Невидимых, какие граф уже дважды получал при условиях, которых Лоран не мог никогда забыть.
— Кто принес это? — спросил Оливье.
— Не знаю! — отвечал дрожащим голосом несчастный Лоран.
— Полно, Лоран, успокойся и объясни мне!
— Я ничего не знаю, какими судьбами это письмо попало к нам в дом; оно, как и те два, лежало на маленьком столике у вашей постели!
Граф сломал печать и прочел вслух:
«Графу Оливье Лорагюэ д'Антрэгу!
Привет! Да примет Вас Бог в своем милосердии!
Мы, члены общества Невидимых, делегаты Верховного Совета, уполномоченные к выполнению его декретов, приговоров и предписаний, уведомляем графа Оливье Лорагюэ д'Антрэга, что приговором от 20 марта с.г., утвержденным Великим Невидимым, главою всех Невидимых, он приговорен к смерти. Приговор этот должен быть приведен в исполнение в течение трех суток с момента его объявления.
Дан в Париже, 28 марта… года в отель Лорагюэ в два часа утра.
Сергей Черняев, Петр Артамонов, Иван Ярославов».
При чтении этой бумаги невольный трепет пробежал по членам присутствующих.
Не успели, однако, они прийти в себя, как Том, глухонемой негр Красного Капитана, прибыл из отеля «Тремуаль» и вручил своему господину точно такой конверт, какой только что получил Оливье.
— Теперь и моя очередь, — проговорил Джонатан Спайерс.
Действительно, это был второй смертный приговор члену общества Невидимых Феодору, № 333, за государственную измену, как гласит документ, что составляло единственную разницу между приговором Оливье и Спайерса, так как в первом не была указана вина. Зато срок приведения приговора в исполнение был назначен тот же.
Тяжелое молчание царило в дружеском собрании, как вдруг раздался глухой, отдаленный голос, донесшийся, точно эхо, который медленно и отчетливо произнес: «Да свершится над вами суд Божий!»
X
Случай с Люсом. — Секретная комната. — Каким образом избавляются от шпионов.
Люс обитал в пятом этаже громадного дома, имеющего два хода, один — с Новой улицы Капуцинов, другой — с бульвара Капуцинов. Это обстоятельство и заставило Люса избрать этот дом для своего местопребывания: наблюдать за ходами и выходами жильцов такого громадного дома — дело очень трудное. В своем нормальном виде Люс всегда выходил на бульвар; переряженным же покидал дом не иначе, как через улицу Капуцинов. Кроме того, под предлогом, что его собственная маленькая квартирка мала, Люс нанял в другом конце дома две комнатки, выходившие окнами на другую улицу; благодаря этой комбинации ловкий сыщик имел возможность, не выходя из дома, наблюдать за бульваром Капуцинов на протяжении от храма Магдалины до улицы Мира, а также и за большей частью улицы Капуцинов. В доме же он слыл за чиновника в отставке, занимающегося в настоящее время изобретением фотографии. Его знал в лицо только привратник со стороны бульвара, принимавший от него плату за наем помещения; привратник же со стороны улицы Капуцинов никогда не видал его иначе, как только переряженным, и принимал за случайного посетителя кого-нибудь из жильцов.
Не раз ради забавы Люс приходил загримированный к привратнику с улицы Капуцинов и спрашивал господина Люса, причем неизменно получал в ответ: «Не знаю такого!» Затем отправлялся к привратнику со стороны бульвара и получал в ответ: «Подъезд В на пятом этаже, дверь направо».
Небольшая квартирка Люса, обставленная с известной элегантностью, не отличалась ничем особенным, и любой сыщик мог бы перерыть ее до основания, не найдя ничего подозрительного. Люсу прислуживал негр, привезенный им из Алжира, а домом заведовала пожилая домоправительница. Но ни тот, ни другая не знали о существовании отдельного помещения в том же доме, занимаемого их господином, где последний и находился в данный момент, занятый полнейшим преображением своей особы. После серьезного совещания, только что состоявшегося в доме графа д'Антрэга, где были приняты самые серьезные решения, Люс поспешно вернулся домой.
Положение его было в настоящее время весьма серьезное, о чем он, однако, не счел нужным сообщать своим друзьям, так как они ничем не могли помочь ему в данном случае.
Дело в том, что несколько лет тому назад он принужден был выйти в отставку вследствие одного таинственного дела, оставшегося неизвестным для публики. Но, отказавшись от его услуг, по распоряжению свыше полицейская префектура назначила ему высший размер пенсии, предупредив, что если когда-нибудь у него вырвется неосторожное слово или раскроется, что у него сохранились какие-нибудь важные документы касательно этого дела, то он не только лишится пенсии, но и поплатится несколькими годами пребывания в Гвиане или Новой Каледонии, на каторге.
Теперь обстоятельный донос, присланный кем-то в префектуру, обвинял его в том, что у него сохранились и припрятаны в надежном месте не только важные документы, но и копия всего таинственного дела, — копия, снятая по его приказанию в одну ночь его личным секретарем. Если роковая копия действительно существовала, ею хотели овладеть во что бы то ни стало; но так как Люса не считали достаточно наивным, чтобы он держал ее у себя, то его выслеживали вот уже несколько дней, желая убедиться, не имеет ли он где-нибудь в Париже другой квартиры, снятой им на чужое имя.
Люс сразу же заметил, что за ним следят, и, поспешно вернувшись домой, принялся внимательно изучать тех двух сыщиков, которые были приставлены к его особе, один для дневных, другой — для ночных наблюдений.
— Ого, — воскликнул он, — им приказано не упускать меня из виду, это не шутка!
Другой, какой-нибудь новичок, на его месте просто-напросто, вернувшись к себе, прошел бы в потайную комнату и стал бы выходить из дому не иначе, как переряженным и загримированным, но Люс знал, что однообразные донесения агентов утром и вечером: «Не выходил из дому» в течение нескольких дней подряд — неминуемо навлекут на этот дом внимание всей парижской полиции, причем возможно, что существование таинственного помещения будет открыто; поэтому он решил поступить иначе. Однажды днем он вышел из своего подъезда на бульвар с чемоданом и ночным саком в руке и, подозвав экипаж, приказал везти себя на Лионский вокзал. У кассы он заметил стоявшего за его спиной сыщика, взявшего билет на ту же станцию.
Получив билет, Люс прошел в буфет и потребовал себе кое-какой закуски, причем, кстати, поручил слуге взять себе второй билет до Мэзон-Альфора, который тот принес ему вместе со сдачей за закуску.
Заметив, что агент, следивший за ним, на каждой станции высовывается из окна, следя за входящими и выходящими пассажирами, Люс дождался ночи и на узловой станции, где его поезд скрещивался с поездом, идущим в Париж, смешавшись с толпой пассажиров, с одним саком в руке пересел на этот поезд, предоставив агенту спокойно ехать дальше.
Когда он уезжал из дому с сундуком и саквояжем, домоправительница почтительно осведомилась:
— Барин отправляется в дорогу?
— Да, я уезжаю на некоторое время!
— А если вас будут спрашивать?
— Скажите, что я уехал в Азию! — И Люс, довольный, потирал себе руки, мысленно говоря: «если они станут расспрашивать ее, то увидят, что я смеюсь над ними… Эх, господа префекты, вы думаете провести меня! Это не так-то легко!»
Вернувшись в Париж, он, миновав свой настоящий подъезд, прошел прямо в свое тайное помещение, где и поселился, выходя не иначе, как под гримом, и внутренне посмеиваясь над агентами, неотступно караулившими его возвращение со стороны бульвара. Агент, поехавший было за Люсом, вернулся пристыженный и должен был выслушать от своего начальника много нелестных эпитетов по своему адресу.
Поняв, что Люсу известно, что за ним следят, в префектуре тотчас же распорядились отрядить для наблюдения за ним лучшие силы сыска, но Люс не возвращался. Прошло с неделю времени, и тогда было предписано опытному агенту под видом знакомого справиться у привратника и на квартире.
— Уехал в Азию! — передал агент полученный им ответ.
После этого розыски Люса были поручены двум выдающимся агентам, которые приберегаются для дел первейшей важности.
Прошло около двух недель; агенты сменялись аккуратно и днем, и ночью, поклявшись не покидать поста, пока не вернется Люс.
Между тем Люс покатывался со смеху, ежедневно проходя мимо них и отправляясь по своим делам под различным гримом или возвращаясь в свою потайную комнату переодеться и переночевать.
Комната эта была завалена всевозможными фотографическими принадлежностями; имелась и темная комнатка, как бы фотографическая лаборатория, а в сущности, там помещались кровать и три сундука со всевозможным платьем и соответствующими головными уборами. Париками Люс никогда не пользовался, а заменял их краской и разнообразными прическами.
В тот момент, когда мы проникаем в эту таинственную комнату, Люс был занят преобразованием своей наружности в личность кучера богатого дома в отпуску.
Окончив свой туалет, он самодовольно оглядел себя в большое настенное зеркало и в ожидании момента начала действий пошел обедать в дешевую столовую Пале-Рояля.
Что делало Люса особенно гениальным артистом, — это его непринужденность манер, какую бы роль он ни принимал на себя: переодевшись рабочим, он делался типичным блузником; приняв роль офицера, казался настоящим военным и т.п.
На совещании у графа д'Антрэга, Люсу поручили открыть, где скрывались те три лица, уполномоченные Советом Невидимых, которые имели смелость подписаться в ожидании удобного момента для приведения в исполнение приговора.
В первый момент Оливье желал поручить Люсу прежде всего раскрыть тайну необъяснимого появления рокового конверта и странного невидимого голоса, повторившего часть смертного приговора. Но Люс, с присущим ему практическим смыслом, сказал:
— Это, в сущности, не имеет особого значения, принимая во внимание опасность, грозящую вашей жизни и жизни капитана. До последнего времени представители общества Невидимых получали предписание «овладеть вашей особой»; позднее им было предписано — захватить вас «живым или мертвым», но прямого смертного приговора еще не было. Из этого видно, что Невидимые поступают последовательно, что этот приговор не имеет ничего общего с запугиванием и что те трое русских, которым поручено его исполнение, не вернутся в Россию, не приведя в исполнение приговора, если только сами не погибнут. Вот что главное, а остальное сравнительно неважно! Ваш дом, граф, соприкасается левой стороной с обыкновенным домом для мелких квартирантов; в одной из квартир его легко могли поселиться уполномоченные Невидимых. Ваши камины и прямые трубы их так обширны, что в них свободно мог бы поместиться не один, а целых три человека; весьма возможно, что через трубы каминов проникали в дом эти Невидимые и из тех же каминов или трубы доносился до нас и таинственный голос. Но это неважно в настоящее время; важно открыть местопребывание ваших будущих палачей и предупредить их; против них нет иных средств, кроме револьвера и кинжала. Первую часть задачи я охотно принимаю на себя; что же касается второй, то участие всех вас в этом деле не будет лишним, так как, без сомнения, избранные Невидимыми палачи — люди ловкие и решительные.
— Сему доказательством могут служить сегодняшние три последовательных покушения! — заметил Красный Капитан.
— Не смешивайте двух разных вещей, капитан, — возразил Люс, — я убежден, что трое уполномоченных Невидимых, подписавшие приговор, совершенно непричастны к вчерашним покушениям, в которых я вижу руку «человека в маске», действующего под влиянием личной мести!
— В настоящем положении нам остается только следовать вашим указаниям! Говорите, что нужно нам делать?
— Я того мнения, что вам нельзя оставаться здесь, сюда легко могут проникнуть враги. Позвольте мне предложить вам на некоторое время убежище, где я могу поручиться, что никто не найдет вас, если только не увидит вас входящим!
— И это убежище…
— У меня, я лучшего не знаю! Это — добавление к моей квартире, которого не знают даже мои слуги. Я живу в этом маленьком помещении вот уже две недели, в 10 саженях от своих слуг, и они не подозревают этого, находясь в полной уверенности, что я нахожусь в отсутствии.
Предложение было принято. Теперь Люсу оставалось провести молодого графа, Дика и Красного Капитана в свое секретное помещение.
Лоран, Литльстон, негр Том и Воан-Вах, жизни которых не грозила опасность, должны были остаться в отеле «Премуаль», так как присутствие пяти лишних человек в маленьком помещении улицы Капуцинов могло только навлечь подозрение.
Люс, пообедав, нанял закрытый экипаж и приказал отвести себя в отель Лорагюэ. Какой-то подозрительного вида человек бродил вокруг. Люс его заметил, но нельзя было терять времени. Он поспешно усадил трех приятелей и, сев вместе с ними в карету, приказал кучеру везти в Булонский лес.
— Видно, свадьбу празднуете! — заметил возница, принимая Люса за кучера.
— Угадал, — сказал сыщик, — валяй вскачь: получишь на дай.
Кучер хлопнул бичом и помчался во весь опор, желая прокатить на славу своего собрата.
Через заднее маленькое стекло кареты Люс, предусмотрительно заглянувший в него, увидел подозрительного человека, кинувшегося следом за их каретой и повисшего на его задней оси.
Поняв всю опасность этого преследования, Люс подал кучеру звонок остановки и в то же время, разом распахнув дверцу, проворно выскочил на землю. В тот же момент и субъект, висевший на оси, соскочил и очутился лицом к лицу с Люсом, который, не задумываясь ни на минуту, ударил неизвестного человека изо всей силы головой в живот, так что тот покатился на землю с помутившимся взглядом.
Люс одним прыжком вскочил на козлы подле возницы, крикнув ему:
— Ступай во весь опор!
— Кто этот парень? — спросил возница.
— Сыщик, — отвечал Люс, — я вчера подгулял и переехал какого-то гражданина, а городовой не успел записать мой нумер!
— Эге, а я-то думал, что ты господский! — заметил извозчик.
— Я и был господским, да уж больно мало свободы; так я и поступил в извозчики. Тут со мной получилась беда, и мне навязали на шею этого сыщика, который нащупал меня как раз, когда я заехал за своими друзьями, чтобы погулять с ними!
— Так ты его теперь как следует попотчевал, — продолжал извозчик, — не беспокойся, ему нас вовек не догнать, увидишь! — И он сильным ударом хлыста погнал лошадь во весь опор. Приподнявшись на козлах, Люс через крышу кареты взглянул назад: человек, опрокинутый им на землю, уже вскочил на ноги и бежал за каретой с невероятной быстротой.
Но извозчик был задет за живое: как не выручить товарища, задавившего гражданина и оттузившего сыщика! И добродушный возница принялся без устали нахлестывать свою лошадь.
Сначала человек, бежавший чрезвычайно быстро, как будто стал нагонять карету, но лошадь, постепенно разгоряченная бегом и ударами хлыста, неслась все быстрее и быстрее, и вскоре гнавшийся за ними человек стал отставать, наконец совершенно отказался от погони, а экипаж продолжал мчаться с той же быстротой до Елисейских полей.
— Ну, а теперь сверни на бульвар, — сказал Люс, — ведь он слышал, когда я тебе крикнул «в Булонский лес» и, вероятно, сгонит туда половину своей бригады!
Доехав до церкви Св. Магдалины, Люс остановил экипаж и, сунув вознице в руку десятифранковую монету, соскочил с козел, высадил своих товарищей, и все четверо зашагали пешком по направлению к улице Капуцинов.
И было как раз вовремя. Выбившийся из сил незнакомец вскочил в первую извозчичью пролетку и погнался за каретой; он видел, как та завернула за угол улицы Руайяль и бульвара, но, доехав до этого места, уже ничего не увидел: карета, за которой он гнался, успела стать в ряды других экипажей ближайшей извозчичьей биржи, и хотя преследовавший наших друзей шпион и узнал ее по сильно взмыленной лошади, но что из того: те, кого он хотел выследить, не сидели более в ней.
Люс и его три спутника беспрепятственно прошли мимо привратника многоэтажного дома в улице Капуцинов, не обратив на себя его внимания, и спустя несколько секунд были уже в полной безопасности в зеленой комнате.
Облекшись в кучерскую куртку и взяв корзину, Люс вышел за провиантом; вскоре он вернулся с хлебом, вином, ветчиной, холодным мясом и кое-какими плодами.
— Я вас очень прошу, граф, и вас, господа, не выходить из дому до моего возвращения, — проговорил он, — бывают случаи, когда личная смелость не только бесполезна, но даже и опасна. Вы видите, что, если бы я просто назначил нам место свидания, вы бы уже были теперь пойманы в западню. Если бы вы послали Лорана за каретой, то он, наверное, напал бы на карету, возница которой провез бы вас в какой-нибудь закоулок, и, быть может, в этот момент приговор Невидимых был бы уже приведен в исполнение!
— Будьте спокойны, — сказал канадец, — никто из нас не тронется с места, пока вы не явитесь сами — освободить нас!
— Но не можем ли мы помочь вам в ваших делах, господин Люс? Трое смелых людей, решившихся дорого продать свою жизнь, могут сделать многое.
— Да, если бы нужно было открыто вступить в бой, я бы не задумался прибегнуть к вашей помощи, но теперь дело вовсе не в этом, и ваше присутствие только бы помешало моим поискам. Четыре человека нигде не могут пройти незаметно, тогда как один опытный человек, знакомый с ремеслом сыщика, может не возбудить ничьего внимания. Мне надо разыскать в громадном Париже трех человек, которых я не знаю ни в лицо, ни по именам, так как имена на подписи, очевидно, ложные, чтобы ввести вас в заблуждение, или же если имена эти не вымышлены, то трое лиц, разыскиваемых нами, живут здесь под другими именами, принятыми ими для того, чтобы сбить нас с толку. Таким образом, я должен отыскать этих людей, не имея к тому ни малейшего указания! Так как же вы, друзья, можете помочь мне в этом, не будучи подготовлены к трудному ремеслу сыщика ни вашей прежней жизнью, ни вашим воспитанием?!
— Господин Люс безусловно прав, — проговорил Красный Капитан, — и мое мнение, что если мы не последуем в точности его предписанию, то сами подставим шеи под нож.
Как ни претила молодому графу мысль прятаться, как жалкий трус, однако ему пришлось подчиниться единодушному мнению товарищей. Из опасения быть узнанным человеком, гнавшимся за каретой, Люс из предосторожности счел нужным перегримироваться и через десять минут преобразился в булочника.
Покончив со своим туалетом, он настоятельно рекомендовал своим пленникам никому не отпирать ни под каким предлогом в его отсутствие дверь и, пожелав им спокойной ночи, удалился.
Его прежде всего занимала мысль, кто такой черный панамский посланник и не имеет ли он отношения к Невидимым.
С целью узнать адрес черного генерала Люс зашел в первое попавшееся кафе и, взяв газету, отыскал список лиц дипломатического корпуса; под рубрикой «Центральная Америка» он прочел: «Дон Хосе де Коррассон, уполномоченный министр Республики Панама, улица Тильзит, № 14».
— Это уже кое-что, — пробормотал сыщик, — значит, он не обманул нас относительно своего звания и имени.
Но вдруг у него явилась мысль, заставившая его нахмуриться.
«Это, пожалуй, скорее подтверждает мнение графа, что он имел дело с порядочным человеком, чем мое, что это ловкий и хитрый сообщник Невидимых. Во всяком случае, посмотрим!» — еще раз сказал мысленно Люс и направился в улицу Тильзит.
XI
Два сыщика.
Не торопясь подходя к углу улицы Фридганской и Тильзит, Люс бросил беглый взгляд на отель, занимаемый доном Хозе.
— Черт побери! Уж, конечно, не на жалованье панамского уполномоченного можно занимать такой грандиозный дворец!
Действительно, этот дворец, построенный каким-то низложенным государем, сохранившим свою казну, отличался сказочной роскошью. Но едва только это чудо современного архитектурного искусства было достроено, как обездоленный властелин переселился в лучший из миров, и тогда грандиозный дворец, который бесчисленные маленькие германские князьки, являвшиеся наследниками, не могли разделить на куски, был продан по распоряжению властей и приобретен одним поверенным для какого-то таинственного клиента.
Вскоре после того в этом дворце поселился дон Хосе и вывесил над его порталом герб Республики Панама.
Все это в несколько минут узнал Люс от виноторговца на углу улицы, к которому зашел выпить стаканчик вина. Но, разговорившись с торговцем, Люсу показалось, что этому человеку известно больше, чем он желает сказать; он решил повыспросить его. Это было нетрудно; заказав две бутылки хорошего шабли, он пригласил продавца распить с ним стаканчик-другой, отчего эти господа никогда не отказываются, так как это поощряет посетителей раскошеливаться и способствует преуспеванию их торговли.
— Вы, как вижу, работаете в булочной? — спросил виноторговец Люса.
— А по чему вы это видите?
— Просто по навыку; знаете, глаз наметался распознавать всякого рода людей.
— Правда, — отвечал Люс, — я булочник по ремеслу, но мне знакомо и пирожное дело, и, если бы нашлось подходящее местечко где-нибудь в богатом доме, где бы требовался пирожник, я бы с радостью поступил. Понимаете, работать в булочной по ночам — куда ни шло, пока человек молод, а всю жизнь месить тесто и ходить у печи не так-то весело!
— А ведь это, право, счастливая мысль!
— Вы не знаете, не нашлось ли бы мне работы у этого самого вашего генерала… Кор… Корр… как вы его называли?
— Дон Хозе де Коррассон!
— Вот, вот… Как вы думаете?
— Что же… дружок… генерал любит хорошо покушать, да и господин Иван тоже не прочь отведать вкусного блюда.
Услыхав имя Иван, Люс чуть не вздрогнул от радости, но вовремя сдержался.
— Что это за господин Ив…ан? — спросил он безучастно.
— Не Ив-ан, — засмеялся торговец. — Иван, говорю тебе, Иван. Ты, верно, никогда не слыхал такого имени? Это имя иностранное!
— Так кто же этот господин Иван?
— Это близкий приятель генерала; они никогда не расстаются и живут душа в душу; господин Иван заведует всем в доме, нанимает служащих, платит по счетам, выбирает поставщиков; я им поставляю вино на кухню и служащих… и поверишь ли, зарабатываю у них по полутораста франков в месяц и более!
— Значит, семейство в доме большое?
— Нет, всего только двое господ, а челяди человек тридцать, и мне приказано отпускать им вина и водки, сколько только потребуют. Ты не поверишь, сколько эти люди могут выпить… водку они дуют, как воду; за последний месяц они выпили одной водки на две тысячи франков: видно, у них дома, на родине, люди пьют больше водки, чем у нас скотина воды!
— Так они не французы разве?
— Вот выдумал, французы! Французы только повар да поварята, а то все иностранцы, и имена их оканчиваются все на «ов», да на «ин», да на «ский», право, не сразу и выговоришь!
Люс был в восхищении: он сразу понял, что напал на самое гнездо Невидимых. Что мог тут делать какой-то Иван и вся эта орава русских у этого черномазого генерала, представителя крошечной Республики Панама? Очевидно, генерал был не более как субъект для отвода глаз, наемник тех же Невидимых, которым было необходимо в Париже надежное, недоступное убежище. Но каким образом он, Люс, состоящий членом общества Невидимых, не знал об этом? Это было весьма просто: ведь он не был русский, те не могли всецело ему довериться.
Пока Люс соображал все это, словоохотливый виноторговец продолжал разглагольствовать.
— А если бы ты видел их рожи: настоящие разбойники… Они иногда заходят ко мне сюда вечерком выпить стаканчик-другой. Хорошо еще, что они живут в таком доме, у посланника Его Величества короля Панамы…
— Как, Его Величества короля Панамы?
— Ну да! Ты, вижу, несилен в географии, приятель! Это же король Америки; у них деньги счета не знают… И хотя они курносые, волосатые, бородатые, так что взглянуть страшно, но тихие и смирные, как овечки.
— Уж больно любопытно вы рассказываете про них, мне смерть хочется попасть на службу в этот дом!..
— А насчет мороженого ты мастер?
— Все, что по кондитерской части, хорошо знакомо мне!
— Ну так я тебя устрою… Я завтра же поговорю с господином Флорестаном, старшим поваром; он на кухне полный хозяин.
— А нельзя ли повидать его сегодня?
— Невозможно: после десяти вечера все французы уходят. Как видно, эти люди хотят по вечерам и на ночь оставаться одни…
— Как? Что вы хотите этим сказать?
— А вот что… После десяти, когда все французы уйдут, там творится такое, чего никто не видел, и я тоже не видел…
Виноторговец заметно начинал хмелеть, так как Люс, пользуясь каждый раз обязательными отлучками своего собеседника, выливал содержимое своего стакана обратно в пуншевую чашу и таким образом споил хозяину чуть не обе бутылки шабли.
— Ну, и что же там делается? — спросил Люс с вполне естественным любопытством.
— Я, видишь ли, ничего не видал, но слыхал… Ведь недаром же у человека уши… Знаешь, они там по ночам, вплоть до утра, хохочут, кричат и поют, а огня не зажигают в целом доме… А иногда и ссорятся, и кричат, как бешеные, и, вероятно, дерутся или борются, потому что слышатся вопли и стоны, точно кого-то мучат или истязают!
— А полиция не вмешивается?
— Ты забываешь, что это дом посланника! Сюда полиция не смеет и носа сунуть… Кроме того, я, уж так и быть, скажу тебе, ведь никто ничего не знает… Это я только слышу: мои потреба тянутся до самого их дома и смежны с их подвалами; нас разделяет всего только одна стена. Но во дворце об этом, вероятно, не знают, а то бы… Но там, наверное, совершаются недобрые дела!..
Торговец хмелел все сильнее и сильнее, и язык его становился все развязнее…
— Знаешь, я не раз видел, как ночью какие-то люди крадучись пробираются вдоль стены и не стучат, не звонят у калитки, которая как будто сама открывается перед ними… Раз даже, в собачью погоду, они приехали четверо в крытой карете, и я видел, как они вытащили из кареты связанного и скрученного человека, который бился, как рыба на суше, и я услышал, как один из несших его сказал: «Сдавите ему горло посильнее, если он не хочет держаться смирно!» Я чуть не лишился сознания… у меня холодный пот выступил на лбу… Генерал и господин Иван иногда выезжают вечером, закутанные в большие темные плащи, и дня по два — по три не возвращаются домой; тогда говорят, что они уехали на охоту… Ну, что ты на это скажешь? Только смотри, не вздумай болтать об этом… Ты меня лишишь моих лучших покупателей… Мне, быть может, не следовало говорить тебе всего этого, но у меня оно камнем лежало на сердце… Понимаешь, мне надо было перед кем-нибудь облегчить свою душу…
Но Люс уже только одним ухом слушал своего собеседника: его внимание было привлечено человеком, прохаживавшимся взад и вперед перед домом генерала.
«Ого, — подумал сыщик, — уж не разнюхала ли чего-нибудь полиция!»
В этот момент свет фонаря упал прямо на лицо незнакомца, и Люс сразу узнал агента Фролера.
«Эге, он снова поступил на службу, а я слышал, что его отчислили за пьянство… Он, наверное, явится сюда, чтобы выведать что-нибудь от виноторговца. Но погоди, я подстрою тебе штучку!» — мысленно рассуждал Люс.
— Знаете вы этого человека? — спросил он, указывая своему собеседнику на Фролера.
— Нет, я вижу его в первый раз!
— Ну так я вам скажу, кто он! Это сыщик, остерегайтесь его; он, наверное, придет сюда и постарается выведать у вас что-нибудь, а затем передаст все, что вы ему скажете, и вы потеряете своих покупателей. Я его знаю!
— В таком случае ни гу-гу!.. Сомкну рот, точно он у меня на запоре!..
— Я предупредил вас, а остальное уж ваше дело… Прощайте, хозяин… Мне пора идти.
— Так ты рассчитывай на меня; заходи завтра поутру; я тебе схлопочу место!..
— Благодарю на добром слове!..
Люс вышел и с порога лавки еще раз взглянул на человека, прохаживавшегося по улице.
— Это, несомненно, Фролер! Но что он делает здесь?.. Я это непременно узнаю…
С этими словами он прошел на улицу Фридланд и, сев там на скамеечку, продолжал наблюдать за всем происходящим на улице Тильзит, совершенно пустынной и безлюдной в это время.
Спустя несколько минут Фролер вошел к винному торговцу и, выдавая себя тоже за собрата, торгующего напитками, думал втянуть торговца в разговоры. Но последний, предупрежденный заранее, упорно отказывался от всякой интимной беседы. Видя, что намерение его не удается, Фролер вышел из лавки как бы под впечатлением новой мелькнувшей у него мысли и направился в улицу Фридланд, к той самой скамейке, где сидел Люс, делая вид, что он задремал.
Подойдя к нему, Фролер вдруг неожиданно выпалил:
— Нехорошо, патрон, бегать по следу бедняка ищейки…
Люс разом вскочил на ноги.
— Тихо! Как ты меня узнал?
— Мне ли не узнать моего старого начальника и учителя?! Ведь я целых четыре года работал у вас! Мог ли я вас забыть?! Да и то сказать: я не столько узнал вас, как действовал просто наугад… Я видел в окошко, что вы не пили, а только поили виноторговца, и сразу заподозрил в этом что-то неладное: а так как я знаю в лицо всю вашу бригаду, то подумал, что это могли быть только вы, и рискнул наугад. Как видите, хитрость моя удалась.
— Только потому, что я давно уже узнал тебя и что мне пришло на ум, что ты можешь пригодиться мне. Кто прислал тебя сюда?
— Никто! Ведь я все еще в городской полиции… проклятая служба: ни радости, ни свободы, ни наград…
— Так что же ты здесь делаешь?
— Я работаю на свой собственный страх!
— Ты выслеживаешь Коррассона?
— Именно!
— Зачем?
— О, это целая история…
— Расскажи ее по правде: это может дать тебе целое состояние!
— Состояние?!
— Да, сто тысяч франков!
— Сто тысяч франков?!
— Да, и ты их получишь через три дня, а 28 тысяч задатка сейчас же, если хочешь.
— Говорите, что надо делать… Я готов идти в огонь и в воду, чтобы заработать такие деньги!
— Надо работать для меня, — сказал Люс, — но прежде всего расскажи мне твою историю да не пытайся провести меня; ты знаешь, что из этого ничего не выйдет!
Фролер принялся рассказывать по порядку: вчерашнее покушение, и его подозрения относительно черного генерала, и намерение снова выдвинуться благодаря этому делу.
— Да, я знаю про этот случай, — сказал Люс, обрадованный тем, что и Фролеру черный генерал показался сомнительным, — я друг молодого графа и здесь для того, чтобы спасти его…
— Можете вполне рассчитывать на меня, патрон!..
— Слушай, с этой минуты ты будешь работать для меня! Я полагаю, что сегодня ночью мы дело это не кончим, и потому ты завтра поутру, явившись к своему начальству, испросишь себе двухнедельный отпуск для получения наследства в провинции; тебя сейчас же отпустят, и тогда ты явишься ко мне в условное место, которое я назначу тебе!
— Уж не просить ли мне чистой отставки?
— Упаси Бог! Для меня особенно важно, чтобы ты оставался на службе: может быть, твое вмешательство как агента полицейской власти для меня явится особенно ценным. Весьма возможно, что придется кого-нибудь арестовать. Не забудь иметь при себе все время бляху, а когда наше дело будет кончено, можешь делать, что тебе угодно. Как видишь, я тебе вполне доверяю, — сказал Люс, — иначе твоя песенка была бы уже спета сегодня!
— Вы можете вполне положиться на меня, патрон… Уж вас-то я бы не стал обманывать.
— Ну, теперь становись наблюдать, только не здесь, у самой стены дома, а там, в конце улицы Тильзит, а я останусь на этой скамейке. Если кто-либо выйдет из дома и я последую за ним, то ты иди за мной следом на таком расстоянии, чтобы я мог тебя позвать, но так, чтобы тебя не могли заметить.
— Слушаю, патрон!
— А теперь ступай; мне больше нечего тебе сказать; надо выжидать ход событий!
Пять минут спустя оба находились на своих местах: Люс — в качестве булочника, спокойно отдыхающего на одной из скамеек, а Фролер, засунувший свою фуражку в карман, стоял, как лавочник у дверей своей лавчонки, равнодушно покуривающий свою трубку перед отходом ко сну.
XII
Притон на Монмартре. — Негр Сэм. — Г-н Иван. — Тайна «человека в маске». — Заживо погребенный. — Таинственная месть.
Люс предчувствовал, что эта ночь не пройдет без особых событий. У него не оставалось никаких сомнений относительно истинного назначения великолепного отеля на улице Тильзит: это было, очевидно, место собраний Невидимых в Париже, а дом Хосе де Коррассона служил только прикрытием для них. Конечно, здесь собирались, совещались и останавливались только высшие члены Невидимых, наемные же убийцы и другая мелкая сошка, услугами которой они пользовались, должны были собираться где-нибудь в другом месте. Быть может, при каких-нибудь исключительных обстоятельствах могла разыграться кровавая драма и в стенах дома, украшенного гербом Панамы, но постоянный приток подонков общества в этот великолепный дворец неминуемо должен был навлечь на него подозрение и вызвать вмешательство полиции, что, конечно, было крайне нежелательно.
Таким образом, притон, в котором готовились «люди дела», то есть исполнители страшных дел, был не здесь. Для сношений с ними главари, не имея возможности принимать их у себя, не возбуждая подозрения, должны были видеться с ними в другом месте; этим объяснялись временные отсутствия хозяев из дома на улице Тильзит.
Так как со времени вручения приговора графу и капитану прошли уже целые сутки, то настоящая ночь не могла пройти без того, чтобы между Невидимыми не произошло известного обмена сношений по поводу дела графа: в распоряжении их оставалось всего только два дня.
Действительно, незадолго до полуночи маленькая служебная калитка в стене осторожно отворилась, и вышедшие оттуда двое мужчин, окинув внимательным взглядом улицу, пошли шагом прогуливающихся по направлению к улице Фридланд.
Люс, завидев их издали, лег на скамейку и, закрыв лицо руками, притворился спящим; гуляющие прошли мимо него, не торопясь и разговаривая на иностранном языке, не обратив на сыщика никакого внимания; а в это время последний, между раздвинутыми пальцами рук, жадно разглядывал их. Один из них, рослый, прекрасно сложенный человек, был не кто иной, как генерал дон Хосе де Коррассон, и Люсу его лицо почему-то показалось знакомым, как будто он видел его уже не в первый раз, но для европейца все негры кажутся похожими между собой; другого же Люс узнал с первого взгляда; это был пресловутый «человек в маске», Иванович, или, как его называли здесь, в Париже, господин Иван.
Дав им отойти на сотню шагов и убедившись, что на этой безлюдной улице он никаким образом не потеряет их из виду, Люс поднялся со скамейки и последовал за ними. Фролер с своей стороны сделал то же самое.
«А-а… Иванович, вы еще здесь, это может вам дорого обойтись! — рассуждал мысленно Люс. — После вашей вчерашней неудачной попытки, вам следовало тотчас же сесть в поезд и катить в Петербург, предоставив другим привести в исполнение приговор Невидимых. Но нет, вы пожелали насладиться своей местью; вы успокоитесь лишь тогда, когда увидите труп вашего врага… Я понимаю вас, но на этот раз мы позаботимся о том, чтобы вы не могли сбежать!»
Вскоре дон Хосе и Иванович зашагали быстрее; миновав бульвар Гаусманн и Мальнерб, они на мгновение приостановились на углу улицы Дю Рошэ, где к ним тотчас же присоединился третий товарищ, низенький, толстый, сутуловатый, после чего они все трое вместе продолжали свой путь и, наконец, добрались до улицы Лепик. Приостановившись здесь, они в течение нескольких секунд высматривали, нет ли поблизости кого постороннего, затем поспешно двинулись с озабоченным видом по улице; достигнув самой вершины холма, они свернули налево в маленькую аллею, совершенно безлюдную, оканчивающуюся тупиком и прегражденную высоким дощатым забором, в котором была проделана калитка. Здесь-то и скрылись теперь всё трое, тщательно заперев за собой калитку.
За время своей полицейской деятельности Люс исходил все уголки Парижа, и топография данной местности была ему также давно знакома.
— Превосходно, — пробормотал он, — они сняли или купили «дом повешенных»! Значит, у нас есть время обсудить положение!
Он выждал, пока подойдет Фролер.
В глубине ограды, на самом скате Монмартрского холма, стоял дом, куда вошли трое Невидимых. Дом этот во всем околотке был известен под именем «дома повешенных», потому что когда-то трое живших в нем жильцов повесились один за другим, и с того времени этот дом, не находивший больше нанимателей, получил название «дома повешенных».
— Ну что? — спросил Фролер, подкравшись к своему начальнику.
— Они здесь, — сказал Люс, — я знаю этот дом; другого выхода нет. Но надо дать им время войти в дом, чтобы потом пробраться туда вслед за ними!
Ночь была темная и бурная; дул сильный ветер.
— Это хорошо, — заметил Люс, — ведь если они нас услышат или заметят, то нам не выбраться из этой ограды живыми! Надеюсь, ты имеешь при себе оружие?
— Да, казенный револьвер и каталонский нож, надежнейшая штучка!
— Это не будет лишним; ведь мы не знаем, сколько их там, ты не боишься?
Старый сыщик только усмехнулся.
— Пощупайте мой пульс, патрон, — сказал он, — разве он учащенно бьется?
— Нет, нет… Я знаю, ты не трус; иначе я не принял бы твоего содействия! Только бы их не было более трех против одного! А с двумя-тремя мы, даст Бог, справимся!
Оба сыщика подошли к ограде.
— Что, нам придется перелезать через нее? — спросил Фролер.
— Нет, у меня с собой моя связка отмычек! — заметил Люс.
Отворив дверь, он только притворил ее, но повернул ключ в замке.
— Вы запираете дверь? — спросил Фролер.
— Нет, я только замыкаю замок на случай, если кто-нибудь после нас придет, чтобы он мог подумать, что дверь была закрыта небрежно, а не оставлена открытой: надо все предвидеть; замкнуть же дверь опасно на случай, если нам с тобой придется бежать!
Войдя в ограду, они очутились в запущенном саду, почти сплошь заросшем кустарником, сорной травой и бурьяном. В глубине сада стоял дом, темные очертания которого вырисовывались на темном фоне неба; окна первого этажа, ярко освещаемые, смотрели, точно волчьи глаза во мраке ночи.
Оба сыщика подвигались осторожно вперед, сдерживая дыхание и подавляя шум своих шагов на случай, если кто-нибудь был оставлен на страже у входа. Но вот они дошли до ровной, гладкой площади, где не было ни кустов, ни деревьев; очевидно, то была раньше зеленая лужайка; только посередине ее стояло большое развесистое дерево, по всем вероятиям, конский каштан.
— Остановись, — сказал Люс, — и посмотрим, что нам теперь делать! Ну, скажи, что бы ты сделал теперь, если бы был один?
— Я пошел бы, наверно, за подкреплением!
— Не узнав даже, сколько их?
— Да, вы правы, я прежде всего постарался бы убедиться в численности врага и для этого влез бы вот на это дерево, а с него увидел бы, сколько их там…
— Совершенно верно, — сказал Люс, — и мы это сделаем! Ты осторожно подкрадешься к стволу, скрываясь в тени дерева; добравшись до него, взберешься по стволу вверх, а я буду караулить и при малейшем признаке тревоги дам тебе знать; ты соскочишь, и мы вместе улепетнем; если же ты благополучно устроишься на дереве, я поспешу сделать то же самое. Ну, с Богом!
Спустя несколько секунд Фролер удобно устроился в ветвях каштана, а вслед за ним и Люс.
Ветер между тем до того усилился, что, сидя вместе, сыщики с трудом могли расслышать друг друга. С того места, где они находились, они прекрасно могли видеть все, что происходило в комнате. То, что представилось их взглядам, было настолько возмутительно и ужасно, что могло бы смутить даже и самого смелого человека.
В ярко освещенной тремя свечами, воткнутыми в бутылки, комнате почти без всякой мебели на грубом деревянном стуле сидел привязанный к нему крепкими веревками наполовину обнаженный молодой человек с тонкими и благородными чертами лица; за его спиной стояли, держа его, два рослых парня с физиономией заправских палачей. Тот третий, который по дороге присоединился к Ивановичу и генералу, стоял тут же с громадным охотничьим ножом в руке; Иванович читал, по-видимому, какую-то бумагу несчастному юноше, который как будто возражал и отрицательно качал головой. Дон Хосе, безучастный свидетель этой сцены, стоял немного поодаль, прислонившись спиной к доске камина.
— Эти негодяи зарежут его на наших глазах, — сказал Фролер, — и мы будем смотреть на это, не сделав ничего, чтобы помешать им?!
— Если бы жизнь и судьба графа и капитана не зависела от нашей осторожности, — отвечал Люс, — я бы устроил им сюрприз. Но мы упустим случай, которого нам во второй раз не дождаться, и, пытаясь спасти одного человека, допустим смерть двух других, рискуя при этом еще собственной жизнью!
— Мне думается, однако, что револьверный выстрел в окно мог бы изменить многое! — заметил Фролер.
— Бога ради, не вздумай этого делать! Мы не принадлежим себе в данный момент!
— Не беспокойтесь, я ничего не сделаю без вашего разрешения!..
— Боже мой! Да это молодой атташе русского посольства, он, вероятно, отправил в министерство доклад о Невидимых, и теперь эти негодяи мстят ему.
Между тем Иванович достал из кармана часы, показал их осужденному и затем спокойно положил их на камин.
— Я бы, кажется, отдал десять лет жизни, чтобы спасти этого молодого человека! — проговорил Люс.
— А я охотно бы отказался от ожидающих меня ста тысяч, если бы только мог вырвать его из их когтей!
— Но, в сущности, — продолжал Люс, как бы внезапно озаренный новой мыслью, — ведь мы видели все, что нам нужно было видеть: Ивановича, генерала и их трех пособников, вероятно, тех самых, которым поручено расправиться с графом и капитаном; все они налицо; и теперь как раз момент действовать. Ты оставайся здесь, а я сбегаю за подкреплением.
— Мои товарищи как раз недалеко: полицейский пост всего в нескольких шагах на бульваре!
— В уме ли ты? Или ты еще не знаешь этих людей? Против регулярной полиции у них все меры приняты: в момент появления полиции они выстрелом из револьвера разнесут голову пленнику, чтобы тот не мог ничего сказать, затем двое из них набросятся на двоих остальных, на своих начальников; полиция будет довольна тем, что ей удалось спасти двух из них, русского полковника и американского генерала, а Фролер и Люс должны будут поплатиться за эту штуку. Однако ты заставляешь меня терять время, тогда как для жизни этого несчастного дорога каждая секунда. Попытаемся же его спасти! Ты оставайся здесь и, что бы ни случилось, не спускайся с дерева; здесь тебя никто не заметит… Мне придется промешкаться довольно долго; только бы найти карету.
— Загляните в бюро Пигали; там всегда есть запряженные кареты; бегите с Богом; вернувшись, вы застанете меня на этой самой насести!
Люс тихонько сполз с дерева, в два прыжка очутился в кустах и исчез из виду. Едва только он успел скрыться, как Иванович, очевидно не считавший излишней никакую предосторожность, подошел к окну и стал внимательно вглядываться в темноту. Убедившись, очевидно, что все обстоит благополучно, он отошел от окна и принялся ходить взад и вперед по комнате, как бы выжидая назначенного им самим срока. По временам он останавливался перед доном Хосе и о чем-то горячо говорил с ним, сопровождая свою речь энергичными жестами, означавшими протест или отрицание.
— Уж не просит ли негр пощады для несчастного? — подумал Фролер.
Между тем, пока товарищи разговаривали, трое приспешников, которых по типу лица можно было принять за разбойников, забавлялись тем, что запускали свои громадные ножи в закрытую дверь, на которой было грубо намалевано изображение человека в натуральный рост, причем делали это с такой ловкостью, что ножи их каждый раз вонзались в область сердца.
Несчастная жертва Невидимых была бледнее мертвеца. Чего только не переживал в эти минуты несчастный молодой человек, которого заманили сюда какой-нибудь хитростью! За ним предательски заехал кто-нибудь из друзей, и он поехал с ним в бальном наряде, улыбающийся, с цветком в петлице, как о том свидетельствовали его фрак, сорванный в пылу борьбы, и белый цветок камелии, растоптанный на полу в нескольких шагах от него… И знать, что никто не придет его спасти, что он должен умереть здесь, как в глухом лесу, думать об отце, матери и обо всех, кто ему дорог и кому он мил, считая минуты и секунды… Умереть так на 25-м году жизни, когда все еще манит вперед, все радует и веселит… умереть в полном расцвете сил и жизни! Нет, это так ужасно, что никакое перо не в силах описать.
Но вот один из палачей по приказанию Ивановича приблизился к несчастному. У Фролера похолодели руки: неужели уже настал час казни?
Нет, палач был безоружен; он просто развязал и освободил правую руку несчастного, затем придвинул к нему маленький столик и положил лист бумаги, потом поставил чернила, перо и свечу и спокойно отошел в сторону.
«Ах, что за счастливая мысль пришла этому бедняге, — подумал Фролер, — он, очевидно, просил позволить ему написать последнюю волю! Пусть он только хоть четверть часа пишет, и Люс успеет вовремя подоспеть к нему на помощь».
Молодой человек взял перо, но когда он попробовал начертать несколько слов, то рука его так сильно дрожала, что он сам не в силах был разобрать того, что выходило из-под пера.
Иванович равнодушно пожал плечами и отдал палачу какое-то приказание, которое тот собирался уже исполнить; но несчастный умоляющим жестом поднял руку, и палач по знаку Ивановича отошел в сторону.
— Да пиши же, пиши как можно дольше; в этом твое спасение! — хотел бы ему крикнуть Фролер; он был один, но охотно рискнул бы жизнью, чтобы спасти несчастного, если бы не был связан словом повиноваться Люсу и если б не сознавал, что его вмешательство будет бесполезно.
Между тем время шло; молодой человек все еще писал, слишком медленно и долго для Ивановича и палачей, которые начинали уже терять терпение, слишком быстро для Фролера, который желал бы потянуть это время подольше. Наконец Иванович подошел к столику и хотел вырвать бумагу из-под руки бедного юноши, но на этот раз ему воспротивился негр, поднесший часы к его глазам, вероятно, в доказательство, что дарованный срок еще не истек. Но, очевидно, осталось уже не много минут, так как палач, засучив рукава и вооружившись своим широким ножом, встал позади молодого человека, который в этот момент, судя по движению руки, подписывал свое имя под своей последней волей. Двое остальных бандитов, удалившись на мгновение в соседнюю комнату, вышли оттуда, неся черный гроб с большим белым крестом на крышке, и поставили к ногам осужденного.
— Ах, негодяи, негодяи! — воскликнул Фролер, невольно хватаясь за свой револьвер, и закрыл глаза, чтобы не видеть рокового удара.
Когда спустя минуту он раскрыл их, то сцена совершенно изменилась. Трое негодяев подняли жертву со стула и теперь не только связали ему руки и ноги, но еще и обмотали его веревкой с ног до, головы, как мумию, после чего по знаку Ивановича положили его в гроб и, накрыв крышкой, стали заколачивать. Первый удар молота проник в самое сердце Фролера, так что он едва удержался на дереве.
— Боже мой, — воскликнул он подавленным голосом, — эти звери хотят зарыть его живым!
Но что же делал в это время Люс? Где он пропадал?
XIII
Спасены и отомщены. — Тайна «человека в маске».
Покинув притон на Монмартре, Люс поспешил к извозчику, на которого указал ему Фролер.
Здесь он потребовал экипаж и пару лучших лошадей из всей конюшни; благодаря обещанным пяти франкам на чай спустя семь минут он уже несся по направлению к улице Св. Доминика, где рассчитывал захватить таких ценных и дюжих союзников, как Дик, канадец, и гигант Лоран.
Зная, что Невидимые на этот раз решили покончить с графом, он был уверен, что для исполнения своего приговора ими избраны самые надежные люди, а потому против них следовало выставить таких же защитников. Негр Том и молодой нготак тоже были недюжинные силачи и отчаянной решимости люди. Таким образом, захватив попутно еще графа, капитана и Литльстона и считая в том числе себя и Фролера, Люс мог противопоставить пяти Невидимым восемь человек, что обеспечивало им до известной степени успех дела.
Правда, Люсу приходилось ехать за своими союзниками довольно далеко, но ставка была так велика, что нельзя было ничем пренебрегать.
Вскочив на козлы подле возницы большого закрытого ландо, Люс сказал своему соседу:
— Мы сейчас едем на улицу Доминика, оттуда на улицу Капуцинов и, наконец, на Монмартре на улицу Леник; если ты сумеешь все это объездить менее чем в час времени, то останешься мною доволен.
— Но это будет зависеть от того, сколько времени вы пробудете во всех этих местах! — вполне резонно ответил кучер.
В 14 минут они доехали до дома графа, но по пути городовые пытались остановить лошадей, думая, что они понесли и кучер не в состоянии справиться с ними. Лоран и его приятели спали, но при первых же словах кинулись одеваться с невероятной поспешностью и в несколько минут были готовы следовать за ним. В один момент лошади домчали их до улицы Капуцинов. Проходя мимо своего привратника, Люс крикнул ему:
— Нужно доктора, что на 3-м этаже, очень спешно! — И привратник не стал его расспрашивать.
Отперев дверь комнаты, он уже с порога крикнул вполголоса:
— Тревога, господа! Живо! Они в наших руках все, и «человек в маске», и его приятель генерал, и все трое палачей; нельзя терять ни минуты: быть может, мы успеем еще спасти другую жертву этих негодяев! Захватите с собою ваши револьверы и охотничьи ножи; подробности я расскажу вам по дороге!
К счастью, граф, Дик и капитан даже еще не раздевались; они совершенно одетые расположились на постели, на диване и на кушетке, ежеминутно ожидая тревоги, а потому в один момент были уже на ногах. Люс снял со стены испанский пистолет с широким дулом, привезенный им из Алжира, оружие, ужасное в рукопашном бою, и спустя пять минут все сидели в ландо и мчались во весь опор на улицу Леник.
В начале этой улицы Люс приказал кучеру остановиться, чтобы тот не знал, куда именно направлялась вся компания, и, уплатив ему двойную против обещанной сумму, быстро зашагал со своими друзьями к «дому повешенных».
Попутно Люс в отрывистых и кратких словах рассказал графу обо всем, причем последний крайне сожалел о своем разочаровании в благородном и великодушном по намекам джентльмене. Но, увы! Доказательства были налицо!
Канадец чувствовал себя на верху блаженства при мысли очутиться наконец лицом к лицу с ненавистным врагом, которого они столько времени преследовали; он помолодел на целых десять лет.
— Значит, все-таки есть на свете справедливость! — воскликнул он.
Для капитана же перспектива держать наконец в своих руках Ивановича делала его положительно свирепым и в то же время безумно счастливым!
На этот раз Люс со своей свитой без особых предосторожностей прошел через сад прямо к лужайке. Фролер, завидев союзников, поспешил слезть с дерева.
— Ну что? — спросил его Люс. — «Человек в маске» еще здесь?
— Да, но, вероятно, они скоро кончат свое дело: вы поспели как раз вовремя!
— А их несчастная жертва?
— Слушайте! — сказал Фролер. — Слышите вы эти удары молотка?
— Да, что они означают?
— Они заколачивают гроб, куда положили живым человека!
— Идемте тогда! — сказал Люс. — Но вступать в честный бой с этими негодяями нельзя. Мы крадучись подымемся наверх, и в тот момент, когда у всех револьверы будут на взводе, я разом распахну дверь; все мы вместе дадим залп. Нас восемь человек: это должно произвести на них свое действие!
Буря, усилившаяся еще больше, выла и гнула деревья, которые стонали и скрипели; весь дом содрогался под яростным порывом ветра; этому шуму вторили мерные удары молотка, заглушавшие и шум шагов на лестнице, и всякий другой шум в доме.
Когда Люс убедился, что все готовы, он осторожно нажал ручку двери и смелым ударом ноги распахнул ее настежь. Стоявший впереди других негр Том и молодой нготак разом кинулись и схватили за горло двоих врагов, после чего никому уже нельзя было стрелять из опасения ранить своих. Наступила минута замешательства, которою воспользовался Иванович, чтобы опрокинуть стол, где стояли свечи. Но канадец успел уже накинуться на третьего врага, который, не имея под рукою оружия, схватился с ним врукопашную, но почти тотчас же рухнул назем с переломленным хребтом, едва успев вскрикнуть.
Между тем Люс, не растерявшийся ни на минуту, быстро подхватил свечи, прежде чем они успели погаснуть, и поставил их на камин. При их свете он увидел, что ни один из негодяев не остался на ногах: те, на которых набросились Том и нготак, уже плавали в лужах крови с перерезанным горлом, причем нготак уже успел оскальпировать убитого им злодея, рассчитывая привезти домой этот кровавый трофей. Третий негодяй был убит Диком, а генерал Хосе тоже не подавал признаков жизни. Но «человек в маске» исчез.
— Ко мне! — крикнул Люс. — Негодяй ушел! — С этими словами он кинулся в смежную комнату, единственное место, куда мог уйти Иванович. Окно здесь, выходившее на крышу маленькой пристройки, стояло открытым настежь. Для всех стало ясно, что преследовать беглеца было уже бесполезно.
Таким образом, еще раз этот дьявольски ловкий человек ушел из их рук. В этот момент ужасный крик заставил всех их вернуться в первую комнату, где происходила борьба.
— Не убивайте меня! Не убивайте! Я не сделал ничего дурного! — взывал дон Хосе де Коррассон, которого Лоран ухватил за горло. Хитрый негр нарочно притворился мертвым, чтобы воспользоваться первым удобным случаем и бежать, но Лоран вовремя помешал его бегству.
Узнав графа д'Антрэга, несчастный еще усерднее запросил пощады.
— Отвечайте по правде, — сурово сказал молодой граф, — что бы вы сделали со мной, если бы я был один с вами вчера в экипаже?
— Мне было предписано убить вас!
— Кто устроил эту западню?
— Тот, кто сейчас только бежал!
— Как его зовут, кто он такой?
— Это полковник Иванович, член Верховного Совета Невидимых!
— Иванович! — воскликнул Оливье. — Иванович, мой соперник и враг! О, я должен был это предчувствовать!
— Теперь моя очередь его допросить, — сказал Люс, все время пристально всматриваясь в негра.
— Как тебя зовут? — спросил он.
— Дон Хосе де Коррассон!
— Нет, я спрашиваю твое настоящее имя!
— Сэм! — пробормотал несчастный.
— Тот самый, который задушил борца Тома Поуеля, чтобы завладеть полученными от Ивановича деньгами? Да? Отвечай?
— Да… это я… Пощадите меня!
— Погоди!.. Кто предательски заманил в эту западню несчастного князя Свечина?
— Я… сжальтесь! Видите, я говорю вам всю правду: я не хочу умирать… пощадите меня!
— Пощадить убийцу и предателя!.. Нет! — воскликнул Люс и одним ударом размозжил ему голову.
Молодой русский, которого Фролер тотчас же поспешил вынуть из гроба, пожимал руки своим спасителям, не будучи в состоянии выговорить ни слова.
XIV
Общество Невидимых.
Нам уже известен смелый план графа д'Антрэга и его друзей — завладеть Верховным Советом Невидимых и самим Великим Невидимым во время первого общего собрания, которое должно состояться где-нибудь на русской территории. Красный Капитан, как прирожденный янки, не признававший никаких препятствий, и канадец Дик взялись набрать достаточное число авантюристов, готовых принять участие в этом опасном предприятии.
На долю Люса выпадала далеко не легкая задача проводить всю эту компанию в назначенное место к назначенному времени — компанию по меньшей мере в сто человек — и сделать это так, чтобы никто не заметил не только из числа Невидимых, но и из полиции, русской полиции, самой подозрительной в целом мире.
Но прежде, чем продолжать рассказ об этой борьбе графа с Невидимыми, необходимо сказать еще несколько пояснительных слов об их обществе.
Оно, как мы уже говорили, имеет своею задачею доставление мирового господства славянской расе. На эту будущую роль славянства указывал еще историк Фогель. «В тот день, когда славянское царство обратит в своих вассалов мелкие придунайские княжества, оно не только уничтожит их автономию, но и безопасность всей Европы, нарушит ее равновесие и захватит не только всю Венгрию и Империю, но и Константинополь, исконный предмет его мечтаний, эту несравненную столицу, благодаря положению которой Греческая империя могла пережить на целых десять веков Римскую западную империю. Завладевши Константинополем, России трудно будет помешать обосноваться также и на Адриатике; затем, став госпожой Босфора и Дарданелл, России ничего не будет стоить превратить Мраморное и Черное моря в громадный военный порт, и с помощью греков создать самый могущественный флот в Средиземном море, который будет угрозою всей Европе, и бравировать, не рискуя, второй крымской кампанией. Считая Россию главою всего славянского мира, высшие классы этой страны, стремления которых простираются далеко за пределы их обширного отечества, мечтают сделать Россию главным центром славянства и покорить мало-помалу все пока еще самостоятельные южные и западные славянские народности, не стесняясь рознью вероисповеданий и традиций. Эти тенденции достаточно ясно проглядывают и в печати и поддерживаются людьми, занимающими высокое общественное положение, даже влияют на самое правительство, не говоря уже о деятельной пропаганде в Австро-Венгрии, немецкой Польше, Чехии, вплоть до пределов Италии. Австро-германский союз — это первая плотина, преграждающая пока путь этому потоку…»
Таково мнение хорошо осведомленного немецкого историка.
Пропаганда этой грандиозной идеи о будущей роли России производится обществом Невидимых, именуемых так потому, что ни один из членов его не знает другого, кроме того, кто его завербовал.
Лет семьдесят тому назад несколько принадлежавших к лучшим семействам России молодых людей, честолюбивых, энергичных, предприимчивых, но разорившихся, возмечтали вернуть прежний блеск своему гербу и прежнее свое положение, эксплуатируя эту политическую идею. Воспользовавшись этим предрасположением своих соотечественников и их естественной склонностью к тайным обществам, они решились эксплуатировать в свою пользу популярность и власть общества Невидимых, действуя от его имени. Они вели дело с таким искусством и такой ловкостью, что лишь впоследствии, когда некоторые из их преступлений, особенно смелых и отчаянных, наконец раскрыли глаза третьему отделению, на котором лежит охрана внутреннего спокойствия государства, выяснилась их истинная роль. Но все-таки до главарей добраться не могли, и, если и догадывались о средствах, к каким они прибегали, нельзя было добыть никаких неоспоримых доказательств, которые позволили бы наложить руку на настоящих виновников. Вследствие этого пришлось затушить дело. И дюжина смельчаков продолжала эксплуатировать в течение еще нескольких лет действительных членов общества Невидимых для своих личных целей и для удовлетворение своего честолюбия и своей жажды роскоши.
Когда нужно было выполнить какое-нибудь решение этой компании, каждый из членов ее намечал кого-нибудь из наиболее фанатичных членов общества, и последний получал предписание сделать то или иное; будучи уверен, что предписание это исходит от высших властей общества, он исполнял его беспрекословно, не вникая в побудительные мотивы, а считая это несомненно необходимым для каких-нибудь высших целей общества. Так, например, в один прекрасный день Государственный банк получил предписание перевести немедленно в Оренбург два миллиона рублей для уплаты жалованья войскам и на иные административные расходы.
Денежный транспорт сопровождали всего несколько казаков. В одном из ущелий Уральских гор транспорт вдруг наткнулся на сотню хорошо вооруженных людей. Казаки, сознавая свою малочисленность, отступили, а ящики с деньгами тотчас были перенесены на другие повозки и в несколько минут исчезли бесследно. Затем экспроприаторы тотчас же кинулись врассыпную и разбрелись по разным селениям и городам; как затем доказало следствие, ни один из них не знал ни зачем их заставили собраться в этом ущелье, ни кому и на что были нужны эти деньги; они даже не знали, что похищенные ими ящики были с деньгами; напротив, их уверили, что нужно было похитить какие-то немецкие прокламации, имевшие целью поднять против царя какие-то вновь покоренные азиатские племена; содействуя похищению казенных денег, они простодушно полагали, что служат политическим интересам своего отечества.
Даже высокие должностные лица и люди высших придворных чинов были впутаны в действия этих мнимых Невидимых. Хотя они не были скомпрометированы деятельным участием в их делах, но присутствовали на их собраниях, входили с ними в сношения и тем самым придавали больше веса и авторитета этой маленькой группе дерзких самозванцев.
Эта опасная компания в конце концов распалась сама собой благодаря обнаружению ее существования, но прежде, чем это случилось, дерзкие самозванцы успели совершить целый ряд самых возмутительных преступлений. В России они по преимуществу орудовали в Оренбургском крае, где благодаря его удаленности от столицы и самому характеру местного населения их козни должны были иметь наибольший успех.
Попытка этих мнимых Невидимых завладеть уральскими копями, принадлежащими семье Васильчиковых, путем брака одного из них с княжной Марией Феодоровной, единственной наследницей всех богатств отца, была одним из самых отчаянных дел этой шайки и не удалась только благодаря невероятной энергии и смелости молодого графа д'Антрэга и безграничной преданности его друзей.
XV
Оренбургские степи. — Табунщики. — Нападение волков.
Оренбургская степь — безграничная равнина, весной покрытая высокими зелеными травами; огромные стада рогатого скота и целые табуны лошадей пасутся здесь под надзором зорких табунщиков, проводящих всю свою жизнь на коне. Летом вся степь выгорает, выжигается солнцем, и тогда и люди, и животные живут в облаках пыли, томимые нестерпимой жаждой. Во всякое время года их преследует один грозный враг; это волки: они целыми стадами нападают по ночам на табуны и стада, производя среди них страшные опустошения.
Изредка в оренбургской степи попадаются маленькие селения, представляющие обыкновенно собрание жалких низких глинобитных домишек, соответствующих местному представлению о деревне или селении. По мере приближения к городу Оренбургу число этих селений увеличивается, преимущественно на склонах Уральских гор, где они обыкновенно означают близость какого-нибудь рудника, так как азиатский склон этих гор изобилует медью, серебром, золотом и платиной, а также драгоценными камнями.
Уральский хребет, так сказать, отделяет европейскую Россию от азиатской и служит водоразделом между этими странами. Из этих гор вытекает великолепная река подобная великим рекам Нового Света, протяжением в 2380 километров. На всем этом протяжении нет ни одного моста; только изредка на громадном расстоянии, вблизи более населенных мест, действуют простые паромы.
Перевозчиками на этих паромах обыкновенно служат ногайцы, осевшие со своими семьями здесь уже несколько веков назад. Некоторые из этих ногайцев очень богаты и держат целые табуны лошадей и верблюдов для сообщения между европейской и азиатской Россией. Некогда ногайцы были могущественной народностью на берегах Черного моря, но затем рассеялись в степях, образовав кочевые орды; затем некоторые роды их сделались оседлыми, обзавелись хозяйством и живут безбедно; некоторые же стали перевозчиками на Урале.
На одном из таких перевозов, в двадцати днях пути от Оренбурга, где гуртовщики гоняли стада и караваны с товарами, перевозчиком был ногаец Черни-Чаг.
Это был зажиточный человек, имевший целые табуны лошадей и свыше 400 голов рогатого скота.
Однажды в конце июня, когда степи кругом зеленели, под вечер домашние Черни-Чага собрались ужинать; женщины принесли уже большие лотки с вареным пшеном, кислым молоком и кувшины с кумысом. Вдруг на пороге раздался незнакомый голос:
— Привет вам, братья… хлеб да соль!
Черни-Чаг поднял голову и увидел на пороге странника с котомкой за спиной и посохом в руке.
— Войди! — сказал ногаец. — Здесь и для тебя найдется кусок!
— Спасибо, друг, — ответил странник, — я знаю, что твой кров гостеприимен! — И сделал ногайцу условный знак. Тот сразу понял и, встав со своего места, тотчас увлек странника за собой в другую половину дома.
— Час спасения приближается! — проговорил странник.
— Хвала Господу Богу! — ответил хозяин. — Какие у тебя вести?
— В третье воскресенье после сегодняшнего дня, — продолжал странник, — Невидимые соберутся во славу Царя-батюшки и Святой Руси!
— В каком месте?
— В развалинах старого монастыря!
— В какое время?
— В одиннадцать часов вечера!
— Хорошо, я буду… все?
— Нет! Я прямо из Астрахани, где видел Великого Невидимого; он собирался уезжать, и я удивлен, что он не прибыл.
— Он должен у меня остановиться?
— Да, и просил тебя держать наготове для него шесть свежих лошадей!
— Все будет сделано, как ты желаешь… а пароль?
— «Духоборы»!
После этого оба вернулись к остальным и сели за ужин. Поужинав, странник взял свой посох и пошел дальше по направлению к Оренбургу. И так он шел из селения к селению, оповещая всех о близком собрании Невидимых.
Расставаясь с Черни-Чагом, странник предупредил ногайца:
— Храни тебя Бог от Черных всадников!
— Разве они уже появились снова? — спросил перевозчик, задрожав всем телом.
— Я видел их прошлой ночью; они неслись, как призраки, на своих быстрых конях по тому берегу Урала!
— А куда они держат путь?
— Вниз по реке!
— Ну, слава Богу, быть может, они не вернутся больше сюда! Впрочем, они всегда щадили мой поселок!
— Я тебя предупредил, Черни-Чаг, береги свои золотые! — сказал прохожий.
— Чего ты не останешься здесь переночевать; смотри, ночь надвигается, а волки рыщут по степи, как только солнце зайдет!
— Я успею еще дойти до ближайшего поселка!
— Ну, так с Богом!
И перевозчик вернулся к себе в дом хмурый и озабоченный.
Кто же были эти Черные всадники, так сильно напугавшие его?
При крепостном праве, прекратившемся лишь при императоре Александре II, все недовольные, обиженные, все жертвы сильных и богатых бежали в степи и находили себе приют и убежище в этих пустынных, бесплодных местах, где никакие власти не в состоянии были их преследовать. Обзаведясь конем, копьем и ружьем, они становились неуязвимыми и находили себе верных союзников в степных кочевниках, вместе с которыми грабили караваны.
Иногда они собирались большими шайками и грабили даже населенные места, разоряя целые деревни. Чтобы не быть впоследствии узнанными, эти люди обыкновенно закутывали себе лицо черными покрывалами, оставляя только отверстие для глаз, и, окончив свой страшный подвиг и поделив добычу, рассыпались по степи, не оставляя за собой никакого следа. Местные власти, располагая казачьими командами, редко могли что делать против этих разбойничьих шаек.
Черни-Чаг был человек недюжинный и во многих случаях своей жизни проявлял поразительную энергию и находчивость. Оставшись один после ухода странника, он прежде всего позаботился обезопасить свой дом от Черных всадников. Он имел разрешение от оренбургского губернатора держать у себя, сколько потребно, оружие для ограждения себя и своей семьи от разбоев и грабежей кочевников. Отослав женщин и детей в женское отделение, он созвал мужчин и сообщил им о грозящей им и его дому опасности. Несмотря на страх, внушенный этою вестью, все единогласно решили защищаться до последней крайности, зная, что, если разбойники нападут, им нечего ждать пощады.
Скоро наступила ночь; в доме все спали, кроме двух сторожевых работников, вооруженных ружьями, которым было дано по ружью, чтобы в случае тревоги оповестить о том всех живущих в поселке.
Окрестности потонули во мраке, но затем, когда взошла луна, серебристый свет окрасил все в мягкий однообразный бледно-желтый цвет, на фоне которого голубоватой лентой извивалась река. Малейший предмет на громадном расстоянии выделялся теперь темными пятном на этом однотонном светло-желтом фоне, и никто не мог бы приблизиться к жилью, не будучи замеченным еще издали…
Немного после полуночи дверь дома отворилась, и Черни-Чаг вышел в сопровождении четырех человек, несших довольно большой и тяжелый сундук, служивший хранилищем драгоценностей семьи. Сюда предусмотрительный хозяин сложил червонцы и серебряную монету, какая только имелась в доме, а также уборы женщин, а главное то, что у него было наиболее ценного, — старинный, изукрашенный драгоценными камнями меч, доставшийся ему от предка, одного из ногайских ханов.
Дойдя до берега реки, люди, несшие этот сундук, очевидно, очень тяжелый, так как они сгибались под его тяжестью, поставили его на землю и стали рыть яму, куда затем и опустили сундук, засыпав его землею, чтобы замести след своей работы.
Но в то время, как они работали, зарывая сокровища в зыбкий прибрежный песок, в нескольких саженях, прижавшись к высокой траве, прохожий странник с напряженным вниманием следил за происходившим.
Отойдя всего несколько сажен от гостеприимного крова, под которым он отдохнул и подкрепил свои силы пищей, он, вместо того чтобы идти дальше вдоль берега реки, воротился назад, когда стемнело, приблизился к дому и притаился в высокой траве, заранее предвидя последствия принесенных им вестей.
Как только Черни-Чаг вернулся в свой дом, мнимый странник ползком подкрался к берегу реки, достал из прибрежных тростников широкую, слегка выдолбленную дубовую доску, заостренную наподобие челнока, и, пользуясь руками в качестве весел, лежа на спине на доске, медленно поплыл к противоположному берегу…
Казалось бы, ночь должна была окончиться благополучно, когда, около трех часов утра, стражи заметили на краю горизонта черную точку, быстро увеличивающуюся и как бы несущуюся по равнине. Вскоре эта точка как бы раздвоилась, и зоркие глаза сторожей различили двух всадников, мчавшихся по степи на своих быстрых степных конях, а за ними множество черных точек.
— За ними гонятся волки! — сказал один из них.
— Да, и им ни за что не уйти от них!..
Худшей опасностью степи являются волки. Они живут здесь громадными обществами и плодятся беспрепятственно; если бы только они не пожирали друг друга, если бы самцы не пожирали добрую половину детенышей, не грызлись между собой, ничего живого не осталось бы в степях.
Единственный враг, которого волки боятся, будь их целая стая, — табунщики! Это люди, никогда не слезающие с коня ни днем, ни ночью; соединившись гурьбой человек в десять — двенадцать, они смело кидаются на стаю волков, и каждый удар их копья укладывает на месте одного из этих страшных животных. И волки до того знают их, что, завидев издали хотя бы одного табунщика, тотчас же обращаются в бегство.
Подгоняемые голодною стаей, кони неслись, как ветер, но видно было, что они выбились из сил и скоро упадут от изнеможения, не достигнув реки.
Все-таки злополучные всадники все ближе подвигались к дому, и сторожа, хотя и смутно, начинали уже различать фигуры их, припавшие к самой шее своих лошадей.
Благородные животные неслись, не щадя своих сил, прямо к реке, зная, что здесь их спасение, что в реку волки не последуют за ними. Время от времени тот или другой из коней бешеным ударом копыта убивал на месте настигающего его волка, и, как только последний падал, тотчас же сотни уцелевших сородичей его с жадностью набрасывались и в один момент разрывали его на клочья.
— Сказать бы хозяину, — заметил один из сторожей, — может быть, он поможет им как-нибудь!
Но прежде, чем его товарищ успел ответить, картина совершенно изменилась.
До реки оставалось уже не более версты; еще немного — и благородные животные спасут себя и своих седоков. Но и волки не зевали, и некоторые из них уже успели забежать вперед, чтобы кинуться на грудь лошадям. Вдруг один из всадников с неимоверной ловкостью перескочил со своего коня на круп коня своего товарища, который в этот момент, выхватив пистолет, прострелил голову лошади, оставшейся без седока, — и она упала, точно пораженная громом. Стая волков с жадностью набросилась на нее. Но волков было слишком много, и часть стаи, не теряя времени, кинулась за вторым конем, мчавшим вперед двух всадников. Однако кратковременная задержка дала доброму коню время уйти немного вперед, и волкам приходилось снова нагонять. В какие-нибудь три минуты благородное животное донесло своих всадников до реки и кинулось прямо в Урал, при громком вое хищников, лишившихся близкой уже добычи.
XVI
Осада в степи. — Иванович и Холлоуэй. — Пермская губа. — Отчаянное положение. — Два казака.
Добрый конь, домчавший своих всадников до реки, был крепкий киргиз, для которого переплыть реку было не более как шуткой. Почувствовав, что погони за ним нет, он весело и бодро поплыл к противоположному берегу. Едва только он выскочил на берег, как оба всадника разом спрыгнули на землю и изо всех сил бросились к дому Черни-Чага, крича:
— Тревога! Полковник Иванович осажден волками!
В одну минуту все были на ногах. Хозяин поспешил ввести пришельцев в свой дом и, узнав с их слов о положении полковника, тотчас же приказал бить в набат.
Окрестные жители мигом прискакали на своих конях к дому старшины, и спустя десять минут 50 человек, смелых и привычных, бывших табунщиков, на отличных конях, с копьями и кольями, вплавь переправились через Урал, с Черни-Чагом во главе, и во весь опор помчались на помощь.
Иванович, чудом спасшийся от своих врагов на Монмартре, бежав через окно из «дома повешенных», узнал от своих приверженцев, что дон Хосе де Коррассон перед смертью выдал его, и потому решил, чтобы покончить наконец с графом и другими своими врагами, заманить их в уральские степи, где мнимое общество Невидимых насчитывало наибольшее число самых фанатичных сторонников и где чужестранцам не будет никакой возможности ни бежать, ни скрыться. Окруженные со всех сторон грозными и суровыми сектами, лишь для формы признающими власть губернаторов, затерянные в пустынных и безлюдных степях, они не найдут ни помощи, ни защиты и, несмотря на всю свою отвагу и мужество, должны будут пасть до последнего в этой неравной борьбе.
Достигнув их погибели, Иванович рассчитывал, пользуясь своим влиянием и связями, вернуть из Сибири сосланного туда по его же ложному доносу и проискам князя Васильчикова и, явившись, так сказать, его спасителем, добиться руки его дочери княжны Марии: брак же с нею дал бы ему возможность присвоить себе знаменитые уральские рудники и золотые прииски ее отца, которые сделали бы его богатейшим человеком в России, а может быть, и в целом мире.
Но этого еще мало; он решил после того развязаться со всеми своими друзьями и товарищами, предоставив им австралийские золотые прииски графа и Дика Лефошера, на которые он решил предъявить свои права. Затем, щедро и умело рассыпая золото, он думал добиться положения Великого Вождя Невидимых, главы общества, что дало бы власть над всем славянским миром, — власть, равную его богатству.
Во всех этих своих замыслах он открылся Холлоуэю, который, взорвав из чувства мести к Красному Капитану «Римэмбер», явился к Ивановичу с предложением своих услуг. Как практический человек, Холлоуэй сообразил, что, содействуя планам Ивановича, он во всяком случае мог только выиграть, так как этот человек, щедро плативший за услуги, кроме того, был бы в его руках, тогда как Джонатан Спайерс всегда смотрел на него как на своего подчиненного, простого механика, с которым всякие расчеты закончены, раз причитающееся ему жалованье уплачено. Иванович с распростертыми объятиями встретил нового союзника, так как ряды его соратников опустели после катастрофы с «Лебедем». Теперь ему предстояла еще одна, последняя, схватка с врагами, которая должна была во что бы то ни стало увенчаться успехом, и такой человек, как Холлоуэй, посвященный во все планы Красного Капитана и его друзей из Франс-Стэшена, являлся для Ивановича чрезвычайно ценным союзником. Возвращаясь вместе из Австралии, новые друзья использовали время пути для подробного обсуждения задуманного плана. Чтобы сосредоточить в одном месте известное число сторонников, они придумали съезд делегатов Невидимых, и местом для этого съезда избрали уральские степи. Что же касается средства заманить туда графа и его друзей, то оно не представляло никаких затруднений: со слов Холлоуэя, Ивановичу было известно, что Оливье и его друзья поклялись преследовать Ивановича до края света, куда бы он ни бежал; ему оставалось только не скрывать своих следов, и эти простаки сами попадут в ловушку.
После долгих размышлений Иванович избрал местом сборища и вместе ловушки для своих врагов развалины одного древнего монастыря. Обширные подземелья, уцелевшие от разрушения, позволяли собрать здесь несколько сот человек.
Сюда-то и предполагалось заманить графа и его друзей и, наскоро порядив суд над ними, приговорить к смерти.
Еще и другая причина вынуждала Ивановича скорее кончать с этим делом: князь Свечин, атташе посольства в Париже, которому было негласно поручено специальное наблюдение за политическим настроением живущих в Париже русских, послал в третье отделение обстоятельный доклад об обществе Невидимых; необходимо было спешить, чтобы успеть прикончить вовремя преступную деятельность ложного общества Невидимых, прежде чем имена главных участников станут известны Третьему Отделению.
Сойдя в Ливерпуле с австралийского парохода, Иванович получил шифрованную телеграмму: «Урожай превосходный в ваших поместьях в Малороссии. Вас ожидают с нетерпением, чтобы начать жатву».
По ключу, имевшемуся у Ивановича, это означало: «Крайне необходимо уничтожить доносчика, который только что выехал из своих поместий в Малороссии в Париж, иначе мы погибли».
Действительно, князь Свечин прибыл в Париж с целью продолжать свое расследование темных дел мнимого общества Невидимых, избравших Париж центром своих темных операций.
Иванович тотчас же направился в столицу Франции с Холлоуэем, где дон Хосе де Коррассон или, вернее, негр Сэм, убийца борца Тома Поуеля, вступивший в ряды Невидимых, находился уже в течение нескольких месяцев в качестве панамского дипломатического агента.
Мы уже видели, как Люс и Фролер спасли от смерти князя Свечина в «доме повешенных».
Потерпев еще раз неудачу, Ивановичу оставалось теперь только осуществить свой коварный план в степях Урала и закончить им наконец эту уж слишком долго длящуюся борьбу.
На другой день после своего бегства из «дома повешенных» он вместе с Холлоуэем отправился из Парижа прямо в Астрахань, где Невидимые имели великолепный дворец. Здесь и был разработан план нападения на графа и его друзей.
Граф Оливье и его друзья могли выехать из Парижа спустя лишь пять или шесть недель, а когда наконец прибыли в Астрахань, у Невидимых уже все было готово для их встречи.
Для Ивановича и его приятеля были заготовлены лихие скакуны-киргизы.
От Астрахани до перевоза Черни-Чага было пять дней пути, да от перевоза еще два дня до развалин монастыря, места сбора Невидимых.
В то же время многочисленные странники бродили по степи, оповещая приверженцев Невидимых и сообщая им пароль; ожидалось для собрания 400-500 сектантов.
Единственное, чего опасался полковник, — это быть настигнутым графом по пути к развалинам, когда борьба могла окончиться печально для него, а он не хотел рисковать.
Однако, рассчитывая на помощь ямщиков, которые все принадлежали к Невидимым, он решил, что опасаться нечего, и вместе с Холлоуэем и двумя казаками покинул Астрахань.
Когда они выезжали из города, какой-то человек, которого по наружному виду и костюму можно было признать за кочевого киргиза, осторожно высунул голову из-за каменной ограды, за которой притаился, как будто желая убедиться, что это именно они, а не кто другой. Но, видимо все-таки не доверяя своим глазам, так как на дворе уже стемнело, он крикнул всадникам на киргизском языке:
— Спокойной ночи вашей милости!
Иванович точно так же ответил:
— Спокойной ночи тому, кто мне ее желает!
Едва только он успел произнести эти слова, как киргиз со всех ног бросился бежать к главным улицам города.
В продолжение нескольких часов пути путники скакали в глубоком безмолвии. Ночь близилась к концу. Иванович по временам тревожно оглядывался назад, опасаясь погони, но убедившись, что на горизонте не видно ничего подозрительного, снова успокоился.
На первой почтовой станции он остановился на несколько минут и, вызвав ямщика, которому посредством условного знака Невидимых выдал себя за главу таковых, сказал:
— Здесь должны будут проехать чужеземцы, французы! Не давай им лошадей!
— Слушаюсь! — отвечал ямщик. — А если у них будет предписание от губернатора, что тогда делать?
— Ты скажешь, что все лошади угнаны по казенной надобности, и пообещаешь им других не раньше как назавтра!
— Слушаюсь!
— Помни же! — С этими словами Иванович снова пустил своего коня вскачь. На дальнейших станциях он снова повторил свое приказание.
Наконец наступил и пятый день пути; до сего времени ничего нежелательного не случалось.
— Сегодня еще до восхода луны, — проговорил Иванович, вставив ногу в стремя, — мы прибудем к перевозу через Урал и можем уже ехать дальше не спеша!
Между тем степь постепенно принимала все более пустынный характер; почва была песчаная или солончаковая; трава низкорослая и хилая.
— Берегитесь, — сказал один из казаков, — теперь мы в волчьем царстве!..
Лошади тоже стали неспокойны, точно они что-то чуяли: они ржали, трясли гривой и без побуждения со стороны всадников неслись стрелой вперед.
— Кони чуют волков! — проговорил другой казак.
— Успеем мы доехать до ночи? — спросил Иванович.
— Едва ли! — сказал казак.
— Смотрите! — крикнул вдруг другой казак, указывая своей нагайкой на едва заметную точку вдали. — Это их передовые, вышедшие на разведку!..
Все глаза повернулись в ту сторону, куда указывал он.
Впереди на большом расстоянии виднелись шесть маленьких темных движущихся точек, которые вскоре превратились в волков. Свернуть с дороги было опасно: можно было заблудиться в степи, и тогда вернуться на дорогу было бы так же трудно, как разыскать иголку в песке, да, кроме того, волки были везде.
Резвые кони смело неслись вперед и громко ржали, словно вызывая волков на бой.
Волки вообще трусливы, когда их немного, и смелеют только тогда, когда чувствуют перевес на своей стороне; на этот раз они тоже дали громадный крюк, чтобы не повстречаться с всадниками. Но, пропустив их мимо себя, пустились затем нагонять путников, держась на расстоянии приблизительно в десять сажен, и протяжно выли, очевидно мучимые голодом.
— Надо их пожалеть, — сказал Иванович, — дадим им, чем утолить голод!
— И, повернувшись на седле, он двумя последовательными выстрелами уложил двух волков.
Убил ли он их наповал или только ранил, трудно было сказать, но едва только они упали, как товарищи набросились на них и в миг растерзали на части. А пока шла кровавая потеха, всадники быстро унеслись вперед.
До ближайшей остановки, по расчетам казаков, оставалось не более десяти верст, но маленький отряд не успел доехать до нее, как снова показались волки.
Солнце еще не закатилось, когда протяжный грозный вой огласил воздух, доносясь издали. Всадники оглянулись и с ужасом увидели, на расстоянии не более двух верст позади себя длинную волнистую линию, точно волну, катившуюся по степи и быстро надвигавшуюся на них. Это были волки. Ездоки пришпорили коней, но те и без того мчались во весь опор…
— А вот и изба! — крикнул один из казаков.
Казалось, будто и лошади понимали, что здесь спасение, и рванулись вперед с таким страшным порывом, что на мгновение волки остались позади. Точно буря, ворвались кони в раскрытые ворота, и два казака, мгновенно спешившись, захлопнули тяжелые дубовые ворота и заложили их засовами. Еще минута — и было бы уже поздно: вся стая ворвалась бы во двор. Теперь же она только с бешеным воем кидались на ворота.
— Спасены! — со вздохом облегчения воскликнул Иванович, весь бледный от страха, и, шатаясь, как трудно больной, стал слезать с коня.
Холлоуэй, как природный янки, был более энергичная натура, но и он откровенно сознался:
— Признаюсь, я не помню, чтобы когда-либо в жизни испытывал такой страх!
Изба, послужившая им убежищем от волков, представляла собой низкое строение, с большим, просторным двором для лошадей и верблюдов, окруженным довольно высокой глинобитной оградой. Среди ограды стояла сама изба, ветхое глиняное строение, так же как и ограда, едва державшееся и местами полуобрушившееся. В ней была одна просторная горница для приезжих и кухня, или сторожка. Некоторые части ограды прямо-таки грозили обрушиться при малейшем напоре; к счастью, волки напали со стороны ворот, а эта сторона была самая надежная.
Внутри земляные уступы давали возможность добраться до верха ограды и видеть то, что происходило извне.
Поднявшись по этим уступам, Иванович и Холлоуэй ужаснулись при виде бессчетного количества своих врагов: их были не сотни, а тысячи; вся площадь кругом чернела голодными волками; их грозный вой оглашал воздух. Эта картина леденила душу даже самых смелых. Волки кидались на ограду с такой яростью, что некоторые из них подпрыгивали до самой вершины, цепляясь когтями за стены, и каждый раз куски глины обрывались, скатываясь вниз.
— Полковник, — сказал Холлоуэй, ясно отдавая себе отчет в их настоящем положении, — через два часа, самое большое, волки будут здесь, в избе, если только мы не найдем возможности заделать все эти бреши!..
— Ничего сделать нельзя! — мрачно ответил Иванович. — Вы видите, глина осыпается под их когтями, и если мы не отвлечем их внимания чем-нибудь, то к утру никто из нас не останется жив. У нас много зарядов — попробуем позабавить их стрельбой до рассвета!
Совет был разумный.
Первый залп уложил на месте четырех волков; на них тотчас же накинулась целая туча собратьев и в миг растерзала на части. Осажденные стали стрелять не переставая, но число врагов не уменьшалось.
Подгоняемые голодом, волки упрямо лезли на ограду, раздирая ее когтями. Тогда осажденные, привязав к ружьям свои ножи, стали колоть и стрелять их в упор. Но долго ли это могло продолжаться?
— Погибли! — сказал Иванович, бледный и растерянный. — Это только вопрос времени.
— Но мы можем еще забраться на кровлю дома! — заметил Холлоуэй.
— Это будет наше последнее убежище. Но, ворвавшись в ограду, волки разорвут наших коней, а затем снова накинутся на стены избы, несравненно более тонкие и менее надежные, чем ограда! Ясно, что эти стены не устоят против натиска врагов!
— Что из того, лишь бы только дождаться утра!
— Ну, а как мы уйдем отсюда, не имея коней? Мы не пройдем и версты, как волки окружат нас со всех сторон! Нет, если не свершится какого-нибудь чуда, мы все погибли!
— Может быть, можно еще попытаться как-нибудь помочь горю! Если бы, например, пустить двух запасных коней! — предложил один из казаков. — Я знаю этих волков: они все кинутся за ними!
— Да кони не уйдут и двухсот сажен, как волки их настигнут, что мы от этого выиграем?
— Пусть только они отойдут от избы хоть на двести сажен, и то хорошо! Мы с товарищем вскочим на коней и попытаемся добраться до перевоза!
— Да вы никогда не доедете туда, — сказал Иванович, — вся стая кинется за вами; они растерзают вас прежде даже, чем вы успеете скрыться с наших глаз!
— Никто, как Бог! — воскликнул казак. — Может, и останемся живы!..
— Но как мы выпустим лошадей, не впустив в то же время и волков? — спросил Холлоуэй.
— Это сделать нетрудно: мы взведем их на уступы, а затем, зажав им один глаз рукою, ударом хлыста заставим кинуться вперед!
— А они не переломают себе ног при этом прыжке?
— Конечно, нет: лошадь на воле делает и не такие еще прыжки!
— Так ты решился попытать счастья?
— Твердо решил! — сказал казак.
— Ладно! Отчего же не попытаться?!
Оседланных коней обоих казаков накормили овсом, политым водкой из дорожной фляги Ивановича, а пока кони ели свой овес, двух лошадей, обреченных на гибель, ввели на насыпь и, завязав им глаза, вдруг вытянули хлыстом. Испуганные такой неожиданностью, благородные животные рванулись вперед и очутились среди ошеломленных волков. Но при прыжке повязки спали с глаз лошадей, и они с молниеносной быстротой в несколько безумно смелых прыжков очутились вне площади, занятой стаей, и неслись уже с быстротой ветра по степи, преследуемые всею стаей.
Лошадей пустили в направлении, как раз противоположном тому, где лежал перевоз, таким образом, путь на время освободился. Ворота распахнулись, чтобы выпустить казаков, и тотчас же снова заперли на все засовы. Затем Иванович и Холлоуэй поспешили на насыпь, чтобы следить за рискованным бегством отчаянно смелых казаков.
Видя счастливый успех смелой вылазки казаков, Иванович подумал было предложить Холлоуэю бежать вместе с казаками, но тотчас же отверг эту мысль: так незначительны были шансы на успех. И действительно, не прошло нескольких минут, как волки, каким-то необъяснимым образом почуявшие беглецов, кинулись за ними громадной массой, в 500 или 600 голов, между тем как остальные продолжали преследовать двух выпущенных коней. Но казаки мчались, как вихрь; они успели достаточно уйти вперед, прежде чем волки спохватились преследовать их, и потому в тот момент, когда всадники скрылись с горизонта, золки еще не успели нагнать их.
— Они спасены! — радостно воскликнул Холлоуэй.
— Спасены!.. — повторил за ним Иванович недоверчиво. — Вы забываете, что им придется по меньшей мере скакать два часа таким же образом, чтобы достигнуть перевоза.
XVII
Спасение. — Подвиги табунщиков.
Оставшись одни, Иванович и Холлоуэй перенесли свое внимание в сторону выпущенных на волю коней; отчаянно смелые животные геройски защищались, отбиваясь от волков. Не отходя далеко от ограды, они носились вокруг нее, меняя направление, причем волки постоянно сшибались между собой, опрокидывая друг друга и производя задержку, чем давали минуты передышки прекрасным скакунам.
— Они как будто стараются приблизиться к избе! — заметил Холлоуэй.
— Это вполне естественно, — проговорил Иванович, — ведь они же знают, что другие лошади здесь!
— Бедняги, — сказал янки, — они, быть может, подойдут к самым воротам, прося помощи, а мы не сможем впустить их!
— Быть может, они спасают нас, — заметил Иванович. — Если бы они неслись прямо вперед, их погоня продолжалась бы всего несколько минут. Но, описывая круги и постоянно шарахаясь в стороны, они утомляют врагов, поминутно обманывая их ожидания!
Выпущенные кони продолжали носиться кругами, производя самые неожиданные движения и, по-видимому, нимало не утомляясь этим беспрерывным бегом; волки же заметно выбивались из сил, падали от усталости, метались, запыхавшись, с высунутыми языками. С каждой минутой шансы на спасение осажденных в избе увеличивались. Иванович смотрел на небо, где уже начинали бледнеть звезды и близился восход. Теперь помощь должна была быть здесь недалеко, или же она вовсе не придет!
Между тем кони продолжали носиться, как вихрь, утомляя волков, наконец, обманным движением произведя диверсию, оба скакуна вдруг ринулись прямо к избе и с разбега, точно перелетев через ограду, упали во дворе избы, встреченные громким радостным ржанием своих товарищей.
Даже Иванович и Холлоуэй не могли не восхититься этим подвигом благородных животных, хотя их появление в избе страшно ухудшало их положение.
Ошеломленные в первый момент, волки вскоре, однако, как будто еще более рассвирепели и с бешенством накинулись на ограду избы, уже достаточно пострадавшую от прежних атак и грозившую теперь ежеминутно рухнуть под их напором.
Между тем со стороны перевоза все еще ничего не было видно.
— Будем стрелять без перерыва, — предложил Иванович, — чтобы помощь, если она спешит к нам, по частым выстрелам могла понять, что мы в крайней опасности и что надо спешить!
В этот момент с той стороны, с которой не защищали осажденные, стена дала достаточно глубокую и широкую трещину, и старый матерый волк, очевидно, самый смелый и сильный, вскочил через эту брешь на насыпь и скатился во двор. Холлоуэй прицелился и хотел пристрелить волка, но прежде, чем он успел взвести курок, один из коней ударом копыта раздробил волку голову и переломил хребет. Возбужденные предсмертным воем товарищи волка с удвоенным бешенством накинулись на ограду. Казалось, минуты осажденных были сочтены. Вдруг в этот момент вдали послышались звуки трубы.
— Спасены! Спасены! — крикнул Холлоуэй.
То были табунщики во главе с Черни-Чагом. И странное дело, при звуке этой трубы волки стали как будто нерешительны, и, чем ближе звучала труба, тем более росла эта нерешительность, объясняемая их страхом, который эти хищники питают к табунщикам. Наконец еще раньше, чем грозные табунщики подоспели к избе, волки обратились в бегство. И это было как раз вовремя: пятью минутами позже спасители нашли бы только полуобглоданные трупы людей.
Холлоуэй, сохранивший вплоть до конца присутствие духа и энергию, поспешил распахнуть ворота и, вскочив на коня, присоединился, сгорая жаждою мщения, к табунщикам, которые бешено устремились на обратившуюся в бегство стаю. Погоня длилась целых два часа, и когда табунщики решили наконец вернуться в избу, то почти вся стая волков была уничтожена.
Между тем Черни-Чаг, предоставив табунщикам делать свое дело, спешился и вошел в избу приветствовать Ивановича, которого он уже знал раньше.
— Спасибо тебе, Черни-Чаг, я никогда не забуду, что ты сегодня спас мне жизнь! — проговорил Иванович.
— Я считаю себя счастливым, — сказал паромщик, — что мог оказать вам эту услугу; однако вся честь спасения принадлежит ведь вашим двум казакам!
— Я вознагражу их по заслугам, но это не умаляет твоей заслуги; без того влияния, каким ты пользуешься в своем округе, и без той поспешности, с какой ты сумел собрать табунщиков и поспешил к нам на помощь, мы неминуемо бы погибли! Говори, какой ты хочешь награды!
— Если бы я осмелился…
— Говори, я тебе приказываю!
— Небо наградило меня богатством; я богатейший человек в этой стране. Царь осыпал меня своими милостями, а Бог даровал мне многочисленную семью, словом, я счастливый человек. Но если я непременно должен высказать вам самое сокровенное мое желание, то признаюсь, что желал бы быть назначен смотрителем всего этого почтового тракта; это дало бы мне право на чин 14-го класса, и мои дочери, будучи дочерьми чиновника, скорее нашли бы себе хороших мужей!
— А, так ты хочешь быть чиновником! — воскликнул Иванович.
— О, я знаю, что мое желание безумно: я сын кочевника, которого и сейчас еще зовут ногайцем… но…
— Да нет же, ты меня не понял: твоя просьба не слишком смела, наоборот, я удивлен, что ты не просил у меня большего! Обещаю тебе, что ты будешь назначен смотрителем всего почтового тракта!
— О ваша милость, — воскликнул обрадованный Черни-Чаг, — я, семья моя, и жизнь моя, и все, что я имею, принадлежит отныне вам!..
В этот момент стали съезжаться табунщики, возвращавшиеся с погони за волками; у каждого из них в тороках болталось по волчьей голове.
Когда все оказались в сборе, Иванович, уже окончательно оправившийся от своего испуга, вскочил на коня, и все тронулись по направлению к развалинам монастыря.
XVIII
Заговор. — Ночное совещание. — Проекты Ивановича. — Снова странник.
Ночь, следовавшая за вышеописанными событиями, должна была иметь особое значение для Ивановича. Тот план, который лелеял полковник для гибели молодого графа и его ближайших друзей, существовал лишь в виде проекта. Правда, он созвал в монастырь лишь тех Невидимых, в которых мог быть уверен, но все же надо было предвидеть и возможные случайности; многие из созванных могли не явиться по разным уважительным причинам; могло случиться благодаря обычному добродушию русских, что в решительный момент в его распоряжении не окажется достаточного числа решительных людей. Впрочем, с другой стороны, у графа едва ли будет большой конвой: ведь в Астрахани нельзя было ему набрать несколько десятков людей, не возбудив внимания полиции.
Эти расчеты Ивановича, в сущности, не были лишены известного основания: граф действительно прибыл в Астрахань в сопровождении Лорана, Дика-канадца и Красного Капитана; с ним были еще оба сыщика, Люс и Фролер, негр Том и нготак и еще четверо европейцев, которых Иванович еще не знал, то есть всего человек двенадцать, решительных и беззаветно смелых. Но при всем том что могла сделать эта горсть людей против трехсот или четырехсот Невидимых, на которых мог рассчитывать Иванович?!
— Они могут набрать самое большое человек двадцать висельников, больше в Астрахани взять негде! — заметил он.
— Но, быть может, они позаботились выписать людей из Европы? — проговорил Холлоуэй.
— Нет, это невероятно! — воскликнул Иванович. — Видно, что вы не знаете России… А полиция?! Тут не оберешься объяснений, зачем, почему и для какой надобности понадобились графу эти люди… Я боюсь другого!
— Чего же именно?
— Наших же людей!
— Как так?! — воскликнул изумленный американец.
— А очень просто! Русский человек — фанатик, но вовсе не прирожденный убийца. Если ваши враги станут стрелять первые, то дело пойдет на лад: наши люди не останутся в долгу, не задумаются искрошить их в окрошку. Но если граф догадается сказать им: «Чего вы хотите от нас? Мы — мирные путешественники; у нас есть паспорта, подписанные высшими властями, и разрешение вашего батюшки-царя! Подумайте, что вы хотите делать!..» Тогда…
— Что тогда? — спросил Ивановича его собеседник.
— Тогда нам ни за что не заставить наших людей поднять на них руку. Если они же не схватят и не арестуют нас, то, во всяком случае, обратятся к вмешательству оренбургских властей, и наш план окончательного расчета с нашими врагами рухнет и, быть может, даже навлечет на меня неприятности.
— Но раз граф и его друзья идут по нашим следам, то неужели они обратятся к нашим людям с такими словами?
— Вы забыли, что они рассчитывают захватить нас врасплох. И кто может знать, что они сделают, когда увидят, что на нашей стороне сила?!
— Вы поздно об этом подумали, Иванович, что же вы думали раньше?..
— У меня не было выбора… надо было покончить с этим делом. Но я сейчас стою за свою идею, за исключением, быть может, некоторых подробностей.
— Какие же это подробности? — спросил Холлоуэй, начинавший сомневаться в смелости и решимости своего компаньона.
Иванович по обыкновению в решительный момент трусил, изыскивал средства подсунуть вместо себя других, а самому спрятаться за их спинами.
— Я рассчитываю на помощь Черни-Чага. Чтобы попасть в монастырь, нашим врагам придется проехать через здешний перевоз. Измученные дорогой, они захотят отдохнуть… И вот, ничего не может быть легче, как обезоружить ночью эту горсть друзей графа. Завладев этими господами, Черни-Чаг доставит их нам в монастырь, где мы в течение двух часов расстреляем их по приговору военного суда, состоящего, конечно, из безусловно преданных нам людей.
— Право, я должен вас поздравить, — воскликнул Холлоуэй. — Это мастерски придуманный прием, который не может не удаться!
— В эту ночь состоится в молельне селения совещание старшин, созванных перевозчиком Черни-Чагом по моему настоянию; священник на нашей стороне, а это большой козырь. Я виделся с ним сегодня днем и рассказал ему по-своему положение дел; графа будут судить за измену белому царю и Святой Руси.
Действительно, скоро явился перевозчик и пригласил их на собрание. Здесь собравшимся в тиши ночи простодушным людям Иванович описал графа и его друзей такими извергами, что собрание единодушно поклялось во что бы то ни стало овладеть мнимыми изменниками родины и представить их на суд.
Предусмотрительный Иванович не предвидел одного: какой-то человек, притаившийся в церкви, все время подслушивал, что говорили, затем, когда собрание разошлось, бросился к реке и, не переводя духа, побежал вдоль берега. Остановился он лишь на расстоянии версты от избы Черни-Чага. Здесь он поднес к губам пастушеский рожок и извлек из него два резких звука. Почти тотчас же с того берега реки раздались такие же два резких звука.
В этот момент выглянувшая из-за туч луна озарила этого человека: то был странник, предупреждавший Черни-Чага о приближении Черных всадников.
XIX
Что сталось с Джильпингом. — Из любви к науке. — Лорд Воанго. — Проект князя Свечина. — Отъезд в Астрахань. — Депеша. — Трогательный приезд.
Молодой граф Оливье со своим другом Диком Лефошером, капитаном Спайерсом и остальной свитой прибыл уже с месяц тому назад в Астрахань, куда еще раньше их приехал князь Свечин, предоставивший в их распоряжение один из своих дворцов. Они намеревались направиться в киргизские степи, чтобы в последний раз сразиться со своим общим непримиримым врагом, «человеком в маске», которого они теперь по крайней мере знали и в лицо, и по имени. И не раз, собравшись вместе и беседуя о предстоящей им трудной задаче, они вспоминали славного Джона Джильпинга, оказавшего им не одну важную услугу в этом самом деле; вспоминались им и слова почтенного джентльмена, сказанные им при прощании:
— Будьте уверены, друзья, что, когда пробьет час расплаты и возмездия, Джильпинг будет на месте! Клянусь, что не займу своего места в палате лордов раньше, чем не увижу казни этого предателя Ивановича!
Однажды, когда все собрались для совещания в большой приемной зале дворца Свечина, граф Оливье получил телеграмму, которою тотчас же поспешил поделиться со своими друзьями. Телеграмма гласила: «Я приезжаю с Пасификом. Лорд Воанго».
Известие это было встречено общим взрывом радости.
Оставшись один в Австралии, Джон Джильпинг окончил разбор своих богатых коллекций, предназначенных для Британского музея. Но в тот момент, когда все было готово, он вдруг вспомнил, что у него нет одной маленькой зверюшки, которую туземцы называют «богуи-богуи», а англичанин наименовал Lacerta gilpinensis, род маленькой ящерицы. Этикетка уцелела, но сама ящерица исчезла. Отправить коллекции без этого редкостного животного нечего было и думать! Это была редкостная желтая ящерица с рогом на голове, еще неизвестная ученому миру и подробно описанная им в ученом докладе, ящерица, которою он рассчитывал обеспечить бессмертие своему имени.
И вдруг этакое сокровище пропало! Ему ничего более не оставалось, как заменить исчезнувший экземпляр другим. Но так как эти ящерицы встречались только в самых глухих дебрях страны нирбоасов, то Джильпинг, ни минуты не задумываясь, воссел на своего осла и снова направился в глубь страны.
Спустя три месяца он снова вернулся в Мельбурн с драгоценным экземпляром ящерицы, но — увы! — она досталась ему на этот раз дорогой ценой: встреченный отрядом нирбоасов и признанный за бывшего кобунга нготаков, Джильпинг был захвачен дикарями, уведен в их деревни и провозглашен кобунгом. А чтобы застраховать себя от похищения кобунга каким-нибудь из других туземных племен, нирбоасы, невзирая на протесты злополучного Джильпинга, растатуировали его эмблемами своего племени — тремя концентрическими кружками, изображенными один на конце носа, другой — вокруг губ и третий — на подбородке. Как это ни странно, но доблестный англичанин скоро утешился, во-первых, потому, что он нашел свою ящерицу, а затем, как человек практический, он рассчитывал извлечь из этого неприятного обстоятельства немалую для себя выгоду: она создавала ему репутацию «мученика науки».
Освобожденный нагарнуками, узнавшими о плене его, Джильпинг поспешил вернуться в Мельбурн со своей знаменитой ящерицей и, наконец, отправил все свои коллекции и ученые труды в Лондон, куда вслед за тем отправился и сам.
Прибытие его в Лондон было встречено целым рядом оваций, банкетов и речей. Он даже имел честь представиться королеве Виктории и получил титул лорда Воанго.
Тут он вспомнил о своем обещании друзьям и, проведя несколько дней в кругу родной семьи, решил, запастись съестными припасами, отправиться в Россию, причем не забыт был и его верный Пасифик.
Прибыв в Париж, Джильпинг прежде всего наведался к старому маркизу д'Антрэгу, от которого узнал об отъезде его сына в Астрахань.
Не теряя ни минуты времени, Джильпинг с ближайшим поездом отправился в Москву вместе со своим неразлучным Пасификом, отправив предварительно уже известную нам телеграмму.
Между тем после событий, разыгравшихся в «доме повешенных», Люс и Фролер пустились по следу «человека в маске», бежавшего с первым утренним поездом в Россию. Спустя несколько дней сыщики вернулись в Париж, прекрасно осведомленные о маршруте и намерениях Ивановича, который на этот раз, желая заманить своих врагов в глубь киргизских степей, не только не старался скрыть своих следов, а, напротив, умышленно устраивался так, чтобы можно было без труда проследить весь его путь от Парижа до Астрахани.
Но так как на этот раз желания Ивановича совпадали с желаниями Оливье и его друзей, то этот ловкий прием ничуть не изменил намерений Оливье преследовать его до края земли, не зная отдыха и покоя.
Когда вернувшийся из Москвы Люс и Фролер сообщили, что развалины монастыря в уральской степи были избраны местом сборища Невидимых, то им поручили набрать сотню надежных людей, вооружить их и провезти в уральские степи.
Когда было принято это решение, князь Свечин отсутствовал: он усиленно хлопотал об отпуске для себя под предлогом, что его громадные поместья требуют его немедленного присутствия, а в сущности, для того только, чтобы иметь возможность присоединиться к своим новым друзьям и содействовать их планам.
Получив десятимесячный отпуск, он поспешил к графу Оливье, а тот в свою очередь сообщил ему о тех мерах, которые были приняты им для осуществления своего плана.
Но князь, к удивлению Оливье, далеко не одобрил их.
— Простите, граф, — говорил он, — но вы, по-видимому, совсем не знаете России. Ваш проект совершенно неосуществим, вы только попадете в лапы нашего смертельного врага. Во-первых, я готов поручиться, что господину Люсу, как ни велика его ловкость, никогда не удастся доставить в Астрахань, не возбудив подозрений русской полиции, сто человек иностранцев. Во-вторых, допустив даже, что каким-нибудь чудом их и удалось доставить в Астрахань, как их собрать здесь? Ведь в первый же раз, как вы вздумаете собрать где-нибудь ваших людей, тотчас нагрянет полиция, арестует их и потребует от вас объяснения ваших намерений, чего вы не сможете дать… Наконец, как справятся эти люди с местными условиями, совершенно незнакомыми им? Далее, разве не кажется подозрительным, что господа Люс и Фролер так легко узнали о месте съезда Невидимых, тогда как до этого времени вся русская полиция оставалась в полном неведении относительно избранного места сборища?! Что касается меня, то я глубоко убежден, что это не что иное, как ловушка, в которую Иванович решил заманить вас и из которой никто из вас не должен выйти живым!
Речь князя была встречена глубоким молчанием: все невольно сознавали, что он был прав.
Оливье совсем пал духом.
— Но что же нам делать? — печально спросил он. — Неужели отказаться от мщения?
— Вовсе нет, — живо возразил Свечин. — Неисполним не самый план, а способ осуществления его. Имейте в виду, что, насколько русские власти относятся подозрительно к иностранцам и даже к русским, приезжающим из другой части России, настолько беспечны по отношению к кочевникам, бродящим между Астраханью и Уральском, Оренбургом, Хивой и Бухарой. О них никто не справляется. Все эти люди — прирожденные воры и грабители, и из них я берусь набрать для вас какой угодно отряд!
— Вы становитесь нашим провидением, князь! — воскликнул повеселевший Оливье. — Я совершенно было пал духом: ведь для меня наказание Ивановича — счастье всей моей жизни!..
— Я это знаю, — отвечал князь, — знаю все ваши удивительные приключения и даже больше, знаю то, чего вы не знаете: знаю те темные махинации, которые были пущены в ход, чтобы добиться ссылки князя Васильчикова в Сибирь. В свое время я помогу вам доказать его полную невинность!
— Если в вашей власти помочь мне в этом деле, я буду вашим другом на жизнь и смерть!
— А разве это теперь уже не так? — улыбнулся князь. — Разве мы не друзья на жизнь и смерть, мой милый Оливье? Позвольте мне называть вас так, и называйте меня сами не иначе, как просто Алексис! Вы спасли меня от самой ужасной смерти, и с этого момента моя жизнь, мое состояние, мое влияние и связи — все к вашим услугам.
— О, благодарю вас, мой дорогой Алексис, позвольте же мне только спросить вас об одном: каким образом князь был сослан в Сибирь?
— По личному указу государя, и только личный же указ может его вернуть!
— Но почему же и княжна пострадала вместе со своим отцом? — спросил Оливье.
— Княжна вовсе не пострадала: ее поместили в монастырь благородных девиц совсем не в наказание, а как сироту до ее совершеннолетия… Когда она достигнет последнего, то получит право покинуть монастырь. Но не будем более касаться этих вопросов, мой милый Оливье! Я не вправе отвечать вам на все ваши расспросы теперь. Следствие производится, и, когда придет время, вы найдете меня на вашей стороне, и правда восторжествует… А пока займемся исключительно только нашим общим делом! Я сегодня же вечером еду в Астрахань, где мне надо быть несколько раньше вас, чтобы приготовить все для приема вас и ваших друзей.
Затем разговор перешел на чисто деловую почву: обсуждали количество необходимого оружия, которое следовало закупить во Франции и которое только князь Свечин мог в качестве дипломата безнаказанно провезти в Россию; затем надо было позаботиться о приобретении надлежащих паспортов для Оливье и его друзей.
Спустя три недели наши друзья были уже в Астрахани во дворце гостеприимного князя. Последний сейчас же стал развлекать их охотами, гуляньями, катаньями и обедами.
— Не надо, чтобы вас могли заподозрить, что вы явились сюда с какой-нибудь определенной целью, — говорил он, — старайтесь делать вид, что вы просто веселитесь, и ничего более! Все остальное я беру на себя!
Астрахань город любопытный, полуазиатский и торговый, а потому Оливье настолько увлекался совершенно новым для него характером этого города, его пестрых базаров, его шумной торговлей и странной смешанной толпой его населения, что без особого нетерпения дожидался момента, когда нужно будет начать действовать. Напротив, Дик и капитан Спайерс изнывали от скуки. Самого князя его гости видели только за столом, где он неизменно присутствовал в роли радушного и любезного хозяина.
Что касается Люса и Фролера, то, объяснив графу, что пока их услуги не нужны, они отправились побродить по окрестностям и ознакомиться со страной, как простые туристы.
Наконец столь долго ожидаемый решительный момент настал: однажды вечером, по окончании обеда, вместо того чтобы по обыкновению проститься со своими гостями, князь Свечин попросил их перейти из столовой в большую залу, куда приказал подать кофе. Все были в сборе, даже и оба полицейских агента, Люс и Фролер, как раз в этот день вернувшиеся из своих странствований.
В это время как раз подали телеграмму от Джильпинга.
— Господа, — сказал Свечин, когда радостное волнение, вызванное депешей почтенного джентльмена, несколько улеглось, — я пригласил вас сюда, чтобы сообщить результаты моих усилий за этот месяц и вместе с вами с общего совета назначить день и час отправления. Но только что полученная депеша побуждает меня отложить мои сообщения до приезда вашего общего приятеля, принимавшего столь деятельное участие в вашей истории!
Все единогласно согласились с князем, после чего он попросил позволения удалиться, так как должен был повидаться с одним человеком, которого намеревался сегодня представить им, но ввиду изменившихся обстоятельств решил отложить и это представление до приезда мистера Джильпинга.
Спустя десять дней достопочтенный лорд Воанго, сидя на своем доблестном Пасифике, въезжал в Астрахань.
Его крупный, солидный живот и татуированный нос, и без того расцвеченный яркими красками ввиду обилия поглощаемых им спиртных напитков, были так комичны, что молодой князь с трудом удерживался от смеха. Но когда достопочтенный Джильпинг поднес ко рту свой неразлучный кларнет и по своему обыкновению заиграл псалом, Свечин не выдержал и разразился громким смехом.
Когда все мало-помалу угомонились, Джильпинг пересказал своим друзьям все свои приключения со времени их отъезда из Австралии, а те со своей стороны рассказали ему обо всем случившемся с ними в Париже.
В этот же вечер должно было состояться общее совещание, отсроченное до приезда лорда Воанго. К назначенному времени все собрались в большой зале. Князь на минуту отлучился, затем вернулся в сопровождении пожилого человека, лет пятидесяти, воинственного вида, геркулесовского телосложения, который обвел присутствующих испытующим взглядом, но не промолвил ни слова.
— Господа, — сказал князь, — позвольте вам представить Данилова, моего старого и верного слугу, бывшего крепостного нашей семьи; он отказался от воли, чтобы неотлучно состоять при мне. Его предок спас моего предка, и его семья насчитывает, так же как и моя, десятки поколений!
XX
Данилов, степной бродяга.
Конечно, европейская цивилизация коснулась высших классов русского общества, но громадная народная масса оставалась еще на уровне средних веков, и с этим необходимо было считаться, если хотели чего-нибудь добиться.
Нетрудно себе представить, какую страстную жажду мщения испытывал молодой князь Свечин по отношению к Ивановичу, заставившему его пережить самые ужаснейшие моменты его жизни, отчаяние и ужас в душном гробу. Кроме того, он не мог забыть, что он унижался, просил и молил этого выскочку — Ивановича. Ах, что он готов дать, чтобы только держать его в своих руках: он заставит его испытать во сто раз худшее, чем испытал сам!
Свечин прибыл в Астрахань ночью: ради успеха задуманного им плана необходимо было, чтобы Иванович не подозревал о его присутствии в Астрахани. Никто не сопровождал его. Дворец князя находился на расстоянии чуть не целой версты от того дома, где остановились Иванович и Холлоуэй. В заколоченном и пустом доме Свечина жили только два человека: Иван Баринов, управляющий всеми поместьями князя по побережью Каспийского моря и по Волге, и дворовый Данилов, состоявший привратником дома.
Этот Данилов был бывший главный табунщик, исколесивший всю степь вдоль и поперек. Когда он состарился, ему предоставили место привратника. Данилов был безгранично предан Свечиным и готов был идти на смерть по первому слову своего молодого господина.
Прибыв в Астрахань, князь задами добрался до своего дворца, через маленькую калиточку в огородной изгороди проник в свой дом и прямо прошел в кабинет Ивана Баринова, который чуть было не лишился чувств при виде молодого князя.
— Вы здесь, ваше сиятельство, и никого из нас не предупредили? Боже мой, у нас ничего здесь не приготовлено для вашего приема! — засуетился он.
— Я здесь инкогнито, Иван, никто не должен знать о моем присутствии! — сказал князь.
— Слушаю, — проговорил Баринов, — ваша воля для меня закон; вы знаете, что на меня и на Данилова смело можете положиться!
— Я знаю вашу преданность и рассчитываю на нее, друзья; выслушайте меня. Вы, конечно, слышали о существующем обществе Невидимых. Общество это получило такое название вследствие того, что его главари неизвестны, о них только догадываются!
— Я что-то слышал об этом! — заметил управляющий.
— Так вот, пользуясь тем, что члены этого общества не знают своего главаря, управляющего ими, шайка негодяев, имеющих, по-видимому, хорошие связи в высших сферах, вздумала использовать в свою пользу громадную силу, власть и капиталы этого общества и сделала это так ловко и умело, что до сего времени не было никакой возможности уличить их. Мне было поручено проследить их в Париже, где некоторые из их действий возбудили подозрения Третьего отделения. Об этом проведали мнимые Невидимые и решили стереть меня с лица земли!
— Вы меня пугаете, князь! — воскликнул Баринов.
— Меня заманили в западню, — продолжал князь, — связали и отвезли в заброшенный дом на окраине города. Сюда явился мнимый генерал Хосе де Коррассон и какой-то человек в маске, который объявил, что я приговорен к смерти Верховным Советом Невидимых и что приговор этот будет немедленно приведен в исполнение: я буду живым зарыт в землю!
— Боже правый! Отчего не было при вас никого из ваших верных слуг! — воскликнул управляющий.
— Покажи мне свое лицо, негодяй, — сказал я, — чтобы мне знать хоть, кто — мой палач! «Пусть так, если ты этого непременно хочешь, — проговорил „человек в маске“, — все равно, злоупотребить этим тебе не удастся!» И он сорвал с себя маску. Представь себе мое удивление, когда я увидел перед собой отставного казачьего полковника Ивановича!
— Того самого, у которого есть здесь собственный дом?
— Ну да! Тогда я увидел, что бесповоротно погиб. Но у меня явилась счастливая мысль попросить позволения написать последнюю волю; это дало мне возможность выиграть время, и, вероятно, этому обстоятельству я обязан своею жизнью, так как в то время, как меня уже заколачивали в заранее припасенном деревянном гробу, я вдруг услышал шум и пистолетные выстрелы… Затем кто-то отколотил мой гроб и вернул меня к жизни. Моим спасителем оказался молодой француз, граф Лорагюэ д'Антрэг, который уже более двух лет борется с этими мнимыми Невидимыми, главарем которых является Иванович. Молодой граф рассказал мне свои невероятные приключения и свои планы; мы с ним очень скоро сошлись. Он дал клятву преследовать Ивановича, которому тогда удалось благополучно бежать от нас, и покарать его за все злодеяния.
— Ах, князь, пусть они лучше не отваживаются преследовать Ивановича здесь, в уральских степях, где наше полудикое население всецело будет на его стороне. Заранее можно поручиться, что из лих иностранцев, которых Иванович, по-видимому, нарочно постарался заманить в степи, ни один не вернется живым на родину!
— Да, но ты забываешь, что теперь граф не один: с ним и я заодно! Я также поклялся захватить этого Ивановича живым или мертвым и учинить над ним ту же расправу, какую он хотел учинить надо мной!
— Зачем вам это, ваше сиятельство?! У вас есть свидетели, вы можете прямо обратиться к государю, и с негодяем поступят по всей строгости закона!
— Ты ошибаешься, мой добрый Баринов! Эти мнимые Невидимые имеют громадные связи в высшем кругу. Им уже удалось добиться ссылки в Сибирь ни в чем не повинного князя Васильчикова, отца невесты молодого графа д'Антрэга, только потому, что они зарятся на его миллионные уральские прииски и золотые россыпи. Мы не знаем, какие крупные лица принимают участие в этой шайке, кто замешан и скомпрометирован в этом деле. Приятно ли будет государю узнать о причастности ко всем этим преступным деяниям лиц, близко стоящих к нему?! Во всяком случае, несомненно, что в случае огласки этого дела мнимые Невидимые найдут себе очень сильную поддержку, и в лучшем случае мы добьемся разве, что Ивановича сошлют в Сибирь. Но разве я этого хочу?! Нет! Никогда в жизни я не забуду тех трех часов, которые провел перед своим гробом в двух шагах от вырытой для меня могилы, и тех нескольких минут, которые я провел в гробу, слыша, как заколачивали надо мной его крышку! Нет, я не буду иметь ни минуты покоя, пока не отомщу этому человеку!
— Да, князь, может, вы и правы… Надо обдумать, как всего лучше управиться с этим негодяем, если только позволите вашему старому слуге принять участие в ваших планах.
— Да, я именно с этой целью и рассказал тебе о всем, мой милый Баринов!
— Но не следует ли опасаться, что смерть Ивановича вызовет мщение со стороны этих влиятельных и могущественных сообщников, о которых вы только что упоминали?
— Этого нечего опасаться; напротив, устранив этого человека, мы многим окажем серьезную услугу, избавив неосторожных, завлеченных им в его сети и обманутых им людей от этого домоклова меча, который теперь висит над ними. До тех пор пока его ловкие махинации оставались в тайне, все были довольны, но с тех пор, как в Петербурге стали поговаривать, что какие-то смелые авантюристы стали, прикрываясь влиянием общества Невидимых, злоупотреблять его кредитом для своих низких целей, большинство влиятельных лиц, впутанных Ивановичем в операции, дорого бы дали, чтобы вырваться из когтей этого негодяя; но они боятся его!
— Понимаю, князь, но во всяком случае нужно соблюдать крайнюю осторожность! Я бы советовал воспользоваться опытностью нашего Данилова. Он предан вам всею душой; к тому же степь не имеет от него тайн… В этом деле он незаменим!
— Делай как знаешь! — отвечал князь.
Управляющий поспешил вызвать Данилова, который при виде князя выразил такие знаки трогательного почтения, что князь прослезился.
Не теряя времени, Свечин сообщил ему подробности своего пленения Невидимыми, рассказал о графе и его друзьях и заявил, что хочет во что бы то ни стало овладеть Ивановичем.
Выслушав внимательно князя, Данилов отвечал:
— Здесь один только человек может помочь нам. Это атаман Черных всадников Хашим-баши, которому мне удалось спасти жизнь. Он в долгу предо мною и обещал помочь мне, когда бы я ни захотел этого!
— А где можно найти его?
— Нужно направиться в странноприимную общину и там спросить отца Николая!
— Так идем же туда!
XXI
Монастырь странноприимцев. — Отец Николай.
Была ночь. Все спало в городе, кроме бродячих псов и голодных волков, которые после заката солнца обыкновенно рыскают вокруг города. Двое мужчин крадучись вышли из задней калитки дворца Свечиных и темным переулком направились к окраине, где находилась странноприимная община. Молча добрались они до громадного каменного здания, более похожего на неприступную крепость, чем на мирную обитель.
В России, кроме настоящих, узаконенных монастырей, немало добровольных общин, не подчиняющихся никакому уставу; живут они милостыней жертвователей. В народе эти общежития иногда пользуются большим уважением; иногда же к ним относятся совершенно безучастно. Нередко случалось, что под скромным одеянием таких братцев скрывались самые заправские бродяги, фальшивомонетчики, грабители, беглые.
Про странноприимную общину особенно дурных слухов не было. Но и хорошего говорили мало. А шепотом, украдкой передавали кое-какие темные слухи, рисовавшие жизнь общинников совсем не в этом виде, как она представлялась напоказ. Но не будем забегать вперед.
Данилов еще днем разузнал, когда ему можно видеть отца Николая. Ему назначили время от 10 до 11 час вечера. И вот он, вместе со своим господином, поспешил на свидание.
Таинственные незнакомцы, пробиравшиеся в эту ночь к общине странноприимцев, были именно они.
Подойдя к воротам общины, они хотели было постучаться, как услышали позади себя шум приближающихся шагов. Инстинктивно они притаились за одной из массивных колонн входа, и почти тотчас же мимо них скользнула, как тень, какая-то мужская фигура. Незнакомец постучался сильно равномерными ударами, в ответ на что маленькая боковая калиточка в стене беззвучно отворилась, и слабый луч света упал прямо на лицо входящего.
— Иванович! — прошептали почти в один голос князь и его слуга.
— Зачем он пришел сюда и в такое время? — сказал князь. — По-видимому, он здесь свой человек!
— Не войти ли и нам за ним? — спросил Данилов.
— Ты не думаешь, что мы, поступив так, совершим неосторожность?
— А чем мы рискуем? — спросил Данилов. — В сущности, ведь мы пришли к назначенному времени: нас ждут!
С этими словами он подошел к калитке, куда прошел Иванович, и убедился, что она осталась незапертой. Он тихонько толкнул ее, и глазам пришедших открылся длинный слабо освещенный коридор. Они сделали несколько шагов вперед, почти не рассуждая, затем стали осторожно пробираться дальше. Пока они не замечали ничего особенного, но этот длинный едва освещенный коридор, конца которого не было видно, навеивал на них какое-то смутное ощущение опасности.
— Не вернуться ли нам назад? — сказал Данилов.
— Может быть, действительно нам следовало быть осторожнее! — согласился князь и остановился.
В этот момент до их слуха донесся шум голосов и как будто крики и пение, но за отдаленностью трудно было различить, что это были за голоса.
— Это не церковное пение! — с уверенностью заметил князь.
— Да, скорее, застольные песни. Слышите топот ног, словно там где-то пляшут и пируют!
— Ты прав! — сказал князь, и звуки этой пирушки побудили его идти дальше. — У тебя оружие при себе? — обратился он к Данилову.
— При себе, ваше сиятельство!
— Ну, так вперед!
И они стали осторожно подвигаться дальше; крики и пение раздавались все громче и яснее; вскоре не осталось уже ни малейшего сомнения, что в общине пировала многочисленная шайка грабителей.
Еще несколько сажен — и сквозь арку, ведущую в обширное подземелье, князь и его слуга увидели около сотни бражничавших бородатых людей. Все они были уже навеселе.
Вдруг один из присутствующих громко провозгласил:
— За твое здравие, Хашим-баши! Так, значит, я могу положиться на твое слово? Ты не забудешь, что мне обещал?
— Ваше превосходительство, Хашим-баши всегда держит свое слово. Будьте здоровы!
— Это голос Ивановича, — сказал князь, — этот негодяй явился сюда подговорить Черных всадников помочь ему.
— Ваше сиятельство, Хашим-баши встает; нам пора уходить! — прервал его Данилов.
В этот момент со всех сторон раздались сиплые голоса собутыльников:
— Куда ты, Хашим-баши?.. Останься с нами… Или тебе наскучило опоражнивать чары! Полно, не уходи, ты должен быть нашим атаманом и за столом, как в бою! — кричали ему со всех концов.
Но Хашим-баши оставался непреклонен.
— Молчите, товарищи! Я сейчас жду к себе гостя!
— Слышите, ваше сиятельство? Нам надо спешить! — снова шепнул князю Данилов, и оба направились к выходу, к монастырским воротам, у которых Данилов постучался довольно громко. Им отпер сам отец Николай, уже преобразившийся из Хашима-баши в степенного инока.
— Чего вы желаете, братие? — спросил он, ласково глядя на пришедших.
— Мы желаем говорить с отцом Николаем!
— Он перед вами!
— Мы испросили у вас разрешения повидать вас, и вы сами назначили нам это время!
— Так, так! — проговорил отец Николай. — Прошу пожаловать. Ночь прохладна; нам с вами лучше будет побеседовать в моей скромной келье чем здесь, на дворе! Следуйте за мной!
И мнимый монах повел их в другой конец здания, противоположный тому, где его товарищи все еще продолжали свою оргию. Вскоре посетители очутились в опрятной, скромно и бедно обставленной келье, обычного монастырского вида.
— Милости прошу садиться, гости дорогие! — пригласил мнимый монах. — Расскажите, что привело вас ко мне!
Данилов, назвав себя, но умолчав о князе, рассказал, что, полагаясь на обещание Хашим-баши помочь ему в случае нужды, явился сюда по данному атаманом адресу.
— Так, так, — кивал головой мнимый отец Николай. — Ну, а скажите, какую же услугу вы просите оказать Хашим-баши!
— Это тайна, которую я должен сообщить только атаману! — твердо произнес Данилов.
— Митька, полно играть комедию! — вдруг воскликнул князь, все время пристально вглядывавшийся в монаха.
Тот с яростью вскочил с места.
— Кто бы ты ни был, — воскликнул он, побагровев от гнева, — ты этими словами произнес свой смертный приговор; только один человек в мире мог бы говорить со мной так… и никто другой! — И он кинулся на князя.
Но Данилов был настороже. Одним сильным движением руки он прижал к стене Хашим-баши, промолвив:
— Стой, это князь Свечин!
Едва только Данилов проговорил эти слова, как гнев атамана точно рукой сняло.
— Князь Свечин! Батюшка! — бормотал мнимый монах глубоко взволнованным голосом. — А я не узнал было тебя!
— А я так сразу узнал, несмотря на твое переодевание! — проговорил князь.
Оказалось, грозный атаман Черных всадников был когда-то крепостным деда Свечина. Молодой князь, которому тогда было лет десять, не раз избавлял сорванца Митьку, так звали бойкого мальчишку, приставленного для услуг барина, от грозивших ему от старого князя суровых наказаний за его многочисленные проделки.
И Митька проникся к своему заступнику чувством глубокой преданности, что, впрочем, не мешало ему впоследствии удариться в бега.
Однако чувство благодарности было еще живо в нем и теперь, и при звуке голоса молодого князя он разом превратился в прежнего почтительного слугу.
— Что угодно приказать вашему сиятельству? — спросил он.
— У меня есть непримиримый враг, с которым я решил бороться не на жизнь, а на смерть, я или он должен умереть! — начал Свечин.
— Кто он такой?
— Отставной казачий полковник Иванович!
— Иванович?!
— Да, он самый, главарь шайки негодяев, которые под прикрытием общества Невидимых обделывают свои делишки. Теперь он старается заманить нас в развалины монастыря в степи, чтобы там уничтожить так, чтобы никто даже не узнал о нашей смерти!
— Вот как… Ну, теперь я все понимаю! — сказал бывший крепостной. — Прекрасно, этот негодяй попадется в свои же сети. Но пройдет месяц, как кони Черных всадников снова огласят степь своим ржанием! Будьте спокойны, ваше сиятельство!..
На другой день после того, как Свечин приобрел такого союзника, как Митька, или Хашим-баши, и его молодцов, грозу всей степи, молодой граф Оливье со своими друзьями благополучно прибыл в Астрахань.
Как мы уже видели, в интересах сохранения в тайне приготовлений к задуманной экспедиции в степь князь Свечин счел нужным до поры до времени ничего не сообщать о плане, выработанном Даниловым и Хашим-баши, отложив эти сообщения до того момента, когда он представит им Данилова в день приезда мистера Джильпинга. Только Люс и Фролер знали обо всем и содействовали успеху приготовлений; под всевозможными костюмами, то под видом нищих, то под видом разносчиков или торговцев на базаре, то под видом странников, следили они за Ивановичем и Холлоуэем, и так зорко, что ни одно их движение не могло укрыться от ловких сыщиков.
Приготовления к экспедиции быстро подвигались вперед.
Однако и враг не дремал: Иванович со своей стороны усеял весь путь по степи засадами, ловушками и западнями, так что враги его могли избежать одной из них лишь для того, чтобы попасть в другую. Он сговорился с пятью или шестью кочевыми ордами киргизов и, описав им внешние признаки графа Оливье и его друзей, которых кое-кто из кочевников мог видеть в Астрахани, пообещал за голову каждого из них крупную награду. Ценою награды он привлек на свою сторону и других кочевников. Наконец, ему обещали помогать, как мы уже знаем, табунщики во главе с Черни-Чагом, и Черные всадники, с Хашим-баши. Но именно эти излишние предосторожности на этот раз и погубили его: Черные всадники стали орудием его гибели.
Однако эту контринтригу необходимо было держать в строжайшей тайне, так как Хашим-баши мог располагать только какой-нибудь сотней человек, числом, в сущности, ничтожным по сравнению с количеством сторонников, которых мог в данном случае выставить против них Иванович. Но, рассчитывая на отвагу своих молодцов и тот страх, который они внушали всему населению степи, атаман не пожелал других, посторонних союзников, тем более что привезенные князем из-за границы ружья с репетиторами в крайнем случае, уравнивали шансы.
Было решено, что Хашим-баши отправится со своими всадниками к развалинам монастыря как бы по приглашению главаря Невидимых. В то же время граф д'Антрэг в сопровождении свиты и человек двадцати табунщиков, из которых каждый в отдельности был хорошо известен Данилову, должны были не спеша, помаленьку проследовать степью, избегая почтового тракта, где подкупленные Ивановичем кочевники могли подстеречь путешественников и напасть врасплох.
Не доезжая несколько верст до развалин, Хашим-баши со своими всадниками должен был остановиться в степи, чтобы дать время подоспеть князю и молодому графу с их свитой. Здесь решено было всем облечься в маски Черных всадников и двинуться прямо на монастырь, который надеялись оцепить со всех сторон, когда сторонники Невидимых всего менее ожидают этого.
Этот план был всеми одобрен, и после заката солнца решено было тронуться в путь.
Молодой князь и Оливье составили свои завещания на всякий случай и вручили их Баринову. Незадолго до заката, разбившись на небольшие кучки, по нескольку человек в каждой, участники экспедиции тронулись разными путями к условленному месту.
XXII
Караван, затерявшийся в степи. — Бегство Джильпинга. — Изба Черни-Чага. — Странник. — Измена.
Первая часть пути через зеленый океан степи совершилась благополучно, без всяких особых приключений. Маленький отряд состоял из тридцати двух человек, в том числе 20 табунщиков и одного казака, служившего проводником. Остальные же участники экспедиции уже достаточно знакомы читателю. В том составе, в каком представлялся теперь этот маленький отряд, вооруженный усовершенствованным заграничным оружием, смело мог не бояться небольших орд кочевников, постоянно рыскающих по степи, но, конечно, не мог вступить в открытый бой с целым кочевым племенем. Ввиду этого наши путешественники пошли окружным путем, минуя большие дороги и почтовый тракт, по которому двигались караваны и разбойничьи шайки.
На протяжении двух третей пути до перевоза Черни-Чага местность была плодородная; всюду паслись бесчисленные стада. Здесь было сравнительно спокойнее и от разбойников. Последняя же часть пути пролегала уже по совершенно бесплодной песчаной пустыне, где не дай Бог быть застигнутым ураганом! Бывали случаи, что песчаная буря погребала под собою целые караваны.
За песками начинались солончаки, где кристаллизованная соль, лежавшая сплошным толстым слоем, издали представлялась как бы спокойной водною поверхностью.
Прежде чем вступить на эту часть пути, были сделаны громадные запасы свежей воды, которая здесь была более необходима, нежели съестные припасы.
Передохнув в плодородной части степи, на границе песков, в одном селе, наши путешественники уже собирались тронуться в дальний путь, как к Свечину подошел сельский староста.
— Ваше сиятельство, — проговорил он, — лучше бы вам не заезжать в пески: не дай Бог, случится буря, вам не сдобровать!..
— Нет, мы должны ехать! — твердо ответил князь.
— Тогда хоть возьмите проводника… У нас есть тут один; зовут его Степан. Он знает эти проклятые пески, как свои пять пальцев!
Свечин посоветовался со своими друзьями и с их одобрения пригласил Степана, почтенного мужика лет 50-ти, но еще бодрого и энергичного.
Руководимые им, путешественники бодро тронулись в путь. Однако на первых же порах представилось одно затруднение, о котором никто раньше не подумал, хотя его и легко было предвидеть: Пасифик, привыкший идти легкой трусцой, не поспевал за горячими степными конями. Что было тут делать?
Умерить аллюр настолько, чтобы Джильпинг мог следовать за остальными, нечего было и думать; при таких условиях потребовалось бы чуть не две недели на то, чтобы добраться до перевоза, а это было все равно что совершенно отказаться от задуманного плана.
Затруднения удачно разрешил сам же почтеннейший джентльмен, из-за которого и произошла заминка.
— Господа, — начал он, — как известно, культурные расы утратили, в смысле физической выносливости и силы, то, что они выиграли в смысле интеллектуальных способностей, а потому для меня столь же невозможно нестись по степи с быстротой двадцати или тридцати верст в час, так жонглировать на площади шестипудовыми гирями!
— Совершенно верно, — согласился князь, — у каждого свои способности, милорд!
— Вы правы, господа, и пэр Англии не должен компрометировать своего достоинства перед лицом всякого сброда!
При этих словах англичанин метнул злобный взгляд на пересмеивавшихся табунщиков, которые не могли удержаться от смеха при воспоминании о том, как досточтимый джентльмен сделал большую половину пути, лежа животом вниз на седле и обхватив обеими руками шею своего осла: пострадавшие седалищные части не позволяли ему принять сидячее положение, что чрезвычайно забавляло остальных наездников.
— Что же вы думаете сделать, милый Джильпинг? — спросил его Оливье.
— Вернуться назад в село; мы еще не так далеко отъехали, а оттуда я отправлюсь прямо к перевозу кратчайшим путем, по почтовому тракту, с одним проводником, в удобном экипаже. Я один ничем не рискую: кто же посмеет тронуть английского подданного?
Проект лорда Воанго встретил всеобщее одобрение. По почтовому тракту от села до перевоза было не более 20 миль, и Джильпинг мог свободно прибыть к перевозу одновременно со своими друзьями.
Немедленно перегрузили багаж Джильпинга на одного из вьючих коней, которого князь предоставил в его распоряжение. Устроившись снова на седле, к которому привязали большую подушку, на спине своего Пасифика, Джильпинг шагом тронулся по направлению к селу в сопровождении Тома, слуги капитана Спайерса, которого он предпочел в качестве проводника любому из табунщиков, предложенных ему князем.
Между тем путешественники, избавившись от заботы о тучном англичанине, снова пустились прежним аллюром по степи.
Оливье чрезвычайно волновался перед отъездом из Астрахани; он получил незадолго перед тем от княжны Марии Феодоровны одну из тех редких записочек, в которых та писала: «Надейся и бодрись». Но последняя записка была более знаменательной; в ней говорилось, что через шесть недель княжна достигнет совершеннолетия и что к этому времени она ждет к себе своего жениха в Петербург, чтобы вместе с ним повергнуть к ногам государя свои мольбы о помиловании ссыльного отца княжны.
И теперь графа невольно занимала мысль, выиграет ли он последнюю ставку в борьбе с ненавистным врагом.
Что касается Красного Капитана и князя Свечина, то они так горели жаждою мести, что только и помышляли о встрече с врагом, решив или погибнуть самим, или уничтожить его.
Между тем наступил вечер. Нужно было дать отдых утомленным лошадям; да и люди притомились. Решили раскинуть палатки. Но тут к князю подошел Степан и с озабоченным видом заметил:
— Я думаю, государь мой, что нам лучше бы не располагаться здесь на ночь, а дать только вздохнуть коням и ехать дальше!
— Почему так? — спросил князь.
— Потому что солнце садится, точно в пожаре! Глядите, по всему небу протянулись багровые полосы; в эту ночь непременно подымется буран, и горе нам, государь мой, если мы очутимся в самом столбе бурана: тогда никто из нас не доживет до утра!
— Ты прав… Но ведь за песками начинаются солончаки, где соль лежит тяжелыми пластами, там мы будем в безопасности!
— Да, только бы нам туда добраться!
— А далеко ли это отсюда?
— Да верст сорок будет; раньше как в четыре часа нам не доскакать, а буран заиграет, быть может, и через час или через два!..
— Хорошо! Попробуем уйти от бурана! — И князь тотчас же распорядился не расседлывать коней, а задать им корму и затем снова — в путь.
Между тем небо становилось все чернее и чернее; что-то мрачное и зловещее чувствовалось в воздухе, и, когда наши путники сели на коней и тронулись вперед, частые молнии пробегали уже по небу. Кони, будто чуя беду, мчались во весь опор, без понукания и хлыста, так что у всадников захватывало дух.
Вдруг легкий ветерок, предвестник грозной бури, пахнул в лицо нашим путешественникам, но вместо прохлады от него повеяло на них палящим дыханием раскаленной печи. То было первое дуновение бурана. Все невольно содрогнулись.
— Степан! — крикнул князь. — Сколько нам еще остается времени?
— С час, не больше, государь мой! — ответил старый табунщик.
Вскоре ветер стал дуть сильнее и порывистее; послышалось какое-то глухое, слабое еще, завывание, словно кто-то жалобно стонал. Но мало-помалу завывание делалось все грознее, и наконец степь наполнилась воем и свистом, словно бушующее море.
С каждой минутой ветер делался крепче, с каким-то диким бешенством он вздымал песок, хотя еще не крутил его в воздухе, не завивал в столбы. Скоро позади путешественников вырос грозный черный песчаный смерч и с невероятной быстротой стал нагонять небольшой отряд, разрастаясь с каждой минутой.
— Бога ради, — крикнул Степан, — понукайте коней! Гоните что есть мочи! Еще одно усилие. Смотрите, буран уже встал!..
Всадники оглянулись. Действительно, на расстоянии менее чем одной версты позади их несся гигантских размеров столб в 50 сажен вышины, подобно туче, застилающей весь горизонт, несся с ужасающей быстротой, но — странное дело — без шума и без свиста… Даже самый рев и вой ветра вдруг смолкли, и наступила жуткая тишина, страшная тишина.
Кони рванулись вперед, напрягая последний остаток своих сил. Мрак и громадное облако пыли были до того густы, что всадники едва могли различать голову своего коня; дышать было положительно нечем; еще несколько минут этой нестерпимой пытки — и кони, и люди должны были пасть от истощения и задохнуться в этом раскаленном воздухе.
Вдруг крик радости огласил воздух: конские копыта застучали по твердой почве солончака.
— Не останавливайтесь! Вперед! Вперед! — гнал товарищей Степан.
Действительно, избежать столкновения с песчаным смерчем было невозможно; оставалось только одно: чтобы столб настиг как можно дальше в песчаной степи, так как, несясь по солончаку, смерч постепенно утрачивает свою силу и, не находя себе пищи в почве, постепенно тает.
Роковой момент был уже близок, и каждый невольно спрашивал себя, что с ним будет, когда его вместе с конем накроет песчаный смерч. Последний был теперь уже не более как в 15 саженях от них; еще несколько секунд, и все будет кончено.
— Накройте себе головы башлыками! — снова крикнул Степан.
Едва успел он произнести эти слова, как страшная, ослепительная молния разом озарила степь, и оглушительный удар, потрясший самую почву, разразился над ошеломленными всадниками, которые вместе с конями скатились на землю, смешавшись в одну груду, как опрокинутые детской рукой оловянные солдатики.
Каким-то невероятным чудом весь запас электричества разразился в смерче и моментально разбил его в каких-нибудь двадцати шагах от наших путников. Теперь образовалась высокая песчаная насыпь, высотою в 10-15 сажен. Если бы путники были настигнуты этой грозной массой песков, то, конечно, никто из них не уцелел бы.
Несмотря на всю силу толчка, наши путешественники мало-помалу очнулись, стали подыматься на ноги, и оказалось, что, кроме легких контузий, никто серьезно не пострадал. Когда князь Свечин и Оливье сделали перекличку, то на нее откликнулись все их товарищи.
Если бы досточтимый Джильпинг не расстался с ними заблаговременно, то, конечно, не мог бы угнаться за ними в этой бешеной скачке и неминуемо стал бы жертвой бурана, вместе со своим неразлучным Пасификом. Но, к счастью, этого не случилось…
Спустя два дня маленький отряд князя Свечина добрался наконец до перевоза. Путники с наслаждением приняли предложение Черни-Чага остановиться у него в избе и отдохнуть с дороги, поистине трудной и утомительной.
Как читатель знает, старый перевозчик был телом и душой предан Ивановичу и по просьбе последнего обязался захватить в плен графа Оливье и его друзей, чтобы затем доставить их под надежным конвоем на суд Невидимых в монастырские подземелья. Теперь путешественники сами отдались в руки хитрого старика, и тому стоило закрыть все входы и выходы своего дома, похожего на крепость, чтобы Оливье и его друзья очутились, как в мышеловке.
План был так прост, что не мог не удаться.
Но случай и тут спас князя и его друзей.
Проходя по двору, он заметил, что какой-то странник все время бродил около избы, видно стараясь привлечь внимание молодого князя. Наконец он сделал знак и, достав из-за пазухи какую-то записку, проворно положил ее под камень у самых ворот, а сам, не оглядываясь, быстро направился к берегу реки, где вскоре скрылся в прибрежных камышах.
Заинтересованный поведением странника, Свечин понял, что оставленная под камнем записка предназначалась ему.
Он ленивой поступью прошелся по двору и, выйдя за ворота, скрытый от всех забором, быстро нагнулся и, приподняв камень, схватил записку. Затем, внимательно осмотревшись по сторонам, он развернул записку и прочел:
«Доверьтесь вполне тому страннику, который передаст вам эту записку: он из наших. Действуйте решительно, мы вас ждем. Митька».
Не давая себе труда разгадать смысл этих слов, князь взглянул в ту сторону, где скрылся странник, и увидел руку, махавшую высоко над камышами.
Князь все тем же ленивым, беспечным шагом направился к берегу.
— Остановитесь здесь, ваше сиятельство, — вдруг раздался подле него голос, — здесь нам всего удобнее поговорить! Сделайте вид, будто любуетесь видом за рекой!
В этом месте трава и ковыль росли так густо, что Свечин не мог видеть своего собеседника.
— Кто ты такой и что значит эта записка, которую я только что прочел?
— Вы можете вполне положиться на меня: я уже более месяца, как слежу здесь за всем, что здесь делается, по приказанию Хашим-баши, — отвечал странник. — Я знаю все тайные замыслы Невидимых. Атаман ждет вас в полусутках пути отсюда; это он вручил мне эту записку, чтобы вы вполне поверили мне.
— Что же ты мне скажешь?
— Черни-Чаг предатель, ваше сиятельство! Это приспешник Ивановича, самый преданный его клеврет на всем Урале!
— Я так и думал!
— Он недаром предложил вам гостеприимство: вас хотят схватить и выдать Ивановичу!
— Ты в этом уверен?
— Клянусь всем святым, что говорю истинную правду!
— Я верю. Но что же ты мне посоветуешь сделать?
— Уезжайте, ваше сиятельство, уезжайте сейчас; изба Черни-Чага, как вы сами видите, точно крепость, и при малейшем подозрении все выходы будут разом закрыты. Кроме того, все здешние крестьяне на стороне ваших врагов. Скорее на коней, а когда Черни-Чаг и его молодцы увидят вас с оружием в руках и на конях, то со своими кольями и рогатинами не посмеют пойти на вас!
— Это все, что ты имеешь мне сказать? — спросил князь.
— Как только вы и ваши табунщики будете все в сборе, скачите вверх по реке. В нескольких саженях отсюда я буду ждать вас, чтобы привести к атаману!
— А как тебя звать?
— Захар!
— Хорошо, Захар, я тебя не забуду!
— Спешите, сударь, спешите, не то будет поздно: Черни-Чаг, ушедший на село собирать мужиков, каждую минуту может вернуться.
Зашелестели трава и тростники, и князь увидел, как его собеседник, согнувшись дугой, бегом бросился к реке, затем побежал вверх по течению. Тогда князь поспешно вернулся в избу, разыскал Степана и в кратких словах изложил ему положение дела в присутствии молодого графа. Решено было уехать, не теряя ни минуты: старый табунщик взялся оседлать коней, не возбудив ни в ком подозрения. С этой целью он пошел в общую заезжую избу, где находились табунщики, и стал сердито пробирать их за то, что они до сих пор еще не купали лошадей, затем погнал их на реку. Здесь, в густых камышах, люди поспешно оседлали коней, а Степан все ходил и ворчал, чтобы отвлечь от них внимание домашних Черни-Чага.
Тем временем Оливье и граф мимоходом предупредили своих друзей, прося их быть наготове каждую минуту вскочить на коней, в полном вооружении, по возможности неожиданно для Черни-Чага и его людей. Повозка была выведена и запряжена, люди готовы, когда князь со своими друзьями вошел в общую избу. Бегло окинув взглядом своих табунщиков и опросив, все ли в сборе, князь вышел на крыльцо. Из-за кустов вывели и подвели его коня. Князь поднял вверх свой хлыст; то был сигнал к отъезду. В один момент все были в седле.
— Вперед, — скомандовал князь, — покажем этим негодяям, что мы их не боимся!
Едва только путешественники выехали из ворот, как по дороге из села показался Черни-Чаг. Завидев князя и его людей, он весь вспыхнул от злобы и, забыв всякую осторожность, крикнул своим людям:
— Чего вы зеваете! Запирайте ворота! Живо!..
Услыхав эти слова, князь дал шпоры коню и решительно подскакал вплотную к перевозчику.
— Что? — грозно крикнул он. — Что это значит?! Да разве ты смеешь помешать нам уехать, когда нам вздумается?..
Голос его дрожал от бешенства.
Перевозчик понял свою ошибку и тотчас поспешил исправить ее.
— Как, ваше сиятельство на коне, в такое время? — воскликнул он с самым неподдельным изумлением. — Верно, мухи доняли вас… ну, я и приказал закрыть ворота…
При такой наглости князь подумал, что лучше оставить дело так; быть может, теперь, когда замысел его не удался, перевозчик призадумается открыто выступить против них и заявить себя сторонником Ивановича, и потому молодой князь, сделав вид, что поверил Черни-Чагу, сказал:
— Если так, то нам надо извиниться перед тобой, старик, что мы так внезапно вынуждены покинуть твой гостеприимный кров! Но мы только что получили вести, которые заставляют нас сейчас же продолжать путь!
— Помилуйте, ваше сиятельство, вам ли передо мной «извиняться?! Ваша воля остаться и ваша воля уехать… Оно, конечно, жаль, что вы нашего хлеба-соли не откушали… Но, видно, не судьба…
— Да, на этот раз никак нельзя; но на обратном пути мы твоего хлеба-соли отведаем, а теперь прощай!
Князь пришпорил коня и выехал со двора, а за ним и остальные. Черни-Чаг раболепно кланялся господам, а затем, злобно хмурясь, прошел в избу.
Руководимые Захаром, наши путешественники в ту же ночь добрались до лагеря Митьки, где все до последнего закутали свои лица черными тряпками, как у Черных всадников. В наскоро созванном совете, ввиду необычайных обстоятельств, решено было немедленно атаковать монастырь, прежде чем Черни-Чаг успеет известить Ивановича о случившемся.
И спустя несколько минут маленький отряд Черных всадников, мнимых и действительных, несся уже по направлению к развалинам монастыря.
XXIII
Орфей-Джильпинг.
А Джильпинга все еще не было. Что же делал этот благородный лорд в то время, когда его друзья шли навстречу опасности?
Не беспокойтесь, читатель, Джон Джильпинг не посрамил своего имени.
Благополучно возвратившись в село вместе с Томом, он терпеливо выждал, пока пронесся ураган, чуть было не погубивший его друзей, затем, взяв опытного проводника, направился прямым путем к перевозу.
Целебная мазь из бараньего сала, яичных желтков и каких-то трав поправила поврежденные части тела британского подданного; последний значительно повеселел и, взобравшись на спину своего возлюбленного Пасифика, не спеша двинулся в путь.
Первую ночь пришлось ночевать в открытой степи, и Джильпинг уснул сном праведника в своей маленькой походной палатке, но каково было его изумление, когда, проснувшись поутру, он узнал, что его проводник исчез!
Однако, вспомнив, что в Австралии с ним и не то еще бывало, храбрый британец не упал духом, а, плотно позавтракав запасами из своей дорожной сумки, развернул карту уральской степи и с помощью своего компаса точно определил направление, каким они должны были следовать, чтобы добраться до перевоза.
Но этим приключения их не кончились.
Они успели уже отъехать довольно далеко от последней стоянки, как вдруг Том, немного было поотставший, стал указывать мистеру Джильпингу на что-то.
— Что там такое? — спросил Джильпинг. — Что тебя так напугало? — И вдруг и сам чуть не остолбенел от ужаса: три громадных косматых медведя быстро приближались к ним, тихо ворча и мотая своими косматыми головами.
Том в испуге взобрался на вьючную лошадь и ускакал в степь. Пасифик же насторожил уши и скорее с любопытством, чем со страхом, уставился на медведей.
Не успел Джильпинг опомниться, как все медведи были уже подле него: инстинктивно он поднял свой кларнет, бывший у него в руках, и вдруг медведи, находившиеся уже в нескольких шагах от него, поднялись на задние лапы и стали, точно солдаты на часах. Тогда Джильпингу пришла гениальная мысль: он поднял к губам свой кларнет и принялся наигрывать шотландский национальный танец; медведи немедленно пустились в пляс, соразмеряя свои движения с темпом танца.
Достопочтенный мастер Джильпинг готов был уже приписать это магическому влиянию своей музыки, но при ближайшем осмотре оказалось, что медведи были снабжены ошейниками и скованы между собой довольно длинной цепью. Очевидно, это были выдрессированные животные, вероятно принадлежавшие какому-нибудь бродячему поводильщику, застигнутому в степи недавним бураном, и хозяин их, вероятно, погиб под песком, а животные, предуведомленные своим инстинктом самосохранения, сумели спастись и теперь бродили по степи, связанные своей неразрывной цепью. Завидев Джильпинга, они побежали к нему, обрадованные тем, что снова обрели общество человека, к которому они привыкли и без которого чувствовали себя одинокими в этих уральских степях.
У среднего медведя, кроме того, была еще обмотана вокруг шеи длинная цепь, за которую, вероятно, водил по городам свою бурую тройку погибший поводильщик.
Отскакав на некоторое расстояние, Том остановился и глядел издали, что будет дальше. Джильпинг, оглянувшись, стал звать его назад, угрожая в случае неповиновения своей магазинкой.
— Ну же, слезай с коня, — крикнул ему лорд Воанго, — трус ты этакий! Разве не видишь, что нет никакой опасности!
С этими словами мистер Джильпинг схватил лошадь под уздцы, а Том, соскочив на землю, поспешно спрятался за спину Пасифика.
По приказанию добродушного ученого Тому пришлось раскрыть один ящик с сухарями и предоставить содержимое в распоряжение медведей, которые принялись уписывать это угощение с величайшим аппетитом. Ласка со стороны мистера Джильпинга настолько расположила косматых плясунов в его пользу, что когда он стал дружеским тоном уговаривать их, после угощения, отправляться, куда им будет благоугодно, то они в свою очередь отвечали ему самым ласковым рычанием, что никуда они от него уходить не желают. Когда Джильпинг снова взобрался на своего Пасифика, чтобы продолжать путь, трое медведей побежали за ним следом, останавливаясь, когда он останавливался, и ускоряя аллюр, когда он его ускорял.
Напрасно Джильпинг старался обмануть непрошеных попутчиков хитростью, сбив их со следа, или увернуться от них тем или другим путем. Это удавалось ему лишь на минуту, затем медведи опять уже бежали за ним следом, как верные собаки.
Такая привязанность была поистине трогательна. Но так не могло долго продолжаться. Джильпинг должен был спешить на выручку своих друзей, и медведи могли только стеснить его; кроме того, он вынужден был кормить их бисквитами, сухариками и печеньем, а пополнять эти запасы в степи не из чего было.
Что же было делать?
Джильпинг решил пуститься на хитрость.
С наступлением ночи наши спутники по обыкновению разбили палатку и расположились на ночлег. Затем, когда Джильпинг убедился, что медведи, свернувшись клубочком, заснули крепким сном, он сделал знак Тому, который был уже заранее предупрежден и держался наготове, чтобы тот сложил палатку, навьючил ее на коня, а коня взял под уздцы и тихонько, крадучись отвел его в сторону. Сам Джильпинг с теми же предосторожностями отвел Пасифика, и, только когда они были уже довольно далеко от медведей, они побежали изо всех сил.
В продолжение целых четырех часов, поминутно оглядываясь, чтобы убедиться, не гонятся ли за ними медведи, скакали наши путники; наконец, убедившись, что медведи остались далеко позади, они снова разбили палатку и расположились отдохнуть до утра. С восходом солнца мистер Джильпинг был уже на ногах. По его расчетам, они должны были в этот же день, еще перед наступлением ночи, прибыть к перевозу. Том еще спал.
— Вставай, лентяй! — крикнул добродушный ученый. — Долго ли ты будешь спать?
С этими словами он вышел из палатки, но едва переступил порог, как чуть было не лишился чувств от изумления: все три медведя, свернувшись клубочком, мирно спали у самой его палатки, бок о бок с кротким Пасификом.
Джильпинг был тронут до слез.
— Ну, что делать, — сказал он, — видно, уж так надо. Сидя на Пасифике и сопровождаемый Томом, который будет вести за собой этих трех медведей, я совершу весьма торжественный въезд в свой милый Лондон! — И он самодовольно улыбнулся при этой мысли.
XXIV
Конец поединка. — Подземелья монастыря. — Охота на человека. — Адская машина. — Взрыв. — Час возмездия.
Иванович и Холлоуэй прибыли в монастырь за несколько дней до назначенного дня торжественного собрания Невидимых.
Всегда осторожный до крайности, Иванович заранее предусмотрел всякие возможные в данном случае случайности и неудачи; он позаботился даже обеспечить себе бегство на случай неудачи.
А для более верного успеха дела они с Холлоуэем решили закончить свои подвиги устройством адской машины в подземельях монастыря, куда и хотели заманить своих врагов.
Близость Ивановича к капитану Спайерсу ознакомила его со многими познаниями в области электричества, и потому он подумал именно об этой великой силе для осуществления своего страшного замысла. Когда план был выработан, то для Холлоуэя, специалиста этого дела, было чистой шуткой осуществить задуманное. Изготовленный снаряд был заблаговременно отправлен в монастырь с доверенным слугой, так что обоим соучастникам преступления по приезде в монастырь оставалось только установить адскую машину в наиболее подходящем месте.
Когда оба преступника прибыли к монастырю, оттуда из уцелевшей кельи вышел какой-то человек.
— А, это ты, Кузьма? — спросил Иванович.
— Да, сударь, я!
Это был доверенный человек, один из тех простолюдинов-фанатиков, которыми пользовались для своих целей Невидимые; он и доставил сюда изготовленную Холлоуэем адскую машину.
— Прибыл кто-нибудь из наших братьев? — спросил его Иванович.
— Нет, я еще никого не видал.
— Странно, — заметил Иванович несколько озабоченный, — а между тем на всем пути мы слышали, что странники оповещали жителей о предстоящем собрании Невидимых!
— У нас еще три дня времени до назначенного срока, сударь, и, вероятно, никто не хочет прибыть сюда раньше времени.
— Возможно! Ты знаешь выход из подземелья, что находится в десяти верстах отсюда, к западу?
— Знаю!
— Проводи туда наших двух казаков с лошадьми, оставшихся у ворот, и скажи им, чтобы они ни под каким видом не смели отходить от этого места!
— Слушаю! А мне самому прикажете вернуться?
— Да, может быть, ты понадобишься нам! А теперь скажи, где ты положил тот предмет, который мы поручили тебе доставить сюда!
— У самого входа в подземелье.
— Хорошо! Теперь иди, исполни мое приказание и не забудь вернуться под вечер; я тебя буду ждать!
Среди развалин монастыря уцелело несколько келий; Кузьма привез сюда съестных припасов, вина, и благодаря этому Иванович и его товарищ могли не без удобства провести здесь несколько дней.
Когда Кузьма вернулся, Иванович решил осмотреть подземелья, чтобы выбрать удобное место для установки адской машины. На всякий случай решено было установить ее в эту же ночь и по первому сигналу произвести взрыв; надо было предвидеть возможность прибытия графа Оливье и его друзей ранее, чем Черни-Чаг, в случае неудачи возложенного на него поручения, успеет дать знак об этом.
Однако, несмотря на все эти меры, Ивановича смущало то безлюдье и одиночество, в каком он очутился здесь. Ни один из членов его общества еще не явился на условное место встречи; от Черных всадников также не было никаких вестей. Что могло означать это молчание?
Надо было спешить: с минуты на минуту могли явиться его непримиримые враги.
Захватив с собою фонарь, все трое спустились в подземелье через пещерную церковь. Спустившись по лестнице ступеней двадцать, Иванович вдруг остановился и, невольно вздрогнув, спросил:
— Вы ничего не слышали?
— Мне кажется, что-то шумит! — отвечал Кузьма.
— Э, полно, — проговорил Холлоуэй, — просто камень скатился с обрушившейся стены к моим ногам!
Удовлетворившись этим объяснением, Иванович стал молча спускаться в подземелье. Дойдя до конца лестницы, они остановились. Здесь стоял длинный ящик, вмещавший в себя адскую машину. Холлоуэй и Кузьма взяли его и понесли за Ивановичем, которому эти подземелья, по-видимому, были хорошо знакомы. Они спустились еще ниже, в просторный погреб, черное отверстие которого, словно раскрытая пасть, сияло перед ними. Некогда это отверстие в глубине погреба замаскировывалось громадной каменной глыбой, подобной тем, из каких состояли стены этого погреба. Камень этот, очевидно, вращался на могучем шарнире, но с течением времени железо перержавело, и теперь камень беспомощно лежал на земле, загромождая собою проход в бесконечно длинную подземную галерею, служившую некогда убежищем монахам в грозную пору татарских набегов.
Едва только все трое вошли под сырые своды галереи, как какая-то четвертая тень, отделившись от стены, стала крадучись следовать за ними, все время держась в тени. Вслед за нею показалась и другая фигура.
Иванович со своими пособниками пробыл около часа в подземелье, и когда они вышли оттуда, то лицо его дышало свирепой радостью…
Затем, прежде, чем расстаться, полковник обратился к своему приятелю:
— Итак, решено: при первой тревоге мы поспешим в подземелье, чтобы обмануть наших врагов, которые, конечно, кинутся за нами. Кузьма сначала будет противиться их угрозам и, только чтобы спасти свою жизнь, укажет им, где мы схоронились! В тот момент, когда эти простофили ворвутся в погреб, где подземные ходы расходятся на две стороны, мы, воспользовавшись их минутным раздумьем относительно направления, по которому им идти, соединим провода адской машины и уничтожим их всех разом… Опасно ли будет для нас с вами произвести этот взрыв?
— Не беспокойтесь, любезный мой Иванович, — сказал янки, — в этом отношении вы можете быть вполне благонадежны! Мой снаряд обратит в пыль все, что только будет находиться вокруг него на расстоянии не более 25 сажен! Как вам известно, установив снаряд, я провел от него провода на расстоянии 100 сажен, а на таком расстоянии нам положительно не грозит никакой опасности… Не падайте духом, мой друг! Куда девалась ваша неукротимая энергия, которая так восхищала меня раньше?!
— Признаться, Холлоуэй, я положительно не могу совладать с какими-то мрачными предчувствиями, которые осаждают меня! Мы здесь одни, а между тем сотни людей должны были собраться сюда по моему зову; что это значит, я не знаю, не понимаю, но что-то говорит мне, что какая-то сила, неведомая мне, становится поперек всех моих планов. Ни одного из моих приверженцев нет здесь… Черни-Чаг не подает признаков жизни, тогда как он должен был осведомлять меня обо всем, что происходит кругом нас. А Хашим-Баши, который должен был быть на месте раньше нас, где он? Его тоже нигде не видали! Вы видите, что мои страхи не напрасны… А это безлюдье кругом, эта торжественная, мертвая тишина среди развалин! Она давит меня…
— Все это плод воображения: у вас расходились нервы, и больше ничего! Допустим даже, что все наши планы рухнут, что все принятые нами меры ни к чему не приведут, я во всяком случае ручаюсь, что снаряд-то не подведет нас, и наши противники найдут себе могилу под развалинами монастыря!
— Хотелось бы, чтобы это было так, но мне не верится: что-то томит и гложет меня, как гробовая доска!
После этого приятели расстались, чтобы немного уснуть до утра. Только Кузьма остался на страже.
Между тем в это самое время две какие-то тени беззвучно выскользнули из пещерной церковки и понеслись по степи.
Эта ночь прошла мучительно для Ивановича: он как будто чувствовал, что возмездие близится и что ничто не в силах отвратить страшного наказания за все его бесчисленные злодеяния. Подобно приговоренным к смерти, которых почти всегда приходится будить, когда наступит роковой момент, Иванович под утро забылся тяжелым сном, еще более мучительным даже, чем самая бессонница. По временам неясные звуки и стоны вырывались из его уст; он простирал вперед руки, как бы отгоняя от себя страшные видения — длинные вереницы загубленных им людей…
Проснулся он, едва дыша, весь в холодном поту…
Рано утром к нему вбежал Кузьма с радостной вестью, что видны Черные всадники; через полчаса они должны быть в монастыре!
— А, — радостно воскликнул Иванович, — значит, мы спасены!.. — И вместе с Холлоуэем он поспешил на полуобрушившуюся стену, чтобы насладиться отрадным зрелищем приближения своих союзников.
Но здесь им представилось странное зрелище: с того места, где они находились, перед ними развертывалось громадное пространство степи, верст на десять, и по этой зеленой равнине стройно двигался отряд всадников, в которых по черным покрывалам, окутывавшим их головы, нетрудно было признать Черных всадников. Отряд двигался довольно быстро по направлению к монастырю, но был еще довольно далеко. А на расстоянии какой-нибудь версты мчался во всю мочь табунщик, и за ним как будто гнались двое Черных всадников, стараясь отрезать ему путь.
— Ведь это посланный от Черни-Чага, — сказал Кузьма про табунщика. — Я его признаю… и коня также…
— Но почему бы Черным всадникам гнаться за ним? Неужели это какое-нибудь недоразумение?
Всецело поглощенные тем, что происходило на их глазах, находившиеся на стене монастыря не имели даже времени основательно обсудить интересовавший их вопрос. Табунщик быстро уходил от своих преследователей, и вскоре стало ясно, что Черным всадникам не нагнать его. Тогда, убедившись в бесполезности своих усилий, они прекратили погоню и вернулись к остальному отряду.
Между тем табунщик, словно ураган, ворвался в монастырскую ограду и вручил Ивановичу конверт, который он держал в зубах во все время погони, вероятно, чтобы в случае, если его настигнут, успеть проглотить его.
Иванович развернул записку и вдруг страшно побледнел.
Черни-Чаг писал ему: «Князь Свечин и граф, очевидно предупрежденные кем-то, не захотели переночевать у меня и, пробыв самое короткое время, направились в лагерь Черных всадников. Хашим-баши — изменник и предатель… Бегите!»
— Бежать, — с негодованием воскликнул Холлоуэй, — нет! Смерть изменникам и горе вам, Иванович, если вы думаете, что эти люди оставят вас в покое!.. Ведь это борьба не на жизнь, а на смерть!
Иванович колебался.
Холлоуэй с презрительной усмешкой наблюдал за своим сообщником: ему хотелось убедиться, будет ли Иванович настолько подл, чтобы покинуть его здесь одного.
Между тем Черные всадники неслись теперь уже во весь опор, и через пять минут бежать будет поздно.
Бледный как смерть и не произнеся ни слова, Иванович, не глядя на своего сотоварища, направился к лошади табунщика, внутренне сознавая всю низость своего поступка.
Но Холлоуэй предупредил его: одним прыжком он очутился подле благородного животного и, приставив дуло пистолета к его уху, одним выстрелом уложил скакуна на месте, затем, наведя пистолет на ошеломленного Ивановича, презрительно проговорил:
— Ни слова, ни движения, или вы мертвы! А, так вы хотели оставить меня одного! Я положительно не знаю, что меня удерживает поступить с вами точно так же, как с этим неповинным животным: это было бы прекрасным средством примирения с теми, кто теперь идет на нас. Но не бойтесь, я не способен на подобную подлость… Еще несколько минут, и Черные всадники будут здесь. Идемте, я вам покажу, как следует отстаивать свою жизнь, а в случае надобности уметь умереть.
— Ну, если так, то будет по-вашему! — воскликнул Иванович. — Будем защищаться! Во всяком случае наше дело еще не совсем потеряно!
В этот момент Холлоуэй остановился.
— Пусть только они потеряют хладнокровие, — пробормотал он, — пусть забудут осторожность, и тогда они в нашей власти!
С этими словами он схватил свое ружье и, положив ствол на камни полуразрушенной ограды, выстрелил.
— Попал! — воскликнул он торжествующим голосом.
И действительно, один из Черных всадников закачался в седле и затем вдруг упал на землю.
Крик бешенства огласил воздух, но отряд не остановился для оказания помощи раненому, а, напротив, с быстротой вихря понесся к монастырю.
— Ну, а теперь живо в подземелье! — крикнул Холлоуэй, и Иванович быстро последовал за ним. Не успели они скрыться в дверях храма, как в ограду ворвались Черные всадники и мигом заняли весь двор.
В одну минуту они спешились; табунщик, присланный Черни-Чагом, спрятался в обрушившейся башне. Только один Кузьма остался посреди двора.
Хашим-баши набросился на него и, приставив дуло своего пистолета к груди, закричал:
— Отвечай сейчас же, кто здесь стрелял?
— Товарищ Ивановича, — запинаясь, как бы с трудом выговорил Кузьма, притворяясь, будто он едва держится на ногах от страха.
— Где они? — продолжал допрашивать Митька.
— Я не знаю!
— Ну, брат, я не стану повторять тебе трижды свой вопрос! — заревел атаман, взводя курок своего пистолета.
— Там… они там, — пролепетал Кузьма, — в подземельях пещерной церкви!
— Я так и думал! — засмеялся Хашим-баши, которому эти места были хорошо знакомы. — Эй, Лобанов, захвати своих молодцов и скачи к выходу, знаешь? Ты мне ответишь головой, если там проскользнет хоть один мышонок! Живо!
В одну секунду человек пятнадцать Черных всадников вскочили на коней и понеслись в степь.
— Ну, а теперь за мной, в подземелье! — крикнул снова атаман. — Они, должно быть, еще недалеко… Не дадим им времени укрыться в каком-нибудь тайнике!
Как и предвидел Холлоуэй, его дерзкий выстрел взбесил врагов, лишив их всякой осторожности.
У каждого Черного всадника имелся при себе фонарь: в одну минуту все эти фонари были зажжены, и подземелье осветилось, как днем. Черные всадники побежали гурьбой и очутились в большой зале, из которой подземная галерея расходилась в две разные стороны.
— Стой! — крикнул атаман. — Здесь нам надо разделиться: одни пойдут с князем направо, другие…
Он не успел договорить, как страшный взрыв оглушил всех подобно тому, как это было там в далекой Австралии, в кра-фенуа. Фонари разом загасли, и сильный ток воздуха пронесся по подземелью, опрокинув на землю всех находившихся здесь людей.
Но в следующий же момент раздался голос атамана:
— Друзья, кто-нибудь ранен?
— Нет! Нет! — послышалось со всех сторон.
— Эти негодяи подготовили нам злую ловушку; нам следовало ожидать этого. Но, благодарение Богу, беда нас миновала!
Фонари снова зажгли, и тогда можно было убедиться, что все отделались только испугом.
— Нужно посмотреть, не устроено ли еще чего! — проговорил атаман. — Подождите меня! Я сам посмотрю! — И он направился по галерее, ведшей вправо. Не прошло и нескольких минут, как оттуда послышался его голос; сперва какие-то восклицания, а затем громкий зов. Несколько человек бросились к нему, и глазам присутствующих предстала столь ужасная картина, что ее трудно даже передать словами. Вся стена, на которую указал атаман, была облеплена клочьями еще трепещущего человеческого мяса, а на полу лежали две головы, оторванные от корпуса, полураздавленные и расплющенные; по ним еще можно было узнать Ивановича и Холлоуэя.
— Возмездие свершилось, — промолвил мрачно граф Оливье голосом, дрогнувшим от волнения. — И руки наши не обагрились кровью этих несчастных! Хвала небу!
По приказанию князя Свечина останки преступников были преданы земле тут же в ограде монастыря.
Нескольких слов достаточно, чтобы разъяснить ужасную развязку этой печальной драмы.
Когда Иванович заручился поддержкой Черных всадников еще до свидания атамана с князем Свечиным, трое из людей этой шайки были отправлены в степь, чтобы оповестить сторонников Невидимых о предстоящем собрании Невидимых в стенах монастыря. Но в то же время, повинуясь своему инстинкту закоренелых грабителей, они распространили слух о новом набеге Черных всадников, заранее зная, что, согласно установившейся в степи привычке, каждый сколько-нибудь зажиточный человек поспешит зарыть все свое наиболее ценное имущество где-нибудь в потаенном месте. Оповестив о приближении Черных всадников, один из посланных оставался в засаде и выслеживал, в каком месте зарывались сокровища, после чего все трое в ночное время возвращались и вырывали клад.
Однако ограбленные жители скоро заметили хищение, и так как оно приблизительно совпадало с приходом Черных всадников, направляющихся в сторону монастыря, то все невольно заподозрили в этом предполагаемом собрании Невидимых простую ловушку, устроенную Черными всадниками, и решили не отправляться на собрание из опасения предоставить на разграбление хищникам свои дома и стада во время своей отлучки. Вот почему на этот раз никто из приверженцев Ивановича не пожелал явиться на его зов.
Атаман же, перейдя на сторону князя, выслушал донесение своих стражников и, сообщив об изменении своих первоначальных намерений, оставил одного из них для наблюдения за избой Черни-Чага, возложив на него обязанность доносить обо всех планах и намерениях старого перевозчика и обо всем, что ему удастся узнать и заметить. Двух остальных странников Хашим-баши отправил в монастырь, строжайше наказав им ни на минуту не терять из виду Ивановича и его сообщников. Это и были те незнакомцы, которые прокрались накануне вслед за Ивановичем и Холлоуэем в монастырские подземелья. Поняв важность того, что им удалось проследить, они осторожно сдвинули с места адскую машину и зарыли ее под стеной, куда были проведены провода, посредством которых должно было произвести взрыв. Они оставили провода на прежнем месте, скрыв под землею только ту часть, которая была прикреплена к снаряду. Иванович и Холлоуэй, не подозревавшие ничего подобного и побуждаемые близостью преследующих их врагов, сами того не зная, взорвали себя.
Совершив свое дело, оба странника поспешно добрались до выхода из подземелья в степь и, прирезав двух сторожевых казаков, спавших крепким сном у самого входа, залегли тут же, чтобы подстеречь Ивановича и его соучастника на случай, если бы тем удалось убежать. Здесь их и застал Лобанов со своим маленьким отрядом.
Возвращаясь обратно и прибыв к перевозу, граф Оливье и его друзья заметили большое стечение народа на главной площади села; по мере того как они приближались, до их слуха стали доноситься мелодичные звуки кларнета. Вскоре они могли различить торжественные аккорды британского национального гимна «God save the Queen».
— Это наш друг Джильпинг! — воскликнул Оливье и ускорил шаг. Остальные поспешили за ним.
Каково же было их изумление, когда они увидели достопочтенного Джильпинга, взобравшегося на подмостки и изо всех сил дувшего в свой инструмент; впереди три ученых медведя плясали в такт торжественного мотива… А тем временем он раздавал в толпе щедрой рукой бесплатные Библии всем желающим. Сначала жители уральских степей были крайне удивлены, получая эти дары, но затем некоторые из них стали перелистывать книгу и, пощупав ее, вдруг решили, что это прекрасный материал для изготовления пыжей для их ружей, после чего все руки стали тянуться за Библиями.
Вдруг мистер Джильпинг перестал играть; у него оставалась всего только одна Библия, одна-единственная. Он взял ее и, подняв высоко над головой, воскликнул:
— Вот все, что у меня осталось, леди и джентльмены, из 300697 Библий, предоставленных мне евангелическим обществом менее трех лет тому назад… Да, это последняя, самая последняя. Кому отдать последнюю, господа?
— Мне, мистер Джильпинг! — крикнул из толпы чей-то голос. — Я сохраню ее на память о вас!
Добродушный проповедник оглянулся и увидел перед собой старого траппера, весело усмехавшегося его удивлению; за ним стояли все его австралийские друзья.
— Дорогой мистер Джон, разбейте ваш кларнет; мы сражались под монастырем, а вас не было с нами! — шутливо воскликнул граф Оливье. — Но я вижу, что вы здесь соперничаете с Орфеем! — добавил он, указывая на медведей.
— Это Всевышний послал мне в степи, — сказал Джильпинг. — Ну-ка, Вилли, Джек и Джемс, пропляшите для друзей!
И медведи, успевшие уже привыкнуть к своим кличкам, пустились плясать под звуки церковных мотивов.
На другой день маленький отряд князя Свечина, увеличенный лордом Воанго и его тремя косматыми друзьями, тронулся в путь по направлению к Астрахани…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Спустя три месяца разнохарактерная группа лиц разгуливала по молу ливерпульской гавани в ожидании отплытия «Вечерней звезды», превосходного пакетбота, отправляющегося в Мельбурн (Австралия). По тому душевному волнению, какое сказывалось на всех лицах, легко было угадать, что не все они отправлялись в далекие края.
Молодая женщина, сияющая счастьем, молодостью и красотой, любовно опиралась на руку одного из мужчин этой разнородной группы, в котором читатель без труда узнал бы нашего друга Оливье, надежды и мечты которого наконец сбылись. Благодаря следствию, проведенному с неимоверной тщательностью и добросовестностью молодым князем Свечиным, невиновность старого князя Васильчикова была доказана, и государь не только вернул его из Сибири, но и возвратил все его прежние чины и положение при дворе. После того ничто уже не задерживало брака молодых влюбленных.
Что касается Дика, то, несмотря на все усилия друзей, старый траппер решил вернуться в Австралию, с природой которой и нравами туземцев он уже успел свыкнуться в течение долгих лет.
Капитан же Спайерс, после того как его жажда мести была удовлетворена, искал только покоя, который мог найти лишь в тиши австралийских лесов. Поэтому с согласия Дика и он решил окончить свои дни во Франс-Стэшене, подле старого траппера.
Туземец, молодой Воан-Вах, не помнил себя от радости при мысли о возвращении на родину…
С судна подали знак близкого отплытия, и друзьям надо было расстаться.
— Часть своего сердца я оставляю здесь! — сказал растроганный траппер, обнимая в последний раз своего возлюбленного Оливье.
— Но взамен вы увозите добрую долю нашей общей к вам любви! — сказала, улыбаясь, молодая женщина.
С пакетбота раздался пронзительный свисток, и «Вечерняя звезда» плавно тронулась, лавируя между сотнями стоящих на якоре судов, вышла в открытое море и вскоре совершенно скрылась в вечернем тумане.
Не хватало при этих проводах только одного человека, а именно Джона Джильпинга. По несчастной случайности благородный лорд не мог отлучиться в этот день из Верхней Палаты, где он теперь заседал и где именно в этот день должен был произнести свою речь.
Князь Свечин был назначен посланником в Париж. Что же касается Люса и Фролера, то, обогащенные щедротами графа д'Антрэга, они приобрели себе великолепное поместье на берегу Марны и всецело отдались наслаждениям рыбной ловли на удочку.



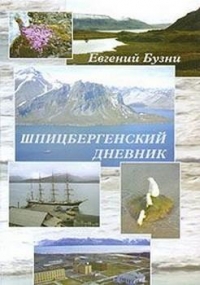
Комментарии к книге «Пожиратели огня», Луи Жаколио
Всего 0 комментариев