НЕОЖИДАННОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
Золотая пора - самонадеянная, безрассудная молодость.
Был солнечный, жаркий день. В небе, в прохладной лазурной вышине, вокруг белых кучевых облаков, шапками висевших над знойной, раскаленной Москвой, кружил самолет, и я завидовал летчикам - они не чувствовали уличной знойной духоты, городской сутолоки.
Совсем недавно я получил диплом об окончании Института пушно-мехового хозяйства, некоторую толику денег в счет будущих благ и теперь шел в Главное управление охотничьего хозяйства за назначением. Я не торопился. Дело в том, что несколько дней я хлопотал о зачислении в аспирантуру, так как мечтал работать под руководством профессора Мамонова. Но мне отказали, и я шел в главк, куда хотел поступить на работу. Могут либо принять, что будет чудесно, либо отказать, что будет похуже, так как придется тогда ехать в какую-нибудь глушь.
Изучая проблемы охотничьего хозяйства, я не прочил себя на низовую работу и считал, что можно, сидя в городе, решать все вопросы с помощью телефона, бумаг, кратковременных наездов… Надо не забывать, когда это происходило. Шел 1937 год, страна нуждалась в своей вышедшей из народа интеллигенции; тогда в ходу была крылатая фраза «Кадры решают все!» и лучшее, что выпускали наши институты, мгновенно поглощалось растущим аппаратом. Даже явный «брак» не залеживался - посылали на практическую работу. Эта острая нужда в кадрах, естественно, породила в моем мышлении одностороннюю оценку действительности. Практике я отводил последнее место, отдавая явное предпочтение научной работе и службе на руководящих должностях.
Лифт поднял меня на четвертый этаж. Я прошел широким светлым коридором к приемной начальника главка.
Зеленая, ковровая дорожка заглушала мои шаги. Перед дверью я остановился, чтобы перевести дух и поправить бедненький студенческий костюм, прежде чем показаться на глаза начальству. Секретарша-молоденькая девушка, сидевшая в приемной, уткнувшись в какую-то книжку, подняла на меня светлые, как васильки, глаза.
- Вы к кому?
- Я по вызову товарища Скалова. Моя фамилия Буслаев,- ответил я и слегка поклонился.- Разрешите пройти?
- Минутку!-Девушка встала и легкой тенью скользнула за обитую черным дерматином высокую тяжелую дверь, одним своим видом подавлявшую неискушенного в хождении по приемным человека.
Томительно тикали часы, и стрелка нехотя, еле-еле ползла по циферблату, подолгу задерживаясь на каждом делении. Дверь, также бесшумно раскрылась.
- Пройдите, пожалуйста!
Первое, что мне бросилось в глаза, когда я вошел, был длинный, будто убегающая вдаль улица, стол, накрытый красной суконной скатертью, строгие ряды стульев вдоль него и в самом конце, за отдельным Т-образно поставленным вторым столом - Скалов. Он был в черной гимнастерке (в то время у руководящих товарищей была мода на гимнастерки с отложным воротником и накладными карманами).
Я доложил о себе. Посмотрев на меня испытующим взглядом цепких маленьких глаз, осторожно выглядывающих из-под косматых, низко нависших бровей, Скалов жестом пригласил меня подойти поближе, и я, не зная куда девать болтавшиеся руки, пошел к нему. Он поднялся из-за стола, бритоголовый, неожиданно высокий и широкоплечий, затянутый кожаным ремнем. Крепко пожал мне руку и сказал:
- Прошу!
Опускаясь в мягкое кресло, я мельком увидел на толстом настольном стекле под тяжелым мраморным прессом свое заявление. Чьи-то резолюции пестрели на нем по нижним углам, и от того, что верхний левый угол был еще пуст, я понял, что судьба моя все еще оставалась нерешенной, и снова почувствовал себя студентом перед строгим экзаменатором. Неуверенность сковала мой язык.
- Вы хотите поступить в главк?
- Да, если…
- Зачем? Ради науки или…
- Собственно… Конечно! Как честный гражданин своей страны…- забормотал я.
- Безусловно, для ученого честность превыше всего. Я представляю, что. поскольку у вас не вышло с аспирантурой, вы решили попробовать стать чиновником. «Буду, мол, руководить народным хозяйством». А вы его знаете? На промысле бывали? Вы, наверное, решили: «Буду работать и одновременно накапливать материал для диссертации…»
- Совершенно верно!
- Скажем, о соболях. Вы честно перечитаете все, что написано о них до вас, обобщите и выведете свои заключения…
- Разве можно иначе?..
- Но ведь это все добыто другими, а где будет ваше, самобытное, самим увиденное, ваши дерзания, где, в чем доля вашего труда, личного опыта и знаний? - Скалов решительно придавил ладонью мое заявление.- Так не годится, товарищ Буслаев! Не с этого надо начинать!..
- Значит, отказ! - Считая разговор оконченным, я встал, но Скалов вновь усадил меня.
- Науку и теорию подкрепляет и движет вперед практика. Поэтому я и пригласил вас, чтобы в ваших же интересах предложить вам очень важную полевую работу. Мы не можем послать на нее кого угодно, она требует выносливости, смелости, терпения. Это как раз то, что может составить и славу и гордость для молодого специалиста и принесет пользу Родине…
Я слушал его внимательно. Ничего странного, ведь мне было двадцать пять лет, я был честолюбив и любопытен.
- Работа будет носить экспедиционный характер… Кстати, как у вас со здоровьем?
- Отличное!
- Вот и хорошо. Нам нужно установить современные запасы соболей на Дальнем Востоке. Поголовье этого ценного пушного зверя было сильно подорвано и потребовалось несколько лет полного запрета и ограничений охоты. Но это пассивные меры, они не могут защитить соболя. Пришла пора активно вмешаться в его судьбу, приступить к широкому, вольному соболеводству, чтобы заселить этим ценным зверем все пригодные для него охотничьи угодья. Это, так сказать, перспективы. А вам надо установить нынешний ареал обитания соболя, особенно самой ценней разновидности Якутского кряжа, его примерную численность и возможность отлова живьем. Это первый этап работы. Затем мы будем искать места, пригодные для переселения соболей, с достаточным запасом кормов. Соболь - наше мягкое золото, предмет экспорта… Придет время, мы будем шить себе собольи шапки, одевать в дорогие меха наших женщин, а пока…- Скалов развел руки,- пока нам нужно покупать очень много машин, научного оборудования.
- Да, да,- поспешил я заверить Скалова, проникаясь в душе важностью полученной задачи.
- Но не только эта причина заставляет нас решать проблему расселения соболя. В северных таежных районах живут малые народности, благосостояние которых держится пока на охотничьем промысле. Мы обязаны дать им доходный объект охоты, и ни один зверь не подходит для этого лучше соболя. Вам будут благодарны десятки колхозов и тысячи людей, если вы как настоящий охотовед решите эту практически важную для народностей Севера задачу. Согласны?
- О, это же замечательно!..
- От вас потребуется много выдержки, вас ждут физические лишения. Вы знаете, природа вообще не легко отдает свои тайны, а тайга в особенности. Она дика, коварна, полна опасностей, вам придется провести там два года…
- Ну и что же! Я не боюсь лишений, готов перенести что угодно, лишь бы достичь цели. Учтите - я значкист ГТО, хорошо прыгаю и бегаю, неплохо стреляю. Ни горы, ни тайга меня не пугают.
- Хорошо, хорошо,- улыбнулся Скалов.- Это только лишнее доказательство, что профессор Мамонов был прав, когда горячо рекомендовал вас для этого дела.
Так вот кто мой благодетель! В эту минуту я был от него в восторге. Он дал мне благородную цель, указал путь к счастью. Мой милый старый учитель!
- Значит, договорились: мы зачисляем вас в штат и направляем на Дальний Восток; там вы установите контакт с местными заготовительными организациями и приступите к работе по нашей инструкции. Срок два года,- еще раз повторил Скалов.- Год на установление ареала и год на разведку мест, пригодных для расселения.
- Да, да, согласен! - Я, наверное, плохо слушал его, потому что Скалов как-то особенно посмотрел на меня и замолчал, а я мыслями уже устремился за тысячу верст туда, где когда-то работали Пржевальский и Арсеньев, Крашенинников и Комаров. Только бы достало умения, только бы справиться с этой задачей, а уж сил я бы не пожалел!..
- Мы доверяем профессору Мамонову, он нас заверил, что вы способны отнестись серьезно к поставленной задаче, справитесь,- строго предупредил меня Скалов.- Теперь дело за вами…
- Я готов ехать хоть сегодня!
- Ну зачем так спешить. Завтра вы зайдете в отдел кадров, потом к моему заместителю, он вас подробно ознакомит с инструкциями. На сборы, вероятно, тоже уйдет несколько дней. Серьезное дело не терпит торопливости! - Он встал и подал мне руку: - Желаю успеха!
- Спасибо вам,- сказал я и пошел было к выходу, но он вдруг окликнул меня:
- Товарищ Буслаев, а как быть с вашим заявлением?
Я махнул рукой. Работа в главке? Она уже вылетела из головы и была так же далека, как в небе холодная звезда.
- Тогда так: собирайте материал, наблюдайте, записывайте. Я уверен, что у вас через два года будет отличный материал для кандидатской диссертации. Счастливого пути!
Меня охватила безудержная радость. Я должен был с кем-то ею поделиться. Легкими прыжками я несся с четвертого этажа, обгоняя медленно ползущий лифт, и не заметил как оказался на улице.
Солнце все так же ослепительно сверкало в небе. Над улицей стояло дрожащее марево раскаленного душного воздуха.
Напевая игривую песенку, я поехал к профессору Мамонову - своему бывшему учителю, которого всегда уважал за ум и справедливость. Сейчас он был мне просто необходим.
Громыхающий трамвай, отзванивая на остановках и перекрестках улиц, более часу вез меня по незнакомым московским закоулкам до конечной остановки. Здесь уже чувствовалась окраина, дышалось легче, больше было зелени.
Отыскав дом Мамонова, я прошел через калитку мимо небольшого палисадника с георгинами и флоксами, остановился у входа на застекленную веранду, обвитую хмелем, вьюнами, и позвонил.
Старый профессор радостно встретил меня и пригласил в свой кабинет. На окна были спущены темные шторы, и в доме царил приятный полумрак. За стеклами книжных шкафов тускло поблескивали старой позолотой корешки книг. Как испытанная гвардия, всегда готовая к бою, они стояли тесными сомкнутыми рядами в строгом молчании. На шкафах и полках в разных положениях разместились и скалили острые зубки чучела пушных зверей: соболи, горностаи, белки - трофеи профессора, добытые им в молодые годы во время многочисленных походов и экспедиций.
Теперь он заметно постарел: голова стала белой, холодный иней старости упал на усы, брови, бородку. Только в глазах еще билось живое любопытство. Последнее время он стал быстро уставать и, прочитав одну-две лекции, тяжело опускался в кресло и подолгу сидел с опустошенным взглядом. Годы брали свое, хотя он еще и продолжал бодриться.
Профессор усадил меня рядом с собой на мягкий плюшевый диван.
- Ну-с, молодой человек, рассказывайте с чем пожаловали?
- Вы уж извините, что потревожил вас, Сергей Павлович. Пришел поделиться своей радостью: на Дальний Восток посылают, соболей искать!
- Поздравляю тебя, Александр Николаевич…
- Да что вы, Сергей Павлович! Зовите просто Сашей.
- Изволь, буду звать Сашей. Завидую, брат, тебе, завидую! Если бы не годы, ни за что не уступил бы тебе такую честь, сам помчался бы на Восток. Вот, думал раньше, успею все дела переделать, а выходит, не хватает, брат, жизни, не хватает… Самое интересное приходится другим отдавать. Соболь! О, у него большое будущее, поверь мне, Саша.
- Как вы думаете, Сергей Павлович, где еще можно найти на Востоке соболей, в каких местах?
- Есть соболь в горах Сихотэ-Алиня, но ведь нужен самый лучший - черный! Мне известно, что темные соболи обитают не только в Забайкалье, но и далеко за его пределами - в горах Станового, Яблонового хребтов, Ям-Алиня… Соболи тех мест темнее, шелковистее прославленных баргузинских. Мы их относим к «Якутскому» кряжу. Где их искать? Я и сам не знаю, ведь Дальний Восток для нас пока еще темное пятно. Возможно, что соболь встречается между хребтами Джагды и Баджальским. Это самое дикое и безлюдное место. Целая горная страна, в несколько раз больше Швейцарии, а уж по суровости и говорить не приходится. Но это только предположения… Ничего определенного…
Некоторое время мы сидели молча. Профессор долго думал о чем-то своем, а потом заговорил:
- Знаешь, Саша, я тебе добра желаю, послушай моего совета… Будь осторожен, не шути с тайгой, во всем советуйся с бывалыми людьми. Другой попадется и малограмотный, а большой умница… Найти такого человека - половина дела. Вспомни Дерсу у Арсеньева. Тебе предстоит большая работа. Мы мало знаем эту разновидность соболя, собирай черепа, фиксируй желудки. Все это важно. Отмечай все зоологические находки. Ты можешь встретить животных и птиц там, где их никто не предполагал, за пределами их ареала, ведь Дальний Восток в зоогеографическом отношении еще слабо изучен…
- Обязательно займусь этим, Сергей Павлович!
- У меня к тебе личная просьба: постарайся добыть для нашего музея дальневосточных экзотов: харзу, гималайского медведя, чешуйчатого крохаля, рыбного филина. Такая возможность может представиться…
Беседа наша затянулась. Мне, собственно, пришлось только поддакивать, а говорил один профессор. Он вспоминал тысячи мелочей, которые могут встретиться на пути, и советовал, советовал без конца, словно снаряжал в далекий путь родного сына. Весь опыт старого ученого-практика вкладывал он в свое напутствие.
В конце концов он утомился. Я это почувствовал по паузам, которые становились все чаще и длиннее. Я встал, пони-
мая, что нельзя злоупотреблять добрым отношением старого учителя.
- Спасибо за все, Сергей Павлович!
- До свидания, Саша. Пиши. Я верю в твой успех и рад, что передаю эстафету в надежные руки!
На прощание он крепко обнял меня.
Зажигались первые огни. Закат был золотистый, тяжелый, не предвещавший освежающего дождя. Было немного грустно. Я сел в первый подходящий автобус и отправился на свою холостяцкую квартиру, чтобы сделать для памяти кое-какие записи и как-то переварить все, что втиснули в мою голову за этот беспокойный, но интересный день.
В ДОРОГЕ
Скалов был прав, когда иронически заметил, что серьезное дело не терпит торопливости.
Прежде всего я потратил два дня на оформление в отделе кадров. У каждого большого или малого начальника были свои дела, определенный распорядок, а я, не зная всех тонкостей, то обращался к ним раньше, чем следует, то опаздывал и не заставал их на месте и скорее мешал нормальному прохождению своих документов по всем инстанциям, чем ускорял.
В беготне по магазинам пропадала уйма времени, и я впервые на практике познал, что такое сборы в экспедицию. Недаром Арсеньев, Обручев и другие видные исследователи отводили сборам едва ли не главное место, определяющее успех всей работы.
В самом деле, не так-то просто найти нужное снаряжение, начиная от простого заплечного мешка и кончая обувью. Не поедешь же в тайгу с чемоданом и в городских штиблетах! Друзья советовали мне купить для этого дела охотничьи бродни, я уже нашел было нужный мне размер, но, взвесив их на руке, отказался. В них удобно лезть в болото за убитой уткой, но идти тайгой - увольте!
Перелистывая дома книгу Арсеньева, я обратил внимание на широко известную фотографию, где он снят вместе с Дерсу в походном снаряжении. Голова у него повязана какой-то косынкой, а на ногах простые ботинки с обмотками. Не будь это удобно, едва ли он стал бы ходить в такой обуви по тайге.
На другой день я поехал на «толкучку», где продавалось всякое барахлишко, и купил там еще крепкие солдатские ботинки с подковками на каблуках. Продавал их какой-то демобилизованный. Узнав, что мне они требуются для экспедиции, он достал из мешка суконные портянки и обмотки.
- Думал, кому они нужны?.. Но если вы в самом деле в экспедицию, так вам без них не обойтись. Не смотрите, что они не совсем новые, зато нога будет в тепле и целости. А об-моточки первый сорт, чуть растянутся - постирать, и они опять как новые! Ни сучок, ни веточка в ботинок не попадет…
- А сколько?..
- Ерунда, пятерку добавите и дело с концом…
- Не много ли?
- Чудак человек, разве за это барахло беру? Возьми его и так; за совет прошу!
Я расплатился, и мы, оба довольные, разошлись. Точно в назначенный день мне выдали пропуск в пограничный край. Документы в порядке, и меня больше ничего не задерживало в Москве. Правда, мне еще многого недоставало: спального мешка, накомарника, пригодной для тайги теплой одежды, но я не хотел перегружаться багажом, рассчитывая, что все это можно будет приобрести на месте.
По случаю отъезда ко мне пришли мои однокурсники-москвичи.
- Едешь, Сашка?..
- Видишь, уже на чемодане сижу.
- Смотри, съедят тебя там медведи…
- Как-нибудь, братцы!
Присели для удачи на мои мешки и чемодан, помолчали и, подхватив мой багаж, пошли меня провожать.
Ярославский вокзал. В здании стоит гул голосов. Целыми семьями, с узлами, чемоданами, детьми, бабками и дедками ехал народ в Сибирь на разные новостройки. Тут были вербованные, ожидающие своих эшелонов, командированные, студенты, просто транзитные пассажиры, едущие по своим делам. Около кассы огромная галдящая толпа. Раздраженные, усталые люди, зажимая в кулаках червонцы и разные справки, старались добраться до заветного окошечка, получить билеты… Куда? Во все места, от края до края нашей страны. Только на вокзалах да в поездах можно узнать насколько она велика и разнолика.
Я счастливый! Билет, взятый «по броне», у меня уже в кармане. Сейчас только бы пробраться через толпу, которая уже запрудила площадку перед входом на перрон, и «захватить» место в вагоне! Объявили посадку. Нас стиснули со всех сторон и понесли, как в горловину, в тесные железные ворота.
На зеленых умытых вагонах таблички - «Москва - Хабаровск». Мое беспокойство было напрасным: пассажиры занимали места согласно купленным билетам, так как вагон оказался плацкартным. Проводник покосился было на мой довольно громоздкий багаж, но друзья горячо встали на защиту: человек едет чуть ли не на «Северный полюс» к медведям! Время такое, что люди стремились в самые неведомые дали, и он не удивился, даже, кажется, поверил.
В вагоне было душно, и мы, свалив вещи на полку, вышли на перрон. Захотелось еще раз подышать московским воздухом, взглянуть на вокзал, на город, быть может, не скоро все это доведется увидеть вновь…
- Ну, братцы!..
Мы крепко, по-мужски обнялись. Жили, не замечая друг в друге ничего особенного, а пришло время расставаться - грустно как-то стало…
- Едешь? А нас еще неизвестно куда…
- Завидую тебе, Сашка!
Поезд медленно тронулся, поплыли вагоны. Я вскочил на площадку.
- Бывайте здоровы, братцы!
- Счастливого пути! Не забывай Москву! Пиши-и!..
Кончились проводы. Облегченно вздохнув, я пошел в свое купе. За окнами мелькали поселки, дачи, тенистые подмосковные рощи. Прощай, Москва!
Стоял июль. Чтобы спастись от жары, я часами просиживал у раскрытого окна в тесном вагонном тамбуре. Мелькали придорожные столбики и деревья, путевые будки обходчиков. Поля, деревни постепенно уплывали назад вместе с колхозными амбарами и ветряными мельницами, доживающими свой век. Поезд проносился густыми лесами, где строгие темные ельники теснили тонкоствольную грустную березу. Я не уставая подолгу смотрел, как дым и пар из паровозной трубы, в клочья раздираемые острыми, как пики, верхушками елок, стелятся над лесом, как боязливо трепещут при полном безветрии осинники, как величаво стоят сочные с медно-рыжими стволами здоровые сосняки.
В небольших городах и поселках дома прятались под спасительную тень садов и парков. Кое-где среди зеленых, вершинами возносившихся до колоколен деревьев стояли белые с проржавевшими куполами церкви, и вокруг них хлопьями черной сажи носились в воздухе грачи и воронье. И опять поля с пыльными проселками и машиной, которая долго не хочет отставать от поезда и мчится вслед, расстилая за собой длинный шлейф пыли…
Потом линию горизонта изломали отроги Уральского хребта и на месте, где соприкасаются два материка, мелькнул обелиск с надписью: «Европа-Азия». Ночью дали озарились множеством электрических огней заводских поселков, прилегавших к Свердловску, и небо совсем посветлело.
Поезд торопился, громыхая проносился по гулким мостам и полустанкам, а предстояло еще ехать да ехать! Утомительно долго разматывались по обе стороны от поезда просторы Ишимской и Барабинской степей с молодыми березовыми колками и озерами в окаймлении густых камышей, с необъятными до самого горизонта пашнями. Ветер гонял по пшеничному морю зеленые волны. А ночью опять были огни, огни каких-то поселков, которые на картах еще не значились, и проводник их не знал. Зато на каждом полустанке во множестве выносили к-поезду рыбу, молоко, сметану, яйца, мясо. Успевай только запасаться кипятком, чтобы было чем запивать!
Пять суток бежал паровоз, много городов и больших рек осталось позади, а мы были только на середине пути. И все это - Россия! Вдоль звонкоструйной, как девичья песня, Ангары доехали до величественного Байкала. Дорога проходила по самой кромке берега, и через многометровую толщу прозрачной, как стекло, воды были видны на дне зеленоватые камни. Там, где крутые обрывы сопок подступали к самой воде, поезд прятался в черный зев туннеля, и дыхание сырых, мрачных сводов ненадолго врывалось в вагон. С грохотом и свистом мы снова вырывались на простор, и перед глазами расстилалась зеркальная гладь озера, за которой призрачными голубыми громадами поднимались до самых облаков горы. Под колесами поезда то и дело гулко громыхали железные фермы мостов, перекинутых через бурливые горные речки и ручьи.
На прилавках пристанционного базара лежали соблазнительные золотистые, лоснящиеся от жира копченые омули. С деньгами у меня было уже туговато, но я не выдержал, купил парочку и помчался в вагон, чтобы быстрее попробовать новую для меня рыбу. Вот ведь, живешь на свете, мечтаешь о тихом уютном счастье и не подозреваешь, что есть такая прелесть где-то за пределами больших городов.
Чем ближе к Хабаровску, тем большее нетерпение одолевало меня. Каков-то он будет, этот полулегендарный край, где тигры ходят по крышам и пожирают любознательных жителей, где раньше, до революции, переселенцам обещали платить по рублю за фунт сушеных комаров, причем рублями не обычными, а длинными- - особыми, где в реках рыбы, как в котле,- не провернешь веслом, и если она разыграется, то топит рыбачьи лодки, где сумрачную ель душат в объятиях лианы кишмиша, лимонника и винограда?.. Ах, что говорить, мало ли экзотического мусора было в моей голове вместо ясных и четких знаний об этом удивительном крае!
Прохладным туманным утром поезд подошел к станции Ерофей Павлович, названной так по имени землепроходца
Хабарова. Отсюда начинался в то время Дальний Восток. Сгорая, от любопытства, я выскочил на перрон. Бревенчатое вокзальное здание не радовало глаз. Около домов ни кустика, ни деревца. Видно, здесь не разводили сады. К поселку подступала угрюмая разреженная лиственная тайга, заболоченная, хотя деревья и росли на пологих склонах сопок.
Нет, не таким я представлял в мечтах Дальний Восток! Поеживаясь от сырости, я вошел в вагон и пока стоял поезд успел сделать в дневнике запись: «Этот край совсем не то, что я рисовал в своем воображении. Суров, беден и только!» К счастью, я ошибся так же, как не раз ошибался впоследствии, когда мне приходилось сталкиваться с неожиданными резкими контрастами в природе этого края. Но пока я видел только то, что стояло перед глазами, и чувство, похожее на тоску, сдавило мне сердце.
А тут еще сосед по купе - остряк, проснувшийся от утренней свежести, потянулся, взглянул за окно и промолвил лениво, как само собой разумеющееся:
- Ерофей Павлович… Пенья, коренья и вечная мерзлота. Одним словом, девять месяцев зима, а там все лето, лето и лето…
«Куда я попал? - невольно пронеслось в моей голове.- Если здесь гиблые места, что меня ждет дальше?»
Лишь ближе к Хабаровску опять пошли веселые широкие степи, за ними к полотну дороги придвинулись сопки, на которых стеной стоял кудрявый, почти совершенно не знакомый мне по составу лес.
Тщетно я пытался угадать названия деревьев, здесь даже береза была не такая, как в европейской части России, а какая-то кудреватая, с шелушащейся почти черной корой. По распадкам и ключам росла высокая, по плечи человеку, трава и самая дикая смесь различных незнакомых мне кустарников и ползучих трав. Пыльный вихрь, несшийся за колесами вагонов, клонил к земле головки красивых цветов, во множестве усеявших обочины железнодорожного полотна.
А когда показался могучий Амур в кайме густых ивовых зарослей по берегам, с солнечными песчаными отмелями -• косами и повисшим над ним кружевным мостом, я снова почувствовал желание записать в дневник: «Дальний Восток совсем не то, что я думал. Это край-загадка!»…
Тут мне пришла в голову дельная мысль: а почему не изучить природу этого края, чтобы лес, кустарники, травы не казались мне безликой зеленой толпой, а стали бы полны знакомых лиц, о которых не только можно было бы рассказать другим, но и наедине поговорить с ними по душам?
В Хабаровске я остановился в гостинице и сразу отправился осматривать город. Он расстилался по правой стороне реки на холмистом берегу. С Комсомольской площади Амур просматривался на много километров. Приняв в себя Уссури, он у Хабаровска резко изменял направление с восточного на северо-восточное. По обе стороны поймы голубели хребты: на севере - Ванданский, на юге - Хехцирский.
По крутой многоступенчатой деревянной лестнице я спустился к самому берегу, возле которого была толчея барж, буксиров, лодок. По воде плыли радужные масляные пятна. От реки веяло свежестью. Мальчишки, забравшись на баржи, бойко взмахивали удилищами и ловили рыбу. Я подошел посмотреть: какие-то серебристые с красными плавниками и зеленые желтобрюхие с колючками, издающими скрип, но не карпы, не ерши, не сомы… Что за черт, я опять не мог назвать ни одной!
Чуть дальше по берегу, у подножия высокого утеса, раздавался веселый гомон купающихся. Не удержавшись от соблазна, я быстро разделся и кинулся в прохладные объятия желтоватых волн.
На следующий день в Краевом управлении охотничьего хозяйства было созвано совещание работников пушнозаготовительных организаций и представителей научно-исследовательских учреждений, занимающихся вопросами развития производительных сил края.
Подробно информировав их о планах своей работы, я попросил помощи и совета, выразив пожелание, чтобы наряду с моей работой были охвачены наблюдением соседние массивы охотничьих угодий. Этим могли заняться в основном охотники-промысловики при условии, если при заключении договоров им будет поставлена четкая задача. От того, где будет пролегать маршрут моей экспедиции, зависел весь успех дела. Это было ясно каждому, поэтому очень странной показалась всем позиция начальника краевого отдела воспроизводства «Заготпушнины» Абрекова.
Своим выступлением он напомнил собравшимся, что товарищ Буслаев никаких указаний из главка не привез. И речь может идти только о содействии в меру возможностей, но не более… Мы должны заниматься массовыми видами - лисицей, колонком, белкой, которые являются черным хлебом охотника… А соболь?.. Что он такое? Экзотика, исчезающий вид! Но поскольку товарищ Буслаев все же приехал работать, мы не станем ему мешать, пусть работает на наших охотничьих угодьях.
Он предложил следующий маршрут экспедиции: Мая, потом через Джугдыр на Зею… Затем на Селемджу. Там соболь раньше был и сейчас встречается… Районы, по которым пройдет экспедиция, близко соприкасаются с Якутией, где распространен ценный вид соболя «Якутский кряж»… Только такой соболь и нужен для расселения…
Абреков обещал мне завтра же дать указания директору Чумиканской конторы, чтобы тот подобрал надежных проводников для экспедиции. Этого будет достаточно, так как она будет носить рекогносцировочный характер.
- Но это же совершенно неправильно! - выкрикнул кто-то с места.
- Вы хотите говорить? - холодно спросил Абреков.- Пожалуйста!-Пожав плечами, будто сетуя на невыдержанность того, кто перебил его речь, он медленно, с достоинством опустился в кресло.
- Да, я хочу и буду говорить! Вы пытаетесь направить работу по ложному следу. Зачем это вам нужно? Вспомните, не далее как в прошлом году вы сами выдвигали план подобной экспедиции, однако не на Зею и Селемджу… Почему вы так изменили свое мнение? Мне это кажется более чем странным!..
После горячих споров было решено рекомендовать экспедиции маршрут, который совпадал с предложением Абре-кова: от Чумикана по реке Уде на батах до Маи, а там на оленях через хребет Джугдыр до Зеи, Селемджи. На выполнение этого маршрута считали достаточным девять месяцев. В апреле экспедиция должна вернуться в Хабаровск и доложить о результатах поисков.
Из Хабаровска в Аян на днях отходила моторно-парусная шхуна «Пушник». Я мог попутно, без лишних затрат, доехать с ней до Чумикана. На том и порешили. Вечером я принялся за составление ориентировочной сметы расходов экспедиции, заявок на снаряжение и продовольствие, которыми предстояло запастись в Чумнкане. За этой работой я просидел едва ли не до самого утра.
ПО АМУРУ НА ШХУНЕ
При всей моей недоверчивости к Абрекову я не мог миновать встречи с ним, этого требовала служба. Кроме невольного чувства неприязни, у меня не было никаких доказательств его враждебности к экспедиции, пошел против отдельных мнений и в спорах твердо отстаивал предложенный им маршрут. Так на то и собирали совещание, чтобы выслушать все мнения, и не его вина, если у него были иные соображения, чем у остальных!
Утром я отправился к нему. Он сидел в кабинете один, нахохлившись над бумагами, как большая больная птица. Подняв на меня печальные глаза, он протянул мне холодную костлявую руку и сказал:
- Я знаю, что произвел на вас дурное впечатление, но думаю, что вы не зачислите меня в число своих недоброжелателей?
- С какой стати?
- Как же, а мое инакомыслие! Разве это уже не повод, чтобы считать меня врагом вашего предприятия? Молодость ведь не терпит неопределенности и так легко разметает людей на два лагеря.- Он усмехнулся: - Как это говорится: «Кто не с нами, тот против нас!»
Он открыл ящик стола и достал карту:
- Вы будете привязаны к определенному маршруту, так как не сможете взять в Чумикане все необходимое для вашей экспедиции. Я имею в виду продукты. Вы их попросту не поднимите в том количестве, которое потребуется вам на девять месяцев пути. К тому же это нецелесообразно делать по той причине, что может произойти несчастный случай - перевернется, скажем, лодка или еще что-нибудь, и вы лишитесь всего запаса. Короче - не рекомендую, исходя из опыта. В отдельных эвенкийских колхозах у нас есть нечто вроде факторий, и вы там будете пополнять свои запасы. Это создает некоторые неудобства, но ничего иного поделать нельзя. Это независимая от меня сторона дела. Я знаю, что мне не завоевать уже вашего расположения, но дружба-дружбой, а служба обязывает меня побеспокоиться о вашем предприятии. Он выбросил на стол запечатанный сургучом пакет.
- Это заведующему Чумиканским заготовительным пунктом. Тут мои указания обеспечить вас продуктами, снаряжением, а также надежным проводником. Вас поведет эвенк Софронов - местный житель, хороший охотник, отлично знающий все места. Не раз он водил различные экспедиции, имеет в этом деле опыт…
- Мне такая рекомендация ни к чему. Я сам хочу подбирать проводников по своему усмотрению.
- В данном случае это не рекомендация, а мое требование. Я несу прямую ответственность за экспедицию, которая работает в моем районе, и в случае неудачи, вашей гибели спросят с меня. Вы должны это понимать. С вами пойдет Софронов, а другое лицо можете подобрать по своему усмотрению. Это вас устраивает? Надеюсь, вы не станете возражать против такой меры предосторожности с моей стороны?
В его доводах была логика, и я не стал спорить.
- Не возражаю,- сказал я и протянул руку за пакетом.
Абреков как-то криво усмехнулся и прикрыл пакет ладонью:
- Не утруждайте себя такими пустяками, как передача пакета. На шхуне есть мое доверенное лицо, нечто вроде экспедитора, который и вручит этот пакет адресату. Важно, чтобы вы об этом знали. Шхуна пойдет на днях, как только поднимется вода в Амуре. С капитаном Боевым я говорил, сердечный человек, отлично знающий свое дело. В общем он вам понравится. Правда, водится грешок - поклонник Бахуса… Впрочем, что я вам рассказываю, узнаете обо всем сами.
- Где я мог бы познакомиться с материалами о природе края?
- Вас интересует, конечно, соболь. Могу с достоверностью сказать, что печатных трудов нет, или почти нет. В остальном могу порекомендовать музей, там есть любопытные экземпляры: скелет морской коровы Стеллера - редкость, имеющаяся лишь в Хабаровском музее и в одном из музеев не то Голландии, не то Англии, хотя в 1742 году вся северная экспедиция Витуса Беринга еще питалась мясом этих животных. Печальный пример, ожидающий многих животных края. Кроме того, невесть как залетевший в Приморье фрегат - житель экваториальных вод, потом чучело калана - морской выдры, личные коллекции Арсеньева…
- Он ведь, кажется, жил в Хабаровске?
- Да, последний из могикан, представитель плеяды ученых и страстных покровителей природы, на свои средства построивших здание музея, собиравших экспонаты для благодарного потомства…
- Любопытно!
- Еще бы, очень! Человек с именем, известным далеко за пределами России, художник слова, которого Горький ставил выше Купера, всю жизнь не покладая рук трудился для науки. Итак. Значит, едете? Желаю вам удачи!
На залитой солнцем улице по асфальту бойко сновали блестящие, как жуки, легковые машины, разгоняя в стороны летевший с тополей пух. Все искрилось, сверкало, вдали в мареве жаркого воздуха млели голубые заманчивые сопки Хехцира, и я подумал, что жизнь прекрасна даже тогда, когда есть недовольные люди. Видимо, они такое же естественное явление, как свет и тень, как пыль и дым за идущим в будущее поездом.
В ожидании большой амурской воды, когда глубокосидящая морская шхуна могла бы отправиться в путь, я зашел в библиотеку, где познакомился с работами профессора Гассовского, академика Миддендорфа и других ученых и исследователей, посетивших север Приамурья. Хотя я ничего не нашел в их работах по интересующим меня вопросам, все же я многое узнал об этом замечательном крае.
Наконец, в горах прошли обильные летние дожди, и вода в Амуре стала стремительно подниматься, угрожая наводнением. Медлить было нельзя. Шхуна приняла на борт последнюю партию груза - боеприпасы для охотников северных районов, капканы, различное снаряжение и товары. Все уложено на свои места. Капитан Боев предложил мне к вечеру перебраться на шхуну.
Стройная, с высокими бортами, окрашенная в зеленый цвет шхуна с берега казалась легкой, игрушечной, и я невольно усмехнулся, вспомнив прочитанные в юности книги о плавании на парусниках. Не тот век! Хотя на шхуне и стоят мачты, но едва ли придется поднимать паруса. Мотор надежно вытеснил их, и не мчаться мне на крыльях ветра…
На шхуне была одна общая каюта, занимаемая командой в пять человек, и каюта капитана. По любезному разрешению Боева я разместился вместе с ним.
Ранним утром подняли якорь, торопливо застучал мотор, шхуна развернулась и, выйдя на фарватер, по которому плыли желтые шапки пены, ходко пошла по течению.
Над долиной Амура господствуют ветры двух направлений. В зимние месяцы-холодные юго-западные. Они шлифуют зеленоватые глыбы торосистого льда, во время шуги поставленного на ребро да так и схваченного морозом. Весь Амур тогда дымится от поземки, курятся верхушки сугробов, и желтая пыль стелется на километры от песчаных кос, с которых свирепый ветер сдирает тонкое снежное одеяло.
Редко выпадает безветренный день, и тогда небо покрывается волокнистой пряжей перистых облаков, луна выходит помутневшая в радужном ореоле. Наступает потепление. Вначале робко, а потом сильней и сильней начинает дуть северо-восточный ветер с низовьев Амура, несущий снегопад. Стонет тогда прибрежный лес под натиском пурги…
Летом - низовик: суровый, в клубах низких дождевых туч, гонимых с моря. Он задирает стремящуюся ему навстречу воду, взбивает на гребнях волн белые барашки и потом в течение двух-трех дней гонит по Амуру почерневшие мутные валы. С тяжелым плеском обрушиваются водяные громады на рыхлые песчаные острова и берега, отваливая от них целые глыбы вместе с растущими кустами и деревьями. Пригибаются побелевшие тальники - высокие ивовые заросли, до земли клонятся травы - вейники в рост человека, шум и плеск стоит над рекой. Все живое прячется, ни одна лодка и даже катер не отваживаются появиться на главном русле. Если уж особая нужда заставляет кого пуститься в плавание, так приходится выбирать узкие протоки, закрытые от ветра участки…
Верховик - веселый, ласковый, в ослепительном сиянии неба, при блеске волн. Он будто по шерстке гладит воду, и поверхность Амура наливается густой, как чернила, глубокой синевой. В такие дни к вечеру удивительная тишина охватывает природу, огненным столбом погружается солнце в раскаленную от закатного пожара воду. Золотыми штрихами прочеркивается ничем не искаженное зеркальное отражение берегов. Прибрежные купы тальников, как зачарованные, прислушиваются к шепоту затонувших у обрыва коряг. И тогда в надвигающихся сумерках звонкий молоточек начинает чеканить незастывший еще металл неба. Это широкоротый козодой своей необыкновенной песней славит жизнь…
Я вышел на палубу, чтобы еще раз полюбоваться городом. Мутные волны с тяжелым плеском расступились в стороны от шхуны. Над рекой поднимались испарения, день обещал быть жарким, и голубые прохладные тени, отступая, прятались за высокий скалистый правый берег. Впрочем, на воде нечего бояться жары.
Я смотрел на бескрайние просторы Амура и поражался силе и мощи этой великой реки. Левый, луговой, берег был уже затоплен, под напором воды полегли нескошенные травы, а прибрежные тальниковые заросли качались, как живые. За каймой тальников среди луговой поймы на километры виднелись серебристые ленточки каких-то заливов, стариц и озер.
У руля стоял Боев в черном суконном кителе, надвинув морскую форменную фуражку так, чтобы ее лакированный козырек прикрывал глаза от слепящего солнца. Спокойный, широкоплечий, он, прищурившись, всматривался в даль, где еле заметной белой пирамидкой маячила на берегу следующая створа. Перед ним не было карт, но он, видимо, в них и не нуждался.
Когда я поднялся к нему в рубку, он кивнул мне головой и заговорил:
- Видали, с каким запозданием разливается наш Амур? Бывает, что с весны так обмелеет - до Комсомольска не дойти на нашей шхуне, а сейчас еще какие-нибудь метр-два и разольется на километры. Все сравняет от сопок до сопок. Море! И вот ведь какая беда с ним: подпадает наводнение под самую горячую пору - под сенокосы. Кто не успеет убрать сено до пятнадцатого июля - поминай как звали, унесет! После каждого наводнения новые острова, мели, а уж берега, как зверь, гложет. Одним словом, задает людям работы. На моей памяти иные деревни уже в третий раз на новые места переносят. Только отодвинутся от берега, отстроются, не пройдет и пяти-шести лет, а заборы в воду валятся, волна под порогом плещется. А сколько полей, деревень топит, домов уносит!.. Видно, не зря его китайцы за крутой нрав да за мутную воду Черным Драконом прозвали…
- Зачем же люди близко у берегов живут, не уезжают?
- Добрая, рыбная река, вот и живут. Кормиться-то надо? Иной раз в лимане такую рыбешку поймаешь, еле на лед вытащишь, за целый месяц всей семьей не съесть. Правда, без сноровки не каждому это удается…
- Черный Дракон? Доля правды есть. Тут и скалы темные, не такие, как у нас…
- Где это у вас - на Волге?
- Хотя бы и так!
- Так там везде известняки, мел, а тут сплошные базальты. Не знаю как кому, а нам, русским, как ни зови- Драконом ли, Амуром ли, который с крылышками, вроде бога влюбленных, все равно по нраву, к сердцу пришелся… Кто на нем поживет, уже ни на какую другую реку менять не захочет.
Я слушал, смотрел на живописные курчавившиеся лесом сопки правого берега и все больше пленялся прелестью окружающей природы. Здесь росли маньчжурский орех, ясень, амурский бархат, белая сирень, виноград…
- Это же курортные места! - невольно вырвалось у меня.
- Гнусу много,- хладнокровно заметил Боев.- Заедает, проклятый. Не успеешь на берег сойти, а он уже над тобой роем висит.
До Комсомольска Амур течет широкой долиной. Далеко слева, сливаясь с нагромождениями кучевых облаков, маячили голубые призрачно нежные зубцы хребта Джаки-Унахта. До самых сопок расстилались редколесные заболоченные мари - так называли здесь болота, покрытые багульником, осокой и мхами,- дикие, непролазные и безлюдные места, по которым прокладывали в то время железную дорогу из Хабаровска на Комсомольск. Среди этих марей лежит одно из крупнейших озер амурской поймы - Болонь.
Как правило, население держится высокого, правого, берега, но и тут деревни стояли не часто: на десять-двенадцать, а то и на пятнадцать километров одна от другой. Я целыми часами простаивал на палубе, глядя зачарованными глазами на берега.
Мимо города Комсомольска шхуна прошла на второй день пути. Долго виднелись дымившиеся трубы заводов. Теперь Боев уступил место у руля старшему матросу: Амур, стиснутый с обеих сторон крутыми сопками - отрогами Сихотэ-Алиня, был здесь так глубок, что опасность посадки на мель исключалась. Сумрачные сопки с голыми щебнистыми вершинами-гольцами обрывались к воде скалистыми утесами, возле которых шла глухая извечная борьба воды с камнем.
Резко изменилась растительность: кругом господствовали лиственница, береза, ель, осина. Лес стоял частый, как зеленая стена, безмолвный, и от него веяло дикостью и суровой непокоренной силой.
По распадкам ютились небольшие села, каждое из которых своим названием говорило, откуда прибыли первые переселенцы.
Вечером, когда солнце позолотило вершины гор и пламенеющее небо отразилось в зеркальной поверхности реки, над водой поднялась белая метелица. Тысячи бело-зеленоватых мотыльков неслись навстречу шхуне, подобно весеннему снегу, когда он падает пушистыми крупными хлопьями. Мотыльки-эфемеры плотным слоем облепили палубные надстройки, садились на лицо, шею, руки, и хотя не кусали, но их щекочущие прикосновения были неприятны. Однако смахнуть их с лица не было возможности: от прикосновения рук они попросту размазывались.
- Что это, откуда? - спросил я, растерянно отмахиваясь от этого живого снега.
- Метляк поднялся,- сказал Боев.- Значит, скоро горбуша пойдет. Она первая идет в Амур. Потом летняя кета, а к концу августа и осенняя. Та тоже не сразу вся проходит: первым ходом идут «гонцы» - самая сильная рыба, а за ними вторым ходом основная масса. Эта уже послабее, ближе к берегам держится…
- А третьим?
- А третьим по сопкам.
- Как это? Рыба по сопкам?
- Какая рыба? Третьим ходом здесь по сопкам зима валит! - Боев добродушно расхохотался над тем, что ему удалось подшутить надо мной. Он хлопнул меня по плечу и сказал:
- Там мои хлопцы осетринки спроворили, может отведаем, а? Неплохо ведь? А то скажешь, что с капитаном Боевым плавал, а калужатинки не пробовал.
- Да где вы ее успели поймать?
- Я ведь родился и вырос на Амуре, а батька мой на Сахалине каторгу отбывал, а потом и навсегда в лимане обосновался. Мне тут все калужатники то сватья, то братья, то кумовья. Неужто не уважут? У нас, у рыбаков, так не принято!..
За ужином Боев подробно расспрашивал об экспедиции.
- Тяжелую ты себе задачу взял, не знаю, что тебе Абреков там наговорил, только ты ему особо не доверяйся! Скользкий он и бессердечный человек, на чужом несчастье славу себе наживает. Не одного охотника он на скамью подсудимых посадил, а того не разумеет, что в любом деле свой подход к человеку нужен. Не люблю я таких. Кого он тебе в проводники сосватал?
- Софронова, эвенка!
- Знаю его. Первый браконьер в районе, а вот умеет каждый раз как-то выкручиваться. Хитрая бестия.
- А места он знает?
- Этого не отнимешь, с завязанными глазами куда хочешь заведет и выведет, и охотник первейшей руки. От него ничего в тайге не укроется, все увидит, идет, будто книгу читает. Я, паря, понимаю, что ты не для себя, для народа на хорошее дело идешь. В Чумикан приедем, я со своим кумом поговорю, если он с тобой пойдет, будешь ты как у Христа за пазухой - не даст пропасть. Он хоть и из староверов, с одной кружки даже со мной не пьет, а кристальной души человек, ни в какой беде не покинет. Это уж у него крепко. И силен, дьявол. Как-то мы с ним уговорились на Бикине поднять из дупла черного медведя-муровьятника. Он мне и говорит: «Давай живьем его брать!» - «Давай!». Ружьишки в сторону, да и навалились на медведя вдвоем…
- Взяли?
- Какое там, хорошо что небольшой попался, а то бы кишки нам повыпускал. Мы ему передние лапы крутим, оп нас задними дерет. Всю одежду с нас спустил, пришлось прибить. Потом я ему говорю, что же ты, тигру живьем брал, а паршивого медведя не осилил? А он мне и отвечает: «Тигру легче скрутить, чем медведя. Мне об этом и раньше говорили, да я не верил, пока сам не убедился!» В общем выходит, что у каждого зверя вроде бы свой характер есть и против него не пойдешь, приходится считаться. Вот в Чумикан приедем, я тебя прямо Авдееву и препоручу, потому что ты, парень, мне по душе, дело твое стоящее и нужен тебе надежный человек!
Я вспомнил, что Мамонов рекомендовал мне заручиться поддержкой надежного бывалого человека. Вполне возможно, что он окажется нужным, стоящим проводником.
Боев поставил в шкафчик бутылку:
- Больше нельзя. Где-нибудь на берегу, так я бы разгон дал, а здесь не могу, народное добро мне поручено и должен я за ним смотреть и к месту доставить в сохранности. Кушай талу, первейшая это еда летом, а зимой строганинка!
- А я еще ни разу на медведя не ходил,- сознался я.- Интересно было бы поохотиться.
- О чем речь, мимо Шантаров пойдем, я тебя сведу на охоту! Если бы, как раньше, с гидой или с рогатиной, тогда другое дело, а когда ты с винтовкой, так никакой зверь не устоит. Думается мне, что скоро зверь на земле переведется совсем, если не взять его под защиту…
…Николаевск встретил нас туманом, который нагнало с лимана. Только к полудню его развеяло, и мы смогли войти в порт. Справа, против города, поднимались крутолобые сопки, а слева к самому городу тянулись обширные, заросшие водяной растительностью отмели-лайды. Шхуна «Пушник» бросила якорь на рейде. Оставив вахтенного на борту, мы все сели в лодку и поехали на берег. Шхуна была приписана к Николаевскому порту и должна была здесь запастись горючим на весь рейс, поэтому Боев считал, что стоянка продлится не менее трех дней.
ОХОТА НА МЕДВЕДЯ
Николаевск имеет любопытную историю, в которой есть печальные, полные трагизма страницы. Пользуясь свободным временем, а также воскресным днем, я отправился побродить по улицам. Характерной особенностью этого города являлось то, что он весь, за исключением нескольких зданий - деревянный. Завозить кирпич издалека дорого и трудно, да и взять его в то время, когда город строился, было негде. Крыши домов крыты волнистым оцинкованным железом, но ржавым, когда хорошо известно, что оцинкованное железо само по себе почти не ржавеет.
Я решил узнать, откуда взялось здесь оцинкованное железо? Оказалось, что в годы японской интервенции город был сожжен дотла, и жители, отстраиваясь заново; использовали все горелое железо.
На возвышенности, с которой открывался вид на Амур с пирсами, портовыми постройками, стоянками судов на всю его ширину до угрюмых лесистых сопок противоположного берега, стояло здание мореходного училища. Его окончил С. О. Макаров, ставший впоследствии видным ученым, адмиралом, гордостью русского флота. Я узнал об этом из надписи на мемориальной доске, висевшей на стене дома. Чуть в стороне, под сенью веселых берез, стоял другой памятник - черный каменный обелиск, поставленный в честь основателя города адмирала Невельского.
Осмотрев памятники, я спустился к самому берегу реки и вышел к городскому базару.
Базар тоже в своем роде историческое сооружение: по какой-то случайности он уцелел во время пожара и разрушения. Одна из стен этого сооружения стояла ка берегу, а другая - на сваях.
Между сваями плескалась вода. К сваям теснились десятки самых разнообразных лодок: гиляцких - длинных, с волнорезом на носу, выступающим в виде лопаты днищем и обычных - рыбацких плоскодонок, оморочек, и долбленых батов из цельного ствола тополя…
Вода была застойная, мутная, на ней плавала подсолнечная шелуха, объедки, мусор - все, что выбрасывалось праздными людьми, стоявшими у перил и сидевшими в лодках. Два раза в сутки вода слегка поднималась и опускалась: сказывались приливы и отливы моря, находившегося недалеко от Николаевска.
Базар гудел от множества людей, толпившихся между торговыми рядами, люди спорили, приценивались, зазывали покупателей к своему товару. На прилавках - всевозможная рыба, причем лучшая из согни видов, обитающих в Амуре так как николаевский покупатель к рыбе привередлив и первую попавшуюся есть не станет.
Здесь были сазаны, калуги, осетры, отборный карась и жирные сомы. Но особенно много лежало серебристой с синеватым отливом горбуши, ход которой у Николаевска начался. Лаская глаз, на прилавках стояли с красной, просвечивающей на свету смородиной берестяные туески. Туески были простые и с узорами, вышитыми или выдавленными на бересте костяной палочкой. Гиляцкие и нивхские женщины большие искусницы до этого ремесла. Черноволосые, широкоскулые, с узкими щелками черных глаз, они бесстрастно покуривали табак из длинных прямых и тонких трубочек с маленьким медным чубуком. На плечах у них красовались халаты из темной ткани, расшитые узорами (белым и красным по черному или темно-синему). Женщины продавали самое ранее растение - черемшу с длинными, крупнее, чем у ландыша, листьями, очень сочное, заменяющее на севере лук и чеснок, которые не успевают здесь вызревать. Время черемши уже прошло - она набирала цвет, была жестковата, листья вялые. Ей на смену уже пришел редис, но ведь бывают любители и на позднюю!
Перед отплытием, в Хабаровске, я покупал свежие огурцы, и вот снова догнал весну с ее черемшой, ранним зеленым луком-ботуном и редисом. Любителю цветов здесь еще предлагали ландыши… Лето в Николаевск приходит с опозданием на месяц, так как в отдельные годы выход из Амура бывает до июля забит льдами и холодный ветер дышит на город с моря. Однако короткого лета вполне хватает для созревания картошки, капусты и диких ягод.
Кое-как я протискался через толкучку к выходу и медленно побрел по деревянному, в четыре доски, тротуару. Базары очень интересны, по ним всегда можно ближе познакомиться с занятием жителей, но они очень шумные - быстро утомляют.
В палисадниках вместо деревьев и кустарников росли картошка и капуста. Овощи здесь ценились выше эстетического наслаждения от созерцания декоративных кустарников. К тому же невдалеке, в обширном березовом парке, достаточно было и тени, и зеленой травы, и свежего воздуха.
Дни пролетели незаметно: я ходил по учреждениям, беседовал с бывалыми людьми, собирал сведения о Тугуро-Чумиканском районе.
Тем временем на шхуну погрузили бочки с горючим. Рано утром выйти нам не удалось. Туман, принесенный вместе с волной холодного воздуха, за несколько минут закрыл береговые кварталы города. Обычное явление в Николаевске. Туман держался недолго, под горячими лучами солнца он стал быстро редеть и таять. Только поблескивающие мокрые крыши береговых построек еще некоторое время отдавали холодной синевой.
Порт был забит большими и малыми речными и морскими судами, баржами и катерами. Часть из них стояла на приколе как списанные или в ожидании капитального ремонта, другие грузились или разгружались, третьи ждали своей очереди у пирсов.
Шхуну опять вел Боев. Амур за Николаевском расширяется до двадцати километров. Это устье реки - лиман, очень мелководный, в нем множество отмелей - лайд. Фарватер реки здесь разбивался на два рукава - северный и южный. Этими глубокими и извилистыми руслами и могут проходить суда. Это как бы две гигантские канавы, прорытые стремительным течением могучей реки, вырвавшейся из гор на широкий простор. Каждое наводнение меняло фарватер, и там, где раньше было глубоко, могла оказаться песчаная коса.
В лимане сосредоточены основные амурские рыбалки. В отличие от других мест рыбу здесь ловили не сетями, а при помощи громадных, в полтора километра, заездков, каждый сезон сооружаемых заново. Рыба, стремившаяся в Амур, встречала на своем пути изгородь, стараясь ее обойти, попадала в ловушки-глаголи. На берегу и на ловушках царило оживление. По Амуру сновали лодки и катера с кунгасами.
В надежде на быстрый заработок на рыбалки устремлялись каждое лето тысячи людей, но большой ход рыбы бывал не каждый год, а через три на четвертый, а то бывало и так, что хорошо шла горбуша, но плохо кета, и наоборот.
Постепенно сопки справа и слева отодвинулись далеко в стороны и, наконец, превратились в зыбучие призрачно голубые волны. Впереди засверкало необъятное спокойное море. Стояло полное безветрие: в летнее время штормы на Охотском море бывают очень редко. В отличие от озерной ровной глади море едва заметно дышало.
Чем дальше мы уходили от земли, тем заметнее становилось волнение, и постепенно, в такт волнам стала раскачиваться и наша шхуна - мерно и однотонно.
Иногда из воды показывалась темная круглая голова тюленя; уставившись любопытными глазами на шхуну, она минуту оставалась неподвижной, потом камнем, без всплеска уходила в воду. Рыба шла в Амур, а тюлени шли за ней.
Боев, посасывая цигарку, неторопливо пояснял:
- Бывает, что верст за четыреста-пятьсот идет тюлень по Амуру вслед за рыбой. Кум рассказывал, будто в двадцать девятом году был случай: около Малмыжа рыбаки нерпу убили. Это за Комсомольском, если от Николаевска счет вести. Любит тюлень рыбу. Иную убьешь, а в ней сала на ладонь и внутри вся залита… Белуха - тоже. Раньше много ее промышляли, а теперь, вроде, поменьше стало. Изводят, да и рыба уже не та!.. Перед первой мировой войной японцы здорово у нас здесь хозяйничали на концессиях. Заездок на заездке стоял. До миллиона центнеров брали, а теперь? Дай бог, когда третью часть…
Небо безоблачное, белесоватое от жары, над водой стоит дрожащее марево испарений, и трудно разобрать, где кончается вода и начинается небо. Меня укачало, захотелось лечь..
Вечером на горизонте, как далекие застывшие на месте облака, показались нежно-сиреневые в закатных лучах острова Шантарского архипелага. «Пушник» держал курс на них. На одном из них - Большом Шантаре - нам предстояло попытать счастья в охоте.
- Ну, Саша, собирай что надо для охоты. Утречком, чуть свет выйдем,- сказал мне Боев.- Главное выспись хорошенько, чтобы нервы не подкачали, а то всяко бывает, раз на раз не приходится…
Ночью я слышал, как гремела якорная цепь, как громко разговаривал с матросами капитан. В открытый иллюминатор веяло сыростью и холодом.
«Наверное, приехали»,- подумал я и, поплотнее закутавшись в одеяло, снова заснул.
Едва забрезжил рассвет, Боев меня разбудил. Мы взяли винтовки, патронташи, пристегнули к поясу охотничьи ножи и вышли на палубу. Море окутывал редкий туман. На востоке тонкую пелену тумана пробивал луч солнца. У скалистого берега тихо вздыхало море. У самого борта шхуны висел ялик.
Осторожно держась за мокрые от росы канаты, мы спустились в него. Завизжали блоки, и ялик, опускаясь, плавно коснулся широким днищем темной воды. Матросы подобрали канаты, а мы оттолкнулись от борта шхуны и, поскрипывая уключинами, погнали ялик к острову. Хотя море было спокойное, у берега, шурша крупной галькой, размеренно билась прибойная волна.
Оставив весла, я прыгнул в воду и с набежавшей волной выдернул лодку на берег. Боев помог мне оттащить ее как можно подальше от воды и закрепить, обвязав трос вокруг ребристого обломка скалы.
- Перекур,- скомандовал он и полез в карман за кисетом.
Мы присели на большой темно-зеленый камень, отшлифованный волнами.
- Недалеко от этих островов промышляют белуху,- тихо сказал Боев.- Разделывают их чуть ли не в воде, сало и шкуры снимают, а мясо оставляют - бросают. Бывает так, что туши этих белух прибивает к острову, а здесь всякий зверь - лисица, медведь выходят ими лакомиться. Я тут не раз медведей видел. Так вот мы и пойдем вдоль воды, может какого и повстречаем. Только идти надо тихо, галькой не стучать, не разговаривать, а то учуют, уйдут…
С этими словами он достал обойму с патронами, протер ее и зарядил винтовку. Я последовал его примеру.
- Ну пошли, что ли? - сказал Боев и встал.
К узкой береговой ленте галечной отмели вплотную подступали отвесные скалы. В глубоких темных расщелинах еще лежали изъеденные ветром пласты слежавшегося снега и льда.
Над скалами и морем с резкими криками носились стремительные черноголовые топорки и медлительные серо-желтоватые чайки. Пахло соленой рыбой, морской капустой и птицами.
Набегавшие волны с шипением лизали темную от сырости гальку, слегка пошевеливали выброшенные на берег водоросли и гоняли взад и вперед пустые побелевшие мелкие ракушки.
Мы уже прошли километра три. Под ногами не раз попадались кости различных морских зверей и разные диковинки, вроде причудливо отточенного волнами камешка, сухой крабовой клешни или морского ежа. В другое время никогда не прошел бы мимо, но сейчас до боли в глазах я всматривался в темные валуны, стараясь среди них различить зверя.
Боев, шедший передним, внезапно пригнулся и присел за крупный камень. Я последовал его примеру.
- Медведь,- прошептал он.
Любопытство одержало верх над осторожностью, и я выглянул из-за его плеча. Однако сколько ни вглядывался, ничего не видел, кроме черных и серых валунов, рассеянных по берегу. Один из черных продолговатых камней вдруг изменил свое положение и передвинулся ближе к прибойной полосе.
- Да,- промолвил я,- одного вижу…
- Целых три,- шепнул Боев.- Белуху едят. Гляди лучше!
Присмотревшись, я заметил, как еще две каменные глыбы ожили и сдвинулись со своих мест. Между ними было что-то светлое, по форме напоминающее днище опрокинутой лодки.
До зверей было еще далеко, но Боев дернул меня за руку и пригнул к земле.
- Теперь надо к ним подойти как можно ближе, чтобы наверняка бить. Нужно ползти от камня до камня… Торопиться не надо, а то заметят, уйдут. Медведь, он на нос чуткий…
Где ползком, где пригнувшись, от камня к камню мы стали подкрадываться к зверям. Меня охватил охотничий азарт. Руки дрожали, сердце колотилось: на медвежьей охоте я был впервые.
Медведь поднял голову и повел носом. Мы замерли.
«Ну, ешь, ешь! Что тебе стоит еще минут пять полакомиться белухой? Хороший мой, ешь! Дай мне только раз нажать на спусковой крючок, почувствовать верность глаза, твердость руки… Ешь!» - умолял я в душе этого косматого зверя.
Я не допускал мысли, что в случае промаха могу попасть ему в когти. Ведь на охоте случается всякое. Со мной Боев, он не новичок в таком деле, как охота. Я ничего не видел перед собой, кроме узкой галечной полосы и трех медлительных животных, да еще перед самым носом сапоги Боева с поблескивающими истертыми ракушками на каблуках.
Глядя, как носки его сапог упираются в гальку, когда он переносил тело вперед, я с замиранием сердца следил за каждым его движением, не скребнул бы он по камню, не звякнул бы прикладом. Но Боев полз бесшумно и легко, как настоящий пластун, а себя я в эти минуты не чувствовал, тело мое было невесомо.
Галечная коса, сжимаемая надвигавшимися скалами, стала совсем узкой и вскоре круто оборвалась к морю, где глубина была значительной.
Высокие отвесные скалы смыкались с пучиной моря, образуя непропуск. Волны бились о камни, и шум их мешал зверям услышать наши шорохи.
Крупные камни, за которыми мы могли бы укрыться, вдруг сразу исчезли, а до медведей оставалось еще около ста метров. Подкрадываться ближе по открытому месту было неразумно. Боев поудобней улегся за камнем и стал целиться.
- Будем бить левого, он стоит боком,- шепнул он мне.- Стреляем по команде. Готово? Раз, два… Пли!
Грохот наших выстрелов, громом отдавшись в скалах, будто бичом стегнул по медведям. Сотни птиц с пронзительными криками сорвались со скал и закружились над нами.
Медведи, принюхиваясь к воздуху, заметались, стараясь угадать, с какой стороны пришла опасность. Один бросился было к скалам и полез вверх, но сорвался с отвесной стены и упал на землю. В тот же момент он подскочил и с ревом бросился в нашу сторону, увлекая за собой остальных. Три обезумевших зверя неслись на нас.
Боев прицелился, выстрелил, и пуля, ударившись о камень под ногами медведя, срикошетировала в море. Он выбросил гильзу и стал чакать затвором, который вдруг почему-то не хотел закрываться. Я заметил, как он побледнел.
Не знаю, был ли хоть один медведь ранен нашими пулями. Голова моя не сообразила, что звери могли инстинктом почуять единственный выход - прорваться мимо нас. Ведь сзади их был непропуск. Я же принял это за нападение и считал, что они несутся на нас с единственной целью расправиться с нами. Видимо, так же считал и Боев.
Лихорадочно ловил я на мушку косматого зверя, чтобы остановить хоть одного. Поспешно выстрелил несколько раз подряд. Гильзы со звоном летели на камни, но ни один из медведей не был остановлен, выстрелы только сильней подхлестывали их.
«Неужели конец? - мелькнуло в голове.- Умереть так глупо!..» Я не считал выстрелы, не знал, сколько патронов еще осталось. Передернув затвор, затаив дыхание, я старательно целился, вложив всю надежду в этот последний выстрел. Я видел наплывающую на меня медвежью тушу, пасть и оскал желтых зубов в кровавой пене.
- Попал-таки, ранил,- ответил кто-то за меня и довел до моего сознания.
- Клац, клац, клац! - ловил мой слух цоканье длинных когтей зверя о камни, меня тянуло отвести глаза от цели, посмотреть на его лапы, которые вот-вот вцепятся в меня, но я страшным усилием воли задержал взгляд на мушке, за которой видел злые, налитые кровью глаза, широкий массивный лоб и поджатые короткие уши.
Еще секунда, и я буду сбит с ног, раздавлен, зловонное горячее дыхание коснется моего лица. В эту секунду одним движением указательного пальца я послал узкий пучок огня, и он с громом опрокинул зверя. От выстрела в упор медведь перевернулся через голову и, падая, лапой задел меня.
Я был отброшен с такой силой, что винтовка вылетела у меня из рук и стукнула о камень. Не знаю, что было бы с нами в случае промаха или осечки. Мною руководил не разум, а инстинкт. С проворством кошки я вскочил на ноги, подхватил винтовку и одним махом загнал в магазинную коробку новую обойму патронов.
Вскинув ее к плечу, я почему-то задержался, не выстрелил, наверное потому, что хотел опять бить наверняка, в голову, а не в спину зверя.
Громадный бурый медведь бесформенной темной тушей лежал, уткнувшись головой в камни, странно подвернув лапы. Под ним расплывалось красное пятно…
Не сводя с него винтовки и все еще не доверяя себе, что я мог убить такого великана, я все же посмел оглядеться. Два других медведя скачками, высоко вскидывая задние лапы, уходили от нас. Их косматые спины уже мелькали между камней. Еще мгновение - и они полезли на скалы. Кустарник затрещал, раздвинулся и принял их под свою защиту.
Боев, взволнованный, выковыривал пальцем, а потом ножом перекосившийся патрон. В горячке он загнал его так плотно, что теперь стоило больших усилий извлечь его обратно. Он был лишь свидетелем, как звери пронеслись мимо него.
- Заело,- пробормотал он и с силой трахнул измятым патроном о камни.- Чтоб ты провалился, проклятый!..
Боев подошел, качнул носком сапога косматую тушу убитого медведя и, убедившись, что он не шевелится, присел на камень.
- Уснул… Ну, молодец, хоть ты не оробел, парень, а то бы досталось нам на орехи…- Он хрипло рассмеялся и вытер рукавом вспотевший лоб.
Ноги и руки у меня дрожали, и я опустился рядом с ним. Язык не повиновался, и я только промычал что-то в ответ, чувствуя, как по лицу расплывается довольно глупая улыбка.
Боев шарил по карманам и, еще волнуясь, бросал мне короткие успокоительные фразы:
- Нич-че, паря, бывает хуже… Это тебе урок… В тайгу идешь, не куда-нибудь, пригодится… Там все может случиться, будешь теперь знать, как это бывает!..- Он нащупал, наконец, то, что искал, и подал мне кисет: - Закуривай, брат…
Я протянул было руку и вдруг почувствовал, что все тело мое избито, до отказа наполнено болью. Я застонал и стал стаскивать с себя куртку, чтобы осмотреть ушибы. Ничего серьезного, кроме ссадин, не было.
…Медведь оказался огромным, и мы с полдня провозились над его разделкой. Только к вечеру перевезли мясо и сало к шхуне и подняли его на борт. Шкуру, едва уместившуюся в бочке, крепко засолили: ей предстоит далекий путь - в Москву, в Зоологический музей института.
Подняли якорь, и «Пушник» взял курс на Чумикан. Еле добравшись до постели, я, не раздеваясь, упал на нее и мгновенно уснул.
Слишком велика была усталость, а впечатления этого дня сильны и необычны.
СБОРЫ В ДОРОГУ
Чумикан оказался небольшим рыбацким поселком. Бревенчатые избы рассыпались по взгорку на самом берегу Охотского моря. Утреннее веселое солнце поблескивало в окнах, золотило дымки из труб, свечками тянувшиеся в небо.
Около изб не было ни кустиков, ни деревца. Люди, живущие среди тайги, не испытывали нужды в зеленых насаждениях. Дома - серые, выгоревшие на солнце, выбеленные дождями и ветрами. На них нет ни резьбы, ни красивых фронтонов, ни ставень с узорами, которые так оживляют поселки Поволжья и других среднерусских областей. Надо сказать, что сам строительный материал не располагал к изящным поделкам. Лиственница, из которой строили здесь дома, очень смолиста и хорошо колется вдоль, но почти совершенно не пригодна для выпиливания узоров и для резьбы. Подсохнув, она становится такой жесткой, что не всякий гвоздь удается забить в стену, а уж рубанок порой просто проскальзывает по доске, не задевая древесины. Она очень устойчива против гниения, и дом может простоять полсотни лет, а ударь по углу топором - и он зазвенит, как бубен, будто построен лишь два года назад. Вот за эти-то качества и зовется лиственница северным дубом.
Вполне возможно, что сама природа края с морозными сухими ветрами зимой и коротким летом не располагала людей к украшению своих жилищ. Для этого нужен досуг и теплое время, а здесь лето до отказа забито заботами о хлебе насущном, о копейке, которую нужно заработать на рыбалке.
Рыба не ждет, пока кто-то раскачается; она идет считанные дни, тогда только бери ее, не зевай! Еще льды теснятся у берега, пойдет сельдь - и люди не спят ночами, возятся с сетями, ловушками, неводами. В суровой борьбе со льдами, которые то и дело надвигаются с моря, забивают и рвут сети, в хлопотах рыбаки набивают на руках кровавые мозоли веслами и смоляными веревками неводов. Не успеют они передохнуть, как начинается лов горбуши, потом летней и осенней кеты. Руки рыбаков так грубеют, что ими не только не сделать какую-нибудь безделушку, едва возможно удержать весло, топор. А зимой жители на месяцы покидают дом и уходят в тайгу на охоту…
Дома стоят крытые щепой из той же лиственницы, крыши простые, со скатом на две стороны, фронтоны зачастую ничем не заделаны, н если зайти сбоку, то видно стропило, печную трубу и связки прошлогодней юколы, подвешенные на жердях: дождем не достает и проветривает хорошо. Красные распластанные тушки горбуши вялятся под солнцем на стене каждого дома. Это уже рыба нового улова. Без запаса рыбы здесь не живут. Она занимает в питании столь же значительное место, как в центральных областях России овощи в крестьянских семьях.
Наша шхуна «Пушник» бросила якорь в устье горной реки Уды. С палубы был виден берег с большими рыбными складами и навесами, под которыми ярусами лежали золотистые бочки и готовая клепка. На длинных вешалах сушились веревки и невода. У свайного причала стоял обшарпанный катеришко и несколько кунгасов-неводников. Возле лодок, завидев шхуну, собирался народ; под ногами крутились лохматые, разомлевшие от жары собаки с длинными высунутыми языками.
- Вот и приехали,- сказал мне Боев.- Вещички свои пока не выноси, успеется, сначала поедем на берег и я тебя перепоручу Авдееву!
Я все же взял с собой самое ценное: ружье, чемодан.
Боев был уже наготове, он держал в руке сетку с завернутой в газету медвежьей лопаткой весом на полпуда, не меньше. Заметив мой взгляд, он усмехнулся:
- Куме на котлеты. Она до них большая мастерица…
Матросы спустили на воду ялик, и мы поплыли. На берегу
Боев долго жал руки своим знакомым, а их у него было много, каждого расспрашивал о здоровье, сам отвечал на вопросы. Сразу было видно, что здесь он свой человек. Протискавшись через толпу, мы увидели спешившего нам навстречу мужчину, одетого по-городскому: в костюме с галстуком, с сумкой через плечо. По виду можно было предположить, что это какой-то начальник.
- Здорово, Боев! - крикнул он еще издали.- Привез мне что-нибудь?
- А как же! Завтра с утра готовься разгружать, а то мне еще в Аян надо успеть. Грузчиками обеспечишь?
- Плоховато, мало народу, сам знаешь - рыбалка…
- Ну, ничего, мои помогут, только договаривайся с ними сам!
Подошедший посмотрел на меня слезившимися маленькими глазками, протянул руку:
- С кем имею честь?..
- Буслаев!
- Очень приятно. Лямин - заведующий райзаготпушнины… С чем пожаловали?
- По твоей части. Экспедиция! - бросил Боев.- Приходи к Авдееву, там потолкуем, а то полчаса торчу на берегу, сеткой всю руку оторвало…
В это время к нам подошел матрос со шхуны и, тронув Лямина за плечо, сказал:
- Вам срочные пакеты от Абрекова.
- Хорошо, хорошо, пошли ко мне в контору, там разберемся!- Сразу заторопился Лямин.
…За оградой из свежей золотистой дранки стоял опрятный вместительный дом. Над крышей возвышалась кирпичная труба - большая редкость в поселке, где кирпич трудно достать.
- Ну, пришли! - сказал Боев и толкнул калитку.
Навстречу нам со злобным лаем кинулся похожий на волка пес с темной полосой на спине, второй, черный, величиной с теленка, с клочьями невылинявшей шерсти на боках, лишь внимательно посмотрел на нас и остался лежать.
- Сдурел, Кирька! - крикнул Боев.- Своих не узнаешь?
Пес виновато завилял хвостом, дал потрепать себя по загривку и, подозрительно косясь на меня, отошел на свое место.
Из-под навеса, пристроенного к избе, вышел хозяин - благообразный старик с белой окладистой бородой, с расстегнутым воротом рубашки. Он работал, и на розовом блестящем темени, обрамленном белыми кудрями, сверкали капельки пота. Сощурив смеющиеся голубые глаза, он вытер о фартук руки и поспешил к нам.
- Отколь гостей бог принес?
- Из-за моря-окияна…- засмеялся Боев.- Все трудитесь, Евстигней Матвеевич? Как здоровьице, все ли живы?
- Спасибо на добром слове, пока не жалуемся, а без трудов как проживешь? В поте лица своего вкушай хлеб свой!..- Он пожал нам руки и, не отпуская, повел к избе.- А я, милый, тебя ждал, ждал, да и ждать перестал. Чуть было на промыслы не подался!
- Водичка задержала, Евстигней Матвеевич. То было Амур обмелел, а теперь воды столько, что берегов не видно. Оттого и задержался немного. Правда, денек у Шантаров простояли.
- Решили попромышлять?
- Мяса захотелось и человеку новому охоту на медведей хотел показать, вот и остановились. Одного завалили, но и он на нас дури нагнал…
- Тут уж как подвезет,- согласился Авдеев.
- Вот ненадолго постояльца привел к вам, уж примите по-свойски. Тайгу нашу изучать будет!
- Какой может быть разговор? Гостям мы всегда рады. Эй, Санька! - окликнул он подростка лет пятнадцати, выглянувшего из избы.- Прими у человека вещички. Не видишь сам, что ли?
Черный пес, лежавший у крыльца, уступил нам дорогу. Выглянула хозяйка. Боев церемонно с ней поздоровался и вручил ей свой сверток:
- Свеженинки попробовать!
Изба была разгорожена на несколько комнат. Бревенчатые тесные стены и потолок, протертые с песком, поблескивали, на полу была натрушена зеленая травка, и воздух был чистый, напоенный ароматом свежего сена и смолы. В горнице в переднем углу висели иконы какого-то старинного письма с темными ликами святых. На сохатинных рогах, прибитых к стене, оружие - дробовое и берданка, облезлая, невзрачная на вид, но, видно, привычная хозяину и неразлучная с ним. У кровати, застланной цветным лоскутным одеялом, с горкой подушек в ситцевых наволочках была кинута рыжая с черными подпалинами медвежья шкура с оставленными на лапах острыми, в палец величиной, когтями. Наверное, какой-то памятный хозяину трофей.
Авдеев что-то шепнул хозяйке, и та сразу метнулась в кладовку. Не прошло и получаса, как на столе появилась большая сковорода с горячей яичницей, тарелки, полные соленой черемши, капуста, клюква в чашечке, соленая и вяленая кета, зернистая икра и свиное сало, нарезанное толстыми ломтиками,- все, что давало хозяйство и промыслы.
Евстигней Матвеевич успел переодеться в чистую сатиновую рубашку, расчесал гребешком пушистую бороду, усы и подсел к столу.
- Прошу вас, дорогие гости, закусите чем бог дал! - певуче попросила хозяйка.
Мне стало неудобно. Наслышавшись разговоров о строгости старообрядческих обычаев и видя, что хозяин не выделяет мне особой посуды, я не знал как поступить - садиться или отказываться. Евстигней Матвеевич, заметив мое смущение и нерешительность, засмеялся:
- Садись, садись, чего там! Хозяйка, ухаживай за молодым, накладывай в тарелку яичницы, сала. На нас не смотри; мы, старые, верим - не верим, а свои староверские обычаи должны блюсти. А вы что? У нас Санька, так тот никогда и лба не перекрестит, когда за стол садится. Не те, конечно, времена, чтобы приневоливать…
…Авдеев еще в молодости переселился на Дальний Восток из Вологодской губернии. Он избегал города, и вся его жизнь протекла в глухих таежных деревнях Приморья. Был он мастер на все руки: охотничал, строил дома, изготовлял долбленые лодки-баты, сажал огород, держал скотину, рыбачил.
В гражданскую войну водил через тайгу партизанские отряды, боролся с бандитизмом. После войны сколотил артель из смелых охотников и взялся за отлов тигров живьем; в то время стали много платить за этого зверя. Потом он ушел на север.
Так и осел с тех пор в Чумикане. Семья у него была большая, почти все взрослые, поэтому отстроились быстро, основались крепко. Дети вступили в рыболовецкий колхоз, а он держался прежнего образа жизни - промышлял звероловством, а летом шел на сезонную работу - на рыбалки. Несмотря на возраст - ему было за шестьдесят,- он был. здоров, с румянцем на щеках, весел и не собирался сидеть на печи или просить помощи у детей.
- Евстигней Матвеевич, сдаю под твою верную руку этого молодого человека,- шутливо сказал подвыпивший Боев.- Он из Москвы, тайги нашей не знает, а дело ему поручено громадной важности: найти соболей, чтобы потом их отловить, живьем и расселить по всем местам. Будет это всем охотникам верный заработок и прямая польза.
Вся наша надежда на вас, Евстигней Матвеевич… Надо пойти с ним, а то Абреков дал ему в проводники Софронова, а тот еще не захочет показать места и мало ли чего… Я его знаю!..
Авдеев стал серьезным, улыбка спряталась, глаза смотрели на меня проницательно, изучающе.
- А позвольте спросить, сколько будет стоить живой соболь? Ведь взять живьем его не легко, то собака зубом помнет, то еще что… К тому же, пока его доставишь, уход за ним нужен, клетка, одним словом - хлопоты.
- Думаю, что этак тысячи две за живого.
Евстигней Матвеевич поднял глаза, что-то прикинул в уме.
- Деньги большие. Это с руки, есть расчет. И куда же вы хотите идти?
- На Зею, Селемджу, на Джугдыре поискать.
- Хаживал по этим местам, далековато. Дай бог к весне их обойти. Одежонки, обуток много износится…
- Зарплата будет,- поспешил я заверить.
- Это само собой. Мы в тайгу ради интересу идем, а пе для прогулок. Она нам набила оскому. Платить как собираетесь, помесячно? А то ведь человек не один на свете живет, остается дома семья, хозяйство…
- Твердый оклад.
- Так, хорошо. А пошто на Зею, разве известно, что там соболя есть?
- Нужно искать. Маршрут такой утвердили.
- Что-то не слышал я, чтобы там соболя водились. Ну, да тайга покажет…
- Соглашайся, Евстигней Матвеевич! - попросил Боев.
- Эк ты какой: вынь да положь. Думать надо!..
…В дверь сильно постучали. Вошел Лямин и с ним старик эвенк. Я сразу догадался - Софронов.
- Привет честной компании!-приветствовал громко Лямин.
- Пожалуйте к столу, гостями будете!
Лямину на вид лет пятьдесят, но волосы уже посеребрил иней. Смуглое лицо, косматые брови и под ними маленькие воспаленные от какой-то болезни глазки, которые он то и дело вытирал платком. Держался он развязно, громко хохотал.
- Просит меня Абреков,- заговорил он, когда насытился и немного захмелел: «помоги, дорогой товарищ Лямин, снарядить экспедицию, обеспечь ее всем необходимым». А я что? Пожалуйста, со всей душой! Что надо - бери! Мало будет - Лямин из-под земли достанет. Проводника? Вон он, пришел, охотник - каких мало. Вот Авдеев подтвердит. Скажу по совести, что больше Софронова никто пушнины не сдает. Лучше его никто не знает, где соболя водятся, он всю тайгу прошел. Верно я говорю, Софроныч?
Негидалец метнул на него злой взгляд, всем телом дернулся в его сторону:
- Зачем болтаешь чего не знаешь?
Софронов - щуплый старик, посмотреть, так в чем душа держится - одни кости и сухожилия. Руки маленькие, сухие, лицо скуластое, широкое. На губе, спускаясь к уголкам рта, усики по нескольку волосинок, как кисточки. Один глаз затянут бельмом, зато другой - черный, живой, поблескивающий, то с усмешкой, то злой, как у хорька, который вот-вот вцепится. Волосы еще черные, как воронье крыло, без седины и зубы - дай бог всякому! На нем простенький хлопчатобумажный пиджачишко и черная сатиновая рубашка с белыми пуговками.
- Никифор Гаврилович, сколько тебе лет?
- Когда мамка родила, считать не умел. Однако шестьдесят скоро будет.
Тут вмешался Лямин:
- Ты не смотри на него, что он щуплый, он по тайге как зверь бегает, молодую женку держит.
- Зачем болтаешь? - опять дернулся Софронов и метнул глазом молнию.- Баба как баба, мясо варит, олочи шьет. Пришел в гости-сиди, ешь, молчи!
- Много соболя взял в прошлом году?
- Немного брал, однако…
- Думаешь я не знаю,- сказал Лямин,- девять штук взял! За пять штук получил сполна, а на четыре расписочкой, за грехи, хе-хе!.. Лямин все знает, кто чем дышит и как…
- Девять - это хорошо. А где охотился? - поинтересовался я.
- Тайга большая, как знаешь,- пожал плечами Софронов.- Начальник тайгу идет, перед собой бумагу держит, все знает. Охотник идет - соболя ищет, дороги не знает; где вчера ворон летал, разве скажет?
- Не хитри, Никифор,- вмешался Боев.
- Зачем хитрить? Соболь в тайге живет, на месте не стоит. Где нашел, там взял, больше нету. Другое место ходить надо… Куда начальник ходить хочет?
- На Зею, на Селемджу, туда, где соболь есть.
- На Зею, на Селемджу ходил. Могу вести. Где соболь найдем - не знаю. Когда ходить хочешь?
- Дня через три-четыре.
- О! Зачем так быстро? В дороге зима застанет, шуба нужна будет, олочи, унты, сухари сушить надо, юколу. Когда успеешь? Раньше чем через две недели нельзя. Мне не веришь, старика Авдеева спроси, он скажет.
- Мне нельзя так долго здесь засиживаться!
- Молодой, горячий! В городе можно туда-сюда быстро ходить, в тайге нельзя. Хорошо собираться надо, если не хочешь олочи жевать…
- Верно говорит Никифор,- промолвил Авдеев.- В тайгу уйти легко, вернуться трудно.
Разговор принял общий характер. Я выскользнул незаметно из-за стола, вышел на крыльцо. Авдеев появился следом.
- Пошто сбежал?
- Не люблю я водку, Евстигней Матвеевич.
- А за что ее любить? Бедствие человеческое она и только! Другой зиму мытарит, по тайге мотается, мерзнет, голодает, хуже собаки живет, поймает соболя или там еще что, кажется, только бы и пожить по-человечески, так нет, поддается, пойдет глушить эту отраву, пропьется в лоск. Ни себе, ни семье! За что трудился - не поймешь.
Из горницы донесся громкий голос Лямина:
- Ты в прошлом году пять лосей убил, мясо не вывез, зря погубил; думаешь, не знаю? Лямин все знает! Думаешь, не знаю куда твои четыре соболя пошли? Что бы под суд тебя не отдали, вот куда! А пришел бы ко мне: так и так, уважь!.. У Лямина везде рука…
- Зачем болтаешь, зачем болтаешь? - Доносится гневный голос Софронова.- Что ты за человек такой? Тьфу!..
Авдеев усмехнулся.
Пойдем, покажу где отдыхать. О деле завтра говорить будем.
Он мне нравился все больше и больше. Нравился своей физической чистотой, здоровьем, веселой, добродушной усмешкой, рассудительностью. Я покорно пошел за ним, удивляясь его легкой походке: казалось, что жизненные невзгоды только прошумели над ним, как неразразившаяся гроза, не затронув ни его души, ни тела. А может под этой мягкостью кроется душа-кремень, которая может сыпать искрами, сама оставаясь неизменной? Это был человек, каких я еще не встречал в жизни.
- Евстигней Матвеевич, вы все ж таки должны со мной пойти!
- Пошто торопишься? Дело серьезное не любит скорого ответа. Думать надо!
За его ласковым, мягким голосом я слышал, вернее, чувствовал согласие, но он был верен своей привычке прежде обдумать, потом сказать…
В небольшом чулане, куда мы пришли, было прохладно и тепло. Я лег на медвежью шкуру и накрылся козьим тулупом. Тепло, спокойно. Через сетку донесся шорох. Авдеев ворочал какую-то чурку, потом раздались удары топора: тюк-тюк-тюк! Я догадался: он колет щепу. Тюк-тюк!..
Проводником экспедиции был зачислен Софронов и лодочником - зверолов Авдеев. Договор с обоими был подписан, они получили аванс на расходы и занялись подготовкой. Дел оказалось куча: засмолить и проконопатить бат, зачинить палатку, сшить обувь и одежду, купить все, что может потребоваться в долгом пути.
Я занялся покупкой продуктов, боеприпасов, нужной одежды и снаряжения.
Боев вскоре увел шхуну в Аян, пожелав мне счастливого пути. Мы расстались друзьями.
В чулане у Авдеева уже лежали мешки с разными крупами, мукой, два мешка со свежими сухарями, плитки кирпичного чаю, соль, масло, сало, сахар, спички, связки сушеной юколы.
В дороге будем охотиться, пополнять запасы продуктов - проживем! У меня горячая вера в успех, в благополучный исход. Софронов превзошел мои надежды, он горяч, бранится на меня и на кого угодно; если что не так, сверкнет своим единственным глазом, но у него все горит в руках и просто поражаешься порой, откуда столько энергии в таком щупленьком теле?
Его жена сшила мне две пары олочей из камуса - сохатинной кожи с ног зверя. Я зашел примерить. В избе было пусто и бедно: стол на ножках-крестовинках, нары, застланные невыделанной грубой сохатинной шкурой, в изголовье байковые одеяла, свернутые валиком, и ватные куртки. Грубо сделанные скамейки, три табурета, в углу железная печка - вот и вся обстановка жилища. Софронов кинул мне олочи - меряй! Я попробовал натянуть их на ноги, куда там, совсем-коротенькие и узкие.
- Малы!
- Как малы? - сорвался с места Софронов, вырвал олочи у меня из рук.
- Олочи в кипятке мочить надо, тогда одевать! Кожа растянется - большая будет. Как в тайгу идешь, самой простой вещи не знаешь? - Немного погодя успокоился, сказал миролюбиво: - Садись, мясо кушать будем.
- Скажи, Софроныч, почему так бедно живешь, ведь ты много денег за сезон получил?
- Крупы купил, муки, материи, того-сего помаленьку!
- На несколько тысяч рублей? Куда же ты все подевал?
- Зачем на несколько тысяч? Однако тысячи на полторы сразу купил.
- А на остальные?
- Маленько гулял, спирт пил, карты играл…
Ему казалось все это в порядке вещей. Я неодобрительно покачал головой.
…Наступил долгожданный день отъезда. На восьмиметровый бат - долбленную из толстого ствола тополя лодку, погрузили все снаряжение экспедиции, накрыли груз сверху брезентом, увязали веревками. Собаки Авдеева, повизгивая, вскочили в бат и улеглись поверх груза. На берегу собралась целая толпа провожающих. Земляки Софронова желают ему хорошего пути, кричат, жмут руки, потом подходят прощаться к Авдееву, ко мне.
- Счастливого пути!
Софронов с тонким еловым шестом в руках стал на корму. На его долю выпала самая ответственная работа - управлять батом. Он уперся шестом в дно и придерживал лодку, пока мы заходили на свои места: я в середину, а Авдеев на нос бата. На мне была одета зеленая в крупную клетку ковбойка, серая касторовая шляпа, легкие шаровары, заправленные под обмотки. Кроме того, на шее фотоаппарат, бинокль, в руках ружье. Я именно таков, каким должен быть всякий уважающий себя путешественник.
Авдеев, глядя на меня, усмехнулся и сказал:
- Эх и вырядился ты, паря, хоть сейчас ехать девку сватать! Ну, нич-че, оботрется. Отчаливаем, что ли?
Для меня тоже приготовили шест, но я пока не стал брать его в руки - не имея сноровки, боялся показаться неловким на виду у людей. Усевшись на дно лодки, я подал знак отчаливать. Шесты заскрежетали о донную гальку, бат качнулся, как живой, и тихо поплыл против течения, сначала медленно, придерживаясь берега, потом вода зажурчала за кормой весело и звонко.
ПО ГОРНОЙ РЕКЕ НА БАТЕ
По горным рекам ходят на лодках с шестами. Скатывающаяся с гор вода стремительно течет к морю укатанным галечным руслом, и самые лучшие гребцы, даже на легкой лодке, не смогут выгрести веслом против течения. Для горных рек Дальнего Востока выработался особый тип лодки-узкой, длинной, с расчетом на минимальное встречное сопротивление воды. Обычно это либо долбленный из цельного круглого ствола бат, или плоскодонная низкобортная лодка из досок, но тоже узкая, длинная. Несмотря на кажущуюся неустойчивость, бат обладает грузоподъемностью и благодаря своей длине хорошо сохраняет заданное направление на быстрине и водоворотах у перекатов. Передвигаются на батах при помощи длинных шестов, упираясь ими в дно реки. Батчиков обычно на лодке двое-трое, и работают они стоя. Труд этот чрезвычайно тяжел, требует большой сноровки, хорошего знания реки и крепких натренированных мускулов. В этом я убедился в первый же день.
Авдеев и Софронов, ритмично взмахивая шестами, играючи, гнали бат вблизи берега. Авдеев, расставив ноги, скупым и точным движением погружал шест перед собой в воду, какое-то мгновение он скользил вдоль борта - и снова взмах…
Лодка двигалась с такой скоростью, что идущий берегом человек не поспевал бы за ней. Вода звонко журчала под острым носом лодки, блестели мокрые шесты, и алмазная срывающаяся с них капель веером разлеталась в стороны.
Лицо Авдеева раскраснелось от работы, глаза весело щурились не то по случаю чудесной солнечной погоды, не то потому, что ему смешно было смотреть на меня. Поселок скрылся из виду, и я рискнул взяться за шест. Лодка резко, толчками колыхалась, и мне стоило труда удержаться на ногах.
Я взмахнул шестом, сунул его в воду. Глубина была порядочная, и замах пропал впустую: пока шест дошел до дна, уперся, толкаться было уже поздно. Снова взмах! Шест понесло под лодку, вывертывая из рук. Я едва не вывалился из бата за борт. Авдеев понимающе усмехнулся:
- Давай, паря, жми! Со временем пойдет.
- Казалось, чего проще: сунул шест в воду, уперся им и двигай лодку вперед. Все так и было бы, да проклятая вода прямо-таки рвала его из рук, он соскальзывал с гальки, не находя опоры. Кое-как я приноровился, стал попадать в общий ритм работы. Я понимал, что проку от моего махания шестом в воду никакого, но я надеялся со временем освоить это несложное с виду и такое трудное на самом деле ремесло. Через полчаса у меня заныли мускулы рук, потом заболел от напряжения живот, а часа через полтора я уже еле держался на ногах от усталости. На руках саднили содранные волдыри мозолей.
- Нич-че,- посмеивался Авдеев, как ни в чем не бывало продолжая проталкивать бат против течения,- нажимай, паря, дело не хитрое - привыкнешь!
- Силы нет, работать не можешь, зачем тайгу пошел? - ворчал сзади Софронов.- Сиди в городе, бумагу пиши… Как зимой соболя искать будешь? Заблудишься один в тайге, сразу пропадешь!
Он стоял на корме и работал вовсю, толкая и направляя бат, вцепившись в шест сухонькими крепкими руками. На лице ни поту, ни признаков усталости, только челюсти были стиснуты да грудь поднималась вроде чаще и выше.
Мне стало совестно, и я незаметно спрятал значок ГТО в карман ковбойки вместе с клапаном, к которому он был привинчен. Называется «Готов к труду и обороне», а сам слабее стариков! Физкультурник! Я решил не давать себе пощады.
В первый день мы прошли совсем немного. Софронов подвел бат к широкой песчаной косе. Привал!
Мы с Авдеевым занялись палаткой, а Софронов приготовлением чая. Кругом было полно плавника, но он не стал собирать сучки, а взял топор и срубил облюбованную им еще с лодки сушину-прямую, как свеча, бескорую лиственницу, склонившуюся над косой у табора.
- Че, ветки,- сказал он, презрительно пнув ногой валежину,- не успеешь чай сварить, опять иди собирай!
Не будь в тайге со мной этих опытных людей, я бы, наверное, поставил палатку в чаще леса, прельстившись мягкостью мхов, толстым слоем застилавших землю в сумрачном ельнике.
- В лес забиваться не следует,- между делом объяснял мне Авдеев,- там сейчас же комаров налетит пропасть, не отобьешься, а тут место открытое, обдувает…
Желая выгадать время для отдыха, они не копались, а все делали основательно, чтобы при любой погоде ночью не вставать и ничего не поправлять. Я сел к костру и что называется прикипел, все тело ныло от усталости, не хотелось ни чаю, ни еды…
Меж тем Софронов достал к чаю юколу, обжарил ее над огнем и порезал на куски. Авдеев разломил на три части большую домашнюю лепешку, разлил по кружкам горячий, круто заваренный чай.
- Чай не пьешь, какая сила,- пошутил он.- Пей! Дорога большая, еще ден двадцать толкаться придется, не меньше. Мая против Уды совсем дурная река будет…
- Легче берегом груз волочить вместе с лодкой, чем на шестах,- угрюмо ответил я.
- Э-э, паря, зря так говоришь! Летом берегом вовсе ходу нет. В иных местах на олешках и то не пробьешься, а ты говоришь- волоком… С непривычки все это! Известно, городская жизнь легкая, балует человека, вот и показалось небо .с овчинку. Не-ет, бат для здешних рек - отменная штука!..
У меня было одно преимущество перед старыми таежниками: молодой организм быстрее стряхивал с себя усталость. Стоило мне выпить кружку горячего чаю и на душе становилось легко. Не будь мозолей на руках, я готов был бы ехать дальше. Но проводники полулежа продолжали не торопясь чаевничать у огонька.
С реки донесся какой-то всплеск. Собаки подняли головы, я было насторожился, потянулся к ружью.
- Кета идет,- объяснил Софронов, заметив мое движение.- Нынче, однако, много рыбы должно пройти. Скоро всякий зверь придет к реке рыбу кушать, ворона прилетит, коршун, другая птица…
- А медведь?
- О, он самый первый! Другой зверь собирает рыбу, которая померла, а медведь живую ловит. Брюхо у него большое, кушать много хочет, ждать, пока рыба сама помрет, некогда…
- А что, правду говорят, будто здешний медведь очень пугливый и от людей бегает?
Мне было интересно узнать из уст старого охотника про повадки уже знакомого мне зверя, и я подсел к Софронову поближе.
- Кто так говорит? Медведь самый сильный зверь в тайге. Летом он сытый, маленько на него покричать, всегда дорогу уступит. А зимой, когда голодный по тайге ходит, он человека не боится. В прошлом году меня хотел задавить…
- Как же это случилось? Расскажи, Никифор Гаврилович!
Пока мы пили чай, незаметно подкрались сумерки. Голубые сопки сделались нежно-сиреневыми, потом потемнели, налились густой синевой. С реки потянуло прохладой, и веселый огонек костра властно манил к себе живительным теплом, причудливой игрой пламени. Дрова были сухие и не стреляли по сторонам горячими угольками; можно было слушать, не беспокоясь за одежду.
Софронов пошевелил палкой дрова. Золотистые искры оторвались от желтых кисточек пламени и в завитушках дыма блуждающими звездочками унеслись в небо. Бесплотной серой тенью скользнула вблизи костра сова…
- Как было? В ноябре я рыбачил в устье Шевли, там старый колхозный барачек есть. Зимой в нем никто не живет, я вместо дверей кусок брезента повесил… Кончил рыбалку, стал собираться в поселок уходить, вдруг собаки залаяли. Думаю, кто может быть? Посмотрел в окошко, а это медведь прямо к барачку идет.
Схватил я мешок, развязал, давай патроны искать, никак с пулей не попадается, одни дробовые на рябчиков. Нашел один, а медведь уже под самым окном. Выстрелил я в него прямо через стекло, ухо ему прострелил. Он рассердился, бросился на собаку, которая была у дверей привязана, задавил ее, думал, наверное, что это она его за ухо укусила. В углу гида стояла, я схватил ее, выскочил наружу, ударил медведя под лопатку. Маленько промахнулся, в кость попал. Медведь лапой махнул, меня вместе с копьем в снег опрокинул. Теперь, думаю, совсем пропал!..
Были у меня еще две собаки, я их не привязывал, вот они и выручили. Как увидели, что он меня повалил, вцепились в него, теребят… Медведь меня бросил, давай их ловить. Я вскочил, копье поднял, со всей силы ударил его в бок. Так сильно ударил, насквозь пробил, даже назад вытащить копье нельзя. Медведь еле живой, а все за мной ползет. До самой избушки дополз, на пороге сдох. Худой был, старый. Пятьдесят лет на охоту хожу, такой случай со мной первый был…
- Из карабина бы его в голову, сразу бы наповал,- сказал я.
- Не знаю,- задумчиво сказал Софронов.- Старая берданка дома есть, карабина нету… Однако совсем холодно стало, надо в палатку лезть…- Он палкой сгреб в кучу уголья, потом поднялся и, сгорбившись, тяжелой усталой походкой побрел в палатку.
- Пойдем и мы, паря, отдыхать,- сказал Авдеев.- Завтра дорога еще трудней будет.
Костер еле курился. Крупные звезды дрожали в холодном небе. По низинам пробирался туман. В темной воде всплескивали лососи, поднимавшиеся в верховья рек, к своим нерестилищам. Палатка уже напиталась сыростью от росы.
Зябко поеживаясь, я разулся и залез в спальный меховой мешок. С непривычки долго не мог уснуть, прислушивался. Лес стоял безмолвный, и только вода глухо ворчала возле затонувших коряг.
Все было ново и необычайно для меня в этом чудесном мире. Мне казалось, что я еще не жил и только здесь, на реке, среди природы впервые познакомился с суровой и настоящей жизнью, а все, что было до этого, лишь подделка под жизнь для слабых людей, которые тешат себя тем, что будто и они живут, а на самом деле лишь прячутся от жизни в каменные душные норы городов…
И еще меня беспокоило дело, ради которого я пустился в далекий путь. В тайге я был как в незнакомом большом городе, с той лишь разницей, что там я мог обо всем расспросить встречных, а тайга была пуста на сотни километров, и единственные, на кого я мог положиться,- проводники.
Захотят ли они помочь мне отыскать соболей, как если бы мое дело было их родным, кровным делом? Авдеев еще куда ни шло, на него, кажется, можно положиться, а вот Софронов - хитрый. Ворчливый, на вид мало симпатичный человек, он пошел в экспедицию только из-за заработка: Захочет ли он показать нам места, где водится соболь, если не пожелал рассказать, где ловил соболей в прошлый сезон? Может быть, он еще не понимает ради чего это делается?
«Надо при удобном случае поговорить с ним, разъяснить,- решил я.- Он же лучший соболятник в районе, должен знать!»
Столкнувшись с настоящими трудностями, я понял, что в одиночку мне ничего не сделать, и самоуверенность, с которой я выезжал из Москвы, улетучилась. Очутившись в бескрайной, безмолвной тайге, подавлявшей меня своей необъятностью, я почувствовал себя слабым существом. А впереди еще много трудностей: горы, леса, мари, бурные студеные реки, ветры, морозы, ненастье и, главное, большие расстояния. При почти полном безлюдье этого края расстояния были, пожалуй, самой страшной силой.
Сразу же со студенческой скамьи я окунулся в жизнь со всеми ее трудностями и опасностями. И пока я в ней не освоюсь, буду целиком зависеть от Авдеева, Софронова, других. Для пользы дела мне необходимо как можно быстрее стать на ноги, обрести самостоятельность. Значит, надо не ныть, не пищать, никакой поблажки! С этой мыслью я и уснул молодым здоровым сном, крепким, без всяких сновидений.
Несмотря на такие благие намерения, проснулся я позже всех.
За палаткой уже кто-то стучал топором - рубил дрова. Я вылез из мешка и побежал умываться. Над зеленоватой галькой струилась прозрачная и студеная до ломоты в зубах вода. Розовый туман, редкий как кисея, поднимался над рекой, и огромное раскаленное солнце, наполовину показавшееся над тальниками, готовилось оторваться от земли. По нежноголубому небу плыли румяные утренние облака. В росной, сверкавшей тысячами алмазных искр шубе стояли молодые стройные лиственицы. Паук-кудесник, подобрав под себя лапы, еще мирно спал в центре подвешенной между двумя деревцами бисерной сети. Светлобрюхий кругленький куличок-перевозчик, кивая, шел на тонких высоких ножках по самой кромке галечной косы. Я брызнул на него, и он, часто взмахивая крылышками, полетел над самой водой к другому берегу. Так же, как и вчера, всплескивала кое-где рыба, но круги не расходились по воде, а тут же затухали, забиваемые стремительным течением.
Авдеев сидел на корточках у костра и, дуя на ложку, пробовал на вкус похлебку.
- А где же Никифор Гаврилович? - спросил я.
- Куда-то ушел, вроде за ягодой. Надо полагать, скоро вернется.
Действительно, вскоре появился Софронов, мокрый по пояс от росы и с ведерком черной смородины в руках.
- Кушай, вкусно! - сказал он, поставив ведро с ягодой возле меня. Блестящие, как агат, ягоды были вдвое крупней красной смородины и на вкус сладкие, прохладные, еще припахивающие еле уловимым багульником.
- Наша северная фрукта! - усмехнулся Авдеев.- «Алданский виноград». Пока оскому не набьешь, есть можно.
- Где ты его набрал? - спросил я Софронова.
- Деньги плати, покажу,- с усмешкой ответил Софронов и стал развешивать мокрую одежду и олочи возле костра,- Кто летом в тайге спит долго?..- у него была привычка высказывать осуждение в форме вопросов.
На свежем чистом воздухе у костра похлебка показалась удивительно вкусной. После нее вволю напились чаю, закусывая подсушенной соленой кетовой икрой: - «Чтоб не потеть во время работы!» - объяснил Авдеев.
Солнце поднялось высоко, согнало росу, подсушило нашу палатку. Мы погрузили все вещи в лодку, залили костер и тронулись в путь
Чем дальше, тем стремительней становилась река. Стали попадаться перекаты и заломы - нагромождения мертвого леса в тех местах, где течение ударяло в берег. Вода глухо бурлила и клокотала возле заломов, ощерившихся острыми сучьями, кореньями и верхушками сухих елок, с которых вода успела снять кору. Ветки затопленных деревьев, как живые, раскачивались под напором воды, то погружаясь в нее, то выныривая на поверхность. С подмытых крутых берегов клонились, готовые вот-вот упасть зеленые лиственницы, ели, пихты, тополи.
- В большую воду лучше подальше от них держаться, а то прихлопнет ненароком,- советовал Авдеев.- Когда вода с гор идет, так прямо грызет берега, лес на глазах валится. Сейчас ничего, смирная река.
На отмелях тоже громоздится сухой плавник, вынесенный туда во время наводнения. Река принимала все более дикий и необжитый вид. От сопок по ключам языками спускались к реке темные сумрачные ельники, увешанные, будто карнавальными лентами серпантина, гирляндами седых зеленоватых лишайников. Понизу лес был затянут изумрудно-зелеными и янтарными мхами, сквозь которые пробивались глянцевитые листочки брусничника и вороньего глаза - растения, названного так за блестящие ярко-синие ягоды, собранные на верхушке высокого стебелька в обрамлении узорных глянцевых темно-зеленых листьев.
Солнечные лучи никогда не пробивались сквозь густую зелень елок, сомкнувшихся в тесном строю, и поваленные лесные великаны прели в сырости, обрастали подушками мхов, делая лес труднопроходимым для пешехода. В ельниках царствовало безмолвие: изредка вспорхнет выводок молодых, только поднявшихся на крыло рябчиков или случайно залетевшая рыжая, похожая на сойку, кукша испуганно вскрикнет и, перелетая от дерева к дереву, улетит в глубь леса.
Черные диковатые вороны опасливо наблюдали за нами издали, с высоких, обособленно стоящих деревьев.
Мы с трудом проталкивали бат против бешеного течения. Иногда, не в силах сдвинуть его с места, стояли на месте, упираясь изо всех сил шестами, потом перегоняли бат к другому берегу, где течение было спокойнее. Время от времени я улавливал какой-то глухой гул, похожий на отдаленные раскаты грома. Я думал, что где-то далеко начинается гроза, и посматривал на небо, но оно было чисто, прозрачно, и даже на горизонте сквозь ветви деревьев просвечивала все та же небесная голубизна.
- Неужели где-то гроза? - не вытерпел я.- Слышите, гремит?
- Это не гроза,- ответил мне Авдеев.- Тут нерестовые места, кета на дне гнезда делает икру метать. Сильная рыба, хвостом большие камни сдвигает, а вода их дальше катит, вот они и гремят. Выроют углубление, самка икру вымечет, самец молокой ее польет и опять закроют икру камнями. Чистой водой ее промоет, а к весне вылупятся из икринок мальки и начнут спускаться в море. Так и идет…
- А взрослая рыба?
- Взрослая, которая из моря пришла, возле гнезда остается, икру караулит от ленка, хариуса, а к зиме пропадает. Только от нее проку уже мало: тощая становится, бока почернеют, челюсть на челюсть загнется, зубы, как у собаки, вырастут. На корм для собак можно собирать, да зверь ею отъедается. Зубатка, одним словом… «Какое же количество рыбы здесь должно было быть, чтобы производить подобный шум,- подумал я.- Какая сильная рыба!»
Рыба выбирала места пониже перекатов, где между галькой, видимо, пробивалась в виде ключей вода. На мелких местах показывались рыбьи хвосты и головы. Присмотревшись, я заметил, как под лодкой мелькали тени рыбы.
Мы шли до позднего вечера, все были очень утомлены, хотя Авдеев и считал, что за день одолели не больше двадцати километров пути. Разгрузив бат и оставив собак стеречь имущество, мы порожняком прошли еще около километра.
В лодке у нас лежала острога - железный трезубец с плоскими тупыми концами, насаженный на тонкий шест. Делать концы остроги острыми нельзя - затупятся или поломаются при ударе о камень.
Софронов поменялся местом с Авдеевым, стал на нос бата, взял в руки острогу. Мы пустили лодку по течению. Мне интересно было увидеть, как он станет колоть рыбу. Под лодкой, как под колесами быстро идущего поезда, серо-зеленоватой лентой заструилось галечное дно. На такой скорости невозможно увидеть рыбу, которая тоже не стоит на месте. Тем более, попасть в нее острогой! Софронов ткнул острогой вправо от лодки и выбросил трепыхавшуюся кетину. Рывком выдернул из нее острогу и снова нацелился. Крупный серебристый самец разевал зубастую розовую пасть. Снова удар. Теперь у моих ног билась пятнистая, как щука, но незнакомая мне рыба.
- Ленок! - сказал Авдеев.- Ишь как объелся, раздулся прямо…
Снимая его с остроги, я надавил на живот, и из пасти у него показалась красная, как мелкая смородина, кетовая икра. Софронов заколол пять кетин. Две оказались икрянками.
- Однако хватит,- сказал он.- Хочешь, попробуй ты!
Я с удовольствием и некоторым волнением взялся за острогу. В первую мелькнувшую рыбину не успел даже прицелиться, по второй промазал, и острога заскрежетала при ударе о камни.
- Бери пониже,- сказал Авдеев.- Вода обманывает, целишь вроде в рыбу, а острога идет выше ее. Ты опусти конец остроги в воду, сразу увидишь в чем дело.
В самом деле, я не учитывал преломления света в воде. После нескольких попыток мне удалось заколоть одну кетину. Я был рад, а Софронов скептически кривил губы и, поблескивая глазом, ворчал:
- Как в тайгу идешь, ничего не умеешь? Пропадешь от голода. Чему учился в городе, если ничего не умеешь? Большой уже, а рыбу поймать не можешь, на лодке ходить не умеешь, лепешку себе не испечешь, в тайге не понимаешь.
Я молчал: старик был прав.
На привале я взялся разводить костер. Софронов иронически посматривал на мое старание, Авдеев занялся палаткой. Когда костер запылал, Софронов упрекнул:
- Однако замерзнешь в тайге зимой. Долго работаешь. Почему сам молодой, а руки ленивые? Так надо!..
Ему можно было только позавидовать, все горело у него в руках. Видно прошел суровую школу. Повесив над огнем ведра с водой, он принялся свежевать рыбу. Одним точным движением узкого охотничьего ножа он вскрыл рыбу от хвоста до головы. Одну кетину порезал на куски и опустил в ведро, остальные развесил подвялить. Бруски кетовой икры освободил от пленки и опустил в тузлук - крепкий соленый раствор. Помешивая икру лопаточкой, держал ее в тузлуке минут пять.
- Можно кушать,- сказал он, отцеживая икру.- Когда на зиму солить, десять минут хватит!
Мы запаслись свежей рыбой на несколько дней.
- Через порог перевалить бы еще, и мы на Мае,- сказал за ужином Авдеев.- Трудное это место, дурная река. В большую воду и не подойдешь.к нему…
- Однако как-нибудь пройдем,- промолвил Софронов.- Хорошо смотреть надо, потом идти!
Я еще не знал, что это за порог, но, судя по тому, что беспокоились бывалые люди, нам предстояло одолеть серьезное препятствие.
ОХОТА НА ЛОСЯ
Препятствие оказалось не порогом, а просто большим шумным перекатом. Но вот и он остался позади. Как гул поезда, идущего невдалеке, доносился до нас разговор воды с камнем. Через несколько километров мы вошли в устье Маи. Слева совсем близко подступили сопки.
Густые ельники и пихтачи теснились по берегам. Река капризно извивалась, бросая напор воды от одного берега к другому. Разница в уровне воды была столь велика, что ее заметно было на глаз. Мы сторонились заломов, придерживаясь отлогого берега, где это было возможно. Прежде чем одолеть перекат, мы выходили на берег на разведку и намечали путь.
Залом - это сотни деревьев, вырванных с корнем и утрамбованных стремительным течением в плотную баррикаду двух-трехметровой высоты. Отдельные рукава реки были перегорожены от берега до берега, и вода с шумом уходила под залом. Важно было не попасть в такой слепой рукав, но не всегда самый широкий рукав был проходим для лодки, и тогда мы вынуждены были возвращаться обратно.
За перекатами нас встречала кипучая толчея волн и громадные водовороты над черно-зелеными омутами, где вода, кружась на одном месте, вытачивала землю. Порою, попав на водоворот и не доставая шестами дна, мы не успевали удержать бат, и он описывал кормой полный круг, прежде чем мы могли подгрести к более мелкому месту.
Теперь наш путь в день измерялся не десятками километров, а считанными единицами; мы буквально на руках поднимали бат с грузом. Что говорить о том, какой опасности мы подвергались, ежеминутно рискуя опрокинуться, быть затянутыми под залом, где затонувшие коряги топорщили корни, как медвежьи лапы, среди белых бурунов воды, все грозя подмять под себя! Только искусство натренированных в плавании по таким рекам старых таежников спасало нас от беды. Я немного освоился с работой шестом и помогал в меру сил проталкивать лодку. Перед нами то и дело поднимались на крыло утки. Авдеев очень ловко стрелял их влет, и к вечеру у нас всегда бывало несколько штук на суп. Попадались черные утки-каменушки, а также крохали - отличные ныряльщики и пловцы на горных реках, их мясо всегда немного припахивало рыбой. Иногда чирки-клохтуны снимались тесной стаей и, сделав круг, садились где-нибудь в стороне. Самое вкусное мясо было, однако, у рябчиков.
В изобилии продолжала идти кета, и мы ели ее свежей, малосольной, подвяленной, вареной и жареной, а иногда позволяли себе лакомиться лишь одними нежными хрящиками голов и жирными брюшками, отдавая тушки собакам. Однако это изобилие могло скоро кончиться, а нам нужен был солидный запас.
Софронов посоветовал остановиться дня на три, убить жирного лося и насушить мяса впрок. Это разумное предложение все мы поддержали.
Выбрав высокое сухое место, остановились на привал. Вокруг росли сосны - редкая на Дальнем Востоке древесная порода.
Софронов очень хорошо знал окружающие места, но время для охоты считал мало подходящим.
- Однако сохатый уже в сопки ушел, скоро гон начнет.
Летом его здесь много, приходит в протоки демку кушать, купаться…
В самом деле, скоро должно было наступить время гона, когда быки почти не едят, а уходят в сопки и страшно бьются между собой и отыскивают самок. В такое время можно слышать крики лосей-быков, напоминающие громкий стон. Животные теряют осторожность и близко подпускают охотника.
Мне очень хотелось поохотиться на сохатого, и я надеялся, что Софронов поможет осуществиться моей мечте.
- Нам много не надо, хоть одного бы увидеть,-загораясь азартным желанием, сказал я.
- Ходить искать будем,- ответил Софронов.- Одного, однако, добудем!..
Авдеев остался в лагере заготавливать дрова для сушки мяса, а мы отправились на поиски лося по тихой протоке, густо заросшей по берегам тальниками. Излюбленное сохатинное место! Я с карабином сидел на носу бата, а Софронов осторожно, стараясь не всплеснуть, проталкивал его вперед. Винтовка лежала рядом. На берегу виднелись целые тропы и площадки, вытоптанные животными, еще недавно посещавшими протоку, густо поросшую вблизи берегов стрелолистом, вейником, осокой и калужницей.
Часто из-под берегов вылетали утки, но нам было не до них. Течение было сравнительно тихим, и мы проплыли несколько километров, но впустую. Ни один звук не нарушил тишину, ни одна ветка не шелохнулась. Мы уже решили возвращаться, как вдруг из-за поворота в воду вошел лось! Это была крупная самка-лосиха. Не замечая нас, она стала медленно переходить протоку, тыкая в воду горбоносой головой. Я поднял карабин к плечу и, сдерживая дыхание, стал прицеливаться в зверя, выбирая убойное место под лопаткой.
То ли от азартной нервной дрожи, то ли от того, что сдерживаемая на месте шестом лодка колебалась, я никак не мог Прицелиться как следует. Хотелось ударить наверняка, чтобы зверь не ушел раненым в тайгу, где его по следу не отыщешь, а мушка прыгала по черной горбатой туше лосихи. Я опустил карабин и глянул в воду. Совершенно отчетливо виднелось дно с галькой и мельчайшими травинками, так близко, что можно достать рукой. Стоит сделать один шаг, стать твердой ногой на землю, и я смогу, получив устойчивость, произвести верный выстрел. Не колеблясь ни секунды .и не сводя глаз со зверя, я оперся на одну руку и быстро переступил за борт лодки. С громким плеском я вместе с карабином с головой погрузился в воду. Это было столь неожиданно, что я вскрикнул и вынырнул, отдуваясь, поплыл к берегу. Вода была так холодна, что перехватывала дыхание. Будь на лодке кто другой, не удержаться бы ему от смеха, но Софронов даже не улыбнулся. Придержав резко накренившийся бат, он развернул его и погнал к берегу рядом со мной, вероятно, опасаясь, что я могу утонуть.
Тем временем лосиха, услышавшая громкий плеск и возгласы, насторожила огромные уши и, увидев барахтающегося в воде человека и рядом с ним другого в лодке, двумя прыжками выскочила из воды. Треснув сухой тальниковой веткой, она скрылась в зарослях.
На берегу я скинул мокрую одежду и стал ее выкручивать. Софронов развел костер.
- Зачем в реку прыгал?- недоумевал он.- К сохатому еще ближе подъехали бы, тогда и стрелял бы!..
- Так я же думал мелко, дно - вот оно, а там яма,- оправдывался я, выливая воду из ичигов.
- Как столько времени по реке идешь и не понимаешь,- возмутился Софронов, когда понял в чем дело,- где т,еперь другого сохатого найдешь?
Я был обманут необыкновенной прозрачностью воды в тихой протоке, понимал свою вину и ничего не мог возразить на воркотню старого охотника, которого уже давно не занимала никакая романтика. Во всем он видел только необходимость того или иного вида деятельности, без которых невозможно жить. Из-за моей оплошности ушло пятнадцать пудов мяса, нужного нам, труд пропал впустую. Ничего другого он не желал знать. Я же больше страдал из-за уязвленного охотничьего самолюбия.
Так неудачно окончился первый день охоты. Авдеев все понял с первого взгляда и ни о чем не стал расспрашивать. Мы молча поужинали и улеглись спать. Утром меня разбудил стук шеста о бат. Я вылез из палатки. Солнце только поднималось, и лес стоял окутанный сырой мглой. Сонно рокотала вода. Из бата вылез Софронов с винтовкой. Я думал он собирается на охоту и что-то забыл еще на таборе.
- Никифор Гаврилович, подожди меня, я сейчас оденусь, поедем вместе!
Но он молча прошел к костру, сел на валежину, прислонив винтовку к дереву.
- Огонь побольше надо, маленько вымок, сушиться буду, - сказал он. Только тут я заметил, что он в мокрых олочах и куртка на плечах тоже вся мокрая от росы.
- Вы уже успели съездить? Ну как, видели сохатого?
- Одного видел, стрелял. Большой сохатый, пудов, однако, на двадцать будет…
- Ушел? Промазали?
- Почему ушел? Близко подъехал, хорошо стрелял. Одна пуля под лопатку, другая сзади в спину. На берег поднимался, там и упал…
- Расскажи, как было!
- Че рассказывать, поедем мясо брать, сам увидишь. Однако огонь самому разводить надо!..
- Нет, нет, сиди, отдыхай, сейчас…- Я был рад угодить ему. Ведь старик, а не спал, с полночи ездил, только бы добыть зверя! Меня не взял, наверное подумал, что опять помешаю. Но я был не в обиде.
После завтрака мы поехали втроем за мясом убитого лося. На этот раз был самец-красавец с широкими ветвистыми рогами. В отличие от европейского лося у дальневосточного рога не имели широких плоскостей между отростками, но были такими же длинными. Сняв с него шкуру, мы разделили тушу на несколько больших кусков и, сложив их в бат, повезли в лагерь.
Теперь мы располагали большим количеством мяса, которое нужно было предохранить от порчи и сделать транспортабельным, легким и малым по объему. Я знал, что для этого его надо высушить, но как это сделать практически - не имел понятия.
Софронов резал мясо на тонкие длинные пластинки, посыпал их мелкой солью и развешивал на вешала из ивовых шестов, поставленных так, чтобы дым от костров отгонял мух, которые уже слетелись во множестве, и одновременно слегка подкапчивал мясо, сохнущее под солнечными лучами.
- Тут, паря, если хочешь получить хорошее копченое мясо, надо знать какое дерево брать для костра. Самая лучшая порода - ольха. Ни на что другое это дерево не годится, а ветчина на ольховых дровах получается отменная… Ну нам не коптить, а только бы подсушить мясо, тут любые дрова сгодятся,- поучал меня между делом Авдеев, помогая Софронову развешивать мясо на вешало.- Другое дело, как его солить! Если надо мясо хранить летом, то соли надо поменьше, потому что соль в себя сырость всегда тянет и будет мясо мокнуть - пропадет…
Ясная осенняя погода, когда прозрачный воздух звенит и настолько чист, что все дали просматриваются на сотню километров, когда солнышко еще припекает и лишь отдельные пожелтевшие на березке листочки напоминают о том, что лето на исходе, была благоприятна для быстрой сушки лосятины. Через три дня мясо высохло настолько, что ломтики ломались и стали жесткими. Мы упаковали его в один большой мешок. Теперь можно продолжать путь в верховья Маи, а оттуда к перевалу через хребет Джугдыр.
Пользуясь остановкой, я привел в порядок свои записи наблюдений, дополненные советами старых промысловиков.
Только благодаря тому что я последовал совету профессора Мамонова и делал записи простым карандашом, они у меня сохранились, их не размыло водой во время моих невольных купаний.
Мы рассчитывали до снега подняться в верховья Маи, разыскать там оленеводческую бригаду Удского колхоза и, сменив у них бат на вьючных оленей, идти к истокам Зеи.
Чем дальше, тем бурливее становилась Мая. Бешено мчала она с гор свои студеные, прозрачные, как стекло, воды. Перекаты задолго предупреждали нас о себе гулом воды, летящей через камни. С трудом продвигали мы свой бат, не раз снимали с него груз, чтобы не утопить во время преодоления опасных мест.
Незаметно, мягкой кошачьей поступью подкралась осень. Зарделись листья малины, кружась падали с тальников узкие листья, горячими языками пламени зажглись поднимавшиеся среди хвойных строгих лесов молодые осинники, и белые березы, засыпая, стали ронять на землю желтые пятаки листвы.
В утренние часы с беспокойными прощальными криками пролетали на юг караваны гусей. Завидев нас, они взмывали кверху, теряли на какое-то время клинообразный строй и летели колеблющимся полукружьем, пока постепенно не превращались в призрачную, еле различимую глазом паутинку, терявшуюся за стеной леса.
Осень тревожила, навевала на меня грустные мысли, и я подолгу не мог заснуть, охваченный непонятной тревогой.
Однажды, проснувшись утром, я увидел на травах и мхах искрящийся налет инея, а дальние сопки-гольцы были покрыты снежным покрывалом. Кедровые стланики, ближе всех подступавшие к вершинам, стояли седые от снега. Выглянувшее солнце изломало поверхность сопок, зажгло ослепительным светом склоны, обращенные к нему, и погрузило в голубые тени складки, куда не достигали его лучи.
Нашему плаванию на лодке пришел конец. Нагромождения из принесенных водой деревьев и крутые порожистые перекаты сделали реку непроходимой для лодки. Софронов вылез из бата и пошел берегом на разведку пути. Он ходил очень долго и, когда вернулся, сказал:
- Батом ходить дальше не могу. Надо искать оленей!
Авдеев почесал затылок, что-то промычал в ответ и тоже пошел на разведку. Я решил посмотреть, что из себя представляет река, и пошел за ним следом. Мы прошли километра три. Во многих местах река была перегорожена упавшими громадными деревьями. Конечно, их можно было бы перерубить, но стоило ли затрачивать столько сил ради того, чтобы подняться на лодке еще на десяток-другой километров? Пожалуй, нет. Кроме того, дно реки стало теперь крупновалунным, и мы рисковали посадить бат на камень и проломить днище.
- Маловато воды,- заключил Авдеев.- Будем искан› оленей и пойдем дальше пешим ходом.
Мы разбили лагерь в лиственничном лесу. Бат разгрузили, вытащили на берег и, перевернув, поставили на валики, чтобы зря не гнил. Может, еще придется к нему вернуться!
На другой день утром, взяв с собой на целую неделю продуктов, Софронов и Авдеев пошли разыскивать оленеводов, а меня оставили в лагере. Чтобы быстрей скоротать время, я решил обследовать прилегающий лес, поискать какой-нибудь след, а может даже увидеть соболя. Взяв с собой лайку, оставленную мне Авдеевым и за несколько дней пути совершенно привыкшую ко мне, я пошел по намеченному азимуту. (Боясь заблудиться в незнакомом месте, я решил не рисковать и ходить только по компасу.)
Лайка ростом и окраской так походила на волка, что я невольно тянулся к ружью, когда она внезапно появлялась из-за валежины или из кустов. Собака несколько раз подавала голос, всякий раз сердце мое вздрагивало, и я поспешно бежал к ней, но то были белки, еще не одевшиеся в зимние дымчато-серые шубки. Соболя не было. Напрасно я два дня рыскал с собакой по лесу: ни следов, ни признаков обитания этого нужного мне зверька обнаружить не удалось. Правда, снегу еще не было и след увидеть было трудно, только разве случайно, однако я полагался на чутье лайки, уже натасканной на всякого пушного зверя. Как бы компенсируя эту неприятность, собака подняла в мелком березняке каменного глухаря. С резким хлопаньем крыльев с земли поднялся большой черный петух и, пролетев немного, сел на сухую лиственницу. Был он размером лишь немного меньше обыкновенного глухаря и отличался ог него более длинным хвостом и темным клювом. Птица с любопытством рассматривала снующую под деревом собаку и сердито пощелкивала на нее клювом. Меня она не замечала. Я подкрался к ней поближе и выстрелил. Смертельно раненный глухарь сорвался с дерева и полетел, неестественно быстро махая крыльями. С разгона он налетел на ветвь дерева, ударился о нее и, перевернувшись в воздухе, тяжело хлопнулся о землю. Когда я подбежал к нему, он был уже мертв, а лайка, помахивая хвостом, ласково смотрела мне в глаза, словно ожидая похвалы.
- Молодец, Кирька!- потрепал я по загривку собаку, которого почему-то звали непонятным мне именем «Кири-нас».- Будет у нас сегодня пир!
В лагере я аккуратно снял с глухаря кожу, очистил оставшиеся в крыльях кости от сухожилий и мышц, а череп птицы от мозга, глаз и языка и, смазав шкурку раствором мышьяковистого мыла, набил сухой осокой, чтобы предохранить от порчи. У меня уже собиралась приличная коллекция птиц, имеющих промысловое значение в этом крае.
Только па четвертый день вернулись Софронов и Авдеев. Опп привели за собой семь вьючных быков и одну олениху с Iеленком-тугуткой. Олененок бежал на тонких ножках, иногда останавливался, схватывал клок лишайника и тут же вприпрыжку догонял мать.
- Зачем вы привели с собой олениху? - удивился я.- Ведь на нее нельзя вьючить груз, она же с теленком!
- Доить будем,- ответил Софронов.- Оленье молоко очень хорошее.
Сняв с оленей пустые переметные сумки, Софронов подвязал каждому палку под шею, чтобы она путалась у них возле ног и не позволяла далеко уйти от лагеря. Олени сразу разбрелись пастись, ловко срывая с ерника - низкорослой березки Миддендорфа-листочки.
- А найдем их утром? - усомнился я.
- Олень, однако, не птица, по тайге ногами ходит, след оставляет,- спокойно ответил Софронов.
К вечеру он развел большой дымокур, и олени сами пришли к огню: они боялись мошки и комаров. Софронов взял кружку и подоил олениху. Она дала молока не больше стакана. Он вылил его в чайник. Против моего ожидания чай получился очень вкусный: оленье молоко превосходило по жирности коровье. Так в наше питание было внесено некоторое разнообразие.
Распределив груз на вьюки, мы приготовились к дальнейшему пути через Джугдыр.
ЧЕРЕЗ ДЖУГДЫР
После изнурительного медленного подъема по реке на бате возможность идти налегке за оленями, которые будут нести весь груз, казалась заманчивой.
Двигаясь по реке, я еще не видел как следует гор. И вот мы впервые поднялись на небольшую сопку. Облачная пелена растаяла под лучами солнца, и панорама белого величественного хребта открылась перед нами.
Безлесные заснеженные конусы горных вершин - гольцы - высоко уходили в небо. На их скалистых обрывах как будто написано - «Не пройдешь!».
Наш караван остановился. Позванивая боталами, олени стали щипать ягель, но, связанные поводьями, больше мешали друг другу, чем паслись.
Неужели мы сумеем перелезть через такую неприступную на вид горную цепь? С такими мелкими, словно годовалые телята, оленями преодолеть такую преграду? Мне просто не верилось, тем более что я еще не имел случая убедиться в выносливости этих животных.
Будто отвечая на мою мысль, Софронов сказал:
- На очень высокие горы не пойдем, они в стороне останутся. Мы ключиками обходить будем… Через Джугдыр перевал есть, ходить можно!
Поправив вьюки, он взял повод передового оленя и зашагал вперед. Олени пошли гуськом и хотя ступали вроде осторожно, стараясь попасть копытами след в след, но шли быстро.
Авдеев держался сбоку каравана, иногда забегая вперед, когда надо было орудовать топором, там, где видел, что оленям не протиснуться с вьюками в зарослях кедрового стланика. Густой багульник мешал идти.
Моя радость избавления от бурливой Маи оказалась преждевременной. Река, сделав по долине большую петлю, снова прижалась к самому подножию крутой горы, преградив нам путь берегом. Деваться некуда, и пришлось переходить ее вброд. На перекате, где было помельче, Софронов повел оленей на другой берег, поглядывая, чтобы они не замочили вьюки. Выбрав по шесту, мы тоже ступили в холодную воду.
Ледяная вода сначала обожгла ноги, потом зажала их в тиски и так заломило кости, что хоть кричи. Мало того, что воды выше колен, так еще буруны возле ног и обдают чуть не по пояс. Маю перешли по диагонали; чтобы стремительное течение не сбило с ног, все время упирались в дно шестами. Не налегая на палки, легко было поскользнуться на гладких камнях, а уж тогда бы вода подхватила и не скоро дала бы подняться.
Олени, наклонившись в сторону напора воды, фыркали и выгибали от напряжения спины. Некоторые вьюки все же захлестнуло волной. Пришлось становиться на привал, тем более что и самим надо было обогреться и обсушиться.
Развьюченных оленей пустили пастись, а сами развели большой костер.
Авдеев, развешивая у огня портянки, утешал меня:
- Привыкай, паря! Дальше пойдет еще хуже: начнем с берега на берег переходить по нескольку раз в день, тогда и сушиться некогда будет. Придется надевать лишние порты да портянки, чтобы не так ноги от холода ломило. Это от простуды первейшее дело!..
Софронов молчал и даже не спешил разуваться, будто ледяная вода ему нипочем. Пошевеливая в костре дрова, он ждал, когда сварится чай, без которого не мыслил себе даже короткого привала. Сырой воды для питья он не признавал и куда бы ни шел - за спиной нес топор, котелок, чай и коробок спичек.
Ледяные воды Маи немного остудили мои горячие мечты. Таежная романтика, которой я грезил, находясь в поезде и на пути к Чумикану, давно сменилась трудной жизнью среди суровых северных дебрей.
Полулежа у костра в ожидании чая, я смотрел на притихший темный лес и думал, что, несмотря на лишения, хорошо бы всю жизнь жить наедине с природой здоровой и вольной жизнью, не знать городской изматывающей сутолоки.
Я, конечно, понимал, что если отбросить романтику первых впечатлений, то жизнь в тайге не легка, что хлеб насущный здесь приходится добывать очень тяжелым и опасным трудом, что природа безжалостна здесь к слабым и только коллективными усилиями можно наладить сносную человеческую жизнь.
Вот и сейчас еще только близится зима, а голубика уже осыпалась, отошли грибы, урожая ореха кедрового стланика не предвиделось. Поникли редкие травы, облетели листья с кустарников и деревьев, даже лиственница стала ронять охристо-желтую хвою. Поредели и без того редкие леса на марях и сопках, заметно убавилось птиц. Одна брусника еще устилала моховые подушки на пологих склонах рубиновыми брызгами, но выпадет снег и прикроет даже эту пищу. Голодное безмолвие наступит на долгие девять месяцев. Если бы только найти промышленные запасы соболя, а организовать их отлов и переселить в другие места хотя и хлопотливое дело, но уже определенное. Запасы драгоценных зверьков быстро станут увеличиваться, как только начнется их массовое расселение с природного резервата.
А между тем за месяц пути я и на шаг не приблизился к разрешению этой задачи. Даже следа соболя еще не видел, а мечтаю…
От этих мыслей меня отвлек Авдеев.
- Вставай, чай готов, каша вот-вот упреет… готовься ужинать!
Покушав, мы долго и с наслаждением потягивали горячий крепкий чай. Отхлебывая из эмалированной миски, Софронов неторопливо и беззлобно стал спрашивать меня:
- Ты, Саша, охотник, однако, слабый. На бате ходить не умеешь, соболя тебе не выследить… Скажи, зачем в тайгу пошел?
Я всегда чувствую в его вопросах скрытую неприязнь и насмешку надо мной, городским человеком, но мне не хотелось обижать старого охотника, который не знает другой жизни, кроме той, тяжелой, что досталась на его долю, и я ответил:
- Поможешь мне найти соболей, и я уеду обратно в город!
- Хо! Каждый охотник себе зверя ищет, свое счастье ловит!..
- А мы должны найти не только для себя, но и для других, чтобы они тоже имели свое счастье. Найдем соболей, станут их ловить живьем и расселять по всем другим местам, где их сейчас нет, а раньше много было…
- Соболя и так мало стало, последних в другие места отдадим, что эвенк промышлять будет? Другого зверя тоже мало в тайге остается, совсем худо, чем жить?..
- Ничего, через несколько лет соболь везде будет. Далеко за ним ходить не придется, будут эвенки разводить его, как оленей…
- Ты приехал, красивые слова сказал и обратно в город, а к эвенку в палатку голод придет, где тебя тогда искать?- И хотя Никифор недоверчиво рассмеялся над моими словами, как над наивной сказкой, которой его ду мают потешить, глаз его при этих словах блеснул злым огоньком. Я чувствовал его недоверие, но убедить в правоте своих слов пока не имел возможности. Время само должно было показать пользу задуманного большого дела.
Мой путь поисков еще только начинался, и как велико было непройденное по маршруту расстояние, так велики были и мои надежды. Не будет соболя на восточных склонах Джугдыра, пойдем искать его на западных, на Зею, на Селемджу. Важно успеть пересечь хребет до глубоких снегов.
В горах зима наступает на целый месяц раньше. Вокруг нас еще в разгаре осень, а горы уже давно белеют от снега.
К ночи резко похолодало, и я с удовольствием забрался в меховой спальный мешок. Даже закрывшись с головой, я долго слышал шумный разговор воды с камнем.
Два дня мы огибали высокие отроги хребта, вставшие на нашем пути. На третий день Софронов свернул по .небольшому ключику, о котором мы даже и не подозревали, и горы, казавшиеся непроходимой неразрывной стеной, расступились. Мы пошли глубоким ущельем, по дну которого струился звонкий поток.
Через нагромождения неокатанных угловатых камней среди гранитных глыб скатывались хрустально чистые струи в шумную и строптивую Маю. Природа словно решила поупражняться в искусстве и создала замечательный заповедный уголок. Поток, зеленоватый на глубинах, был оторочен красными, как коралл, камнями и сочным янтарем бархатистых мхов. В эти чудесные по яркости краски вклинивались изумрудно-зеленые пласты мхов, одевших под ельниками землю.
Крутые каменистые сопки загораживали от нас солнце^и мы его видели не больше четырех часов в день, хотя небо висело бездонно голубое, прозрачное, без единого облачка.
Горы пропустили наш маленький караван. По мере подъема редела древесная растительность. Чахлые, лишенные хвои лиственницы тянули к небу свои будто высохшие голые ветви. Лишь по глубоким распадкам темно-зелеными клиньями поднимались к гольцам ельники. Исчезли травы, и мы вступили в зону мхов и лишайников.
Вот когда я понял, какую ценность представляют олени! Лошади погибли бы здесь от бескормицы, они бы дня не прошли по камням, не поломав ног, а олени идут и еще несут на себе груз. Если верблюда называют «кораблем пустыни», то и олень не хуже его приспособлен для хождения по горной тайге и топким марям.
Вскоре закон вертикальной зональности, царствующий во всех горах, вступил в свои права. Тайга сменилась лесотундрой.
Карликовые хвойные деревца, кедровый стланик, как железная сетка, преградили нам путь. Софронов чутьем угадывал, где могли быть звериные тропки, и выводил ка них караван, а там, где никаких троп не было, приходилось браться за топоры и рубить, рубить так, что рубашки прилипали к мокрым плечам…
Однажды, проснувшись утром, мы увидели, что вся земля покрыта снегом. Горы застыли в хмуром молчании, седые, окутанные рыхлыми облаками, еще не успевшими убраться после снегопада. Было такое чувство, что свершился какой-то неожиданный поворот, после которого еще страшно открыть глаза, пошевелиться…
Авдеев вылез из палатки, зябко передернул плечами и воскликнул:
- Ни птичьего крику, ни звериного рыку! Снежку подвалило, на охоту бежать надо, милые! - И он стал торопливо разжигать костер, похлопывая при этом руками.
Я спустился к ключу, который как ни в чем не бывало продолжал журчать среди камней. Солнце выглянуло из-за туч, осветило землю, и в одно мгновение, как по волшебству, все преобразилось, заискрилось, засверкало. Подул ветерок, и остатки туч, как ряды разбитого на поле брани врага, поспешно побежали, разомкнули свой строй, и гордые ослепительные горные вершины обступили нас со всех сторон…
После завтрака, взяв с собой Кирьку, я побежал по распадку в надежде увидеть на. белом снежном покрывале следы соболя. Вернулся я вечером, едва не падая от усталости и в подавленном состоянии духа: соболя не было!
Софронов потрошил у костра рябчиков, а Авдеев просматривал сеть-обмет. Значит, он тоже ходил ка поиски соболя. Подметив мое уныние, он улыбнулся и сказал:
- Нич-че, паря, близко к сердцу не принимай. Не каждый год соболь высоко в горах держится. Был бы урожай ореха, тогда другое дело… В нонешнем году соболь, должно, в долины подался. От нас он все равно не уйдет, где-нибудь мы его да найдем…
За полоской редкого леса-лиственничника поднимались снежные купола водораздельного хребта. Между ними находился перевал. Сверх всякого ожидания подъем к седловине-перевалу оказался некрутым, а на самом перевале расстилалась довольно обширная равнина, покрытая кедровым стлаником и сухим лиственничником-недоростком.
Ветви кедрового стланика под тяжестью снега опустились и легли на землю. Занесенный снегом стланик не был виден, и только всхолмленное снежное поле говорило о том, что под ним заросли. Идти по такому «полю» было почти невозможно. Ноги проваливались под снег, застревали между ветвей, и, казалось, легче ползти по-пластунски, чем идти. Софронов с трудом отыскивал проходы, протаптывал «тропинку» для оленей и проявлял такую кипучую энергию, что я только поражался. Он, как машина, не знал усталости.
Недостаток дров заставлял нас делать большие переходы, по времени, конечно, а не по расстоянию. Не стало и воды. На чай натаивали в котелках снег.
Вместе с изменением среды у нас разнообразилось меню: на обед стали попадать белые куропатки, а один раз Кирька умудрился схватить на лежке зайца-беляка.
Мы пересекли немало следов, не встречали только соболиного. Однажды мы все трое остановились над следом, который был немного больше козьего, но не олений. Животное объедало лишайники и старалось идти местами, где снег не был глубоким.
- Может, это молодой согжой прошел? - спросил я Авдеева.
- Нет, это бараны,- ответил старый охотник после того, как кончил осмотр.- Вот еще три таких же следа. Паслись стадом…
Снежный баран очень редкое животное, и я загорелся желанием добыть хотя бы одного. Может быть, в связи с неудачами поисков соболиного следа или чтобы подбодрить меня, Авдеев согласился идти на охоту.
Найдя подходящее место, богатое ягелем, мы остановились на бивуак. Рано утром, утопая в снегу, пошли выслеживать баранов.
- Вот когда лыжи-то нужны! - вздохнул я, обливаясь потом от трудной ходьбы по снегу.
- Так ведь это только тут зима, а спустимся с хребта и опять снега не будет. Лыжи в декабре делать будем, а сейчас и без них ходить можно. Снег еще мягкий, податливый, как пух!..
С этими словами Авдеев прибавил шагу и, как старый секач, начал буравить ногами сугробы, прокладывая за собой глубокую траншею. Я едва успевал за ним.
- Поспешай, поспешай, паря, а то засветло не догоним!- торопил он меня.- Зверь этот осторожный, может случиться, что даже на выстрел не подпустит к себе, только поглядеть даст…
Следы вывели нас на склон, обращенный к солнцу и почти лишенный снега. Здесь было затишье, и мы, сняв шапки, остановились передохнуть. На обнаженных камнях густо росли лишайники.
Внезапно Авдеев припал к каменной глыбе и подал знак следовать его примеру. Я тоже спрятался за камень и стал выглядывать из-за него. На альпийской лужайке паслись снежные бараны. Вожак - крупный самец с загнутыми в кольца рогами стоял на вершине скалы-останца, словно вылитый из бронзы, и оберегал самок. Подойти к животным на выстрел не было возможности; место чистое, бараны сразу умчатся прочь.
- Сейчас я их подгоню поближе, - сказал Авдеев,- только головы из-за камня не поднимайте, а то зверь зоркий, сразу увидит!
Он положил винтовку на упор и стал целиться. Выстрел громом прокатился по горам. Вожак сразу спрыгнул со скалы и подбежал к самкам. Пугливые животные поводили ушами, поворачивались, стараясь угадать, откуда им грозит опасность. Грохнул второй выстрел - и пуля подняла снежный фонтанчик на крутом склоне горы, выше стоящих зверей. Огромными прыжками они сразу понеслись в нашу сторону, но, пробежав сотни две метров, неожиданно свернули вниз.
- Бей! Чего ждешь? - крикнул мне Авдеев.- Видишь, скрываются, ближе не подойдут!
Я торопливо прицелился в бегущего рогача, мой выстрел слился с выстрелом Авдеева, и стадо скрылось за косогором. Бараны ушли.
Авдеев поднялся:
- Жаль… Могли срезать рогача. Поторопились! Ну, теперь их не догонишь…
В небе зажглись первые крупные звезды, когда мы, усталые, дотащились до палатки. Подкрепившись едой и чаем, легли отдыхать.
- А вот скажи, ты ученый человек,- заговорил Авдеев,- пошто его снежным бараном зовут? Насколько я знаю, он вовсе снегу не любит, всегда на выдувах держится, а снежный…
- Назвали его так ученые потому, что он высоко в горах держится, где всегда почти круглый год снег лежит. Вот поэтому и «снежный»,- пытался я объяснить.- У нас профессор Мамонов говорил на лекциях, что если бы удалось скрестить снежного барана с домашней овцой, то гибрид - потомство - получился бы выносливым, крупным и хорошо приспособленным к горно-таежным условиям. Тогда овцеводство сразу бы продвинулось далеко на север…
- Выходит, это очень ценный зверь и его беречь надо,- заметил Авдеев.- И чего только ученые люди не придумают… До всего доходят!
Мелко изрубленные ветви стланика, как порох, прогорали в нашей крохотной жестяной печке. На несколько минут в палатке становилось жарко, а потом холод снова проникал в наше жилье через тонкую бязь.
- Дров совсем нет, надо быстрей уходить отсюда,- советовал Софронов.
- Дрова - не беда,- возражал Авдеев,- вот соболиного следа нет нигде, это уже плохо. Стало быть, и делать нам здесь нечего!
На следующий день мы покинули перевал. Незаметно для глаз местность пошла под уклон. Я понял, что водораздельная линия хребта Джугдыр осталась позади. С каждым километром пути снежный покров становился тоньше; заметно потеплело. Мы словно покидали зиму и возвращались к осени, вопреки закону времени. Караван попал в русло ключика, спуск становился крутым. Олени, ощупывая под копытами прочность камней, приседают и где возможно съезжают вслед за проводником. Впереди, насколько хватал глаз, расстилалось всхолмленное море тайги. Теперь, когда я мог заглянуть далеко вниз, голова у меня начала кружиться от чувства необъятности этого мира, ст полноты жизни, от гордости, что довелось посмотреть на землю с высоты птичьего полета, что выпало счастье дышать холодным воздухом, навеваемым из глубоких котловин-цирков.
Где-то найду я свое счастье?
ОПАСНЫЙ СПУСК ПО ЗЕЕ
Несколько дней было потрачено на обследование западных склонов Джугдыра. Поставив палатку, мы оставляли возле нее Софронова, а сами уходили и рыскали по распадкам гор, по густым ельникам ключей, по каменистым россыпям в поисках следов. Везде лежал снежный покров, то и дело обновляемый новыми небольшими снегопадами. Мыши, горностаи, даже птицы оставляли цепочки следов, и старый таежник Авдеев мог прочитать, когда и кто здесь ходил и что делал. С его помощью и я стал постигать науку чтения лесной книги жизни и почти безошибочно определял направление, откуда зверек бежал, торопился ли он, спасаясь от погони, или сам настигал кого-то. Цепочки следов были разные: мелкие и частые-мышиные, мелкие парные, но расставленные далеко пара от пары - горностая, узкой елочкой тройчаткой - вороньи и много всяких других. Не было только нужных нам - соболиных.
В ясные ночи начали прижимать морозы, правда небольшие, но уже чувствительные, схватившие мелкие ручьи и болота - мари. Светлая лиственничная тайга, лишившись хвои, поражала меня безжизненным однообразием, унылой бесконечностью редко стоящих деревьев, которые только на горизонте сливались в темную полосу и создавали иллюзию леса. Снежный покров, еще не спрессованный морозными ветрами, проваливался под ногами, и ходить было чрезвычайно утомительно. Не было дня, чтобы мы не переносили бивуак, не оставляли позади десятка-другого километров. Но, увы!..
Убедившись в безрезультатности поисков, мы пустились в дальнейший путь к новому району поисков - к истокам Уньи.
Вскоре наш караван подошел к эвенкийскому колхозу «Северный маяк». Все мужское население в поселке отсутствовало, за исключением приемщика пункта «Заготпушнины» Воронова.
Приезд нового человека в таежный поселок - целое событие, и нас приняли чрезвычайно радушно, как встречают разве только самых близких и дорогих гостей.
Воронов, соскучившийся по родному языку, не знал куда нас посадить, чем накормить. На стол были поданы вареная медвежатина с брусникой, копченые ленки и пельмени.
- Понимаете, мужчины все ушли на промысел - белкуют, вот и воюю здесь один с ребятишками да женщинами. Слышал я про вас краем уха, а встретить не ожидал, думал стороной пройдете. Куда сейчас путь держите?
- На Унью хотим попасть. Оленей у вас оставим, а сами на бате спуститься думаем. Как считаете, успеем еще проскочить водой или нет?
- Можно успеть, только опасно и торопиться надо, вот-вот Зея станет, если не везде, так в более тихих местах перехватит.
- Надеюсь, бат мы у вас найдем?
- Лодок свободных много, вот с проводником плоховато будет - люди все на промысле.
- Нам лишь бы лодку, а спуститься мы и сами сможем.. Тут не так-то много до Уньи - километров сто пятьдесят. Самое большое дня на четыре ходу. Авдеев и Софронов опытные в этих делах люди.
- Не спорю,- отвечал Воронов,- только река у нас бешеная; чтобы по ней спускаться, надо хорошо знать все рукава и опасные места. Без своего проводника я вас не отпущу. И не такие опытные гибнут. Будь бы еще лето, а то шуга идет, забереги большие, не везде с лодкой развернуться можно. К тому же проток много, попадете не в ту, какую надо, время потеряете, а то и сами под залом угодите. Есть у меня на базе сторож - старик Батракин. Он из местных, опытный батчик, попробуйте с ним договориться. С ним было бы надежней.
Боясь обидеть недоверием своих проводников, я был в нерешительности. На всякий случай спросил мнение Авдеева:
- Как вы считаете, Евстигней Матвеевич?
- Хозяин дело говорит. Подыматься трудно, а спускаться опасно. Ходил я по Зее, помню, с норовом река, и знающий человек не помешает.
- Тогда надо позвать Батракина,- сказал я. Воронов послал парнишку за сторожем, и тот вскоре явился. Батракин был эвенк лет семидесяти, сухощавый., среднего роста, с маленькими, как у всех эвенков, кистями рук. Войдя в избу, он снял шапку, повесил ее у двери на гвоздь и, повернув лицо в сторону, будто слышит только на одно ухо, спросил:
- Зачем звали Батракина?
Мы пригласили его к столу. Воронов сказал:
- К нам пришла экспедиция, возьмешься спустить их на бате до Уньи?
Батракин задумался. Теперь, когда он сидел рядом за столом, я мог разглядеть его при свете небольшой лампы. У него было широкоскулое и темное от загара лицо, изрезанное глубокими морщинами. В темных полуприкрытых глазах сквозила мягкость характера. Тонкий правильный нос, чуть выдвинутый вперед подбородок, редкие поседевшие усики и страшный, обезображивающий одну сторону лица шрам.
- Груза много? - спросил Батракин.
- Пудов десять, не больше,- ответил Авдеев.
- С тяжелой лодкой ходить не могу, поздно уже, а если немного груза - можно. Торопиться надо, однако, через три-четыре дня дороги не будет. Завтра ехать надо. Начальник отпускает?
- Конечно,- согласился Воронов.- За месяц ничего не случится, попрошу побыть на базе женщин.
- Тогда пойду, маленько собираться надо,- сказал Батракин.
Как мы ни спешили со сборами, а выехали лишь к полудню следующего дня. В десятиметровом просторном бате легко разместились четыре человека, собаки, груз.
Подхваченный быстрым течением, легкий долбленый бпт понесся вниз, будто с заведенным мотором. Мы скользили по черной воде со скоростью не менее десяти-двенадцати километров в час. По сторонам быстро проносились назад прибрежные кусты и деревья, мелькали берега, отмели. Река капризно петляла, бросала напор воды от одного берега к другому, ревела у заломов, загромождая льдинами отмели и тихие протоки. Это был не спуск, а скольжение с горы по воде. Сидя в лодке, мы не видели перед собой дальше чем на полста-сотню метров. Только гул воды предупреждал нас о перекатах, да подозрительно гладкая поверхность воды, как в трубу втягиваемой на мелкое каменистое место.
Обгоняя плывущие льдины и деревья, мы влетели на перекат и за гладкой кромкой воды вдруг оказались среди бурунов, бившихся о торчащие из воды камни, среди кипучей толчеи волн, заплескивавшихся через борт бата. Вместе с грозно кипящим потоком воды бат устремлялся к залому, навстречу торчащим из воды остриям елок, корягам, выставившим из воды обледенелые лапы, чтобы подмять все плывущее под себя.
В последний момент, когда глаза нацеливались за какую корягу хвататься, если ударимся о залом, встречная волна буруна отбрасывала лодку в сторону от коряги и мы, сделав разворот над шумным глубоким водоворотом, устремлялись к другому берегу. Грохотала и ревела вода, размалывая льдины; бесконечной серой лентой, как под колесами уносящего поезда, разматывалось под лодкой дно. Низкое дымчато-серое небо нависло над лесом.
- Снег будет скоро,- сказал Софронов.
К вечеру быстро стало темнеть, и мы вынуждены были стать на привал в пятом часу. Плыть в темноте по такой реке было опасно, к тому же Батракин, исполнявший обязанности рулевого, очень утомился. Работа требовала напряженного внимания и больших физических усилий.
Мы сразу же поставили палатку с железной печкой, и через полчаса она загудела, раскраснелась и вся палатка наполнилась теплом. Мы сбросили с себя всю верхнюю одежду и стали чаевать. Чай - излюбленное питье охотников. После нескольких кружек горячего крепкого чая возле жарко топившейся печки лица наши залоснились от пота и мы пришли в самое благодушное настроение. Потянуло на ленивый неторопливый разговор.
Я стал расспрашивать Батракина о том, сколько лет он уже охотится и где. Эвенк рассказал нам, что он родился и вырос на Зее, пас оленей, к охоте приучился с детства. Раньше огнестрельное оружие было не у всех, поэтому на пушного зверя промышляли разными ловушками, а на медведя ходили с копьем - гидой. Ходил он и на медведя, поднял его из берлоги, ударил копьем в сердце, да зверь оказался сильный, успел помять его и оставить на лице страшную пометку - след когтей.
Представляя тяжелую жизнь охотника, с какой опасностью ему приходилось добывать себе пропитание, я опечалился.
Но старый охотник был далек от грусти, он улыбнулся и сказал, что раньше все так жили, не он один. Было что кушать, и все считали: лучшей жизни не надо. Не понимали, что вместо палатки можно жить в деревянной избе, носить хорошую одежду, спать в тепле.
- Раньше никто не стал бы кормить старого человека, а сейчас дали работу. Жить теперь можно,- сказал Батракин.
Он полез в свою походную кожаную сумку и достал из нее какой-то маленький железный предмет, обтянутый с одного конца тонкой лосиной, напоминающий камертон. Бережно вытер его рукавом и спросил:
- Играть можно?
Мы ответили согласием. Зажав зубами «камыс» (так он назвал свой музыкальный инструмент), он начал потихоньку, ритмично ударять по его концам пальцами. Гудящие, едва уловимые звуки камыса лучше всего воспринимались самим музыкантом и то скорее через зубы, а не слухом. Не разжимая зубов, старик вторил камысу гортанными заунывными звуками. Песня без слов, печальная, похожая на вой ветра и шум воды, на стон деревьев, раскачиваемых в осеннюю непогоду, не имела конца, ясно выраженного содержания. Она непосредственно обращалась к чувствам, создавая настроение грусти, какое охватывает человека, провожающего взглядом улетающих на юг птиц, человека, оставшегося один на один с суровой, погрузившейся в зимнюю спячку природой, маленького и бессильного перед необъятной и враждебной ему стихией.
В этой мелодии были лишь одни печальные жалующиеся ноты, перекликающиеся с суровыми ответными возгласами беспощадной природы. Наверное, в долгие зимние вечера, оставшись в палатке один, когда вокруг на сотни километров не было ни души, извлекал охотник свой камыс и жаловался на свою судьбу, которой и объяснить не мог, а не то, что доискаться до того, как облегчить ее. Это была музыка не для слушателей, а просто плач, способ выражения собственной души, одинокой, заблудившейся…
Под заунывную мелодию задремали Авдеев и Софронов, а Батракин долго еще пел, забыв обо всем, кроме камыса, а может и его держал в зубах просто по долголетней привычке. В глазах его стояла грусть, он весь ушел в свою музыку.
- О чем ты пел? - спросил я, когда он отложил инструмент и замолчал.
- Как знаешь? - пожал он плечами.- Душа поет - слов не говорит.- Мы еще с ним посидели, помолчали, потом я спросил, не приходилось ли ему встречать соболей?
Старый охотник не торопился отвечать. Будто не слыша вопроса, он набил трубку, взял из печки пальцами уголек, прикурил и только тогда сказал:
- Однако на Зею ты зря пришел. Давно, когда молодой был, видел я след соболя на горе Унья-Бом, и то совсем маломало. Я там охотился. Гора там высокая и соболь черный, как головешка. Купец мне за него много денег давал, просил рассказать, где добыл такого, а я не сказал. Молодой был, о хорошей жизни мечтал, сам хотел всех соболей ловить. Глупый был, жениться собирался…- Батракин усмехнулся каким-то своим воспоминаниям.- С тех пор там много охотников побывало, может, и там теперь соболя нет. Не знаю… Искать надо. А на Зее всегда соболя мало было, зря искать будешь. Ты правильно говоришь - соболя можно разводить. У меня соболь живой долго жил, мясо с рук кушал, молоко оленье пил, меня совсем не боялся, привык. Всю зиму жил… Ищи хорошо, потом всех охотников спросить надо. Один человек не знает. Все люди знают…
Мне казалось, что я заснул только на мгновение, а Батракин уже тряс меня за плечо:
- Вставай, ехать надо, однако снег большой скоро придет, реку видно не будет, совсем не пройдем тогда!
Выглянув из палатки, я увидел низко нависшее над лесом тяжелое свинцовое небо, не предвещавшее ничего хорошего. Мы заторопились и, наскоро поев, отправились в путь.
На фоне заснеженных берегов вода казалась бездонной глубины, густой и черной и необыкновенно холодной. По ней плыли зеленоватые льдины и напитавшиеся водой комки снега, уже не таявшие в воде.
Бат быстро скользил по течению. Изредка из-под берега вылетали крохали, почему-то задержавшиеся с отлетом на юг, но я не решался стрелять. Уж очень стремительно несся наш бат, и птица могла отвлечь рулевого от его обязанностей.
Снег, которого мы ждали ночью, пошел в полдень. Он падал крупными и частыми хлопьями, и сразу стало плохо видно, что делается впереди. Вода загустела от снежной кашицы, снег облепил нашу одежду, вещи, лодку. Все стало белым, и только вода осталась по-прежнему черной. Временами обычный шум воды прерывал рев переката, который надвигался, нарастая, как гул приближающегося поезда.
Батракин напряженно всматривался в даль, намечая более безопасное направление; мы также замирали на своих местах, нервно сжимая в руках шесты на случай, если потребуется наша помощь. Послушный рулевому веслу, бат огибал торчащие из воды обледенелые камни, ловко проскакивал в узкие проходы среди беспорядочных древесных заломов, как-то даже чикнул бортом о корягу, и она, как ножом, срезала у лодки кусок борта. С ходу бат влетел в кипучую толчею волн, готовых в любой момент захлестнуть лодку; сердце у меня замирало от предчувствия беды. Однако в какую-то решающую секунду Батракин налегал на весло, и бат невредимо выносило на широкий и более спокойный плес.
К вечеру снегопад усилился, видимость стала совсем плохой. Впереди послышался рев нового переката. На этот раз гул нарастал с большой быстротой и достиг такой силы, что мне стало не по себе. Я невольно оглянулся на Батракина. Лицо старика было серьезно и тоже выражало тревогу. Заметив на себе мой взгляд, он кивнул мне головой и сказал:
- Ничего, однако удержим лодку, пройдем как-нибудь! - И он подал бат поближе к берегу, где течение было не таким бешеным, как на самой стремнине. Быстро замелькали мимо нас деревья, иные, подмытые водой, опрокинулись в реку. Напором воды с них обломало все ветви, и голые стволы таранили воду, то опускаясь в глубину, то поднимаясь на поверхность и тут же окутываясь бурунами. Вероятно, мы проплывали, вернее, проносились с бешеной скоростью над таким потопленным деревом, потому что наш бат неожиданно приподняло и он перевернулся. Мы не успели вскрикнуть, как нас завертело в ледяной воде, среди тонущих вещей и коряг. Опрокинутый бат исчез в пене водоворотов, на мгновение его острый нос показался над водой у залома, еще раз перевернулся и исчез.
Я вырос у моря и считал себя не без основания хорошим пловцом. Я мог часами держаться на воде и даже любил купаться в штормовую погоду, когда волны, поднимаясь, раскачивали меня, как на больших качелях. Но здесь была совсем другая обстановка: лютый холод сдавил мне грудь, перехватил дыхание. Самый сильный пловец был беспомощен в борьбе с течением, которое с неудержимой силой влекло за собой под бревна залома. Стоило попасть под него, руки только скользили бы по обледенелым сучьям, и…- поминай как звали! Меховая одежда помогла мне продержаться на воде, но винтовка, находившаяся за плечами, мешала движениям.
Напрягая все силы, я поплыл к берегу. Чуть ниже по течению мелькала голова и руки Авдеева. Он был без шапки и старательно боролся с водой. Мимо меня проносило беспомощно барахтавшегося в воде Софронова. Как и большинство эвенков, он не умел плавать, и его держала на воде лишь туго подпоясанная меховая оленья куртка.
Не раздумывая, я ухватил его за воротник и, используя силу течения, стал подгребаться левой рукой к берегу. Вскоре нас вынесло на мелководье, ноги коснулись камней. Едва держась на ногах, мы на четвереньках выползли на галечную отмель. Батракина нигде не было видно: видимо, он обо что-то ударился и сразу пошел ко дну.
На наши голоса из кустов выскочили наши мокрые собаки, которых вынесло ниже нас. Отряхиваясь от воды, они закрутились вокруг, жалобно повизгивая от холода. Мороз леденил на них облепленную снегом шерсть.
Теперь только большой жаркий костер мог спасти нас от стужи, вернуть нам бодрость и силу. Но прежде нужно было отыскать Батракина, извлечь из воды хотя бы часть утопленного имущества. К нашему ужасу, ни у кого не нашлось сухих спичек. У проводников они были не защищены и вымокли, а мои, хоть и в упаковке, настолько отсырели, что не загорались. До ближайшего жилья охотников было не менее двадцати километров. После короткого совещания решено было идти на поиски зимовья, без которого гибель наша была неминуема.
Сгущались сумерки. Раздвигая плечами густой ивняк и утопая в рыхлом снегу, мокрые, в несгибающейся одежде брели мы берегом реки, напрасно подавая голос. Все еще надеялись найти Батракина, которого вода могла вынести к берегу где-нибудь ниже места нашей катастрофы. Полное безмолвие тайги было нам ответом. Грозно шумела вода. Мы боялись холода, но страшнее его оказались не темнота, не лесные трущобы, а протоки и впадавшие в Зею ключи и небольшие речки. Не скованные морозом, они чернели на нашем пути, как раскрытые холодные могилы. Их нельзя было обойти, и мы с дрожью и каким-то внутренним ужасом лезли в воду. Успевшая при движении согреться мокрая одежда снова стискивала ледяными тисками уставшее тело. Впереди брел Авдеев. За ним, еле поспевая, шел я. Софронов замыкал шествие. Пройдя, вернее, пробежав около десяти километров, мы остановились перевести дух, но мороз тут же стал подступать к самому сердцу и заставил нас бежать дальше. В полночь с расцарапанными в кровь лицами и руками мы вышли к берегу довольно широкой реки, впадавшей в Зею. Пускаться вплавь через такую преграду было бесполезно: силы были на исходе, к тому же один из нас вовсе не умел плавать.
- Огонь! - с тоской в, голосе прохрипел Авдеев.- Надо развести огонь!
Ощупью нашли сухой пень, разворотили, сколько возможно, его руками и, наставив в него винтовку, я пять раз подряд в упор выстрелил. Пень не загорелся. Отчаяние овладело мной. Все кончено, я готов был сдаться и, дрожа от озноба, скорчился в клубок и бессильно опустился на землю.
- Бездымный порох,- донеслось до меня.- Был бы черный - зажгли бы!
- Дай-ка я еще попробую,- услышал я голос Авдеева, и он вытащил у меня из-за пазухи отсыревшие спички.
Выстрелив три раза подряд, он положил в горячий ствол винтовки две спички и прикрыл его пальцем. Продержав их там минут пять, а мне казалось, что до бесконечности долго, он осторожно вынул одну из них и дрожащими скрюченными от холода пальцами чиркнул ею по терке.
ВЫНУЖДЕННАЯ ОСТАНОВКА
Спичка чиркнула раз-другой. Затаив дыхание, мы ждали. Теперь от этих двух спичек зависело наше спасение. Авдеев перевел стесненное дыхание и чиркнул посильнее. Головка сначала задымилась, зашипела и вспыхнула. К слабому трепетному огоньку он приблизил кусочек сухой смолы, снятой у занесенной водой ели. Огонек, как бы раздумывая, ощупал смолу, потом затрещал, окреп и стал облизывать сухие тальниковые прутики. У нас был огонь. Мы были спасены.
Сухих дров было мало, а у нас не было топора, чтобы срубить большое дерево, и остаток ночи мы провели у дымящегося костра. Он не мог просушить зимнюю одежду, не мог обогреть как следует, мы дрожали от холода, но уже за то, что не погибли от стужи, просушили спички, и то спасибо.
Никто не хотел говорить, все сидели подавленные, не в силах сомкнуть глаз.
Утром снег прекратился, и мы решили идти по берегу реки, преградившей нам путь, в надежде найти какое-нибудь зимовье охотников. Всех мучил голод. Наши продовольственные запасы утонули, и вся надежда была на мой карабин.
Стоило отойти от огня, как холод сковывал все тело. Только быстрая ходьба могла нас согреть.
Собаки рыскали по сторонам. Старый охотничий пес Верный подал голос, к нему присоединился Кирька. Я побежал к ним. Они действительно нашли дичь, но какую! Словно понимая, что нам не до выбора, они облаивали белку, на которую в другое время не обратили бы внимания. Серый пушистый зверек с черным, больше туловища, хвостом и кисточками ка ушах с сердитым цоканьем взбежал на березку. Помахивая пушистым хвостом, белочка ударяла лапками по ветке и рассматривала собак, глядевших на нее голодными и жадными глазами. После выстрела зверек подпрыгнул и, кувыркаясь в воздухе, полетел на землю. Верный не дал ему упасть - схватил на лету зубами. Я крикнул на него, и он отдал его мне, несмотря на то, что был голоден.
Положив белку за пазуху, я быстро догнал своих спутников, которые даже не остановились, пока я стрелял. Не то от теплой тушки, не то от предвкушения еды у меня стало легко на душе.
Вскоре я стал отставать от товарищей: переживания трагического дня, бессонная ночь, неоднократные купания в ледяной воде, крепнущий мороз, снова заковавший и сделавший негнущейся мою одежду, измотали мои силы. К тому же стали нестерпимо болеть ноги. Я не мог без боли ступить.
Видя что я сильно отстал, проводники вернулись ко мне.
- Я не могу дальше идти,- сознался я.- Очень болят ноги.
- Придется развести костер,- сказал Авдеев.- Может быть, отдохнешь немного, просушишь одежду, полегчает…
Вместе с Софроновым они быстро развели костер у поваленной ветром елки. Слой дерна, державшийся на вздыбленных корнях, служил хорошей защитой от ветра. На коротком совете было решено, что Авдеев пойдет на разведку один, а мы с Софроновым останемся дожидаться его у костра. Зажаренную на костре белку я отдал Авдееву: кто знает, сколько ему придется идти, прежде чем найдет он зимовье или наткнется на охотников.
- Ждите меня здесь, никуда не уходите,- сказал Авдеев и, позвав за собой одного Верного, ушел от нас в чащу леса.
Софронов легче переносил холод и голод, чем я. Он тут же разулся и, сидя у костра босиком, стал сушить над огнем свои меховые чулки. Не разделяя моего уныния, он даже пытался шутить и подбадривать меня.
Однако мне было не до шуток, я думал о том, сколько труда положено напрасно, думал о гибели Батракина. Увенчаются ли наши усилия и лишения достижением цели?
Софронов успел подбросить в костер крупных дров и стал сушить куртку, поворачиваясь к огню то одним, то другим боком.
- Следов сохатого здесь много, свежие следы,- говорил он.- Обязательно должны быть охотники!
Как бы в подтверждение этих слов послышался звук отдаленного выстрела, донесшегося с той стороны, куда ушел Авдеев,- значит, он уже встретил охотника, потому что ушел без оружия, с одним ножом, который всегда висел у него на поясе. Мне сразу стало словно теплее, я забыл о гнетущих мыслях, вскочил и трижды выстрелил в воздух. Теперь ни к чему было беречь патроны.
- Ура! Мы спасены! - радостно крикнул я и стал тормошить за плечи Софронова.
Тот иронически улыбнулся, наконец, не утерпел, высказался:
- Как можно, маленько в реке купался, маленько замерз - сразу жить не хочешь, о смерти думаешь? Люди, которые- в тайге живут, всегда мокрые ходят, всегда мерзнут, по три дня ничего не кушают - олочи мелко-мелко режут, в котелке варят, жуют и ничего. Однако в городе совсем слабые люди. Я молодой был, мог покушать и потом восемьдесят верст тайгой ходить, не отдыхать, не кушать… Почему сидишь, портянки не сушишь? Надо раздеваться, все хорошо сушить, тогда спать можно будет. Чего ждешь?
Я послушался его совета и, пока горел хороший огонь, разделся до нижнего белья и стал сушить одежду. Хорошо бы еще выпить кружку кипятку и тогда можно было спокойно ждать помощи.
Однако радость моя была преждевременной. Наступили сумерки, прошла вторая ночь у костра почти без сна, а Авдеева не было. Я начал беспокоиться: уж не попал ли он на браконьерский самострел? Быпает, что на крупного зверя настораживают какое-нибудь старое, никуда негодное ружье.
- У нас в тайге такого не бывает, денгур ставят. Из ружья охотник стрелял. Наверно дело есть, кончит, тогда к нам придет,- успокаивал меня Софронов.- Собака назад бы вернулась. Сидеть ждать надо.
А ждать было трудно: ныли прихваченные морозом ноги,, давал себя знать голод.
Лишь к полудню послышались голоса, и к нашему костру подошли Авдеев и охотник эвенк, ведший на поводу верхового оленя. Я крепко обнял незнакомого охотника, стал расспрашивать далеко ли до поселка и можно ли сегодня же начать поиски Батракина?
- Чего спешишь,- ответил охотник.- Пей чай, потом в мою палатку пойдем, там о деле говорить будем.
С этими словами он отвязал от седла чайник, набил его снегом и повесил над огнем. Через несколько минут мы уже пили горячий крепкий чай, закусывая вареным холодным мясом и пресной лепешкой.
Ночевали мы в бязевой палатке на оленьих шкурах. Топилась небольшая жестяная печка, и я смог раздеться и разуться. Утром я увидел, что два пальца на правой ноге у меня распухли и почернели. Если на ступнях была приморожена только кожа, то их прихватило как следует. Я не мог ходить.
Два дня мол спутники вместе с охотником, пришедшим нам на помощь, вели поиски тела Батракина и нашего утопленного снаряжения. Кое-что удалось спасти: достали оружие,, утонувшее на месте, где перевернулся наш бат, на перекате среди камней и коряг нашли два мешка - один с палаткой и печкой, другой со спальными мешками. Бат, видимо, подтащило под залом и обнаружить его не удалось, так же, как нигде не отыскали и тела Батракина. Вот и все, что могли мне рассказать они после возвращения.
Сумерки. Шумит тайга. Кажется, что сами деревья жалуются на непогоду, раскачиваясь под напором ветра. В нашей палатке уютно и тепло. Я лежу на оленьей шкуре с больной
ногой. У изголовья горит свеча. Ее желтый мигающий свет отражается на воронёной поверхности карабина. Изредка за палаткой фыркнет олень, прозвенит баталом. Мои спутники допивали по третьей кружке крепкого чаю. Они молчат. Устали с дороги и намерзлись.
- Как думаешь, Михаил,- так зовут хозяина, приютившего нас,- удастся найти Батракина?
Лоснящееся, словно вылитое из бронзы, лицо эвенка выражает раздумье. Наконец, он отвечает:
- Батракин пропал. Сейчас на реке лед, оморочкой ходить не могу. Весной еще искать будем, может найдем.
- Едва ли,- выразил сомнение Авдеев.- Затянуло его где-то под залом, может зацепился одеждой за сук, теперь не выпустит. Горные реки такие, если сразу не выплыл, не выбросило на отмель, то все - с концом. Надежно хоронит…
В палатке наступило долгое молчание.
- Жалко, хороший старик был. Из-за нас погиб…
- Что об этом говорить,- сурово произнес Авдеев.- С каждым может случиться. Не будь его, мы бы где-нибудь еще раньше вывернулись. Сумасшедшая река… Хорошо, что ты успел Софронова за воротник схватить. Надо на прииск выходить, подлечить ногу, да в путь…
Авдеев прав, надо спешить к врачу за помощью, быстрей подлечить ногу, да снова на поиск соболей. Время дорого - путь велик. Пока я раздумывал, как нам поступить дальше, где пополнить снаряжение, купить одежду, продукты, где взять оленей и нарты, Авдеев, напившись чаю, завел неторопливый разговор с Михаилом. Я присоединился к их беседе:
- Не слышал ли, где ваши охотники соболя видели?
Софронов при этих словах насторожился.
- Соболя здесь совсем нет,- ответил Михаил.- Старики говорят, раньше мал-мал был, а сейчас надо тридцать ден на хороших оленях на юг идти, там, однако, есть.
Софронов успокаивается, и на его губах застывает насмешливая улыбка. Я стараюсь мысленно представить, где это может быть, если идти тридцать дней на оленях. Выходит - в верховьях Селемджи. Наверное и там соболя нет, просто старая легенда гуляет среди охотников о драгоценном зверьке. К тому же мне уже известно, как ошибочны бывают представления эвенков о действительном расстоянии.
- А на реке Унье ты охотился?
- Нет, там люди нашего колхоза не ходят. Сопка там крутой, может соболь и есть, никто не знает.
Я договорился с Михаилом, чтобы он проводил нас до прииска, и на следующий день мы тронулись в путь. Авдеев с Софроновым шли пешком, а мы с Михаилом ехали верхом на оленях. Молодой .эвенк знал прямую тропу на прииск. К вечеру должны прийти в бригаду пастухов-оленеводов, переночуем у них, а на другой день будем на прииске, если верить Михаилу.
Тропа вилась по редколесью. Однообразна светлая тайга: дерево похоже на дерево, как две капли воды, ни бугорка, ни впадины, сплошная белая равнина - застывшая марь, поросшая мхом и багульником, а сейчас засыпанная снегом и белая до рези в глазах.
Ничто не отвлекало внимания. Я ехал, покачиваясь на маленьком неудобном седле. Чтобы как-то отвлечься, стал размышлять о том, найду ли я соболей, или их остались считанные единицы и что будет, если вся затея с их расселением окажется несостоятельной? Это будет большим ударом по всей деятельности старого профессора Мамонова, а мне очень не хотелось его огорчать.
Вскоре я поймал себя на том, что мысли мои начали повторяться, как бы вертеться на одном месте, подобно заблудившемуся в тайге человеку. Меня укачивала тихая езда. Михаил мурлыкал что-то заунывное, иногда покрикивал на оленей,, вдруг соскакивал с седла и бежал к другим оленям, а я должен был, как привязанный, сидеть в седле. Вечером послышался лай собак и показались палатки бригады.. Вскоре мы ужинали у пастуха-оленевода. Седой старик бойко расспрашивал меня о целях экспедиции, о нашей аварии. Узнав о моем несчастье, он сказал, что в бригаде находится фельдшер, приехавшая к роженице, и мне; незачем ехать на прииск, так как она вылечит мне ногу здесь.
Утро в тайге было ясное и морозное. Я оделся, вылез из палатки. и, опираясь на палку, побрел разыскивать фельдшерицу. Она оказалась в одной из палаток. Темное синее платье, хорошо облегавшее тонкую стройную фигуру, очень шло к ее здоровому румяному лицу. Большие серые глаза смотрели на меня с нескрываемым любопытством. Наверное, ей уже рассказали про нас.
- Вы фельдшер Бурлова? - спросил я не без некоторого смущения.
- Да.
- Хочу попросить у вас помощи. Обморозился немного…
- Пройдите! - сказала она, приглашая меня в палатку.
Когда-то Авдеев смеялся над моей городской одеждой и выражал надежду, что со временем она оботрется. Нго пожелание сбылось. Не без стеснения освободился я в присутствии девушки от своих рваных доспехов, обнажил костлявую ногу с почерневшими пальцами. Быстро ловкими мягкими пальцами она ощупала опухоль, обмыла ее раствором марганцовки и, наложив какую-то прохладную желтую мазь, забинтовала ногу.
- Недельки две придется полежать,- сказала она.
- Что вы! Мне лежать некогда.
Фельдшерица насмешливо посмотрела на меня.
- Скажите спасибо, если отделаетесь только этим, а то придется пальцы отнять, тогда хуже будет.
Увидев мой испуг, она рассмеялась:
- Не бойтесь, может быть, обойдется без этого!
После завтрака мы выехали на прииск. Олени шли гуськом, один за другим. Я ехал вслед за Бурловой и рассказывал ей о прелестях Черноморского побережья, где прошли мое детство и юность.
- А мне Крым не понравился,- весело отвечала она.- Ездили мы туда как-то с отцом в санаторий. Жарко, на пляже людей - ступить негде, деревья все какие-то стриженые…- Она усмехнулась, вспомнив что-то веселое.- Там, наверное,, больше меня никто мороженого не съедал…
- Это вы напрасно, там растительность вечнозеленая…
- Подумаешь! Хоть и вечнозеленая, а какая-то грустная.. Листья словно из жести сделаны. Приамурье куда лучше. Как зацветет весной багульник, все- сопки розовые стоят, а ландыши? Надышаться ароматом не можешь! Осенью все золотое, румяное, огнем горит…
- А комары?
- Каких-то два месяца! Зато у нас даже зимой солнышка чуть не каждый день, а там, на западе, его по целым месяцам не видят…
В конце концов я вынужден был согласиться, что мне Восток тоже очень нравится и я отсюда никуда и никогда не уеду.
День пролетел быстро, я его просто не заметил. В поселке я распростился с Бурловой и отправился к начальнику прииска, который отвел нам небольшой бревенчатый домик под жилье. Зимой рабочие-сезонники разъезжались, и недостатка в домах не было. Правда, дома были барачного типа: с маленькими окнами и железными печурками, но мы и этому были рады. После ночевок у костра барак показался мне раем.
Более недели лечился я у Бурловой и за это время очень привязался к ней. Скромная, ласковая девушка пришлась мне по душе.
Приоткрыв свои сердца друг другу, мы нашли в них массу достоинств и потянулись навстречу, как мотыльки на огонек. Ничего определенного мы еще не высказывали, но я иногда думал, что жизнь без этой девушки, озарившей меня светом неизведанного счастья, не будет иметь смысла. Если бы не задание, я остался бы с ней. Однако долг звал меня вперед и весь вопрос для меня состоял в том, чтобы закрепить это случайное знакомство. Я еще не знал как, но решил, лишь только выполню задание, разыщу Олю, чтобы никогда больше с ней не расставаться.
В день нашего отъезда она пришла проводить нас. Когда я седлал оленей, Оля стояла, прислонившись к лиственнице, и чертила прутиком на снегу замысловатые фигуры. Вид у нее был грустный.
- Пора,- сказал Авдеев.
Я подошел и взял ее за руки.
- Оля!
В ее глазах стояли слезы, она закусила губы и отвернулась.
- Оленька, я вернусь летом, обязательно вернусь! Ты будешь меня ждать?
Она молча кивнула головой. Я набрался смелости, обнял ее и крепко поцеловал.
- До встречи, моя хорошая! - сказал я, пожав ей руки, и побежал к оленям. Авдеев улыбнулся в усы, Софронов откровенно рассмеялся:
- Однако из девки плохой доктор получился: ногу лечила - сердце забрала. Дорого лечит…
Мне было не до шуток, я не сводил глаз с Оли и думал о том, когда наступит наша встреча.
Путь лежал к истокам Уньи,- там мы должны найти соболей во что бы то ни стало. Вперед!
СЛЕД «ХОЗЯИНА ТАЙГИ»
Через неделю мы достигли высоких, почти безлесных сопок горного кряжа, именуемого Унья-Бом, одного из отрогов горного хребта Джагды. Крутые каменистые склоны этих сопок густо заросли кедровым стлаником. Вершины лежали в зоне гольцов - голых каменных россыпей, покрытых только лишайниками и мхами. Сейчас все это покоилось под толстым слоем снега. Тяжестью снежного покрова кедровый стланик придавило к земле, и его почти не было видно. От этой особенности растение и получило свое название. Благодаря зарослям стланика на склонах гор, даже очень крутых, за зиму накапливается много снега, иногда толщиной в несколько метров. Это как бы естественный резервуар влаги, которая с наступлением жаркого лета при интенсивном таянии питает горные реки. Только побывав в горах Дальнего Востока, я понял одну из причин, почему реки здесь разливаются не весной, как в европейской части России, а летом.
Стланики даже летом труднопроходимы, а сейчас по ним ни пройти, ни проехать. Софронов выбрал место для лагеря в одном из распадков, где поблизости был корм для оленей - ягель. Эти животные добывают корм из-под снега, раскапывая его копытами, и в снежные зимы держатся ближе к выдувам, где снег сносится ветром и им легче добраться до корма.
Софронов взял на себя задачу - обеспечить нас свежим мясом, так как бывал в здешних охотничьих угодьях и рассчитывал быстро найти сохатого или согжоя.
Авдеев как-то больше располагал к себе, и я охотней шел с ним, чем с Софроновым, который не отвечал мне такой душевностью. Поэтому мы с Авдеевым принялись за поиски соболей.
Зимний день короток. Едва начинал брезжить свет на востоке, как мы вставали, наскоро умывались: Авдеев теплой водой из котелка, а я, совершенствуя свою закалку,- снегом до пояса. К этому времени на железной печке уже закипала в ведерке мясная похлебка. Это блюдо не походит ни на одно из тех, какие варят в городе. Для похлебки мы рубили топором на куски мясо сохатого, складывали их в ведро, обычно доверху, потом наливали воды, чтобы она закрывала мясо, и, посолив по вкусу, ставили варить. Когда мясо проваривалось, сыпали немного крупы или макарон и подсаживались к ведру с ложками и чашками.
Вначале я дивился большому аппетиту моих товарищей, а потом и сам привык с утра заправляться как следует на целый день. На морозе и при постоянном движении я никогда не ощущал тяжести от еды.
Надо сказать, что ходьба по сопкам требовала очень больших усилий. В лесу еще стоял утренний морозный туман, пушистый иней окутывал ветви деревьев и снег поскрипывал под ногами, когда мы, забросив за плечи мешки с запасом продуктов, выходили на поиски соболя. Лыжи, подшитые камусом - лосиной шкурой с очень мелкой и прочной шерстью, которая не давала соскальзывать им назад при подъеме в гору, были значительно легче спортивных, хотя широки и не обладали такой скользящей поверхностью. Без таких лыж невозможно ходить в тайге при громадной толщине снежного покрова.
День за днем, планомерно, мы обследовали и крутые склоны сопок и глухие горные ключи, скрытые темными густыми ельниками, куда не заглядывало солнце, и даже забивались в стланиковые заросли. Все было напрасно - следов соболя не встречалось.
Мне казалось порой, что я превратился в какого-то одержимого. На что бы я ни смотрел, мне всюду мерещились следы, в каждой мелькнувшей тени мне чудилась стремительная тень соболя. Я бредил соболем, думал только о нем, искал только этого таежного красавца - жемчужину лесов. Иногда, увидев парные следки, цепочкой отпечатанные на белом снегу, от бурелома до какого-нибудь лаза под нагромождения камней, я кричал: «Соболь!» и звал к себе Авдеева. Охотник склонялся над следом, неторопливо рассматривал отпечатки лап и каждый раз разочаровывал меня:
- Да ведь это же колонок прошел. Видишь, лапки у него узкие, а у соболя след круглый и ставит лапы он не так, а вот так!
Авдеев снимал рукавицу и двумя пальцами тыкал в снег, показывая мне, как ставит лапы соболь. Пройдя по следу несколько шагов, Авдеев снова оставлял меня одного, а сам отделялся от меня метров на сто-двести, чтобы захватить при осмотре возможно более широкую полосу.
Кирька и Верный, вместе с нами рыскавшие по сопкам, тоже ни разу не напали на след соболя, хотя и подавали голос. Всякий раз оказывалось, что они обнаруживали либо белку, либо колонка. Авдеев советовал не отказываться от пушнины, если она сама плывет в руки, и у нас накопился уже изрядный запас шкурок. Предназначался он для коллекции, а также для того, чтобы компенсировать наши расходы на содержание и транспорт для нашей экспедиции.
Софронову удалось убить молодого лося и несколько глухарей. Мы помогли ему перенести мясо в лабаз, который пришлось построить, чтобы сохранить не только мясо, но и нашу пушнину. Обеспечив нас мясом, он также вместе с нами стал уходить на поиски соболей. Однако ходил он всегда в одиночку, компании не любил и где бывал - мы не знали, но искал старательно, ибо приходил в палатку зачастую позднее нас и усталый.
Однажды вечером он предложил сменить бивуак, пройти глубже в горы, может быть, там нам «повезет»…
- Раньше соболь здесь был,- утверждал Софронов.- Почему сейчас нет - не понимаю. Наверное, много охотников побывало!
Если учесть, что охотничьи угодья Унья-Бом довольно близко находились от населенных пунктов, такая версия была убедительной.
Мы перенесли бивуак километров за двадцать, снова облазили все окружающие сопки, но безрезультатно. Правда, Авдееву посчастливилось найти один след соболя. Судя по величине отпечатков, прошел старый самец. Впервые за несколько месяцев я имел случай слушать не рассказ о следах, а видеть след редкого и таинственного зверька. Мы уже заплатили за это удовольствие дорогой ценой усилий и даже жертвой, и теперь я не хотел жалеть сил, чтобы настигнуть эту ускользающую жемчужину.
- Зря, однако, пробегаем за ним,- сказал Авдеев, рассмотрев внимательно следы на снегу,- староват след, может, долго идти придется. Бывает, когда корма мало, далеко уходит соболь, за один день не догонишь.
- Надо догнать, Евстигней Матвеевич, ведь самый первый соболь!..
- Попробуем, только нелегкое это дело!
Обрадованные удачей, мы до позднего вечера шли по следу, лезли через буреломы, завалы, продирались через стланики, шли до тех пор, пока след не скрылся в одной из расселин каменных россыпей.
Напрасно мы обежали вокруг лаза по кругу, выхода следа на поверхность не было. Кругом лежали большие камни, соболь мог выйти в любом месте, для его узкого гибкого тела везде был проход.
Возвращаться в палатку было поздно, и мы решили заночевать в тайге, чтобы утром еще раз проверить, не появился ли соболь из россыпей. Всю ночь провели у костра. Авдеев был очень утомлен и не стал готовить надью - дело довольно трудное; обычный костер грел плохо, и мороз подбирался к нам то с одного боку, то с другого, то со спины, и спали мы плохо.
Утром, попив чаю, мы еще раз обошли вокруг лаза. Соболь на поверхность не выходил.
- В таких местах пищухи бывает много,- сказал Авдеев.- Вот он перекусил одной-двумя и будет спать целый день. К тому же морозы стоят, а он в такое время не особо любит по тайге шнырять, тем более, если сытый, больше отлеживается в затишье. Бесполезно ждать, пока он выйдет.
Я послушался совета старого охотника. Мы пошли обрат-но на бивуак. Поздно вечером добрались до своей палатки, так и не увидев соболя, а лишь его след, как тень от облака, скользнувшую по склону сопки.
Вечером разгорелся спор, едва не кончившийся ссорой проводников.
- Надо бросать эту волынку, все горы не облазишь,- заявил Авдеев.- Нужно найти местных охотников, они лучше нас знают, есть ли в этих местах соболь или нет. Есть - хорошо, нет - будем подаваться дальше, неча нам без толку по кустам штаны рвать!
- Зачем искать охотников? - возразил Софронов.- Разве они лучше нас знают тайгу? Сами искать соболя будем, в другом месте табором станем. Если здесь не найдем, пойдем на Селемджу искать. Там не будет - тогда можно в Хабаровск ехать!
- Не дело говоришь! Должен быть соболь. Мы трое все осмотреть не сумеем, только напрасно время до весны проведем, а начнет таять, тогда и вовсе ни о каких поисках не может быть и речи. Нам надо больше на охотников полагаться, они свои угодья лучше нас знают. А без соболя как в Хабаровск вернешься? Не для себя, для народа соболь нужен, и с нас спросят - почему не нашли?
- Если нет, где возьмешь?..
- Не то говоришь! С умом искать надо.
- Соболя искать буду, а ходить искать охотников не хочу.
- Нет будешь! Ты говорил - на Зее соболь есть. Я тебя послушался, больше тысячи километров, как дурной, шел…
- Если умный, кто велел?..
- Ты не спеши, дай сказать… Теперь будешь меня слушаться, пойдешь, куда я повелю.
- Начальник есть, он скажет…
Я уже давно видел, что надо вмешаться, но мне хотелось выслушать обоих.
- Авдеев говорит правильно, надо найти местных охотников,- решительно сказал я.- А там видно будет, куда дальше путь держать.
Софронов долго дулся, что-то бормотал по-своему и зло поблескивал глазом. Мне непонятны были причины его недовольства, и я склонен был отнести их просто за счет стариковского упрямства.
Утром мы погрузили все на оленей и двинулись на юг. Перевалив через хребет, мы вышли к небольшой охотничьей избушке. Избушка была бревенчатая, низкая, с пологой, крытой еловым корьем крышей. Ее по самое оконце занесло снегом, громадный белый пласт лежал и на крыше. Такие избушки ставят в тайге обычно русские охотники, предпочитая крышу над головой палаткам. Дверь избушки была распахнута настежь, внутри - темно, а время уже позднее, гадать не приходилось, поэтому я вошел и чиркнул спичкой, чтобы рассмотреть все как следует. Столик, нары и скамейка- вся обстановка избушки - были разворочены и опрокинуты. Даже железная печка валялась в углу. Кто-то похозяйничал. Алюминиевый котелок, смятый в лепешку, со следами острых зубов, валялся на полу. Я поднял его и протянул Авдееву.
- Похоже, что росомаха похозяйничала. Здорово напроказила!
Авдеев повертел котелок в руках и положил на подоконник.
- Это не росомаха, а медведь. Там, возле зимовья, следы есть. Здоровенный медведище, шатун, однако. Голодный, набрел на зимовье и давай шарить. Разве росомаха могла бы скамейки со стояками вывернуть?
- Где же тогда охотник?
- Дня два-три здесь никого уже не было, видишь иней на потолке намерз…- в раздумье проговорил Авдеев.
В зимовье вошел Софронов.
- Худое место. Хозяин ушел, медведь приходил хозяйничать. Как бы опять не вернулся… Зимой в тайге кушать трудно добыть, начнет оленей гонять…
- Как считаешь, давно хозяин ушел отсюда?
- Хотя след твердый стал, иней насыпался, однако, думаю, не больше двух дней прошло. Медведь после приходил, след на следу человека оставил.
На скорую руку поставив все на прежнее место, мы затопили в избушке печь, и через полчаса стало тепло и уютно. За ужином решили, что Софронов останется стеречь оленей, а мы с Авдеевым пойдем на поиски хозяина. Вечер был морозный, ясный, снега не предвиделось, и мы рассчитывали быстро его догнать. Он наверняка охотится где-то поблизости.
День занимался солнечный, тихий, когда мы пошли по следу охотника. Громко потрескивали деревья от мороза, наши усы и бороды быстро посеребрил иней. С ветвей сыпалась кухта (иней), и скоро наша одежда тоже была покрыта блестками инея.
След охотника уводил нас на север. Судя по тому, что обут он был в валенки, это мог быть только русский промысловик, а не эвенк, который никогда на охоте не носит такой обуви. Вскоре на след охотника вышел след медведя. Отпечатки больших когтистых лап говорили о громадной величине зверя.
На всякий случай мы сняли с плеч карабины, отпустили собак. Шли с опаской, откинув предохранители: встреча с шатуном зимой не сулит добра.
Впереди показалась какая-то утолока: снег был истоптан, следы человека перепутывались со следами зверя. Собаки унеслись куда-то вперед, а мы остановились и, вслушиваясь, простояли несколько минут.
В лесу стояло безмолвие. Начали внимательно изучать следы, стараясь по ним определить, что могло здесь произойти. Шаг за шагом, словно строчку за строчкой мы прочли всю трагическую историю.
Медведь, неудовлетворенный скудными запасами охотника, наткнувшись на его след, быстро настиг человека и бросился на него. Охотник поздно увидел опасность, выстрелил, но промахнулся, видно стрелять пришлось впопыхах. Второй раз выстрелить не удалось: зверь вышиб ружье из рук. Оно валялось в снегу, с невыброшенной гильзой в стволе. Подняв ружье, Авдеев внимательно осмотрел его, определил калибр и повесил на сук, чтобы оно было заметно издали. На этом месте медведь схватил человека и ободрал ему голову когтями. Шапка-ушанка валялась со следами смерзшейся крови. Охотнику удалось вырваться из медвежьих лап и он побежал к дереву, пытаясь, видимо, на нем спастись от зверя. Кора была испачкана кровью. Здесь, у дерева, зверь снова схватил его, и снова человек вырвался и бежал, но был настигнут рассвирепевшим зверем, сбит с ног и растерзан. Медведь волочил его по снегу.
Мы пошли по следу и увидели своих собак, которые боязливо обнюхивали кучу свеженаломанных ветвей ельника. Снег вокруг был утоптан широкими медвежьими лапами. Раскидали лапник и разрыли под ним снег… Мы молча сняли шапки: перед нами лежали жалкие останки промысловика.
Авдеев развел большой костер и сделал на старой лиственнице широкие затесы. Затем, раскидав головни, он топором выкопал в оттаявшей земле яму, и мы схоронили в ней погибшего охотника.
Пора была возвращаться в зимовье. Авдеев полагал, что медведь может возвратиться, попасться нам навстречу и советовал держаться настороже.
Подавленные и молчаливые возвращались мы к избушке. Еот и ключ, в устье которого стоит зимовье. Скоро должен показаться дымок, свечкой поднимающийся в такую погоду над лесом. Впереди, среди ельника, что-то мелькнуло. Собаки забеспокоились.
«Может быть, это Софронов отыскивает оленей?» - мелькнуло у меня, но Авдеев поспешно сбросил с плеча карабин. Раздумывать и спрашивать было некогда, я последовал его примеру. Между деревьями мелькал какой-то огромный черный зверь. Он шел к нам, был высок на ногах и не походил на медведя. Уж очень велик! Вот он вышел на открытое место, и мы увидели перед собой громадного шатуна. Прильнув к карабину, Авдеев выбрал удобное место для выстрела, я тоже не спускал мушки с черной туши зверя, который, будто по воздуху, легко и беззвучно, приближался к нам по пушистому снегу.
Стрелять на ходу было рискованно, подпускать шатуна ближе тоже было неразумно. Авдеев слегка свистнул. Зверь мгновенно остановился, встал на задние лапы и застыл, как изваяние. Теперь он мне казался великаном, и ствол винтовки, направленный в его косматую грудь,- тонким, как тростинка.
Где-то в глубине души тоскливо заныло и засосало. Мне сделалось жутковато, может быть потому, что в глазах еще стояла недавняя картина расправы зверя над человеком.
Звуки наших выстрелов слились в один. Черный зверь опрокинулся и завертелся на месте, вздымая облако снежной пыли. Затем он поднялся, шатаясь отошел в сторону и обняв толстую ель лапами, прислонился к ней, словно боясь упасть.
Желая побыстрее покончить с шатуном, я послал в него еще одну пулю. Произошло неожиданное: после выстрела зверь с быстротой дворовой собаки с громким ревом бросился на нас. Откуда только у него взялись силы! Я оцепенел от неожиданности и даже забыл, что у меня в руках винтовка.
Авдеев тоже медлил, не стрелял. Старый промысловик не растерялся, подпустил медведя почти вплотную и удачным выстрелом свалил его наповал.
Пуля угодила в широкий лоб, и зверь лежал без движения, ничем не реагируя на собак, подскочивших к нему и теребивших его за ноги. Не сводя винтовки с головы зверя, мы постояли немного и только потом приблизились к нему вплотную.
- А может быть, это не тот зверь, а другой? - спросил я Авдеева, все еще не доверяя, что мы могли свалить именно шатуна-убийцу.
- Посмотрим,- сказал Авдеев и, достав нож, стал молча вспарывать тощее брюхо черного великана. Через несколько минут он подал мне кусочек алюминиевого котелка, не переварившийся в желудке. Сомнений не было.
О том, чтобы использовать мясо убитого медведя-людоеда, не могло быть и речи, к тому же зверь был настолько тощим, что шкура буквально приросла к костям.
Я измерил тушу. Длина зверя - 267 сантиметров, высота в холке-135, обхват шеи - 100 сантиметров, длина когтей - 12 сантиметров. Шкура была покрыта редким длинным волосом черного цвета. Толщина кожи достигала одного сантиметра.
Отделив голову и одну переднюю лапу с когтями, похожими на крючья, я положил их в рюкзак, чтобы затем в избушке выварить их и очистить кости от мускулов и сухожилий. Громадный череп я хотел подарить зоологическому музею, а когти оставить себе на память.
Софронов слышал наши выстрелы и уже беспокоился, не случилось ли с нами несчастья?
Мы рассказали ему обо всем. Оставаться далее в избушке со столь печальной славой было тяжело, и мы решили продолжить поиски других промысловиков.
- Ай-яй-яй! Сердитый хозяин тайги был,- говорил Софронов, помогая мне очищать череп медведя.- Хорошо, что убили, а то мог еще какого охотника задавить, оленей всех покушать!
ПЕРВЫЙ СОБОЛЬ
С утра Софронов побежал за оленями, а мы пока собрали свое снаряжение и уложили в сумки. Вскоре олени были пригнаны, обрубки, привешенные на шею, не позволяли им далеко уйти. Надо сказать, что Софронов, несмотря на свои годы, был очень легкий на ногу. Ему не составляло труда идти в гору, он не замечал разницы между подъемом и спуском, ни разу я не видел у него и следа одышки. Что же касается чащи, через которую мы с Авдеевым с трудом пробирались, что называется ломились через нее, так он там нырял под валежины, юркий и по-юношески гибкий, и угнаться за ним было нелегко. К тому же он не носил тяжелой и неуклюжей теплой одежды. Летом и осенью на нем был легкий пиджачок, а зимой оленья короткая куртка, на мой взгляд совсем холодная.
Живя всю жизнь на севере, Софронов не был избалован теплом, как я, южанин по рождению; постоянные ночевки под открытым небом сделали его нечувствительным к переменам температуры, и он не знал простудных заболеваний. Была бы только еда, а тогда, он всегда бывал деятелен, энергичен, горяч в работе и не терпел медлительности и долгой раскачки.
Мы быстро вынесли вьюки, перекинули их на спины оленям, затянули сыромятными ремнями и, подперев колом дверь зимовья, тронулись в путь.
Промысловик, живший до нас в этом зимовье, не мог охотиться в одиночку, где-нибудь поблизости должны были быть его односельчане, может быть члены одной охоничьей бригады. Где-то наш путь, наверняка, выйдет на их следы.
Держалась морозная безветренная погода. Лес стоял притихший, замерзший, с тяжелыми снежными пластами на ветвях елей. Декабрьское солнце что-то задержалось за сопками хребта и, окутанное морозным радужным туманом, еле-еле к полудню приподнялось над вершинами высоких елей и тут же, обессилев, стало клониться к закату. Стояла такая тишина, что слышно было, как сапают, хватая воздух на ходу, усталые олени.
Собаки почуяли и погнали белку. Та резво взлетела на дерево, и за ней, расстилаясь сверкающей прозрачной тканью, легкой, как дым, посыпались сухие искорки инея. Розовеют сопки, окутанный туманом лес сливается в ровную серую массу, и сумрак постепенно расползается по чаще. Близится вечер, и голубое блеклое небо начало окрашиваться в закатные тона.
Мы вышли на следы двух промысловиков. Широкие лыжни, припорошенные пушистым инеем, привели нас к бревенчатому зимовью. На крыше, как в сказочной картине, лежал толстый ровный пласт снега. Из отверстия, где находилась засыпанная снегом труба, едва заметно вился парок. Однако дверь была подперта колом. Обрадованные, мы вошли в теплое зимовье. В тайге не принято ожидать за порогом разрешения хозяев. Там рады появлению каждого хорошего человека, и никто не откажет в гостеприимстве, да еще в глухих местах.
На печке стоял котелок с теплой водой; значит, хозяева здесь ночевали. К полуночи громко залаяли собаки. Мы вышли из зимовья, встретили вернувшихся промысловиков и извинились, что заняли без спросу их жилье.
Это были молодые русские парни. Они хорошо знали погибшего охотника и взволнованно расспрашивали об обстоятельствах его гибели. Рассчитывая на их приход, мы оставили им ужин и сами оказались в положении гостеприимных хозяев.
За чаем мы расспрашивали об угодьях, в которых они охотились; оказалось, что они уже третий год промышляли в одном месте.
Основным объектом охоты была белка, небольшой доход давали горностай, лисица, колонок, росомаха, кабарга. Охотились они и на мясного зверя - медведя, сохатого, оленя, но не специально, а только в тех случаях, когда была необходимость в мясе или зверь сам выходил на них…
- А не встречали следов соболя?
Охотники переглянулись между собой, недоуменно пожав плечами:
- Такого зверя не приходилось видеть,- ответил один из них.- Говорят старики-эвенки, что раньше, еще до революции, водился здесь соболь, но то давно было. Самим бы когда его поглядеть, а то рассказывают про него много…
Я достал карту, охотники быстро разобрались в ней и стали рассказывать, где и когда они бывали. Выходило, что вблизи искать соболя было бесполезно, а судя по тому, как они объясняли, где какие тропы, зимовья, ключи,- местность им была хорошо знакома.
- Не видели следов соболя,- ответили они решительно, когда узнали приметы этого зверька и об отличии его следа от колонкового.- Нет, и искать здесь зря будете!..
После этого сообщения я решил посоветоваться со своими проводниками, как быть, что делать дальше?
Авдеев не хотел ввязываться вторично в спор с Софроновым и махнул рукой:
- Нечего искать то, чего здесь нет. Пусть Софронов ведет куда знает, чтоб не говорили потом, что я вас с пути сбил…
- Эти охотники ничего не знают,- загорячился сразу Софронов.- Молодые, глаза есть, а посмотреть не могут; далеко не ходили, поэтому так говорят. Искать надо на большой сопке, в верховье Уньи идти. Там соболь обязательно будет, только хорошо искать надо!..
- Унья так Унья,- сказал Авдеев.- Куда скажешь, туда и пойдем, чтоб не говорили потом…
Поскольку час был поздний, усталые хозяева уже спали на нарах, мы без лишних споров решили сами обследовать вершины Унья-Бом и уже если и там не окажется следов соболя, перевалить на Селемджу.
У промысловиков оказались две нарты, которые пока им были не нужны. С оленьими упряжками мы могли бы двигаться много быстрее. Когда торг состоялся, мы погрузили свое снаряжение на нарты, увязали и бодро двинулись в путь.
На передней нарте ехал Софронов, на второй я с Авдеевым.
В зимние месяцы в тайге стоит устойчивая ясная погода. Спиртовый столбик небольшого походного градусника показывал ниже тридцати градусов по Цельсию. Наша теплая меховая одежда надежно предохраняла нас от холода, и только незащищенное лицо мерзло. То и дело пощипывало нос, щеки, и я начинал усиленно растирать их или, прикрыв рукавицей, отогревал их дыханием.
У Авдеева усы, борода и ресницы покрылись налетом инея и он походил на рождественского деда-мороза, везущего подарки детям. Не хватало для полного сходства только зайцев, бегущих в одной упряжке с оленями, да белок на нартах. Впрочем, белки в такой сильный мороз предпочитали отсиживаться в своих гнездах-гайнах, а не скакать по елкам.
Дышать полной грудью было трудно, мороз перехватывал дыхание и ничего не стоило обморозить или сильно застудить верхушки легких, поэтому сама природа подсказывала мне ехать, уткнув нос в меховой воротник.
Олени бежали резво, ловко лавируя между деревьями. Им не нужно торной дороги, даже в мягком снегу они не проваливались выше колен и легко тянули длинные, узкие сани-нарты с высокими копыльями, которые обеспечивают хорошую проходимость по снегу и по неровной бугристой местности.
Несмотря на то, что в декабре светлого времени было мало, мы легко одолели километров двадцать. Когда стало темнеть, поставили палатку и отпустили оленей пастись. Мороз перехватил все ручьи и речки, вода в них промерзла до дна, и найти ее было невозможно. Пришлось набивать котелки снегом и ставить их на печку. Вода отдавала горечью, но другого выхода не было.
День за днем мы продвигались к вершине Уньи. По пути обследовали ельники и заросли стлаников, находили следы пищух - зверьков, напоминающих суслика, которые обычно обитают в россыпях сопок и летом делают себе запасы сена под камнями. Каждый зверек за лето по травинке, по листику собирает два-три килограмма сена, просушивает его под камнями, иногда даже делает повторную просушку. Таких «кладовок» у него насчитывается две-три, поэтому пищуху иногда называют сеноставцем. Кроме сеноставок, попадались следы горностаев - маленьких белоснежных зверьков, гибких и быстрых, как молния, способных пролезть везде, где пролезет мышь. Горностай - конкурент соболя по корму, и, может быть, потому, что следов соболя не находилось, их было здесь достаточно.
Несколько дней, очень морозных и трудных, было потрачено нами на поиски соболя, но результатов никаких. Неудача преследует меня. Я начал терять надежду увидеть живого соболя.
Авдеев убеждал бросить поиски в этих местах и предлагал обследовать другой хребет.
Софронов всячески противился и предлагал подняться еще выше, в горы. Он мотивировал это тем, что там урожай орехов кедрового стланика, и соболь мог уйти к самой гольцовой зоне. Я решил попытать счастья - обследовать заросли кедрового стланика. Утром мы с Авдеевым поднялись к вершинам сопок и пошли крутыми склонами, а Софронов ушел по ключу, как всегда - один. Почти у самого перевала мы обнаружили цепочку следов - отпечатки круглых широких лап. След был не очень свежий, зверек прошел давно, но радости моей не было предела. Мне все казалось, что след, как мираж, исчезает.
- А может, это колонок наследил? - спрашивал я Авдеева.
- Да ты, что, паря, будто я колонка не знаю. Соболь, он! Слава богу, в свое время походил за ним, знаю!
Следов было много. Они шли в разных направлениях, и Авдеев, разглядывая их, восклицал:
- Наконец-то! Подвезло и нам!
- Как думаешь, удастся нам его взять?
- Подожди. Тут такое дело, что никогда вперед загадывать не следует - это первое…- Авдеев, как большинство старых охотников, был суеверен и боялся спугнуть удачу неосторожным словом.
Долго кружили мы по ночным нарыскам, прежде чем нашли совсем свежий след, по которому и устремились с твердым намерением настичь маленького хищника. Соболя привлекали все пустоты под снегом, он часто уходил под кроны стлаников, придавленных толщей снега. В россыпях он шел между камнями и, пробравшись лабиринтом пустот, снова выходил наружу. Так он искал пищух.
Зверек был очень быстрый, неутомимый и за ночь избегал большое расстояние. Не раз он уходил склоном почти в долину, заставляя нас то спускаться, то снова взбираться на сопку. Для него везде была дорога: и под снегом и между камней.
Потеряв след, собака начинала кружить и иногда находила новый след, но уже в полсотни метров дальше. Старания собаки избавляли нас от лишней беготни и к исходу дня мы добрались до убежища соболя, где он устроился на дневной отдых. Это была норка под корнями старой лиственицы. Убедившись, что выхода следа нигде поблизости нет, мы скинули мешки с усталых плеч.
- Попьем чайку, а потом начнем «выживать» хозяина из норы,- предложил Авдеев.
Вспыхнули тонкие сухие веточки, наломанные с елки вместе с висящими на них лишайниками, язычок пламени резво пробежал по ним, лизнул закопченное днище котелка, набитого снегом. Подкрепившись чаем, мы принялись за дело. Место, где спрятался зверек, обтянули тонкой сеткой - обметом, которую подвесили на воткнутых в снег колышках. Низ сетки притоптали ногами в снег так, чтобы зверек, выскочив, не юркнул под нее. Перескочить через сеть он тоже не мог, так как обычно не делал высоких прыжков, а старался уйти низом. В этот круг зашли мы с Авдеевым и завели собаку Кирьку. В кругу находились три дерева, стволы которых пришлось тщательно очистить от коры, чтобы соболь не заскочил на них и не ушел по ветвям, как белка.
На всякий случай мы приготовили и «рукавчик» - сетку, напоминающую устройством вершу для ловли рыбы; только колечки, на которых была она натянута, совсем маленькие, а вся длина ее достигала полутора метров. Ставят «рукавчики» у норы так, чтобы выскочивший зверек попадал в эту вершу, где его легче было схватить. Длинным прутом Авдеев начал исследовать нору. Собака нетерпеливо поскуливала и тоже лезла головой в нору, с шумом втягивала в себя воздух, показывая, что зверь находится здесь. Однако соболь не подавал никаких признаков жизни, и лишь когда Авдеев зажег кусочек березовой коры и сунул его в нору, там что-то зашуршало.
В одно мгновение соболь черной птицей вылетел из норы, и не успели мы опомниться, как он вскочил на дерево, но, не удержавшись на лишенном коры гладком стволе, спрыгнул и прыжками пустился наутек. Ударившись в сеть, он запутался в ней и тут же был схвачен собакой, которая единственная оказалась проворной и будто только ждала, чтобы зверек попал ей в зубы. Пока мы подбежали к лайке, соболь был уже мертв и лежал на снегу, оскалив маленькие, но острые, как шильца, белые зубки.
Кирька помахивал хвостом и умиленно смотрел на нас, будто спрашивая: «правильно ли я сделал?» Пришлось потрепать его по загривку и одобрить: «Молодец, Кирька!», хотя было бы куда приятней, если бы он держал в зубах живого зверька. Но тут приходилось считаться с азартом собаки, которой, пока мы раздумывали и приходили в себя от неожиданности, надо было успеть настичь проворного хищника. Не будь сетки, едва ли под силу это даже собаке. Может быть, поэтому собака играет такую важную роль на соболиной охоте - звероловы ценят ее наравне с коровой, лошадью и, не смущаясь, спрашивают за нее такую же, а то и большую цену. Ценят собаку-соболятницу за то, что ни на какого другого зверя она не обратит внимания, когда идет по соболиному следу.
Высокая цена собак-соболятниц не мешает хозяевам совершенно не обращать летом на них внимания, и собаки питаются чем придется. Вблизи эвенкийской деревни, где не встретишь ни птицы, ни мелкого зверя, собаки промышляют самостоятельно, убегая из деревни порой на километры.
С большим волнением взял я в руки маленькое пушистое тельце, только что бывшее полным стремительности, гибкости, силы. Даже мертвый соболь прекрасен в густой пушистой шубке темно-коричневого цвета, только чуть светлеющей к голове. Мех искрился. Редкие белые волоски в нем - «сединка», как говорят охотники,- создавали впечатление, будто волос пересыпан снежинками. Густой упругий волос на лапках зверя делал их толстыми. Среди волоса прятались белые острые коготки. В соболе едва было с килограмм весу, но мы были горды своим трофеем так, будто по крайней мере убили слона с драгоценными клыками. Мех был такой нежный, такой шелковистый, как лебяжий пух, которого почти не ощущаешь телом, и руки сами непроизвольно тянулись ласкать его. Поглаживая, я прижался к нему лицом, нежно дышал на него и никак не мог насмотреться на переливчатую игру, волнами пробегающую по шкурке.
Соболь! Черная жемчужина суровой сибирской тайги? Даже не верилось, что в местах с такими злыми морозами, где лишь сеноставкам удается собирать себе корм по травинкам, может жить такая прелесть!
Сколько легенд связано с этим зверьком, сколько трагедий и несчастий произошло из-за его дорогой шкурки! Русских промышленников и казаков в XVII веке вела на Восток надежда добыть побольше драгоценных собольих шкурок, если не самим, так отобрать, выменять, обманом выманить их у местных охотников.
Ермак подарил Ивану Грозному вязку сибирских соболей, очень понравившихся царю. Соболь, которого я держал в руках, был красивее сибирского, очень темный, а поэтому наиболее ценный. Сто лет назад за него можно было выменять сорок лошадей, построить просторный дом.
Соболем украшали царскую одежду, он был предметом царских подарков, ибо нет в мире меха прекрасней соболиного!
В наше время соболь является предметом экспорта, одной из его доходных статей. Соболь-это золотая валюта. Именно поэтому, чтобы решить проблему увеличения численности соболей, мы уже несколько месяцев скитаемся по тайге, подвергаясь лишениям. Надо прямо сказать, что только мужество Авдеева да выносливость Софронова, прирожденных таежников, спасли меня от гибели и дали мне силу продолжать поиски. Без них я бы ничего не сделал!
Зверек еще не успел окоченеть и казался уснувшим. Бережно завернув добычу в чистую тряпицу, я положил его в мешок. Авдеев тем временем собрал обмет, и мы двинулись в обратный путь. Удача прибавила силы и, несмотря на то, что мы столько за день набегались, во всем теле ощущалась приятная легкость. Мне хотелось быстрей порадовать первой добычей старика Софронова, ведь он так много сделал! Наверное, если бы не лютый мороз, мы бы возвращались в палатку с песнями.
- Скажите, Евстигней Матвеевич,- спросил я Авдеева,- почему вы бросили охоту на соболя?
- Первое дело - мало его стало,- ответил он,- а потом соболь - это вроде золота: повезло - богат, нет - значит зубы на полку! А тут семья появилась, требовался верный заработок. Подумал я, подумал, и бросил эту охоту. Конечно, при случае я соболем не брезговал, увижу след - все бросишь, идешь за ним. Другой раз и без снасти идешь, а все равно… А в общем рискованное это дело. Другой соболя добудет, так его самого подкараулят и жизни лишат: на моей памяти в прошлом не раз такое случалось.
В палатке Софронова еще не было. Вернулся он много позднее нас, не найдя ни одного следа. Бросив беглый взгляд на подвешенную для просушки соболиную шкурку, он, к моему удивлению, не обрадовался, а, наоборот, помрачнел.
Я отнес это за счет зависти старого охотника, которому во всем хотелось быть первым, а тут его обошли.
Ужинали молча.
БЕДА НЕ ПРИХОДИТ В ОДИНОЧКУ
Один соболь нас никак не устраивал. Нужно было найти скопление соболей, которые позволили бы начать массовый их отлов для расселения по другим местам. Поэтому весь следующий день был посвящен поискам новых следов. Вечером мы вернулись усталые и разочарованные. Ни одного свежего следа, хотя исходили не менее, а, пожалуй, вдвое больше вчерашнего.
- Куда же соболи делись? - недоуменно спросил я Авдеева.
- А их было, видно, не более двух,- ответил он.- Одного мы вчера взяли, а другой, наверное, поел, да и залег где-нибудь в россыпи. В мороз они не очень охочи до беготни, только голод их и гонит, а то бы из гнезда не вылезли. Зверек вроде бы с теплой шубкой и к холоду должен быть привычный, а морозу не выносит. Случалось, попадет лапкой в капкан, особого ущерба нет, а глядишь к утру околеет. Замерзает на морозе, значит. Если, как говорите, придется живьем их ловить, надо такую ловушку придумать, чтобы там ему защита от мороза была… Я давеча приглядывался к следам, они все одного размера были. Вот я и думаю, что их тут пара жила. Когда корму мало, так и один столько наследит, что за день не обойдешь. Голод не тетка, гонит…
Целую неделю безрезультатно мы искали новых следов. Все не верилось, что тут могла быть одна пара зверьков. Устав от поисков, решили переменить место лагеря. Одолев перевал, вышли в долину безыменной речушки и определили, что она течет уже не в Зею, а в Селемджу.
Здесь к нам пришла большая беда: ночью на наших оленей напали волки. Трех оленей они растерзали на месте. От бедных животных мы нашли только рога, клочья шерсти да кровавую утолоку на снегу. Даже костей не нашли, видимо, волки их растащили по сторонам. Остатков четвертого оленя не находилось, и Софронов предположил, что олень спасся.
Он до самого вечера искал его след. Испуганное животное умчалось за десяток километров. Вначале один из волков пытался его преследовать, но потом вернулся, соблазненный добычей, которую растаскивала стая. Олень был так напуган, что не подпускал к себе даже человека, и Софронову стоило больших трудов его поймать, и то с помощью кожаного аркана, который он издали набросил ему на рога. Стояла морозная ночь, когда Софронов, иззябший и голодный, вернулся в лагерь с оленем на поводу.
Положение создалось затруднительное. Один олень мог едва-едва тащить лишь наше снаряжение - палатку, шкуры, запас продуктов и боеприпасов. Нам оставалось идти пешком, и скорость нашего передвижения снижалась вчетверо против той, с какой мы ехали на нартах.
Софронов торопил и настаивал скорее покидать «волчью падь»,- как он назвал долину неизвестной реки. Волки могли появиться и загрызть последнего оленя.
Теперь мы держали путь к ближайшему колхозу на Селемдже, чтобы там пополнить свой транспорт новыми оленями.
Впереди шел Софронов на лыжах и вел в поводу оленя, тащившего за собой нарты с грузом. По их следу шли мы с Авдеевым и вместе с собаками тащили вторую нарту с более легким, не уместившимся на первой нарте снаряжением. Иначе мы могли замучить одного оленя.
Безмолвие царило в тайге. Соболиных следов не попадалось, хотя мы и осматривали по пути все места, где мог обитать этот хищник. Надежда найти на Усть-Боме скопление этих драгоценных зверьков растаяла, как льдинка у костра, и мы брели за нартой понурые и молчаливые.
- Не везет нам, паря,- вздыхал Авдеев.- Зря тайгу топчем. За четыре месяца одного соболя… Курам на смех!
Софронов не принимал участия в наших разговорах даже когда останавливались на отдых: то ли уставал, то ли занят был какими-то своими мыслями. Может быть, скучал по семье. Причин было много, и я не подходил к нему с расспросами.
Двигаясь как-то крутым берегом над речкой, он остановился и позвал нас. Мы, бросив нарту, подошли. От берега речки в лес шла четкая парная цепочка соболиных следов.
- Привал! - скомандовал повеселевший Авдеев.
Поставили палатку. Софронов выразил желание пойти за соболем, поскольку он, а не мы, нашел след. С ним пошел Авдеев, а я остался в палатке. Пора было привести в порядок свои записи.
В середине дня я вышел из палатки набить котелок снегом и нарубить дров. Снег сверкал так ярко, что я зажмурил глаза. Мороз был небольшой, градусов двадцать пять, стояла тишина и голубая зимняя дымка окутывала лес и ближние сопки.
Наконец, после темной палатки я осмотрелся. Мое внимание привлекли две черные точки - птицы, сидевшие на лиственнице почти рядом.
«Может глухари,- подумал я.- Неплохо бы подстрелить одного к ужину!..»
С этой мыслью я быстро юркнул в палатку, оделся, схватил карабин и выскочил обратно. В светлой лиственничной тайге трудно подойти к птицам незаметно. Как я ни крался к ним, они меня увидели и перелетели на следующее дерево. Я снова последовал за ними. Так повторялось несколько раз, пока они не уселись на дерево, вблизи которого находился • ельничек. Я быстро обежал вокруг, подкрался с другой стороны к птицам на выстрел и, тщательно прицелившись, сбил более крупного глухаря-петуха. Второй сразу улетел, преследовать его было бесполезно, поэтому, забросив убитого петуха за плечо, я направился к палатке, от которой незаметно удалился на приличное расстояние. Вдруг я увидел столб темного дыма, поднявшегося над лесом, над тем местом, где стояла палатка.
«Чтобы это могло быть? - подумал я.- Неужели вернулись мои проводники? Наверное, убили лося или согжоя и теперь опаливают голову над костром. Значит, вечером будем есть холодец из сохатиной губы. А может, жарят печенку… Ну и я их порадую. Суп из глухаря тоже неплохая штука!..»
С этими мыслями, очень довольный, я не спеша направился к палатке. Когда до нее оставалось не более двухсот метров, я увидел, что ни людей, ни палатки нет, а дымится черное большое пятно на снегу.
«Палатка сгорела!?» - как громом поразило меня.
Посреди черной бесформенной дымящейся кучи одиноко стояла железная печка с наклонившейся трубой.
Все пропало! Схватив остол, воткнутый в снег около нарты, я принялся разгребать и разбрасывать черные лохмотья сгоревшей одежды, в надежде спасти то, что еще уцелело. В обуглившихся остатках удалось найти жестяную коробку с сахаром, соль, жалкие крохи продовольствия, сильно отдающие дымом. Все остальное сгорело. Сгорели меха, сгорела и единственная шкурка соболя, сгорели наши боеприпасы. Как злая насмешка над нашим бедственным положением, невредимой стояла железная печка, виновница пожара, уставившись жерлом трубы в бледно-голубое небо. Я зло со всего размаху толкнул ее ногой и она с громом откатилась в снег. «Что теперь делать? Все пропало!..» Не знаю сколько я просидел в унынии над пожарищем, когда послышались голоса моих товарищей, возвращающихся с охоты. Кирька ткнулся холодным носом в мои руки. Я машинально погладил его по голове.
Подойдя к пепелищу, они остолбенели.
- Что такое! Как случилось? - воскликнул Авдеев.
- Сгорело все,- упавшим голосом ответил я.- Пока ходил за глухарем, видно от искры загорелась палатка. Что теперь делать, сам не знаю!
- Пропадем теперь в тайге,- безнадежно махнул рукой Софронов.- Мороз, где ночевать будем? Палатки нет, продукты сгорели, соболя, однако, так и не найдем. Ай, совсем плохо дело. Надо домой ходить!
- Пошто паникуешь, на парня тоску нагоняешь? - сурово остановил его Авдеев.- Как-нибудь, в лесу не без дров, переночуем. Надью делать будем на ночь, а днем на ходу не замерзнем. Ты, паря, голову-то шибко не опускай. Опло-шину допустил, что оставил печь без присмотру, ну, это дело поправимое. Достанем и палатку и припас какой нужно. Соболишку-то мы отмахнули, правда, не такой, как первый, можно сказать завалященький против первого, но за него и палатку, и оленей, и кое-какого припасу добудем. Не горюй!
Авдеева никакие испытания не могли повергнуть в уныние. Наоборот, сейчас, когда стряслась беда, он был весел, добр, деловит.
- Худо, конечно, то, что здесь соболя совсем мало. Раз-два, да и обчелся. Для твоей задачи места здесь совсем неподходящие. Погляди-ка в свою бумагу (так он называл мою карту), много ли нам до ближнего селения?
Я развернул карту. Судя по ней, до селения Стойба было около ста двадцати пяти километров. Поскольку мы не могли лететь прямо, как птицы, пришлось увеличить расстояние еще на четверть. Несколько дней пути без палатки, при январских злых морозах! Иного выхода, как только не теряя времени идти туда, не было.
Вблизи нашего лагеря не было сухой лесины, и нам пришлось коротать ночь у обычного костра. Ох и длинной же она мне показалась! Я совершенно не мог сомкнуть глаз. Все время мерзла спина. Стоило отвернуться от костра, как начинало мерзнуть лицо и стынуть грудь. Авдеев, задумавшись, молча сидел у огня и изредка пошевеливал дрова. Темная ночь давила на нас могильным холодом, мороз сковывал не только наши тела, но и огонь, у которого, несмотря на обилие пищи, едва-едва хватало сил пробиваться между поленьями. Дым не мог подняться кверху и тяжело рыжим пластом стлался над нашими головами. Изредка к огню подходил олень, и тогда свет выхватывал из тьмы его рогатую голову с выпуклыми черными глазами.
Несмотря на жалобы, Софронов всю ночь проспал. Когда у него застывал один бок, он поворачивался, что-то ворчал на своем эвенкийском языке и снова засыпал.
Все были рады, когда окончилась эта тяжелая ночь. Сварив в котелке злополучного глухаря, мы подкрепились немного едой и чаем и двинулись в путь. Шли по глубокому снегу и за день едва одолели не более пятнадцати километров. Дни стояли короткие, а устраиваться на ночлег надо было засветло, чтобы не мерзнуть больше, как в прошлую ночь.
От поисков соболей пришлось отказаться, поскольку речь шла о спасении жизни.
Облюбовав на ходу сухую лиственницу, Авдеев объявил:
- Будем ночевать. Надья будет добрая! - и он ласково похлопал по гладкой бескорой лесине, ровной, как телеграфный столб. Наверное она засохла много лет назад и за это время лишилась коры и почти всех сучьев, стала твердая, словно окостеневшая. При ударе топором дерево звенело, вздрагивало, но поддавалось с трудом и лишь подрубленное с двух сторон стало клониться и потом рухнуло на землю, взметнув сухой сыпучий снег.
Свалив этот ровный, без сучков и задоринок двадцатиметровый хлыст (столб), сухой и смолистый, Авдеев разрубил его на два бревна. Одно мы положили на землю, пристроив его между двух близко растущих деревьев, другое вкатили на него. Задача состояла в том, чтобы верхнее бревно не касалось нижнего, а как бы висело над ним. Это достигалось тем, что . концы бревен защемляли один между двумя деревьями, другой между кольями, вбитыми в мерзлый мох. В образовавшуюся между бревнами щель укладывали сухие щепки, бересту и поджигали. Бревна загорались, но пламя не охватывало их вокруг, а заполняло голубовато-желтой лентой пространство между ними.
Вокруг надьи расчистили снег, окружив ее, во избежание сквозняка, двумя снежными валами. Настелив под бок еловых веток, мы положили на них свою верхнюю меховую одежду и вытянулись возле огня вдоль надьи. Один бок грело пламя, другой - отраженное от воткнутых в снежную стену веток тепло! Скоро нас стало так пригревать, что Авдеев разделся до нижнего белья и посоветовал мне сделать то же самое. Софронов давно лежал раздевшись и сушил портянки, развесив их возле огня.
- Ты меня слушай,- не торопясь говорил Авдеев,- я, слава богу, по тайге не первый год хаживаю. Возле надьи всегда надо раздеваться. Первым делом так безопаснее, в случае искра, так белье прожжет и ты ее сразу учуешь, а в верхней одежде можно обгореть, голым останешься. Второе - теплей так. Встанешь от надьи утром, оденешься, будто из теплой хаты вышел, бодрый, свежий, отдохнувший, а когда в шубе спишь - только от огня, а тебя уже трясет…
Надья - простое по устройству сооружение-привела меня в восторг: я лежал, смотрел в морозное звездное небо и чувствовал себя, как на печке. Измученный прошлой бессонной ночью, я крепко уснул и спал до самого утра. Сквозь сон я слышал, как одевался рано утром Авдеев и поправлял надью, постукивая топором, как залаяла собака - наверное, подошел к огню олень.
Отдохнув за ночь, мы сделали днем большой переход. Мы торопились, продовольствие было на исходе. Каждый нес за собой в мешке весь свой запас. Надолго ли его хватит? Зимой убить в тайге зверя не так просто, особенно в светлой лиственничной тайге. Правда, на худой конец у нас имелся один олень, но если его зарезать и съесть, кто тогда будет тащить нарту?
Дни уходят, нанизываясь на цепочку времени, как бусы на нитку. Морозы стоят крепкие, лица у нас обветрели, почернели от дыма и загара. Я оброс первой курчавой бородкой, превратился в таежного бродягу, какие выходили в стародавние времена из тайги после долгих скитаний в поисках золота или драгоценной пушнины.
Мне все еще жаль погубленную чудесную шкурку первого черного соболя и порой начинает казаться, что такого соболя и не было, что все это, как мираж, сновидение, от которого я никак не могу пробудиться. Мое московское житье теперь так далеко от меня, что даже не верится, жил ли я там когда-то, или, наоборот, все эти искания по тайге - сон, и стоит только открыть глаза…
Мороз за тридцать градусов покалывает щеки, нос, знобит тело, заставляет поворачиваться. Это не сон - явь, и я, как о недосягаемом счастье, мечтаю о теплой хате.
Все было бы ничего, не страшны трудности, мою душу точит беспокойство - время идет, а где соболи? Как я покажусь на глаза Скалову, Мамонову, что им отвечу?..
По нашим расчетам, до селения Стойба остался один переход. Настроение приподнятое, возбужденное, и мы долго не укладываемся спать.
Ночь стоит безлунная и темная. Но вот, будто в предвидении большого города, к которому мчит тебя скорый поезд, небо на севере начало светлеть. Словно свет далекого пожара, оно напитывается багрянцем и разгорается все сильней и сильней. Яркость красок нарастает с каждой минутой. Под красным небом у самого горизонта появилось светлое пятно. Его золотистые лучи рассыпаются веером и пронизывают багряное небо. Северное сияние! Оно не похоже на те, которые мне приходилось видеть на картинках в книжках, но все равно захватывает своей чарующей красотой. В ожидании новых красок мы все трое стоим и следим за переливами света, но золотистые лучи начинают постепенно меркнуть, гаснет и красный свет, и сквозь него искорками проглянули крупные звезды. Мороз знает свое дело: щиплет за нос, уши, и мы спасаемся под защиту разгоревшейся надьи, где светло, тепло, спокойно…
С великой радостью я ввалился в теплую деревянную избу, с порога пахнувшего на меня кислой капустой, дегтем, свежеиспеченным хлебом.
- Здравствуйте! Примите нас до хаты, добрые люди!
- Проходите, пожалуйста!
Председатель колхоза - эвенк принял нас радушно. В течение двух дней я отлеживался на лавке, покрытой косматой медвежьей шкурой. В эти дни не жалели дров и печь всегда жарко топилась, а чай не сходил со стола, как и мясо, и рыба - все, что дает тайга.
Председатель колхоза послал человека за оленями для нас, и пока ожидали их, мы расспрашивали стариков о соболях, но те не могли сказать ничего определенного.
- Раньше было много, теперь давно на охоту не ходим. Однако и сейчас должен быть! - вот и все, что нам удалось узнать. Все охотники были на пастбищах и промысле, а председатель больше интересовался оленями, белкой, так как колхоз был оленеводческий и охотничий промысел служил только подспорьем основному занятию. К тому же запрет на соболя в течение последних лет снизил среди эвенков интерес к этому зверьку.
Короче говоря, ничего вразумительного я узнать не мог и обратился за советом к своим спутникам.
- На Джагды надо ходить,- заявил Софронов.- Там гора высокая, крутая, место совсем глухое. Будем еще там искать, если не будет, ты в город пойдешь, мы домой - в Чумикан.
- Сначала на хребет Турана надо сходить,- не согласился Авдеев.- Ведь говорят старики, что раньше там соболь был. Может быть, там встретим промысловиков, расспросим. Должны люди знать, где еще соболь водится. Оттуда не поздно будет и на Джагды податься.
Пришлось согласиться с доводами Авдеева, которые были мне больше по душе. К тому же и жители говорили - хребет Турана богат разным зверем, там леса густые.
Купив в колхозе оленей, палатку и кое-что из припасов, мы, вновь экипированные, отправились на хребет Турана - водораздел между реками Селемджа и Бурея.
Нас провожала целая ватага ребятишек, женщин а стариков - соседи председателя колхоза, у которого мы остановились.
Среди провожающих была восемнадцатилетняя девушка с тяжелой иссиня-черной косой и блестящими, как вишенки, глазами - дочь председателя Нюра.
Я стоял возле нарты с уложенным на нее снаряжением, когда она подошла ко мне. Улыбаясь и показывая белые, чистые, как перламутр, зубы, смуглолицая и разрумянившаяся, с непокрытой головой, она, смущаясь и краснея, сказала:
- Счастливого пути!
- До свидания, Нюра! - ответил я, пожимая ее маленькую, но сильную руку.
Софронов тронул оленей, крикнул: - Э-гей!
Пора и мне, а на память невольно пришли давние, где-то читанные или слышанные стихи:\
…«Оставаться бы здесь до конца, навсегда. И водить тонконогих оленей стада. Серебристую нельму ловить Да на лыжах по насту скользить!..»Взмахнув рукой на прощание, я сел на нарту и пустился догонять своих товарищей.
САМОСТРЕЛ
Солнце опустилось за зубчатую кромку островерхих лиственниц, погасло пламеневшее небо, а мы все продолжали ехать по заснеженной девственной тайге. Тихая морозная ночь. Серебристой краюшкой повисла в светло-голубоватом небе луна, олени с нартами, как тени, мелькали между деревьями. За нартами стлался «дымящийся» след поднятого копытами сухого снега. Поблескивали полоски, оставляемые полозьями. Налетая на мерзлые бугры мха, нарты подпрыгивали, скрипели, и тогда надо было удерживать равновесие ударом выставленной ноги.
Проехав километров двадцать, мы остановились. Поставили новую палатку, которую приобрели в колхозе, в ней было уютно и просторно.
В предгорьях хребта Турана, куда доехали на четвертый день, нас встретили густые ельники по ключам, буреломы, непроходимые заслоны молодняка.
Такие места были пригодны для жизни соболей, и мы решили обследовать несколько горных ключей. Поиски вели, как и прежде: я с Авдеевым, а Софронов в одиночку.
Вечером Софронов сообщил, что нашел много соболиных следов, но свежих среди них нет.
- Только стоит ли искать там зверя, охотник до нас ходил, след оставил!
- А зачем ему там ходить? Ведь охота на соболей запрещена, все разно никто у него шкурку не примет,- недоумевал я.
- Может быть, это браконьер,- высказал предположение Авдеев.- Знавал я ловкачей. Они, что ни добудут, всегда сумеют закон обойти и сплавить на сторону, хоть шкурку, хоть панты. В городах есть еще такой народ, покупают!
- Посмотрим… Возможно, это промысловик ходил за другим зверем и след его случайно по этим местам пришелся,- сказал я
Утром я решил вместе с Софроновым пойти посмотреть открытые им соболиные места.
Запушенный инеем старый ельник дремал в морозной дымке, не потревоженный ни единым дыханием ветерка. Тяжелые пласты снега, скопившегося на ветвях, оттягивали их книзу, и деревья выглядели как богатыри, закованные в снежные латы.
Солнце, поднявшееся из-за хребта, осветило вершины деревьев. Они засверкали тысячами алмазных искр, и голубые тени, растворившись в морозной дымке, окрасили их в свой цвет. Тайга заблистала изумительной чистотой, и ели стояли как невесты в подвенечных платьях.
Изредка нам попадались рябчики, но сидели они не на деревьях, а в снежных лунках. Пушистый снег будто взрывался, когда они с шумом вырывались из-под лыж, потревоженные нашим приближением.
Рассевшись по деревьям, доверчивые птицы с любопытством разглядывали нас и, только когда мы подходили близко, улетали. Своей окраской они сливались с цветом коры лиственницы, и когда приникали к суку, становились почти незаметными. Можно было пройти рядом и не заметить, если бы они не выдавали себя хлопаньем крыльев, неожиданно взлетая с дерева и пересаживаясь на соседнее…
На снегу были видны отпечатки соболиных лап. Цепочки следов шли в разных направлениях; ни одна валежина, ни одна отдушина в снегу не оставлена без внимания. Бывает, что один-два зверька в поисках пищи наследят столько, что можно принять их за скопление соболей. Может быть и здесь также? Зимние ночи долги, а тайга бедна пищей. Рассматривая отпечатки лап соболя, припорошеные снегом и инеем, Софронов качал головой:
- Ай-яй, совсем свежего следа нет. Куда зверь ушел?
Короток день зимой, да еще в ельниках. Не найдя свежего соболиного следа, решили хотя бы разыскать охотника, след которого видел Софронов. Мы вышли на его лыжню и пошли по ней.
- Будем на его табор ходить! - сказал Софронов и быстро заскользил на своих широких, подбитых камусом лыжах по следу. Я едва поспевал за ним. В юношескую пору я много бегал на лыжах, но то были спортивные лыжи с палками, а здесь-охотничьи.
Софронов, легко и пружинисто бежавший впереди, вдруг с криком повалился в снег на совершенно ровном месте. Не понимая в чем дело, я поспешил к нему на помощь. Поднимая упавшего товарища, я увидел, что у него из ноги торчит тонкая оструганная палочка, вокруг которой штанина начала пропитываться кровью.
- Денгур!..- простонал Софронов, опускаясь на лыжу.
В век цивилизации, огнестрельного оружия здесь еще было в ходу оружие далекого прошлого, о котором я знал по картинкам в книгах.
Денгур - это лук с острой стрелой, имеющей зазубренный железный наконечник, который охотники Севера настораживали на звериных тропах. Пройдет какое-нибудь животное, заденет тонкую нить, протянутую поперек тропы, и спустит натянутый лук со стрелой. В зависимости от того, на какого зверя настраивался денгур - на высокого или низкого, стрелу нацеливают так, чтобы она попадала в убойное место. Раненый зверь пройдет со стрелой некоторое расстояние, потом заляжет и скончается от потери крови. Охотник найдет его по следу, когда пойдет проверять свои ловушки. Судя по размерам стрелы, Софронов налетел на денгур, поставленный на кабаргу.
Миниатюрным самострелом до сих пор еще добывали охотники соболя.
На крупного зверя, вплоть до медведя и сохатого, ставят проволочные петли. Все эти способы охоты запрещенные- браконьерские, но ими еще пользуются в глухих таежных местах. Жертвой денгура оказался и Софронов.
- Пропала моя нога,- сказал он, покачизаясь от боли.- Пропал я теперь в тайге…
Я старался ободрить раненого товарища, успокоить, сказал, что не оставлю в беде.
Сбросив с плеч мешок, я срубил сухую тонкую елку и развел костер. Разогревшийся и вспотевший при ходьбе Софронов мог быстро замерзнуть без огня. Было уже темно. При свете огня я попытался извлечь стрелу из ноги, но как только прикасался руками до древка. Софронов вскрикивал от боли и отталкивал мои руки. Что делать? Вытащить стрелу резким рывком? А что, если она вошла глубоко и своими острыми зазубринами перервет артерию или сухожилие?
Тем более, что я ничего не понимал в медицине и ни разу не сталкивался с ранениями!
Стрела, пробившая унты и штанину, не позволяла оголить ногу.
Оставить стрелу в ноге нельзя, ржавый наконечник может вызвать заражение крови, гангрену, а это в тайге - смерть. Кроме того, стрела мешает идти, даже не позволит мне нести его на спине, ибо будет задевать за ветки.
Софронов скрипел зубами от боли и что-то бормотал, наверное, ругал того охотника, который насторожил денгур.
Я достал бинт, приготовил жгут на случай сильного кровотечения, поставил кипятить воду. Пока делал эти приготовления, обдумывал: что мне предпринять? Стрелу надо было удалить во что бы то ни стало. Вырвать ее решительно, без предупреждения!
Когда я сказал об этом Софронову, он замотал головой:
- Нет, нет, не надо. Пускай пропадет нога!
Тогда я уговорил его, чтобы он позволил мне срезать древко, иначе нельзя забинтовать рану, а наконечник извлекут в больнице. Он согласился. Я попросил его лечь боком, достал охотничий нож и подошел к нему. Ощупывая стрелу, я крепко ухватился за древко у самого основания и резким движением вытащил ее из ноги охотника.
Признаюсь, это был варварский, но единственный правильный способ оказания помощи. Что иное я мог придумать, если вокруг глухая тайга, а я один? Не погибать же человеку только из-за того, что боль подавляла в нем разум!
Нечеловеческий вопль разнесся по заснеженному, застывшему лесу. Словно не было никакого ранения, Софронов вскочил на ноги, посмотрел на меня дикими вымученными от боли глазами.
Только увидев у меня в руках окровавленную стрелу с раздвоенным наконечником, он понял, что самое страшное и трудное миновало, и, придя немного в себя, снова опустился на снег.
Я быстро разул его, снял унты, чулки и, закатав до колена штанину, осмотрел рану. Стрела пробила икру правой ноги. Из черного отверстия текла пузырившаяся кровь. Я перевязал рану и осторожно натянул на ногу чулок и обувь.
- Теперь лежи и не шевелись. Ночевать будем здесь, а завтра увидим что делать дальше. Пойду рубить лапник под бок и таскать дрова.
Сухих деревьев вблизи не оказалось, да и найти в темноте их было трудновато. Пришлось всю ночь, не смыкая глаз, подтаскивать валежник и подбрасывать его в костер. Дрова были сырые, горели плохо, дымили, разбрасывали искры, и надо было все время следить, чтобы не загорелась одежда. Не спал и Софронов. Может быть, его беспокоила нога и вполне вероятно, что он не был уверен и боялся, как бы я его не оставил в тайге.
Утром Софронов попытался подняться, но тут же со стоном опустился на снег.
- Совсем ходить не могу,- пробормотал он.- Пришло время пропадать!
- Что ты! Брось думать об этом. Попьем сейчас чаю и я тебя повезу на лыжах.
Пришлось связать рядом его широкие лыжи. Нож и сыромятный ремешок были у меня под рукой, и с этим делом я справился быстро.
Посадив Софронова на лыжи, я взял на плечи мешки и потащил его к нашему лагерю, находившемуся, по моим расчетам, не далее чем в пятнадцати километрах.
По ровному месту идти было легко, но когда приходилось лезть в гору или спускаться, вот тогда начинались трудности, Софронов скатывался с лыж и зарывался в снег. В таких случаях мне приходилось нести его на себе. Я был уверен, что Авдеев, обеспокоенный нашим долгим отсутствием, вот-вот выйдет по нашему следу навстречу, и тогда вдвоем, на носилках, мы легко донесли бы пострадавшего до лагеря.
Но Авдеев не появлялся, и я продолжал нести раненого.
Через каждые два-три километра я разводил костер и согревал горячим чаем Софронова. Без движения он отчаянно мерз, а я задыхался от жары и промок от пота.
Небо затянуло плотными дымчато-серыми облаками, пошел мелкий, частый снег. Нужно торопиться, так как вчерашний наш след становился еле заметным, а потом исчезнут даже углубления в снегу от лыж.
Рассчитывать на помощь Авдеева не приходится: если не пришел до сих пор, наверное, также ходит по тайге. Провести вторую ночь у костра, на морозе, да еще во время снегопада, который вот-вот может перейти в пургу,- ужасно! Продукты кончились, все живое в тайге запряталось в гнезда, норы, затаилось до наступления хорошей погоды.
В голове стучит неотвязная мысль: «Лишь бы не сбиться с пути, дойти до лагеря…» Липкая горечь то и дело перехватывает горло, и я жадно хватаю ртом снег с рукава своей куртки. Софронов, видя, что я выбиваюсь из сил, попросил оставить его возле костра, чтобы налегке я мог быстро дойти до лагеря и позвать на помощь Авдеева. Наверное, если бы со мной случилось нечто подобное, он бы так и сделал. Но одно дело охотник, умеющий безошибочно находить дорогу в лесу по самым еле приметным следам, и я. Смогу ли я быстро найти лагерь? Снегопад скрыл следы, за снежной пеленой исчезли приметные ориентиры - вершины сопок. Только опытному следопыту, бывалому таежнику под силу отыскать в такую погоду свою палатку. Я же в этом отношении не был уверен. Даже найдя палатку, отыщу ли я потом Софронова? Оставить товарища одного в лесу, без пищи, во время пурги? Костер быстро погаснет и тогда-конец.
Нет, уж лучше выбираться вместе или погибать вдвоем. По крайней мере совесть моя будет спокойна, что я сделал все, что мог, для спасения своего товарища.
Вначале Софронов казался мне легким, как мальчишка, но чем дальше, тем становился тяжелее, будто наливался свинцом.
Сумерки стали надвигаться раньше, чем обычно. Чтобы не пройти лагерь или не обойти его стороной, я через каждые полчаса делал по два выстрела - это наш условный сигнал бедствия.
Быть может, Авдеев близко, услышит их и выйдет мне навстречу?
Силы меня покидали. Задыхаясь от усталости, спотыкаясь, брел я по снежной целине. В глазах плывут и расходятся, как от камня, брошенного в воду, радужные круги - то синие, то оранжевые, то красные. В горле пересохло. Снежинки, падающие мне на лицо, кажутся теплыми, как летние дождевые капли. А Софронов стучит зубами от холода и дрожит. Он уже сутки мучается от боли и холода, так как лишен возможности двигаться. Временами он стонет и что-то бормочет. Ему очень неудобно на моей спине, но он старается не ерзать, так как видит, что я еле-еле держусь на ногах.
У меня нет сил нести дальше Софронова. Я прислонился плечом к дереву, чтобы перевести дух. Ничего не поделаешь, придется вторую ночь провести у костра, если только пурга не сделает ее для нас и последней.
Посадив на ветки Софронова, я развел огонь и пошел в сторону от костра на поиски более крупных дров, чтобы запасти их на ночь. Огонек костра, мерцавший между деревьями, служил мне ориентиром при возвращении. Стоило мне снять с плеч Софронова, как мороз пробрал меня до костей.
Вдруг легкое, мелодичное позванивание донеслось до моего слуха.
«Галлюцинация,- подумал я.- Неужели я так ослабел, что скоро свалюсь с ног? Ведь говорят, что, прежде чем замерзнуть, человек сначала погружается в сон, в ушах у него звенит, а уж потом наступает смерть!»
Я потряс головой. Ветер колыхнул ветви, осыпал меня густой снежной пылью. Вместе с этим первым дыханием пурги совсем близко вновь раздался звон, теперь уже не призрачный, а явный, звон оленьего ботала.
Ура! Спасение! Я бросился туда, откуда доносился звук и увидел меж кустами рогатую голову оленя, настороженно всматривавшегося в меня.
Олень фыркнул и бесшумно убежал. Среди редкого лист-веника смутно белела покрытая снегом палатка и возле нее бродили наши олени.
Софронов встретил меня недоумевающим взглядом.
- Понимаешь, палатка рядом! - закричал я и снова легко, как ребенка, подхватил его на руки.
- Это хорошо, хорошо,- бормотал Софронов.- В палатке огонь будет, жить будем, а то думал пришла пора умирать. Я старый, мне ничего, а ты еще молодой, здоровый…- Он все еще не верил в спасение.- Смотри, в самом деле палатка, а я думал, потерял ты дорогу, кружить по тайге стал. Теперь хорошо… Чай попьем.
Я внес его в палатку. Она была пуста. Накрыв больного шкурами и спальными мешками - всем, что нашлось в палатке, я растопил печку, и через пять минут от нее стало распространяться живительное тепло. Согревшись, Софронов заснул глубоким сном, не дождавшись пока закипит в котелке чай.
Где же Авдеев? Неужели ищет нас? Может, ходит по тайге где-нибудь невдалеке? Как бы отвечая на мои вопросы, заскрипел снег под тяжелыми ногами и пола палатки приполнялась. Вначале просунулась рука, потом голова Авдеева, заснеженная, как у деда-мороза в новогоднюю ночь. Вслед за ним в палатку юркнула собака и, помахивая хвостом, улеглась у самого входа. Ничего, мол, не поделаешь, замерзла, по тайге набегалась, тоже надо отдохнуть!
- Ну, кажется подвезло нам, наконец. Напал я на соболя. Два дня ходил, а следам счету нет…- весело заговорил он, стряхивая с себя снег и раздеваясь.
Заметив мое невеселое лицо, он недоуменно посмотрел па меня, на Софронова, закутанного в шкуры и одеяла, и спросил тревожным сдержанным шепотом:
- Случилось что-нибудь? С тобой, с ним?..
Я коротко рассказал ему о нашей беде.
- В ногу, говоришь, ранило? Стрелу вытащил? Ну, это еще не беда, а бедка! -повеселел Авдеев.- Заживет на нем, он здоровый. Завтра поедем в Стойбу, а там рукой подать до прииска, где фельдшер есть. Помажут ему рану чем-нибудь, а то я и сам достану медвежьего сала, залью рану, недели не пройдет - все заживет. Не вешай нос, паря! - хлопнул он меня по плечу.- Намучился с ним здорово? Наверное, на себе нес или тащил на волокуше? Ничего! В тайге не то случается, надо ко всему быть готовым!
Мы разбудили Софронова пить чай и подкрепиться едой. Авдеев принес в сумке рябчиков, мы их сварили.
- На самострел налетел? - спросил Авдеев, отхлебывая из кружки горячий чай.- Бывает. Хорошо еще, что в ногу, наверное, на мелкого зверя нацелен был. По следу шли, вот и напоролись. А вообще-то, такого охотника наказывать надо. Разве есть у него понятия об охоте? Это лентяй, хапуга, идет в тайгу, от жадности готов все загрести, вот и ставит самострел. Самому-то зверя не выследить, так ждет пока тот налетит на стрелу. Не думает, что может своего брата-охот-ника подстеречь! Вот еще петли, лудевы, ямы всякие… Не терпит моя душа такой охоты: все равно, что человека из-за угла подкарауливать…
Утром Авдеев поймал оленей и мы поехали в Стойбу. На одной из нарт в спальном мешке сидел молчаливый Софронов.
СОФРОНОВ ВЫСКАЗЫВАЕТСЯ
Нам не пришлось ехать на прииск. В Стойбе организовался фельдшерский пункт. Я был поражен: когда успели? Говорят, на днях прислали фельдшера, оборудование, вот и организовали! Для нас это была удача, так как Софронову стало плохо, он сидел на нартах нахохлившись, с пылающей от жара головой, с сухими растрескавшимися губами и просил пить. Ночью метался во сне, о чем-то с кем-то спорил, что-то говорил на родном языке. Иногда вдруг прорывались русские слова, но смысл их был нам непонятен. В таком полусознательном состоянии везти на прииск было бы опасно, могло начаться заражение крови, а это - конец!
Мы подъехали к медпункту. После яркого солнечного света, ослепительных снегов изба мне показалась темной.
- Где мне увидеть фельдшера? - громко спросил я.
- Я фельдшер,- послышался знакомый голос из-за перегородки.- Что случилось? Проходите!
Открылась дощатая дверь и на пороге показалась женщина в белом халате.
- Оля!…- Я не верил своим глазам: в дверях стояла Бурлова.- Откуда вы? Как попали сюда?
Она рассказала, что ее как более знакомую с местными условиями Здравотдел перевел в Стойбу, где предстояло начинать работу почти на пустом месте.
- А вы-то как? Ведь я думала, что вы уже в Хабаровске? - спросила она.
- Потом, Оленька! Обо всем расскажу, только не сейчас. У нас несчастье, Софронов ранен!
- Как? Давно? Где он?
- Давно. На самострел наскочил. Стрелу я вырвал, а сейчас у него, наверное, заражение началось… Привезли мы его…
- Так несите скорее!-крикнула она, а сама бросилась накрывать топчан белой свежей простыней.
Мы внесли на руках Софронова, раздели его, сняли унты.
Оля внимательно осмотрела распухшую ногу. Вокруг раны образовалась зловещая краснота.
- Плохо дела, паря! - шепнул мне Авдеев.- Антонов огонь начинается, не иначе! Сразу бы медвежьим салом или дегтем залить, может и прошло бы, так где взять было?
По выражению лица Оли я понял, что дело серьезное. Она поставила на спиртовку кипятить шприц для уколов, а мы, воспользовавшись этим, потихоньку вышли на улицу.
Настроение было подавленное. Мы опасались за жизнь Софронова. Еще не забыли, как потеряли Батракина, а тут новый случай. Это уже было слишком.
- Как думаешь, Евстигней Матвеевич, не отнимут ему ногу? - спросил я.
- Без ноги ему не прокормить себя в тайге. Скорее он согласится жизни решиться, чем ноги…
Тут наш разговор перебил юноша, торопливо подошедший к нам.
- Экспедиция? - спросил он.
- Да, а что?
- Начальника экспедиции просили зайти в наш сельсовет.
- Не знаешь зачем?
- Телеграмма ему какая-то из Москвы…
- Побудьте здесь, Евстигней Матвеевич, а я схожу, узнаю!
От кого она могла быть: от Скалова, профессора Мамонова? По какому случаю? Наверное, что-то случилось важное, иначе не стали бы наугад посылать телеграмму по всем сельсоветам, не зная где я могу быть в данное время. Уж не отменяют ли поиски соболиных мест? После того, как мы нашли очаг соболей на хребте Турана, бросать поиски было бы просто жаль.
В сельсовете председатель ждал меня. Проверив документы, он подал мне телеграмму. Она была от Скалова. В ней говорилось: «Из корыстных побуждений ваш маршрут обречен на заведомую неудачу. Срочно опросите местных охотников, старожилов, пересмотрите свой дальнейший путь. Продолжайте настойчиво выполнять задачу. Желаю удачи. Скалов.»
В этой немногословной телеграмме все было мне непонятно: из чьих корыстных побуждений? Кому наша экспедиция стала поперек дороги? Значит, весь путь к Зее был напрасен? Кто-то знал, что там соболей не было, и все же советовал идти именно к Зее? А на чьей совести будет гибель Батракина, лишения, перенесенные нами? И куда идти дальше?
Авдеев нашел соболей на хребте Турана, неужели бросать там обследования? Все это было так неожиданно, что я растерялся. Зима на исходе, разве в оставшиеся месяц-два я успею обследовать новый район, проложить новый маршрут по безлюдной, бездорожной тайге? Надо было обо всем посоветоваться с Авдеевым.
- Плохи наши дела,- сказал я Авдееву и подал ему телеграфный бланк. Он взял, прочитал.
- Как думаете, что делать нам дальше? - спросил я.
- Первым делом Софронова выходить бы удалось, а там что-нибудь придумаем.
- Где теперь искать соболей, как думаете?
- Известно, на Турану пойдем. Я следов там много видел!..
- Там сказано, что наш маршрут обречен на неудачу…
- Маршрут!.. Наш маршрут: Мая - Зея - Селемджа… А Турана совсем в стороне. Мы от своего маршрута отбились еще когда палатка сгорела…
- Выходит, правильно сделали! Ведь Турана и в самом деле в стороне! - воскликнул я.- Может, там и нападем на соболя?
- А что ж. вполне!..
Три дня Софронов метался в бреду. Оля не покидала его ни днем, ни ночью. Она проявила настоящее упорство, отстаивая его здоровье.
- Ты постарайся,- говорил ей не раз Авдеев.- Станет Софронов на ноги, так и быть - поймаю тебе соболя на воротник!
Оля и так делала все, что было возможно в условиях таежного поселка; она использовала народное средство лечения ран - медвежье сало, ускоряющее заживление гноящихся ран. На четвертый день я застал Софронова уже сидящим на кровати.
Увидев меня, он растерянно улыбнулся, протянул мне исхудавшую тонкую руку.
- Спасибо, Саша! Жизнь мне спас, из тайги вынес… Без тебя пропал бы, а теперь хорошо, скоро совсем здоровый буду. Раньше я думал, ты какой человек? Из города, тайги не понимаешь, приехал, языком туда-сюда поработал и все! Теперь вижу-неправильно думал. С тобой можно куда хочешь идти. Ошибался немного я. Ты, Саша, извиняй! Старый я, голова не так работает, как надо. Раньше много худого в тайге видел, каждый обмануть хотел…
- О чем говоришь, Софроныч?..
- Погоди, Саша, дай мне говорить. Ты хороший человек и Софронов к тебе будет хороший, как с родным братом: все будем пополам… Крепко помогать буду…
- Поправляйся сначала…- мне неудобно было выслушивать благодарности Софронова.- Полежи еще недельку-другую, а мы пока с Авдеевым в верховья реки Ын сходим, он там много следов видел…
- Нет, нет, никуда ходить не надо. Слушай меня хорошо, правильно слушай: на Селемджу ходить не надо. Там никогда и раньше соболя не было. Редко-редко один-два в старое время брали. Не надо ходить и к Турану. Итак много времени зря ходили - на Маю, на Зею, по пустому месту ходили. Надо сразу на Бурею идти, в верховья Амгуни, там соболь есть. Сиди, жди маленько, нога заживет, я поведу туда, где соболя, как белки, много…
- Так чего же ты раньше не говорил! - вырвалось у меня.
- Погоди, не горячись. Слушай хорошо: я в прошлом году летом охотился, табун сохатых выследил. Пять штук убил в одном месте. Мясо хотел в рыбкооп сдавать. Думал, много денег заработаю, дом построю. Старый - совсем худой стал. В это время Абреков в Чумикан приехал, на меня протокол написал. Я шибко боялся, как бы он меня в тюрьму не забрал. С кем тогда женка останется, кто кормить будет? Сам к Абрекову ходил, он на меня сильно кричал. Потом я ему четыре соболя дарил - добрый стал, сказал, что судить не будет, только молчать велел. Много меня спрашивал, где я брал соболя, все записал и об этом молчать велел. «Тебе одному, говорит, разрешу в любое время охотиться, другим не дам!» Ты в Чумикан приехал, Абреков такое письмо прислал, чтобы я тебя самой трудной дорогой вел, ни за что соболя тебе не показывал,- глаза Софронова заблестели, он хотел встать с койки, но не смог и только крепко сцепил руки, обхватив колени. Сначала я тоже думал, что ты худо для нас хочешь делать, из нашей тайги соболя забрать, теперь вижу - ошибся. Если маленько соболя живьем брать,- ничего, соболя много, и нам заработок хороший будет! Может, в других местах народу промышлять нечем, пусть и там соболь разводится. Люди должны помогать друг другу, тогда хорошо будет.
Слова Софрнова ошеломили меня: столько сил и времени потрачено понапрасну! Искали соболя где-то у черта на куличках, а они под боком, почти рядом с Хабаровском - на Бурее!
Наверное, я забылся, потому что Софронов тронул меня рукой.
- Слушай меня, Саша, я еще не все сказал. Авдеев умный человек, только он соболя плохо знает, а я всю жизнь за соболем хожу. В Чумикане больше меня никто соболя не ловил. Соболь в тайге живет, пока на воле он мороза не боится, а в ловушку поймаешь - к утру замерзнет. Каждый зверь маленько сильный, маленько слабый-хоть медведь, хоть лиса, хоть сохатый. Тоже и соболь. Начальником станешь, тебе это знать надо, будешь учить охотников такую ловушку делать, чтобы в ней теплое гнездо было. Тогда соболь живой будет, здоровый, иначе зря губить его будешь, в другое место не перевезешь!
Столько сил потрачено, столько сил!.. Ну что теперь делать с этим стариком, попавшим в хитрые сети Абрекова? Сердиться на него, кричать, негодовать? Он же темный человек, до которого только сейчас дошла суть дела! Еще хорошо, что прозрение пришло к нему, а мог бы заблуждаться и быть слепым орудием в руках Абрекова до последнего дня… Вот и отгадка на телеграмму Скалова, а я-то ломал себе голову, почему, да отчего, да по какому корыстному побуждению?
Значит, сумели-таки разобраться в Абрекове! Мне он сразу не понравился.
- Ладно, Софроныч, хорошо, что ты сказал мне правду…
- Чистую правду, Саша. Пускай Абреков кричит на меня теперь, не боюсь…
- Не бойся. Поправляйся скорее, а там увидим, что нам делать.
- Быстро поправлюсь, Саша. Скажи Авдееву, пускай мясо мало-мало варит, а то меня здесь кашей кормят.- Скажи, пускай не серчает на меня. Старый, голова маленько дурная стала, кое-что не сразу поняла.
Через неделю Софронов поправился настолько, что мог ходить по поселку, правда, опираясь на палку. Мы потихоньку собирались в путь. Оля притащила нам на дорогу целую пачку бинтов и разных лекарств. Она советовала еще недельку пожить в поселке, пока нога у Софронова заживет как следует, но он не согласился.
- Буду ехать на нарте, поправлюсь. Дорога большая, олешки хорошо бегут, что мне надо? Пока до Бурей доедем, совсем здоровый буду, за соболем бегать буду,- шутил он.
И вот мы снова в пути, по направлению к хребту Турана. В истоках реки Ын Авдеев нашел скопление соболиных следов. По пути проверим, является ли там запас соболей достаточным для массового лова?
В который раз уже беда миновала нас, и снова мы едем с надеждой на успех.
Темный ельник, цепочки следов на ослепительно чистом снегу. Как дыхание надвигающейся пурги поднимает снежную поземку, так и они дали мыслям иное направление. Я снова во власти охотничьего азарта!
Добравшись до места, где в пургу бродил Авдеев, мы не обнаружили скопления следов. Старые были засыпаны, а свежие попадались редко, в таком количестве, что рассчитывать на отлов соболей не приходилось. Но мы не могли оставить этот хребет без обследования, у нас еще было время.
В лагере для присмотра за оленями оставляли Софронова, а сами отправлялись на поиски, бродили по ключам, буреломному лесу, по стланиковым зарослям. За день в моей абрисной книжке появились новые отметки о соболиных следах, но, увы, их было слишком мало.
Перевалив хребет, мы спустились в долину реки Бурей, в царство безмолвной светлой лиственичной тайги. Куда ни глянешь - везде стеной стоял лес, но едешь-и деревья будто расступаются по сторонам, стоят редко. Светлая разреженная тайга и мари, заросшие брусникой, голубикой, багульником и ягелем.
Мы остановились в небольшом селении, приютившемся у впадения реки Ниман в Бурею. Зашли к председателю колхоза Петровскому. Колхоз был небольшой - оленеводческий. Подспорьем служил охотничий промысел. Мясные звери - сохатый, медведь - шли в пищу населению, а пушнина давала заработок, хотя и небольшой.
- У нас дело куда лучше было бы, если нам разрешили добывать соболей,- заявил Петровский.- Охотники говорят, что следов соболя в наших угодьях стало много, да что охотники, я сам летом даже встречал соболей на ягодниках. Верный бы доход был, а Краевое управление другим хоть понемногу, да разрешает, а нам не дает открыть охоту на соболя. В чем дело, понять не могу. Не верят нам, что ли? Вот поедете, сами увидите, сколько у нас соболей!
- Так это же очень хорошо! - обрадовался я.- Правильно делают, что вам не разрешают их стрелять. Ни в коем случае нельзя этого делать. Мы прошли и проехали сотни километров по краю, были на Джугдыре, в истоках Зеи, на Джагды, на Туране, и соболя либо нет совсем, либо очень мало.
В других районах страны соболь тоже на грани исчезновения. Если у вас здесь действительно много соболей, отсюда, как из рассадника, будем брать живых и переселять в другие районы, где и условия и кормовая база для их успешного размножения будут пригодными. За пять-десять лет можно восстановить запасы этого ценного зверя по всей стране. Это большая и важная задача. Вы должны объяснить своим охотникам, что за жизых зверьков им будут платить вдвое больше, чем за шкурку. Уже сейчас присмотрите, где лучше расставлять в ваших угодьях кормушки, чтобы соболь собирался в определенных местах, где его легче потом будет взять в ловушки. Готовьтесь к этой работе, чтобы в следующую зиму начать отлов. Верный будет доход вашему колхозу!
- Это было бы хорошо!
- Интересно, каков ваш соболь? Одни ученые считают, что лучшие в мире баргузинские, другие предпочитают якутских, а каковы ваши, буреинские,- неизвестно! Посмотреть надо, определить!
- О, соболь у нас отменный, что смолистый, обгоревший пенек черный! Я других не знаю, но своих видел - чудесный мех: черный с проседью. Начнем ловить, будут отходы, как с ними?
- Без этого не обойдется: часть зверьков будут больными, других ушибет или придавит, таких на племя не пустишь - известный процент пойдет на мех!
- Приживутся ли они на новых местах? - интересовался Петровский.
- Готовых ответов в науке нет: будем пробовать, искать подходящие места. По-моему, должны прижиться, если условия будут схожи с вашими. В первую очередь будем выпускать там, где соболь еше совсем недавно водился.
Долго мы беседовали с Петровским о путях восстановления соболиных запасов в нашей стране. Он знал свои угодья и дал нам много полезных советов.
- Софроныч, куда путь держать будем?
- На реку Ерик. Там раньше отец мой охотился, много соболя брал.
- А когда это было?
- О, давно уже. Я совсем молодой был. Туда другие охотники раньше не ходили, там должен зверь быть.
- А если не будет?
- Будет. Я стариков спрашивал, говорят, есть соболь!
Мы решили обследование охотничьих угодий артели
«Путь Ленина» начать с реки Ерик.
- А с Ерика куда пойдем?
- На Буреинский хребет поведу, где я в прошлом году соболя взял.
Такой разговор происходил у нас перед тем, как отправиться в путь. Отношение Софронова ко мне резко изменилось. Теперь он сам расспрашивал всех местных эвенков о соболях, какими дорогами идти, где они водятся.
Утро необычайно солнечное. Снег ослепительно сверкает, и глаза Софронова - две узенькие щелки. Я тоже жмурюсь. В Москве, где я провел последние годы, такого солнца зимой не бывает. Там свет спокойный, и если солнышко покажется на чистом небе, то смотрит ласково - как самый редкий гость, а здесь светит нещадно, так, что больно глазам.
Но пока утро, а не разгар дня; ветки тополей в алмазной бахроме инея, от которой изредка отрываются мелкие игольчатые кристаллики, и воздух сверкает, как голубовато-серебристая парча.
На нартах порядочный груз - свежий хлеб, сухари, боеприпасы, поверх груза сидим мы сами, но олени бегут бодро. Пока лечили ногу Софронову, они успели отдохнуть.
Вскоре мы убедились в справедливости заверений Петровского: следы соболей стали попадаться на нашем пути все чаще и чаще. Мне не терпелось добыть одного-двух, но Софронов настаивал не терять времени даром, а ехать к истокам реки. Если здесь есть следы, там должно быть больше. Авдеев советовал довериться Софронову. Если уж он сам взялся показать, где есть соболи, так из-под земли, а добудет их. Лучше не мешать ему. Поднявшись довольно высоко в сопки, мы остановились на бивуак.
С тех пор, как вышли из Чумикана, нигде еще не встречали столько соболиных следов, как здесь. Местами отдельные следки, как ниточки, собирались в пучки, образуя вместе тропинки, плотно утоптанные маленькими круглыми лапками зверьков.
Оставив Софронова в палатке, мы с Авдеевым отправились на охоту. Не прошло и часу, как послышался собачий лай, очень сдержанный, можно сказать «вежливый». Собака-соболятница не лает помногу, чтобы не спугнуть зверя. Гавкнет разок-другой, подаст голос и сидит караулит. Мы сразу поняли - соболь, и поспешили на голос.
Подняв кверху голову, собака бегала вокруг лиственницы, а на ветке сидел маленький, с котенка, соболь. Я попросил Авдеева подержать собаку, чтобы она, подхватив с лету сбитого зверька, не попортила ему шкурку. Перескочить на другое дерево и уйти верхом, как белка, соболь не мог, деревья стояли редко. Я подошел поближе, положил ствол малокалиберки на сучок. Раздался выстрел и, перевернувшись несколько раз в воздухе, соболь упал в снег.
Это был молодой самец с белыми и остренькими зубками. Мех темно-коричневый переходил к хвосту в смолисточерный цвет. На фоне снега соболь казался почти черным. Я невольно залюбовался красавцем зверем, оказавшимся темнее всех ранее мною виденных.
Добытый нами буреинский соболь - настоящая черная жемчужина суровой тайги. Мех его искрился, переливался, был текуч, как лучистая атласная ткань.
Авдеев улыбался и гладил драгоценную добычу:
- Что и говорить - красавец! Ты, парень, как хочешь, а я шкурку тебе не отдам, заберу. Обещали ведь девушке на воротник за то, что вылечила Софронова, вот и преподнесешь ей от меня.
- Ладно,- не мог удержаться я от улыбки.- Может быть, еще одного добудем, тогда и я ей подарок сделаю.
Положив соболя в мешок, мы продолжили поиски, хотя и не надеялись в один день добыть другого. Ведь известны случаи, когда за одним зверьком охотник ходит неделю! А тут такая удача!
Но когда везет, так везет напропалую! Сверх всякого ожидания мы добыли еще двух соболей. Радостные,- я даже напевал какую-то песенку,- возвращались мы на бивуак. Обрадовался нашей удаче и Софронов, когда мы положили перед ним наши трофеи.
- Ай, счастливый ты, Сашка,- говорил он, раздувая подпушь,- я сколько за соболем ходил, а редко-редко если двух брал!
Он порывался на другой день идти на охоту вместе с нами, но мы ему не разрешили, боялись, чтобы не разболелась нога.
- Хватит и тебе работы,- уговаривали мы его.- Надо снять шкурки, сварить обед, присмотреть за оленями. Мы ведь не на охоту пойдем, а на разведку. Много соболей добывать не придется.
Кое-как удалось уговорить старика остаться в палатке.
Мы старались охватить поисками как можно большую площадь; увидев следы соболей, отмечали их, но по следу уже не бежали, как раньше. Обилие следов позволяло надеяться, что мы еще наткнемся на зверька. Так и оказалось. Собака загнала на дерево одного, потом вскоре и другого соболя… Пять соболей. Невероятная удача! Кому и когда удавалось добыть столько за два дня?
Когда к концу дня в третий раз послышался лай собак, мы переглянулись:
- Не к добру нам так везет,- сказал Авдеев.- Вот посмотришь, какая-нибудь оказия случится!
Меня тоже смущала такая удача. Было чувство некоторой растерянности.
- Неужели третьего соболя загнала?
- Ты как хочешь, парень, а я третьего соболя брать не буду,- сказал Авдеев.
- Ладно, просто посмотрим и уйдем,- согласился я.
Однако на этот раз на дереве сидел не соболь, а какой-то другой более крупный зверь.
- Рысь.- сказал Авдеев.- Видишь кисточки на ушах?
Рысь лежала на суку, прижимаясь к нему всем телом, и
злобно шипела на собак. Она скалила острые зубы и готовилась уже прыгнуть с дерева, когда раздался выстрел.
Цепляясь когтями за ветки, рысь рухнула в снег и собака вцепилась ей в загривок. Большая кошка была мертва. Рысь, как и росомаха, наносит большой вред в охотничьем хозяйстве. Летом она враг птичьих выводков и гнезд, зимой нападает на беззащитных кабарожек, зайцев, случается, что и на зверя более крупного - оленя, козу, у которых не хватает сил стряхнуть ее с загривка.
Рысь не брезгует полевками, бурундуками, пищухой, белкой и является конкурентом соболя по питанию. Поэтому стрелял я в нее без всякого сожаления. Авдеев тут же на морозе быстро разделал ее и, отрезав заднюю часть туши, сунул в мешок вместе со шкурой.
- Варить будем; все равно что телятина,- весело сказал он.- А шкуру выделать, так хоть на шапку, хоть на воротник…
Вернувшись в лагерь, мы быстро собрались и тронулись в путь на Усть-Ниман.
Петровский радушно встретил нас, сообщил, что в деревню пришла бригада его лучших охотников. Они могут не только показать нам места, где много соболей, но и оказать помощь в подсчете запасов этого зверя в пределах колхозных охотничьих угодий.
Поблагодарив Петровского за участие, мы попросили его предупредить охотников, чтобы они были готовы к выходу с нами в тайгу.
УЧЕТ СОБОЛЕЙ
На этот раз с нами ехали в тайгу четверо местных охотников. Семь нарт вереницей скользили по льду реки. Поднявшись до реки Эликан, караван свернул по этой маленькой речке и шел по ней до истоков. Отдельные вершины гор превышали полторы тысячи метров над уровнем моря. Перевалив через водораздел, мы начали спускаться к реке Ургал.
Я спросил Софронова, что означает это название.
- Ургал - по-нашему-бешеный! Плохая река, летом на лодке совсем по ней ходить трудно.
Сейчас, скованная сильными морозами, река молчала. Береговой лес был закован в толстые наледи. Напирающие снизу грунтовые воды прорывают ледяной покров и растекаются по льду реки, наращивая его толщину. В сильные морозы наледи парят и делают зачастую речку непроходимой для нарт и пеших. В жаркое лето зазеленеют тальники и тополя, ласковое солнце постепенно растопит эту ледяную броню реки.
Ургал - горная река, и летом далеко слышится шум ее вод.
Сверкавшие на горизонте белые конусообразные вершины Буреинского хребта цепью уходили на юг, являлись местом рождения Ургала.
Вскоре на нашем пути стали попадаться следы соболей. Чем выше мы забирались в горы, тем их становилось больше.
- Вот, паря, когда мы нашли соболя! - в восхищении говорил мне Авдеев.- Куда еще больше искать!
Решили сделать остановку, чтобы подсчитать запасы соболя на тысячу гектаров. Для подсчета заложили четыре площадки, каждая по десять квадратных километров. Предстояло тщательно учесть, какое количество зверьков находится на отмеченной площади угодий. Только опытные охотники-следопыты могли отличить след одного зверька от другого и разобраться в путанице следов.
Мне помогли местные охотники. Выпадавшие ночами свежие пороши, а также обильный иней по утрам одевали деревья и кустарники в пушистые одежды и облегчали выполнение нашей задачи.
После подсчетов было установлено, что на всех четырех площадках находится двадцать три соболя. Это значило, что один соболь приходился на два километра площади. Такой большой плотности соболя я не ожидал, но ошибки быть не могло - место было характерное для всего обследуемого нами района, а не только в пределах заложенных участков. Пусть такая плотность заселения приходится только на верховья Бурей, и то общая численность зверьков позволяла организовать здесь их вылов для переселения в другие районы. Десятки тысяч соболей!
«Вот он, долгожданный резерват! Теперь надо подумать, как взять это богатство и переселить его в другие места…»,- так мечтал я, окрыленный успехом.
Результат был столь поразителен, что мне могли бы не поверить, и я хотел убедиться, не является ли этот обследуемый район единственным по такому обилию соболя? Организация рассадника соболя потребует больших затрат, и к моим сообщениям будут подходить осторожно.
Мы решили подняться к левой Бурее; я был прав: не везде был соболь. Стоило нам покинуть Ургал, как соболь исчез, пошли так называемые пустые места. То это были «гарники» - сопки с пострадавшим от пожара лесом, где соболь не мог найти себе пищи и, естественно, избегал этих мест; то массивы пустые по иным каким-то причинам, непонятным для меня, как охотоведа. Соболиные следы исчезли. Я стал беспокоиться и на одном из привалов вечером высказал охотникам свои сомнения.
- Не беспокойся,- сказал Софронов,- если мало соболя на реке Ургал, еще найдем. Он в разных местах есть!
- Правильно! - поддержал его якут Логинов.- Мы поведем тебя на вершину Дубликана. Там большая гора есть, она дает начало рекам Сутырь, Гуджал. Тайга там густая, стеной стоит, без топора трудно ходить, но соболя много. Без олешков ходить придется - очень крутые сопки, стланика много, не пустит олешков. Потом дальше ходить надо, если соболя мало будет. Везде так. Соболь, как человек, выбирает хорошие места. Где попало не живет!
Я снова размечтался: «если найду в истоках Дубликана соболей, мою задачу можно будет считать выполненной. Останется составить проект организации соболиного рассадника и возвращаться в Москву. Хорошо бы к Первому мая сесть в поезд Хабаровск - Москва…
А Оля?.. Ведь я обещал с ней встретиться летом. Нет, видно околдовал меня Дальний Восток-не уехать мне отсюда! Да и зачем? Где еще найдешь более интересный край? Скалову доложу обо всем и обратно. Он сам не захочет оставлять меня в Москве. Мало ли там желающих осесть в столице и никуда не ехать? К тому же предстоит второй зтап работы…».
Я и не подозревал, сколько еще трудностей ожидает меня, сколько превратностей природы придется испытать, прежде чем увижу Хабаровск.
Дни стали заметно увеличиваться, солнце сияло такое ослепительное, что больно было глазам. Снег искрился, небо поражало своей прозрачностью и глубиной. Несмотря на мороз, во всем чувствовалось дыхание весны.
Как всегда; в последние дни своего владычества, зима свирепствовала. То и дело налетали вьюги, и мы не выходили из палатки по два-три дня. Стонал и шумел лес под напором ветра, снежные вихри закрывали видимость. Отбушевав, вьюга оставляла в затишных местах тяжелые пласты снега на деревьях, ветки елей гнулись под непосильной тяжестью снега до самой земли.
Трудно было пробиваться с нартами по глубоким рыхлым снегам: олени не находили корма, так как не всегда встречались выдувы - оголенные от снега склоны сопок, где они могли найти себе хорошие ягельники.
Я не терял времени понапрасну. В моей коллекции было уже четырнадцать соболиных шкурок вместе с вываренными черепами.
Череп-это паспорт животного. Имея его, ученый безошибочно определит не только вид, но и географическую расу, к которой принадлежит животное.
Оставшиеся до весенней распутицы дни я посвятил не только учету соболей, но и добыче зверей и птиц, населяющих эти леса.
Логинов оказался прав: в истоках Солони и Дубликана вновь появились соболи, и мы стали закладывать учетные площадки и вести учет следов по маршруту.
Чаще всего со мной ходил в тайгу Авдеев. Хотя он и не мог двигаться по лесу так бесшумно, чтобы зверь не учуял его, как это мог делать Софронов, но зато превосходил его выносливостью, силой и, главное, меткостью стрельбы. Кроме того, за многие месяцы скитаний по тайге я проникся к нему самым искренним уважением и охотно приглашал с собой его, чем кого-либо из других охотников.
Обследовав долину ключа, мы вышли на равнину. Хотя под нами был глубокий снег, но видно было, что это самая настоящая марь с багульником, голубицей и сопровождающими ее ерниками.
Наше внимание привлекло какое-то темное животное, быстро двигавшееся нам навстречу. Вскоре мы разглядели, что это мелькала между редких листвениц росомаха. Она бежала, принюхиваясь к чьему-то следу, опустив голову к земле и повторяя замысловатые петли и скачки преследуемого зверя.
Спрятавшись за лиственницу, мы стали наблюдать за редким зверем. Кого она преследует? Выбежав на покрытое снегом озерцо, росомаха стремглав бросилась к противоположному берегу, заросшему густой щеткой желтого вейника, верхушки которого проглядывали сквозь снеговой покров. Оттуда выскочил заяц-беляк и сломя голову кинулся наутек.
Сначала казалось, что росомаха сразу схватит свою жертву, но не тут-то было: заяц, набрав скорость, отбежал от нее на почтительное расстояние, сделал несколько прыжков в сторону от своего следа, стал столбиком, огляделся и снова залег в густом низком кустарнике.
Росомаха, словно гончая, потерявшая след, стала бегать кругами, пока не обнаружила заячью спрыжку. Распутав петлю, она снова подняла беляка. Опять началась гонка, которая неизвестно чем бы кончилась, если бы не наше вмешательство.
- Настырный зверь,- сказал Авдеев, поднимая к плечу винтовку.- На быстроту ей с зайцем или с кабарожкой тягаться не приходится, так измором берет. До тех пор будет гонять, пока не загоняет. Говорят, что она потное мясо любит, для этого, дескать, и гоняет, а мне думается - повадка у нее такая. Каждый зверь на свой манер пищу себе добывает. Вот и она бежит медленно, так настойчивостью берет… Тс-с-с!
Не замечая нас, заяц быстро промчался мимо, совсем вблизи от дерева, и вскоре на его следу появилась росомаха. Почти не проваливаясь в снегу, она делала крупные размеренные прыжки, низко опустив голову и хвост. Она напоминала худого медвежонка: широкие лапы, короткий хвост, довольно крупная светло-рыжая голова. На теле шерсть была темная, но на фоне ярко блестевшего снега казалась почти черной.
Росомаха так была увлечена преследованием зайца, что даже ни разу не взглянула перед собой. Видя ее легкие энергичные прыжки, я не сомневался, что она рано или поздно добыла бы зайчишку себе на ужин.
Потеряв след, она на мгновение остановилась. Этого только и ожидал Авдеев: грянул выстрел, и росомаха, высоко подпрыгнув, ткнулась в снег…
Пока я разводил костер и кипятил чай, Авдеев снял с росомахи шкуру, оставив при шкуре кости и череп. Желудок оказался пустым - росомаха была голодна, но в кишках была шерсть кабарги.
- Вчера кабаргу перехватила на обед, а сегодня зайчишкой собиралась перекусить, да мы ей помешали!
- Косой всю жизнь теперь будет нас благодарить.
- Если не попадется на зубы другому зверю; тут до него много охотников: лиса, волки, даже соболь и тот не упустит случая,- сказал Авдеев.
На обратном пути к лагерю из снега поднялись несколько серых птиц и расселись на ветвях лиственницы.
- Рябчики! - воскликнул я, перезаряжая карабин. Для стрельбы по мелкой дичи у меня были патроны с легким зарядом и небольшой круглой пулькой, совсем отличные от тех, что я применял против крупного зверя.
- Это не рябчики, а караки! - заметил Авдеев.- Они крупнее и темнее по окраске. Потом заметь: рябчики вспархивают- хлопают крыльями, а эти тихо взлетают. И посадка: рябчик к суку прижмется всем телом, будто серый нарост на ветке, а эти поперек сидят, будто куры на насесте. Карака выстрела не боится, ее можно петлей даже брать. Уж такая особенная птица. Стреляй не торопясь, не улетит!
Мне удалось встретить дикуш - редких птиц из семейства куриных, живущих в таежных лесах Дальнего Востока. Не без волнения навел я карабин на ближайшую птицу. После выстрела она комом свалилась в снег, а остальные продолжали сидеть как ни в чем не бывало. Только, вытянув головы, посмотрели вслед упавшей, будто интересовались, что она могла там найти на снегу?
Если охотник не сделает резких взмахов или не залает на птиц собака, то их можно перестрелять всех до одной. Мне было жаль переводить весь выводок, тем более что пища у нас была, и я ограничился двумя птицами для коллекции.
С птиц, как и с зверей, снимается кожа с перьями, череп вычищается от глаз, языка и мозга, косточки крыльев и ног очищаются от сухожилий и мяса, шкура обрабатывается мышьяковистым препаратом и укладывается в мешок; она годна для хранения и для набивки чучела. Это очень несложная для охотоведа работа, без нее никому не обойтись, и я овладел ею еще будучи студентом во время летней практики.
Очень довольные результатами дня мы возвратились в лагерь еще засветло. Один из местных охотников, сопровождавший нас в экспедиции, тоже вернулся с трофеем: в небольшой капкан, поставленный на соболя, попал горностай. Белоснежная шкурка гибкого проворного зверька оканчивалась черной кисточкой хвоста.
В желудке этого маленького хищника - вот еще одна из неприятных на первый взгляд обязанностей охотоведа - я обнаружил остатки пищухи. Желудок зверя может рассказать очень многое о жизни животного, раскрыть особенности странных иногда повадок.
Пища - один из самых важных факторов в жизни каждого существа, и мне как человеку, посвятившему жизнь изучению охотничье-промысловых зверей, приходилось с этим считаться. Правда, вначале эта работа была неприятной, но необходимость заставляет человека привыкать ко всему. Ведь вскрывают же врачи-эксперты трупы людей, а это куда тяжелее, чем желудок безобидного зверя, к тому же только что-убитого!
Более тщательное исследование желудка и кишечника зверя (лабораторным путем) может открыть причину некоторых заболеваний человека. Но это было мне не по плечу в полевых условиях, и я ограничивался выяснением, что является кормовой базой для промысловых пушных зверей.
После сытного ужина мы расположились кому как удобнее на шкурах и постелях, и начались неторопливые рассказы. Конечно, основная тема - охота, так как для людей, здесь собравшихся, вся жизнь держится на этом промысле.
Не торопясь опрашиваю всех охотников - какой длины были ночные нарыски соболей, что зверькам удавалось добыть и съесть в течение ночной охоты, как они относились к другим обитателям тайги. Записав сообщения в дневник, я давал охотникам задания наследующий день. Тонкие, первоклассные следопыты - эвенки и якуты! Много интересного рассказывали они мне о таежных обитателях.
Так я узнал, что кабарожку можно подозвать, словно рябчика, на маленький берестяной манок, что рысь любит ходить по лыжницам охотников и ее легко поймать капканом, поставленным на старой лыжне…
Самым страшным зверем тайги он считал медведя.
- Нет, тигр будет опаснее,- возразил я.
- Они правы,- вступил в разговор Авдеев.- Медведю тигр не хозяин. Он погрузней, да и посильней тигра будет. Большой матерый медведь любому тигру не уступит. Человеку и то приходится медведя больше опасаться, чем тигра.
- Это почему же?
- Потому, что тигр человека раньше заметит и почует и всегда ему дорогу уступит. С ним в лесу не сойдешься. Другое дело медведь: он подслеповат и глуховат, да к тому же еще и поспать любит. Вот и случается, что напорешься на него неожиданно, а он с перепугу и набрасывается, как бы для самозащиты…
- А охотника он тоже для самозащиты загрыз? - напомнил я ему случай с шатуном.
- Ну, такие случаи не часто. За мою жизнь, сколько бывало,- по пальцам перечесть можно. Голодный зверь…
Софронов не словоохотлив, из него не вытянешь никаких подробностей романтического порядка, он признает в охоте только ее конечный результат - мясо, шкура, панты.
К моим охотничьим способностям он до сих пор относится скептически. Умения бегать по тайге без устали и хорошо стрелять, по его мнению, мало для охотника.
- Хороший охотник в тайгу идет, сразу видит, где какого зверя искать надо. Летом в одном месте, зимой в другом… Если охотник не знает, в какую погоду где зверь ходит, какую травку кушать любит, как зверя найдет? Тайга большая, можно неделю туда-сюда ходить и зверя не встретить…
Авдеев - человек, знающий тайгу, как свой дом,- кивает согласно головой.
- Правду Софроныч говорит. Стрелять зверя нехитро, каждый сможет. Выследить, найти - самое трудное на охоте…
В скупых высказываниях Софронова всегда есть доля познавательного для меня материала, и я стараюсь внимательно слушать, что он говорит.
- Раньше в верховьях Уды и Зеи совсем волка не было, а теперь все больше и больше. Я думаю, этот зверь вместе с человеком в тайгу идет. Человека в тайге много, волка еще больше…
- Верно, верно, много волка,- соглашаются охотники.
- Что же вы его не истребляете? - спросил я.
- Волк хитрый зверь, ночью охотиться любит, увидеть его трудно. Пробовали травить стрихнином - свои собаки пропадают. Капканы ставить надо - опять велика тайга: как узнаешь, где он появится?
- Но ведь волк уничтожает ваших оленей, сохатых…
- Немного олешков и раньше медведь давил,- соглашаются охотники, как с неизбежным злом,- а сохатых в нашей тайге много!
- В прошлом году я на одной сопке сорок штук насчитал,- сказал Софронов.
- А раньше еще больше было?
- Нет, сохатого меньше. Сохатый каждый год табуны увеличивает. Охотники за зиму от силы из сотни пять-десять штук возьмут…
- Да, летом в два раза больше…- добавляет с иронией Авдеев.
- Верно, летом сохатого легче брать. Он от гнуса в воду идет, искать его легче летом, по тайге много ходить не надо…
- То-то же!.. И разговор меняет тему:
- Как увеличить число зверя в тайге?
- Выпустим новых зверей - ондатру и норку, привезем бобров, начнем отлов соболя живьем,- говорю я.
- Это хорошо бы нового зверя у нас пустить. Кормов много, пусть живет, а то белки стало меньше, лисицы, выдры тоже мало. Совсем плохо охотнику…
К полуночи споры и разговоры затихают, то один, то другой начинают позевывать, и вот кто-нибудь говорит:
- А не пора ли нам на боковую?..
Мы кладем в печку сырые березовые дрова, чтобы горели подольше, гасим свечу, и в наступившей темноте сквозь холстину палатки проглядывает блеклый диск луны.
На оленьей шкуре мягко и тепло. Не зря их местные жители называют «постелями». Густой пористый волос северного оленя непрочен, лезет из шкуры, но почти не теплопроводен. На такой шкуре можно спать на снегу и не чувствовать холода. В летнее сырое время нужна другая подстилка - медвежья, барсучья или какая-либо другая шкура, но зимой лучше оленья. Не простудишься!
Ночь. За палаткой нажимает мороз. Зимнее безмолвие нарушается потрескиванием деревьев, лопающихся от стужи, да скрипом снега под копытами оленей, бродящих возле палатки.
ЗИМНЕЕ НАВОДНЕНИЕ
Утром мои спутники-охотники не к торопятся выходить в тайгу. Они ~ подолгу пьют густой чай, заедая его пресными лепешками из белой муки, которые пекут на жестяном листе, пьют вдоволь, на весь день. Затем они сосредоточенно и тщательно обуваются, выстилая олочи лосиной шерстью или мелкой неломкой осокой, и уходят на учет соболей. Я хочу сходить в тайгу один. Захватив с собой компас, топор и карабин, отправляюсь на ближайшую сопку. Ее склон покрыт густым труднопроходимым ельником.
Хорошо утром в лесу, когда первые лучи солнца проникнут в сумрачный заснеженный лес и позолотят шапки снега на спящих деревьях! Тихо, не шелохнув веткой, стоят ели, а над ними чистое, безоблачное небо. В лесном безмолвии стук дятла разносится, как щелчки кастаньет.
Подъем на сопку труден. Склон крутой, приходится лавировать среди валежин и зарослей, утопая в рыхлом, сыпучем снегу. Поднявшись на сопку, я хотел отдохнуть, как вдруг увидел свежий соболиный след, и усталость как рукой сняло. Я побежал по следу на лыжах. След уводил меня с сопки на сопку, все выше и выше к хребту.
На моем пути непролазной стеной встал ельник, но соболь прошел, должен пройти и я вслед за ним, куда бы он меня ни завел.
Бледно-зеленые лишайники гирляндами свешиваются с ветвей старых деревьев. Я задеваю за ветки, снег комьями и мелкой искрящейся крупой сыплется на меня. Как я ни отряхиваю его с одежды, он прилипает к куртке, подтаивает, и скоро я чувствую, что рубашка на плечах и в рукавах уже мокрая, а куртка смерзается и начинает «греметь», когда задеваешь за сучки.
Пробираясь сквозь ветровал, набросавший деревья одно на другое, я заметил, как между корнями поваленной ели что-то мелькнуло.
«Уж не соболь ли?»
Но нет. На ствол поваленной ели вспрыгнула изящная кабарга с точеными черными копытцами. Она испуганно смотрит в мою сторону и настораживает уши, стараясь определить, откуда пришла опасность. Кабарга дрожит всем телом от страха, но не знает, в какую сторону ей броситься, потому что еще не заметила меня, притаившегося за стволом дерева.
Мне жалко это маленькое дрожащее существо, но страсть коллекционера сильнее, и я скрепя сердце навел карабин на самого маленького в нашей тайге оленя.
Выстрелом, будто ветром, сдуло его с лесины, на которой он стоял. Когда я подошел, олень был мертв. В кабарге было не больше десяти килограммов весу, и я положил ее в заплечный мешок. Сквозь прочную ткань тотчас же просунулись два белых шила - длинные острые клыки самого безобидного из зверей. Эдак не мудрено поранить о них руку или спину, и я уложил голову оленя так, чтобы клыки не высовывались наружу.
Олень, и с клыками! Странный каприз природы, наделившей жвачное животное двумя длинными клыками, свисающими изо рта, но не для борьбы с врагами, а для отпугивания соперников во время борьбы за самку.
Кабарга зимой питается преимущественно лишайниками, которые в изобилии находит в старых ельниках.
Шкурка и мясо не представляют для охотника ценности. Зверь является промысловым объектом только из-за небольшой железы на брюшке самца, заполненной темной густой жидкостью - мускусом..
Мускус у только что убитого животного имел резкий и, мне показалось, отвратительный запах. Мускус находит применение в парфюмерии при изготовлении духов, в качестве средства, увеличивающего стойкость их аромата.
Продолжая идти по соболиному следу, я подстрелил несколько рябчиков и двух дымчато-серых белок, с черными кисточками на ушах.
Солнце еще не успело опуститься за сопки, а в ельниках сумерки сгустились настолько, что не было возможности целиться, если бы пришлось стрелять.
Я пошел обратно. Чтобы выиграть время, решил оставить свой след и срезать путь, наметив направление по компасу.
Пока преодолевал водораздел, совсем стемнело. Выйдя на лыжню, оставленную мной утром в начале пути, я заскользил по ней. В небе зажглись первые звезды. Наступила ночь.
Спустившись к реке, я остановился. Вся узкая долина была затянута густым, белым туманом. Плотные клубы пара рождались над рекой, постепенно расплывались по долине и поднимались в звездное безоблачное небо.
Над пеленой тумана, как бы вырастая из нее, тянулись вверх голые сучья высоких чозений - стройных деревьев, напоминающих своим строением украинский пирамидальный тополь: такое же стремление вверх сучьев, компактно собранных вокруг ствола. Пар, поднимавшийся над рекой, оседал на ветвях деревьев и кустарниках, покрывая их игольчатыми кристалликами льда. Наращиваясь, они превращались в белые причудливые кружева, бахромой свисавшие с самых тонких веточек. В лунном свете все искрилось, сверкало, а темная река как будто кипела. Это было немного странно.
Замедлив шаги, я осторожно раздвинул тальники и ступил на лед реки. Из-под лыж тут же выступила вода. Она растекалась поверх льда, пропитывая собой снег, лежавший сверху.
Мороз охватывал воду тонкой, звенящей корочкой льда, но идущая откуда-то снизу вода снова разливалась поверх этой слабой корочки. От нее-то и шел пар, хотя температура воды была не более одного-двух градусов.
К весне подземные воды прорывали ледяной покров рек и выходили на поверхность, образуя наледи, делавшие реки непроходимыми. Хотя глубина воды поверх льда не превышала десяти-двадцати сантиметров, но кто решится ступить ногой в воду, если мороз тут же схватит и заледенит обувь?
Вода и мороз - это страшная штука для пешехода, когда вблизи нет жилья и нет уверенности, что через четверть часа будешь сушиться у огня.
Пройти на лыжах было невозможно, вернуться к палатке старой дорогой нельзя, так как совсем стемнело, и я должен искать обход вокруг наледи. Вот так сократил свой путь!..
Я долго пробирался вдоль берега, отыскивая подходящее место для перехода. Поднявшись на косогор, увидел вдали сверкнувшую огненную черту выстрела, а затем и его грохот: это обеспокоенные моим отсутствием проводники подавали сигнал - стреляли вверх. Я был рад, что не придется ночевать под открытым небом у костра и быстро пошел в направлении выстрелов. Через час я сидел уже в палатке, пил горячий чай, а Авдеев снимал с кабарожки шкурку, подвесив ее за ноги к шесту, стоявшему посреди палатки.
Обследование дубликанских ельников, среди которых мы стояли несколько дней, подтвердило слова Логинова. Соболя здесь много, значительно больше, чем в каком-либо другом месте буреинского бассейна. Однако взять его здесь будет нелегко: крутые каменистые россыпи, густые ельники с непроходимыми ветровальными участками леса, кедровые стланики. Природные условия были здесь благоприятными для укрытия ценного хищника.
Несмотря на большое количество соболя, мы добыли его совсем мало, но зато заложили несколько учетных площадок, что было куда важнее для моего отчета об экспедиции и определения запасов соболей.
Переход на Гуджал лежал через обширную марь - долину реки Сутырь.
Проходя по мари, я обратил внимание, что Софронов всматривается в следы, оставленные чьими-то оленями. Снег местами был разрыт до земли и обрывки ягеля валялись на снегу.
- Согжой кормился! - крикнул он мне, показывая на следы.- Охотиться будем!
Скоро пустили своих оленей пастись. Я не особенно жаждал охоты, так как мясо у нас было, и забыл о словах Софронова, но утром он попросил меня осмотреть марь в бинокль.
Я вышел из палатки и сразу же заметил трех оленей, пасшихся довольно далеко.
«Домашние, наверное»,- подумал я и указал на них, передав бинокль Софронову.
- Это дикие олени,- уверенно сказал он,- я своих оленей знаю.
- Едва ли их возьмешь, место очень чистое,- говорил я,- разве подкрадешься к ним на верный выстрел!
- Чистое место - хорошо, можно охотиться,- ответил Софронов и передал мне бинокль.- Побегу оленя ловить!
С этими словами он побежал по следу своих оленей и вскоре появился уже верхом на быке. Второго он вел за собой на поводу.
- Ты на охоту не ходи,- сказал он.- Будешь в бинокль смотреть, как я буду согжоя стрелять. Неси мне свой карабин!
Не представляя себе охоту за северными оленями верхом, я остался у палатки.
Софронов рысью погнал своих оленей к согжоям. Когда до них оставалось менее полукилометра, он соскочил с верхового оленя и, прячась за ним, стал приближаться к пасущимся согжоям. Вскоре один из оленей заметил приближающихся к нему чужих, резко вскинул голову и насторожился.
Софронов, прятавшийся за оленем, выпустил повод второго оленя, и тот стал пастись - разгребать снег копытом в поисках ягеля.
Согжой вроде успокоился, и Софронов начал осторожно приближаться к ним, прячась за своего оленя и обходя их полукругом. Когда до животных оставалось метров двести, он положил карабин на спину своего верхового оленя и замер. В окулярах бинокля я хорошо видел, как бросился в сторону ближайший к охотнику согжой, а затем повалился на бок, как остальные понеслись по мари, вздымая копытами снег. Немного позднее до моего слуха долетел звук выстрела.
Вернулся Софронов не скоро. Я поздравил его с удачным выстрелом и поехал с ним за добычей. Меня интересовал дикий олень, прародитель домашнего оленя. Сделав нужные промеры, я помог Софронову ободрать тушу быка и разделать ее на куски. Общий вес согжоя не превышал семидесяти килограммов. Мы погрузили его на нарту и повезли к нашему лагерю.
На обратном пути вспугнули стаю белых куропаток. Они были видны только в полете, а сев на снег, становились незаметными благодаря своей защитной окраске, и мне стоило трудов подстрелить одну птицу, да и то после нескольких неудачных выстрелов.
Моя коллекция пушных зверей и промысловых птиц выросла до такого размера, что надо было подумать о ее сохранении и доставке в Хабаровск.
Трофей Софронова был радостно встречен охотниками. Дело в том. что мясо согжоя вкуснее сохатины, оно лучше и быстрее варится, нежнее на вкус.
Сухожилия, мозг и печень были тут же съедены охотниками в сыром виде. Только я и Авдеев не стали есть, я еще не привык, а Авдеев сослался на свои староверческие обряды, которые, якобы, не позволяют человеку есть сырое мясо.
Зато отваренное мясо все ели в большом количестве. Охотники ели его без хлеба, запивая крепким чаем. В самом деле, на морозе мясная пища хорошо воспринималась организмом. Я никогда не предполагал, что могу есть мясо в таком огромном количестве.
На следующий день мы перешли невысокий хребет Икондя и вышли на реку Кеваты, впадающую в Гуджал.
- Теперь дорогой поедем! - весело крикнул Логинов, но сколько я ни присматривался, никаких признаков дороги, даже проселочной, не видел. Такая же, как и раньше, марь с редкими лиственичниками и кустарниками. Но оказывается «дорога» была. Логинов указал мне на редкие, заплывшие смолой затески на деревьях, которым было не менее десяти-пятнадцати лет, так что они превратились уже в наросты на деревьях.
Здесь проходила тропа оленеводов, по которой можно было ехать без применения топора.
А такая, мало-мальски приметная только разве местным жителям тропа уже называется дорогой.
- Как же, несколько раз нарты прошли! - убежденно говорил Логинов.- Народ ездил, значит, дорога!
В самом деле, олени, словно почуяв, что они бегут не просто по мари, а «дорогой», прибавили ходу, позванивая колокольцами-боталами.
На Гуджале нам встретились рыбаки подледного лова. Они угостили нас свежей рыбой - ленками и хариусами. Мне больше понравился хариус - мелкая рыба из семейства лососевых, очень вкусная. Жареный хариус превосходен и не идет ни в какое сравнение с ленком, хотя и тот тоже из семейства лососевых. Хариус и ленок - промысловые рыбы этой горной реки. Другой рыбы здесь не водится.
Рыбаки сообщили нам о следах выдры, ходившей возле отдушин. Софронов тотчас же достал капкан и заверил меня, что зверь обязательно попадется.
- Как же, только она и ждет твоего капкана! - выразил я свое сомнение.
Но я ошибся. Утром я еще спал, когда услышал голоса Софронова и охотников.
Вскоре в палатку влез Софронов и бросил мне на спальный мешок мягкую и мокрую тушку выдры. Она попалась в капкан, поставленный около отдушины, где выходила на лед.
Я уже говорил, что после откровенного разговора во время лечения Софронов стал относиться ко мне значительно лучше, хотя и оставался по-прежнему немногословен. Но это уже объяснялось его характером. Он не признавал разговоров пустых, считая их простой болтовней. «Зачем болтаешь?» - любил он говорить.
По следам рыбаков мы сравнительно быстро доехали до охотничье-промысловой артели «Аланап» - небольшого селения на правом берегу Тырмы.
Дальше на юг идти на оленях было нельзя: не было корма - ягеля.
Посоветовавшись с местными охотниками, решили весь наш груз, кроме самого необходимого, отправить подводами до станции Биракан, а самим подняться по Тырме до водораздела и по Сагды-Бира выйти к станции Бира.
Чтобы иметь полное представление о природе Дальнего Востока, я хотел пройти хребтом Малый Хинган, где встречалась маньчжурская флора и фауна.
Теперь вместо оленей мы взяли ездовых собак. Они должны были везти облегченные нарты с палаткой и продуктами. Нам предстояло проделать двухсоткилометровый переход на лыжах по горной пересеченной местности.
Наступил март - первый месяц весны, и хотя еще трещали по ночам «крещенские» морозы и перепадали пороши, надо было торопиться.
В апреле на нартах идти трудно, а порой и невозможно.
Распростившись с местными жителями и бригадой Логинова, мы вышли на Тырму и тронулись в последний переход по тайге.
По-весеннему яркое солнце поднималось над лесом, и пушистый куржак, срываясь с ветвей, искрясь, падал на землю. Весна была не за горами. Пройдя немного, я расстегнул куртку, потом снял с головы шапку и сунул ее за пазуху. Авдеев посмотрел на меня и усмехнулся.
- Рано весну почуял, паря!
Но и его рукавицы торчали за кушаком, а лицо было раскрасневшееся и даже немного потное.
ОХОТА ЗА КАБАНАМИ
Дорога была нелегкой. Восемь собак, впряженных по четыре, с трудом тащили две маленькие, груженные вещами нарты. На подъемах приходилось помогать собакам - протаптывать дорогу, подталкивать нарты. Только на спусках мы иногда присаживались на сани и то больше затем, чтобы они не разбились о дерево при разгоне.
Заболоченные пойменные леса и мари уступили место горным смешанным кедрово-широколиственным лесам. В.се чаще и чаще среди всхолмленного моря тайги стали появляться темные вершины корейских кедров. Это очень толстое дерево с ровным, как свеча, стволом поднималось до сорока метров в вышину. Ствол с красноватой корой только ближе к вершине давал отростки - сучья. От сибирского кедра корейский отличается многовершинностью и как бы подстриженной столообразной кроной. Кедр имеет легкую золотистую древесину хорошего качества. Темная хвоя с длинными иглами делает его мохнатым и сразу выделяет среди других древесных пород. Лесной великан-красавец!
Кое-где на кедрах еще виднелись золотистые шишки с орехами. Основная масса урожая была сбита ветрами, обобрана белками, но отдельные шишки могут держаться до весны.
Кедрово-широколиственные леса прежде всего поразили меня своим разнообразием: вперемежку с лиственницей, елью, осиной росли дубы, липа, пихта, черная береза и много других пород. Мощная древесная растительность становилась особенно разноликой по горным распадкам и ключам. Богат был и подлесок из кустарников: лещины, рододендрона, калины; он создавал дополнительные трудности для нашего продвижения. Местами мы с трудом, обдирая руки и лицо, продирались сквозь эту дикую смесь кустарников. Это было, пожалуй, тоже немаловажной особенностью кедрово-широколиственного леса. Царство тайги кончилось.
Когда мы выбирались в полосу более редкого леса или на мари, перед нами вырастала снежная гряда Буреинского хребта. Хребет тянулся с севера на юг, и его конусообразные вершины с полосами ветровального леса служили нам ориентирами. В зимние дни воздух отличался изумительной прозрачностью, и мы могли видеть сопки, отстоявшие от нас на семьдесят пять и на сто километров. Очертания их были столь ясными, что мы порой не доверяли своим глазам и ошибочно уменьшали расстояние.
С каждым днем мы одолевали десятка по два километров, а хребет все шел параллельно нашему пути. Но вот он, словно не желая выпустить нас из снежного плена, повернул с востока на запад, преграждая путь. Однако чем дальше, тем он становился менее величественным, сопки теряли остроту вершин, словно сглаживались, теряли свою крутизну и неприступность. Даже самые высокие вершины теперь не уходили в небесную синь. Интересно, что вместе со сменой восточносибирской флоры на маньчжурскую менялся и облик обитателей тайги. На смену согжою, белой куропатке, каменному глухарю пришли другие обитатели лесов.
То и дело на нашем пути попадались следы изюбрей, кабанов, колонков, а то и сибирской козы, которая любит в зимние снежные времена придерживаться дубового мелколесья, выдувов, где снег не такой глубокий. В отличие от европейского дуба здесь, на востоке, маньчжурский дуб и лещина не сбрасывают охристо-желтой листвы до самой весны, и козы ощипывают эти сухие, сморщенные листья.
В истоках Тырмы, как и предсказывал нам Логинов, соболей не оказалось, и мы, не отвлекаясь на обследование ельников, упорно продвигались вперед. Весна подгоняла нас: днем ослепительно сиявшее солнце начинало пригревать, и пригорки, пеньки и валежники начинали парить, а снег из мелкого становился крупнозернистым и по вечерам звонко похрустывал под ногами. Лес был полон таинственных шорохов, и я то и дело замечал в нем оживление. Постукивали более звонко, чем зимой, дятлы: маленькие серые и ярко окрашенные - большие. Уцепившись за кору, они старательно обрабатывали пораженные личинками деревья. С тонким, как писк комара, посвистыванием перелетали синицы-гаечки - серенькие пташки в палец величиной; ярко-красные клесты сновали в ельниках.
Лес просыпался от зимней спячки. День заметно прибавлялся, и мы в светлое время успевали проходить по двадцати и больше километров, хотя дорога была тяжелой. Собаки с нартами глубоко проваливались в снег, и мы попеременно прокладывали им дорогу. Чаще всего впереди шли Софронов и Авдеев на широких охотничьих лыжах, а я замыкал шествие. Они вернее держались нужного направления и находили проходы в чаще и среди буреломов.
По Тырме когда-то пролегала древняя тропа охотников, которой они выходили к Амуру. Мы решили держаться этого еле заметного пунктира, который облегчал нам задачу. Тропа шла через самую низкую седловину Буреинского хребта и далее на юг по реке Сагды-Бира до станции Бира.
Заплывшие затески на деревьях обозначали ее, и не будь со мной опытных таежников, я бы поминутно сбивался с тропы, так как в сущности ее и не было, а остались только обозначения, что здесь проходили люди десятки лет назад.
Однако Софронов, как и эвенки, что радовались «дороге» на мари, тоже звал ее «дорогой».
Ничего не поделаешь: кто к чему привык! Не знаю, чем именовал бы он тогда наше московское шоссе?
Авдееву эти места тоже были знакомы по дням его молодости, когда он охотился на Малом Хингане. Было это тридцать лет назад, но поскольку раз побывал в этих местах, он уже их знал в полном смысле этого слова.
Перед самым хребтом, вставшим на нашем пути, река Тырма повернула на запад, и мы оставили ее в стороне.
Подъем на перевал был не трудным: ни крутых осыпей, ни скалистых круч. Дорога плавно шла в гору, и вскоре мы благополучно добрались до того места, откуда можно было обозреть всю местность. Северные склоны хребта были более дики и суровы.
Смешанный лес здесь уступил место хвойному. Темные ельники чередовались с березово-осиновыми порослями. Исчезли следы зверей. Они не любили темный голодный лес в весеннее время.
Переход через хребет занял у нас два дня.
Запасы нашего продовольствия иссякли. Этому «помогли»-наши собаки. И не удивительно! Труд их очень тяжел и требовал большого расхода энергии.
Днем они тащили нарты, перегревались, а ночью мерзли от холода, хотя Авдеев каждый вечер и рубил им на подстилку ветки пихтача.
От тяжелой работы ездовые собаки становятся менее проворными и малопригодными для охоты. У них притупляется чутье, они и живут гораздо меньше собак, не знающих лямки. Телосложение у них тоже становится некрасивым, лапы - короткими, толстыми, живот большим, в то время, как охотничья собака всегда поджарая. Они бегают не быстро и с трудом догоняют зверя. Задержав его, нападают молча, как волки.
Если подъем был пологим, то спуск оказался крутым, и мы. то и дело тормозили нарты, чтобы не разбить их о камни или деревья.
Спустившись в ключ Сагды-Биры, стали на отдых.
- Надо кабана стрелять,- сказал Софронов.- А то совсем отощал, идти без мяса не могу! Дорога теперь пойдет все время вниз, можно мясо грузить на нарты, собаки потащат, ничего будет!
Надо было позаботиться и о собаках, этих прожорливых ртах, без которых нам пока не обойтись.
Рано утром, взяв с собой еды, мы отправились за кабанами. Софронов, как всегда, пошел один, а я с Авдеевым. С собой мы вели на сворках своих собак - Кирьку и Верного.
Шли могучим кедрово-широколиственным лесом. Кроны деревьев терялись в высоте, сплетались там, над нашими головами в сплошной шатер. Наверное, летом солнечные лучи с трудом пробиваются через эту преграду, но в зимнее время снег мерцал, покрытый пятнами голубых теней.
Среди белокорых, будто заплесневевших пихт, прямоствольных дубов с рубчатой темной корой и светлокорых ясеней выделялись мощные золотисто-розовые стволы кедров. Гиганты среди великанов. Под шатром этого леса прекрасно уживались густые кустарники, травы.
- Хорошие пастбища для кабанов,- заметил мне Авдеев.- Смотри, паря, сколько хвоща!
Он выдернул из снега пучок зеленых трубочек, как бы составленных из отдельных колен.
- Где хвощ, там и кабан, это его основная пища зимой, когда нет ореха и желудя. Каждый зверь держится около своего корма.
Вскоре кабаньих следов стало так много, словно около какой-то лесной свинофермы. Звери ходили в разных направлениях и разобраться откуда и когда они проходили и куда ушли было мне не под силу.
- Зачем они топтались тут на одном месте? - спросил я Авдеева.
- Должно, берлоги у них тут неподалеку!
До этого я знал только о медвежьих берлогах и мне было очень любопытно узнать, что представляют собой кабаньи «квартиры». Остановившись, мы стали пристально осматриваться по сторонам.
- А это что там желтеет на снегу? - указал я Авдееву на разворошенный снег между тремя близко стоявшими на крутом косогоре кедрами.
- Вот это и есть их берлога!
Подошли поближе. На пространстве четырех квадратных метров снег был прибит и устлан опавшей сухой хвоей, листвой, а посредине в мягкой подстилке виднелось углубление - дежка.
По краям оно было выстлано ветками лещины, бересклета, пихты. Это и было, гайно - берлога.
К гайну вела выбитая в снегу до земли тропа.
В стороне виднелась вторая такая же «берлога», но гораздо меньшего размера, выстланная ветошью более тщательно.
- Вот тут и ночует табун! Чушка с подсвинками и поросятами вместе, а секач в отдельной берлоге,- объяснил Авдеев.- Сейчас они недалеко; снег глубокий, корм добывать трудно!
Мы осторожно пошли дальше. Вскоре увидели взрытый до земли снег. На его поверхности темнела выброшенная рылом прошлогодняя листва, дерн, куски валежника. Свиньи кормились, искали корневища трав, затерявшиеся в подстилке орехи.
Авдеев снял с плеча карабин и отвел предохранитель. Шел он теперь пружинисто, мягко, зорко вглядываясь в каждый темневший на снегу предмет, в просветы между деревьями, прислушиваясь к лесным шорохам.
Вот он остановился. Его внимание привлекла темная коряжина, показавшаяся мне обгорелым пнем.
Я стоял возле Авдеева, не отрывая глаз от пня. Вдруг форма пня изменилась, он стал низким, продолговатым. Я понял, что это кабан, и хотел уже пустить в него пулю, когда услышал шепот Авдеева:
- Не стреляй, это поросенок!
Тем временем кабан, стоявший на валежнике, прыгнул с него и потонул в снегу. Был он размером невелик - около метра в длину и сантиметров 60 в холке.
- Тут крупные должны быть,- шептал Авдеев.- Сейчас определим, откуда ветер и подойдем ближе.
Он сделал резкий выдох и по движению пара определил, откуда дует ветер. Мы стали заходить с подветренной стороны, так как ясно было, что один поросенок не мог отбиться далеко от табуна.
Вскоре среди мелкого кустарника показался черный силуэт кабана, пасшегося отдельно от стада. Он рылся в снегу. Мне очень хотелось выстрелить по кабану первому, но как я ни старался прицелиться - мешали ветки кустарников. Я боялся, что пуля срикошетит и тогда кабан уйдет. Пришлось отклониться в сторону. Кирька чуял зверя, с нетерпением натягивал поводок, привязанный у меня к поясу, но отпускать его до выстрела Авдеев запретил. Секач с его острыми загнутыми клыками легко может распороть любую собаку. Несмотря на кажущуюся величину и неповоротливость, кабан очень проворный зверь.
Стараясь обойти поваленное дерево, я наступил на ветку и она звонко хрустнула под лыжей.
Кабан, спокойно рывшийся в снегу, в мгновение, словно подброшенный пружиной, отскочил в сторону и, задирая кверху длинное рыло, с шумом стал втягивать воздух. Громкое сопение послышалось со всех сторон.
Видно было, что стадо, невидимое нами из-за снега, уже всполошилось и старается определить, откуда и какая угрожает ему опасность.
Я проклинал заросли, мешавшие мне послать пулю в зверя, эту чащу, где нельзя прицелиться в убойное место.
Авдеев сделал рукой знак стоять и не двигаться. Но как было устоять, когда в каких-нибудь тридцати метрах за елью стоял и сопел кабан. Сделать шаг в сторону - и он мой! Тихо наклоняюсь, чтобы передвинуть ногу, и вспугиваю кабана.
Рявкнув, словно медведь, он бросился под косогор, и все стадо кинулось вслед за ним. Забыв обо всем, я изо всех сил побежал вслед.
Глубокий снег мешал коротконогим зверям бежать, но они не меняли направления и, не снижая скорости, неслись за старой свиньей - вожаком стада. Поросята и подсвинки, утопая в снегу, вспарывали его и уходили под снегом, как рыбы в воде. Лишь снежные волны вздымались над их бурыми спинами и указывали путь, по которому уносились клинообразные туши. Я даже выстрелить не успел, как кабаны скрылись.
Огорчению моему не было предела: «Дурак,- проклинал я себя,- почему не послушался, побежал за ними!» Я готов был оттрепать себя за уши, но Авдеев подошел и стал меня успокаивать:
- Ничего, паря, не горюй. Попьем чайку и снова догоним. Они сейчас выйдут на солнцепек, где снегу поменьше, и будут там рыться. Кабан долгой памяти не имеет; испугай его -он бежит; стал - забыл обо всем! Только теперь не горячись, не торопись, а то уйдем домой без кабана, нас Софронов застыдит. Будешь стрелять - выбирай чушку, которая пожирнее, да не забудь, что у нее щетины на хребте на четверть, целиться пониже надо!
Мы развели огонек и стали подкрепляться чаем. Авдеев пошутил:
- Такая жизнь охотницкая: утром - чай, не убил зверя, так и днем чаек, а пустой придешь - и вечером чаишко!
Чаек был горьковат от снега, на котором оседала пыльца с деревьев, но мы уже привыкли к этому привкусу талого снега и не обращали на него внимания.
Предположения Авдеева оправдались: мы скоро нагнали стадо. Звери паслись на южном склоне сопки, и мы смогли подойти к ним довольно близко.
- Ты стой здесь,- сказал мне Авдеев,- а я попробую их обойти.
С этими словами он углубился в лесную чащу, стараясь зайти с подветренной стороны. Не успел он скрыться как следует, я услышал треск валежника, и прямо на меня выскочили чем-то напуганные четыре кабана. Заметив меня, они остановились и тревожно засопели. Я видел их злобные маленькие глазки, пену на клыках, раздувавшиеся ноздри.
Я выстрелил по переднему кабану. Кирька, привязанный у меня к поясу, так сильно рванулся, что я не устоял на ногах и бухнулся в снег. Хотя я тут же проворно вскочил на ноги, но кабанов и след простыл.
Пришлось спустить с поводка собаку, и она унеслась по следу. Через минуту послышался лай. Я бросился сквозь чащу, но, пока продирался в кустарниках, раздался выстрел Авдеева: он раньше меня подоспел к зверю.
Убита была жирная свинья весом около ста двадцати килограммов. Мы сняли с себя сумки, все лишнее и принялись свежевать зверя.
Авдеев первым долгом вспорол живот, освободив тушу от внутренностей. Затем вырезал два окорока и положил их в мешок. Кирьке и Верному досталась печенка. Остальное мясо присыпали снегом и накрыли целой копной еловых веток, придавив их сверху бревном. Так обычно прячут охотники добычу от назойливых ворон.
Эти черные хищники уже расселись по деревьям, каркали, дожидаясь, когда мы уйдем. Ворона - очень зоркая птица!
Не раз я поражался, как они с высоты замечали малейшее пятно крови на снегу. Вот и теперь они перекликались, созывая на пиршество птичью братию:
- Карр! (Сюда, дескать,- добыча!)
- К-р-ры!
Поглядывая на нас, они переговаривались, видно не терпелось, чтобы мы ушли побыстрее.
- Ну как, мол, не ушли еще?
- Нет, толкутся, окаянные!
- Ну, ничего, подождем братцы!..
Они как бы догадывались, что всего мы не заберем и им хоть кровавый снег, а то и внутренности останутся. Вот и горланили:
- К-ры-ры! Кар-р!..
- Не накрой кабана, так к завтрашнему дню от него одни кости останутся. Враз управятся,- заметил Авдеев.- Мало того, что сами расклюют, растащат, так и другого зверя наведут на это место.
Черная дальневосточная ворона и зиму и лето проводит в лесах, в поисках корма летит иногда за десятки и сотню километров, кормится даже на помойках городов, но гнездится всегда в лесу.
За мясом решили приехать на другой день с нартами, а пока предоставили воронам лакомиться остатками внутренностей.
Поздно вечером возвратились в лагерь.
Софронов уже поджидал нас у костра. Ему не повезло: он стрелял большого секача, ранил его, и тот, ободрав клыками одну из собак, ушел.
Софронов долго преследовал его по Сагды-Бире, но догнать не мог. С тем и вернулся, голодный, злой и усталый. Я знал, что стрелок он хороший, хотя и уступает немного Авдееву; следопыт он был отменный и неудачу надо было отнести за счет его плохонького слабого карабина.
СЕВЕРНЫЕ ДЖУНГЛИ
На следующий день мы отправились за добытым кабаном. Приближаясь к тому месту, где было накрыто нами мясо, я заметил какого-то темного зверя, мелькавшего между кустами. Он был возле мяса и теперь старался уйти. Я показал на него Авдееву.
- Харза! - вскрикнул он.- Пускай скорей собак!
Спущенные со сворок собаки устремились за мелькавшим в чаще зверем. Вскоре они стали его настигать, но не тут-то было! С проворством белки харза взобралась на высокий кедр и притаилась в его густой кроне.
Добыть шкурку харзы, или гималайской куницы, было моей давней мечтой, и я, не обращая внимания на хлеставшие по лицу ветки, пустился к кедру насколько позволял кустарник.
Авдеев не спеша шел за мной. Он-то знал, что собаки не дадут харзе спуститься на землю и перебежать на другое дерево. Я долго всматривался в густое сплетение ветвей кедра, прежде чем заметил притаившуюся куницу.
- Нужно бы переловить собак,- сказал я Авдееву,- а то попортят шкурку зубами. И вообще зря мы их спустили. И так догнали бы ее, видишь как она проваливалась в снегу. Ей собаки чуть хвост не оторвали!
- Ну нет,- возразил Авдеев.- Без собаки мы бы ее только и видели. Да и на дерево она бы не полезла. Видишь ее хорошо? Не торопись, стреляй по голове малопулькой.
Заменив боевой патрон в карабине на патрон с облегченной пулей, я стал тщательно целиться. Только после второго выстрела зверек закувыркался и бухнулся в снег.
Харза оказалась далеко не черной; хвост, нижняя часть тела и морда были темно-коричневые, а передняя часть туловища и живот - ярко-охристые. Общая длина, как измеряют охотоведы,- от кончика носа до кончика хвоста - сто тридцать сантиметров. Из этой длины полметра приходилось на хвост.
Яркая раскраска, жесткий и редкий волосяной покров говорили о том, что родина харзы - Индия, но куница сумела приспособиться и к суровой дальневосточной зиме.
Прекрасно лазая по деревьям, харза наносит большой ущерб охотничьему хозяйству, а сама по себе как пушной зверь не имеет даже средней цены. Оказалось, что она изрядно утолила голод за счет наших запасов мяса. Но добычу харзы я ставил выше мяса, которое она успела съесть, к немалому удивлению Авдеева.
- И чего ты ею любуешься? За эту тварь даже копейки никто не даст. Самый дешевый зверь, а мяса попортила вдвое против своей цены!
- Евстигней Матвеевич, для музея такой экземпляр дороже трех кабанов, а ты говоришь! Ведь этого зверя только и можно добыть на Дальнем Востоке. Ну-ка попробуй ехать за ним из Москвы, во сколько обойдется? В копеечку влетит…
- Была б нужда за ней ехать! - ворчал Авдеев.- Даром не взял бы такую! Что-нибудь путное - другое бы дело…
- Чем же не путное? Она в тропических джунглях живет, по пальмам лазает, питается там мелкими обезьянками, а тут - в Приамурье зашла, охотится за зайцами, белкой… Редкий зверь!
- Ладно, редкий, так и потроши ее сам, а я рук о нее пачкать не хочу! - и с этими словами он уселся на валежину отдыхать.
Семь месяцев мы были во власти восточносибирской тайги, а теперь, перевалив хребет, шли северными джунглями.
Необычные это были леса. Лианы винограда, китайского лимонника и кишмиша-актинидии обвивали кустарник и забирались на вершины деревьев.
Разорвать лианы было почти невозможно, до того они были крепкие! Только мороз делал их немного хрупкими.
От рук, одежды исходил тончайший запах лимона; это шизандара - китайский лимонник давал знать о себе. Я растирал в пальцах тонкий стебелек и вдыхал чудесный освежающий аромат.
Здесь было такое множество деревьев, что я не мог всех определить, хотя считал себя уже дальневосточником. В отличие от таежных молчаливых лесов жизнь в кедрово-широколиственном лесу проявлялась на каждом шагу. Дятлы были самые различные: желна, большой пестрый, трехпалый, малый пестрый; они постоянно находили себе работу, и их дробный веселый перестук звонко и радостно отзывался у меня на душе. Близка весна! - выстукивали они.- Близка!
Много было поползней, синиц, снегирей, соек, кедровок. Все это были птицы местные или же совершавшие небольшие сезонные миграции; они тоже оживляли природу.
Вечерами бесшумно, мягко, будто на цыпочках, перелетали совы, а однажды утром я услышал уханье филина.
Соболей здесь не было, но зато на снегу во множестве пестрели следы колонка.
В таком лесу глаз не утомлялся от однообразия картин, внимание всегда было начеку, а не засыпало, укачиваемое безмолвием тайги.
Погрузив остатки кабана на нарты, мы засветло доставили его в лагерь. Софронов вернулся поздно, когда мы сняли уже с кабана шкуру. Ему опять не повезло: вспугнул двух изюбрей, напал на след кабана, но догнать табуна не смог - далеко ушли, видно кто-то их напугал.
- Я знаю кто мешал мне сегодня - тигр!
- Скажешь еще! - возразил я.- Откуда он здесь?
- Не знаю откуда. Однако след видел. Кабан тоже почуял -его, далеко пошел в другое место.
- Может быть, след рыси ты видел, или росомахи?
- Ты что, думаешь у меня глаз нету, след понимать не могу? - обиделся Софронов.- Росомахи здесь совсем нету, а рысей я знаю - двенадцать штук убил!
Я был взволнован этим сообщением и обратился к Авдееву, может ли это быть?
- Почему же не быть? Здесь уже тигр бывает, с Маньчжурии заходит, и местный есть,- подтвердил Авдеев.- На Хингане всегда тигры есть, а тут до этого хребта рукой подать. Вот и забрел какой-нибудь. Зверь на ногу легкий, далеко ходит! Ты вот скажи, откуда он здесь, тоже из Индии?
- Нет, в Индии другой вид тигра - тропический, или бенгальский, а у нас в Приамурье - дальневосточный, длинношерстный тигр. Для него это уже давно родные места. В Индии ему теперь делать нечего, там ему климат не подходит. Когда-то, давным-давно, и в Приамурье был тропический климат, росли пальмы, обитали теплолюбивые звери. Потом наступило похолодание, пальмы вымерзли, вымерли южные животные, а тигры приспособились к новому холодному климату. У них отросла длинная шерсть, густая, пышная, и они не боятся морозов и снега. Вот таких животных, сохранившихся от древней природы, ученые называют реликтами…- рассказывал я.
- Хитрый народ пошел теперь,- усмехнулся Авдеев.- До всего доходит. Дотошный народ…
- Скажи, Евстигней Матвеевич, ты ведь раньше был тигроловом, так нельзя ли нам поймать этого тигра?
- Взрослого не поймать,- ответил Авдеев.- Его не остановишь, он всех собак, как мышей, передавит и уйдет. Да и останови, так нам его не связать, силы не хватит. Мы тигрят ловили. Правда, иной котенок, что твой кабан, с центнер весом, и башка у него, как у взрослого, а характер еще щенячий. Постоять за себя не может. Дите, одним словом. Таких вязали, приходилось…
- Тогда мы его застрелим, а шкуру для музея!
- Застрелить не шутка, лишь бы догнать! - усмехнулся
Авдеев.- Ты за кабанами бегал, знаешь, ну а тигр получше кабана ходит!
Идти за тигром Сафронов не выказывал ни малейшего желания.
- Зачем тратить время, ноги бить… Зверь ходит шибко быстро, слышит лучше сохатого, носом чует лучше собаки, глазами видит, как орел. Как к такому зверю подойдешь? Ходи, если хочешь, а я буду палатку сторожить, мясо варить, маломало поправляться буду!
- Конечно, как подойдешь, если ты его больше медведя боишься, - ехидно заметил Авдеев.
- Зачем болтаешь, когда не знаешь? - Софронов сверкнул глазом, как тогда на Лямина в Чумикане.- Храбрый - беги, догоняй, а у меня ноги старые!
На следующий день мы пошли в тот ключ, где Софронов видел след тигра; сам он идти наотрез отказался, да и преследовать одного зверя втроем было бы неразумно. Кто-то должен был остаться с собаками, присмотреть за лагерем.
К тому же в моей коллекции не хватало колонков, а Софронов сказал, что приметил место, где можно поставить капканы.
Пройдя около десяти километров, мы вышли на след тигра. Наши собаки ничем не реагировали, следовательно, тигр прошел давно, несколько дней назад, и его запах вымерз из отпечатков лап.
Мы пошли по следам. Вскоре след привел нас к толстой старой липе. Собаки заволновались, мы подумали, что зверь близко, но дело было не в нем. Возле липы на снегу валялась густая черная шерсть, а снег был утоптан и местами окрашен кровью.
В корнях вековой липы зияло черное отверстие.
Сняв карабин с плеч, мы подошли к дереву.
- Работа тигра,- промолвил Авдеев после беглого осмотра.- Видишь, в корнях липы гималайский медведь сделал себе берлогу, а тигр его учуял, разворотил лапами отверстие, вытащил его оттуда и задавил…
- А где же тогда медведь? - наивно вырвалось у меня.
- Известно, сожрал он его. Вот и лапа одна валяется…
Подняв из снега уцелевшую медвежью лапу с загнутыми, как крючья, когтями, Авдеев определил, что вес медведя не превышал пяти пудов.
- Мелкий медведишко был - муравьятник! - Недоеденные остатки медведя растащили вороны и колонки, следов которых было вокруг множество.
- Голодный был тигр,- сказал Авдеев.- Съесть такую зверину… Аппетит, нечего сказать!.. И надо же вытащить из дупла косолапого, ведь он тоже царапаться может! Поди упирался крепко…- Забросив на плечо карабин, он кивнул мне головой:
- Пошли дальше!
Два дня мы брели по следу тигра. Зверь уходил строго на запад. Видимо, медвежатина была настолько сытной, что он не обращал внимания на следы кабанов и изюбров, которые пересекал. Какая-то непонятная нам нужда гнала его в одном направлении.
Усталые, мы присели на валежину.
- Не догнать нам его, далеко пошел, куда-то на новые места,- уныло проговорил Авдеев.- Пойдем назад? А?..
Я кивнул головой в знак согласия.
Софронов, обеспокоенный нашим долгим отсутствием, был очень рад, что мы вернулись.
- Завтра хотел за вами идти! - сказал он.- Думал взять пустую нарту и ехать.
Он изловил четырех охристо-рыжих колонков и преподнес их мне.
- Бери, ты просил, Саша!
Мы сытно покушали и легли отдыхать у теплой печки.
Дни становились заметно теплее, на косогорах снег подтаивал, оседал и ночью образовывался наст.
По такому снегу легко ходить только в морозик рано утром и вечером.
Надо было торопиться, пока не наступила распутица, тем более что мы шли на юг, а не на север.
Недели через полторы мы поднялись на гребень сопки и остановились. Издали еле слышно донесся непонятный звук. Авдеев стал вслушиваться, как это делает иногда сохатый, поворачивая голову, чтобы учуять, откуда идет звук.
Мы тоже стали прислушиваться, и звук дошел до нас, радостный, вселивший в меня бодрость и желание прыгать, петь…
После восьми месяцев скитаний я услышал паровозный гудок. Я его сразу узнал и чуть не задушил в объятиях своих друзей.
- Паровоз! Вы понимаете, паровоз? Конец нашим скитаниям, нашим трудностям!
Был золотистый угасающий вечер. Солнце село за дальние сопки, но последние лучи еще пронизывали лес и долину, раскинувшуюся перед нами. Только внизу долины уже расстилалась голубая вечерняя дымка, и вдруг над ней протянулся белый след паровозного дыма. Поезд шел на Москву.
А еще дальше, там, откуда выполз этот червячок дыма, вдруг заискрились слабые звездочки огней. Это в поселке Бира зажгли электрический свет.
Я подбросил шапку и крикнул «ура!».
- Пойдем на станцию? - спросил Авдеев.- Или нет?
- Зачем? Тайга лучше. Ночуем, потом станцию пойдем смотреть,- ответил Софронов.
Пришел конец нашему путешествию.
Мне остается сказать немногое. Приехав в Хабаровск, я не застал там Абрекова. Он знал, что основная масса соболей находится в верховьях Буреи, не разрешал там промысла, так как рассчитывал сам сделать это «открытие». Увидев во мне соперника, он решил направить экспедицию по пустым местам. Ему это удалось бы, возможно, но у Лямина в Чумикане была совершена кража. Во время следствия ящик с документами сразу же был опечатан и началась ревизия, чтобы установить действительный размах хищения. Таким образом, Лямин, старый приятель Абрекова, не смог уничтожить частных писем, которые он по беспечности сунул в ящик вместе со служебными бумагами.
Письма попали в руки следователя, который сообщил об этом Скалову, а тот разослал по всем сельским советам на моем пути телеграмму.
Через месяц, дождавшись своего груза с коллекциями, я сел в поезд, чтобы ехать из Хабаровска в Москву и доложить о результатах первого этапа экспедиции.
Меня провожали Авдеев и Софронов. Они должны были с первым рейсом шхуны «Пушник» уйти в Чумикан.
Я обнял Софронова, и мы поцеловались.
- Хороший ты мужик, Саша! - сказал старик.- В Чумикан приедешь - заходи, опять в тайгу пойдем.
- Спасибо, Софроныч, приеду!
- Ну, Авдеич, не прощаюсь! Скоро увидимся, когда пойдем в новую экспедицию.
- Поживем - увидим, пошто вперед загадывать,- ответил этот славный бородач, ставший мне как родной отец.
- Смотри не засиживайся в Москве!
- Что вы! Мне теперь без Дальнего Востока не жить!
- Это ты правильно говоришь. Край хороший!
- Чудесный край!
- Счастливого пути, Саша!
- Спасибо за все, друзья!

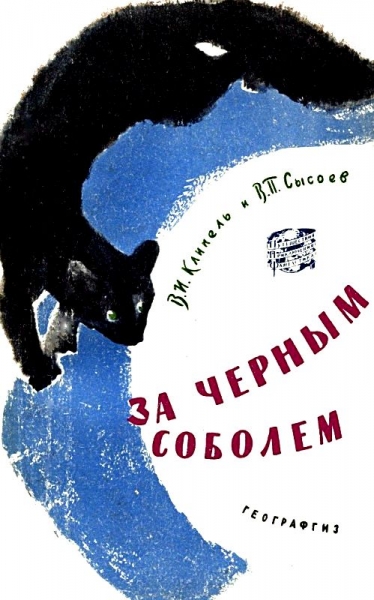
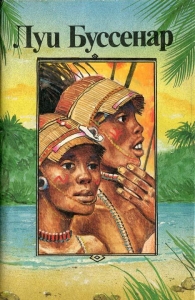




Комментарии к книге «За черным соболем», Владимир Иванович Клипель
Всего 0 комментариев