Элизабет Хаксли СИЯЮЩЕЕ ЭЛЬДОРАДО
Предисловие автора
В предисловии к работам подобного плана принято выражать благодарность тем, чья помощь и совет помогли автору написать книгу. Если бы я попробовала поступить именно так, то перечень имен напомнил бы телефонную книгу и все равно оказался бы неполным. Австралийское гостеприимство легендарно, а по отношению ко мне сказка буквально стала былью. Все, что я могу сделать, — это искренне поблагодарить огромное количество добрых и щедрых людей, которые приложили столько усилий, чтобы посоветовать мне, какие места посетить, помочь добраться до этих мест; приглашали меня, совершенно незнакомого человека, в свои дома и отнеслись ко мне исключительно доброжелательно и терпеливо.
Стоит ли говорить, что путешествующему по Австралии нужно столько увидеть, услышать и о стольком подумать, а ведь мы всегда вертимся как белки в колесе, постоянно оглядываясь на часы, боясь опоздать на очередное свидание, и в состоянии лишь бегло затронуть верхний слой увиденного, да и то очень небольшую его часть. Есть целые аспекты жизни Австралии, и очень важные, о которых я даже не пыталась писать, — образование, законодательство и правосудие, политика и профсоюзы, социальное обеспечение и здравоохранение, религия и церковь — аспекты жизни общества, связанные с промышленностью и производством, банками и торговлей — огромными финансовыми маховыми колесами, дающими возможность экономике развиваться такими удивительными темпами; вопросы, связанные с колониальной империей в Юго-Восточной Азии, вооруженными силами и военной политикой, ракетной техникой и ядерными исследованиями, и много других.
Грубо говоря, трое австралийцев из каждых четверых живут в городах, работают в магазинах, учреждениях и на заводах и вряд ли когда-либо видели скотный двор, кроме как по телевизору, или овцу, за тем исключением, когда едят поджаренные кусочки баранины. Я знаю, что написанная мною картина несовершенна. Я слишком мало писала о жизни трех городских жителей и слишком много о четвертом, занятом в скотоводстве и обрабатывающем землю; слишком много о животных и отдаленных районах и слишком мало о мужчинах и женщинах австралийского сердца, которое в географическом смысле открыто морским волнам, а не скрыто глубоко в груди континента. Но я не стремилась показать полную картину, а хотела сделать лишь некоторые личные наблюдения о людях, местах и явлениях, которые меня особенно заинтересовали. Это единственное, что может сделать любой путешественник, который не ставит своей задачей создание энциклопедии, широкой антологии или проведение глубокого анализа.
Я использовала термин «Содружество» в его австралийском смысле для обозначения федерации шести штатов, а не в том, в каком он употребляется вне Австралии для обозначения того неопределенного объединения государств, унаследовавших от умершей Британской империи связи, привычки и традиции.
Элизабет ХакслиСидней
На высоте тридцати тысяч футов над центральной пустыней Австралии в самолете «Квонтас» вам на завтрак подают бараньи отбивные. Для англичанина свинина с утра — явление нормальное, но баранина… С этого момента осознаешь, что приближаешься к стране незнакомой, и, как все незнакомое, она представляется какой-то диковинной. Бараньи отбивные на завтрак! Попробуй догадайся, что же это за страна, лежащая внизу, молчаливая и пустынная, та, которую ты еще совсем не знаешь.
Я читала роман «Восс»[1]. Странной казалась трагическая история исследователей и гибели их в суровой пустыне, раскинувшейся сейчас под нами, мне, сидящей в уютном салоне самолета. Я знала, что где-то внизу в равнодушной темноте лежат останки Лейхардта (прототипа Восса) и его шести товарищей, которых не смогли разыскать даже такие прекрасные следопыты, как австралийские аборигены.
В соседнем кресле сидела девушка из Мельбурна, возвращавшаяся домой после продолжительного турне по Британским островам. Свое пребывание в Англии она поделила между работой акушерки и охотой на оленей в свободное время. То она мчалась в дождь и слякоть на велосипеде принимать младенцев на отдаленных фермах, то разъезжала в «лендровере», знакомясь с повадками оленей, или пробиралась пешком через болота и вересковые заросли. Девушка была небольшого роста и скорее походила на балерину, чем на охотника.
И вот самолет приземлился в Сиднее. Город был залит солнцем. Вне всяких сомнений, первое, последнее и самое яркое впечатление от этого сияющего континента оставляет солнце. Оно сказывается на характере австралийца. Выжженная пустыня в центре страны окружена здесь лентой прибрежной полосы. На протяжении двенадцати тысяч миль океан то ласкает своими волнами берега, то обрушивает их на прибрежные скалы.
Что касается Сиднея, то в течение всего года город получает в среднем семь солнечных часов ежедневно (в Брисбене, Аделаиде и Перте продолжительность солнечных часов еще больше). Для жителей Британских островов это равнозначно пребыванию в раю. Почти каждый сиднеец — загорелый, здоровый, легко одетый, а на знаменитых пляжах тело его вообще едва прикрыто. Ребятишки, с изумительными светлыми волосами, пышут здесь здоровьем.
На этом месте в один из январских дней 1788 г., когда Первый флот бросил якорь там, где сейчас причал Серкюлар, и сложилась австралийская нация. Капитану Артуру Филиппу[2], приплывшему из залива Ботани, не потребовалось много времени, чтобы понять, что это одна из лучших гаваней мира. Фиорды, заливы, бухты, мысы — и ни одного квадратного ярда ровной поверхности. Со всех сторон вас окружает синее, сверкающее море. Кругом белые здания, зеленые деревья.
Люди обезобразили пейзаж, но природа все равно берет свое, хотя того, что архитектор Робин Бойд[3] назвал «австралийским уродством», здесь предостаточно. Это столбы, пилоны, провода и телевизионные мачты, дороги, склады, магазины, указатели. Все разбросано в разных направлениях: вверх, вниз и вдоль этой неровной, изрезанной, покрытой лесами береговой полосы на расстоянии двадцати миль. И все же — крутые обрывы, пляжи, омываемые пеной, и серо-зеленые эвкалипты радуют глаз. Паромы, танкеры, буксиры и теплоходы качаются на волнах Порт Джексона, который принимает в год более четырех тысяч судов.
В старой части города сохранилось несколько изящных зданий начала XIX в., когда губернатором (1810–1821) был Лаклан Маккуори. Сейчас они затерялись среди пышных викторианских зданий и современных бетонных башен. Большая же часть Сиднея представляет собой некую аморфную безликую массу рифленого железа, кирпича и железобетона, рассеченную рукавами транспортных магистралей. На улицах множество людей, магазины полны покупателей, стоянки для машин забиты, все куда-то спешат. Сидней метко забросил мяч в сетку фортуны.
В теплую летнюю ночь фонтан выбрасывает россыпь брызг, на которых пляшет вращающийся золотой шар. Сверкают электрические огни, гудят такси, медленно прогуливаются мужчины в белых рубашках с короткими рукавами и черных джинсах, курят, разглядывают витрины; смеются девушки, льется свет из распахнутых дверей пабов, несется запах поджаренного кофе и бифштексов; валяются под ногами пустые коробки; слышится сладенькая песенка из автомата; звучит гнусавый голос электрогитары. Маленькие, прижатые одна к другой лавочки с сигаретами, конфетами, содовой водой. Шум, свет, поток прохожих. Люди везде — таково впечатление от Кингс-Кросс вечером. И особенно запоминается крутящийся золотой шар над нитями фонтана — символ Кингс-Кросса.
Этот район называется сиднейским Челси[4]. Но мне он совсем не напомнил Лондона. Правильнее было бы сравнить его с Гринвич Виледж[5] меньших масштабов. Говорят, что Кингс-Кросс — самое густонаселенное место на земном шаре. Однако стоит отойти немного от центра, как попадаешь на тихие, спокойные улицы, где нет сверкающих огней, греческих ресторанов, баров-экспрессо и пивных, заполненных посетителями. Но шум большого города, конечно, слышен и здесь. Из пивных доносится непрерывный гул. Слышны громкие голоса людей, старающихся перекричать транзисторы, проигрыватели, телевизоры, которые сообщают последние спортивные новости.
Хотя Кингс-Кросс и расположен в старой части города, но вид его вполне современен, ведь он создан новым поколением австралийцев. До второй мировой войны поужинать в кафе после семи часов вечера считалось непристойным, единственным напитком порядочного человека было пиво, а женщинам подавали только чай. Теперь здесь даже глубокой ночью можно съесть хорошо прожаренный бифштекс, выпить вина, свежего кофе. Это часть новой Австралии, но все равно и в ней осталось что-то старомодное, чему невозможно дать точного определения. Может быть, это какая-то раскованность, неторопливость, простор. На побережье встречаются пабы, похожие на те, которые могли бы быть в Уоппинге[6] еще в старые времена. В них стоят пивные бочки, в окнах матовые стекла, на потолке тусклые электрические лампочки, засиженные мухами. Так и кажется, что сейчас увидишь посыпанные песком полы и услышишь стук копыт по булыжнику. Половиной посетителей в одном из пабов, в который я зашла, были аборигены — приветливые, улыбающиеся мужчины и женщины с курчавыми волосами. Когда мы уходили, один из них обошел всех присутствующих и пожелал им спокойной ночи.
Мой знакомый, сопровождающий меня по городу, говорил, что сиднейцам присущ азарт и каждый из них — игрок. Увлекаются они и искусством. Агенты по скупке картин рыщут в поисках молодых обещающих художников, подписывают с ними контракты, придерживают покупку в ожидании роста цен. Имя модного художника как бы случайно роняют в соответствующих кругах, слухи распространяются. Короче, используются методы, известные всем агентам мира по скупке произведений искусства, а в Сиднее они доведены до апогея. Растут как грибы частные картинные галереи. В течение одной недели было организовано, если я не ошибаюсь, шесть выставок, каждая посвящена искусству какого-либо одного художника. А открытие художественной выставки в Сиднее — надолго запоминающееся зрелище. Одну из таких выставок я посетила в Пэддингтоне, где вдоль узких петляющих улочек, вернее закоулков, расположились домики, построенные, казалось, для соревнований по бегу среди карликов. Теперь это были не коттеджи, а миниатюрные здания, окруженные террасами[7], однокомнатные, зачастую украшенные чугунными балконами. Они излучали очарование, и мне так захотелось, чтобы один из них был моим. Дома были заброшены, так как считалось, что они неудобные и грязные, отжили свой век. Многие из них снесены. Погибли бы все, если бы после второй мировой войны не возродился интерес к предметам старины, уважение к традициям и новое отношение к творениям викторианского века. Джоном Бэтменом[8] Австралии был Робин Бойд, которому помогли блестящие снимки Грэма Робертсона. Оба они из Мельбурна, но не обошли своим вниманием и Сидней, так как там имеются викторианские здания и более позднего периода — короля Георга[9], чего нет в Мельбурне, возникшем после 1835 г.
Итак, кукольные домики Пэддингтона снова вошли в моду. Их арендуют представители средних слоев, особенно интеллигенции. Они тщательно отремонтированы, покрашены в яркие цвета. За чугунными балконами, которые ранее выбрасывались на свалку, охотятся как за деликатесами. Жаль, что мода опоздала на двадцать лет, а то и большинство террас было бы спасено.
Но как очаровательны ни были бы сохранившиеся здания, они, конечно, не приспособлены для организации в них картинных галерей, особенно в наши дни. Возле дома, где проходил вернисаж одного из художников, мы увидели скопление автомобилей, толпу подростков, танцующих джайв и твист среди машин под звуки поп-музыки, исполняемой джазистами в солдатской форме, дующими в трубы с упорством маньяков. Над массой прижавшихся друг к другу орущих лиц время от времени поднималась бутылка шампанского. Мы протиснулись поближе и увидели, что ею размахивает молодой человек в одежде французского моряка, пытающийся разлить пенистую влагу. К нему тянулись десятки страждущих рук с пустыми стаканами. Растерянно оглянувшись, он неожиданно улыбнулся, поднес бутылку к губам и опорожнил ее.
На стенах висели картины, которые создаются с помощью леек, метел и садовых совков. Никто на них даже не смотрел. Однако почти ко всем картинам прикреплены красные таблички, говорящие о том, что картина продана, и за многие из них, вероятно, была заплачена не одна сотня долларов. Цена, назначенная за работы неизвестного художника, по европейским понятиям мне показалась огромной, если не просто абсурдной. Когда мы пробивались назад, солдаты играли на трубах еще громче, и еще больше людей, молодых и пожилых, пьяных и трезвых, танцевало на улице. На утро газеты писали, что вернисаж имел необыкновенный успех, и половина желающих так и не сумела на него попасть. На следующий день его повторили с еще большим успехом. К сожалению, имени художника я так и не запомнила.
После того как открытие состоялось, можно было посмотреть уже и сами картины. В Сиднее большинство произведений искусства относится к абстрактной живописи, если использовать здесь ставший международным термин.
Этого нельзя было сказать о предыдущем поколении художников, среди которых за пределами Австралии наиболее известны Сидней Нолан и Расселл Драйсдейл[10]. Язык их искусства истинно австралийский. Четкие силуэты деревьев и нагромождения скал на фоне пустыни и убогих хижин; изможденные, но не покоренные мужчины и женщины, бросающие вызов судьбе; умирающие от жажды животные и гибнущие птицы; мифы и фольклор национальной истории — все отражено в этих произведениях. Странное и временами причудливое воображение находит выражение и в работах художников старшего поколения — Артура Бойда, Клифтона Пью, Чарльза Блэкмена, Альберта Таккера, Джона Персеваля и др.
Затем пришел абстракционизм с его новыми представителями: Джоном Олсеном, Джоном Пассмором, Фрэнком Ходжкинсоном и др. Хотя многие из них и выставляли свои картины за пределами Австралии, мало кто завоевал широкую известность. Однако страстность, наполняющая их работы, контрастные краски и изобразительность еще завоюют некоторым из этих художников место в мировой живописи. Вопрос — кому. Ведь у каждого из любителей живописи есть свой фаворит— отсюда и разрекламированные вернисажи, шумиха вокруг них и взвинченные цены.
По общему мнению, художники Мельбурна тяготеют к предметной живописи, а Сиднея — к абстрактной. В 1959 г. семь художников, из которых лишь один был сиднеец, объединились в группу «Антиподиэнз», организовали выставку и опубликовали манифест в защиту предметной живописи. Они выступали против экспрессионистов, которые считали, что «изобрели новый язык искусства». Представители группы «Антиподиэнз» считали это заявление абсурдным. Для художника, говорили они, основой искусства является образ, понятная всем форма, ясный символ. Для участников группы образ был олицетворением реальной жизни, необходимостью активного вмешательства в нее. Абстракционисты же, создавая свою теорию, вероятно, в несколько циничной погоне за модой, целиком отмежевывались от повседневных страстей человека. Художники Сиднея не замедлили нанести ответный удар и организовали свою выставку, назвав ее «Приглушенные барабаны». Выставка пародировала и высмеивала мельбурнских прагматиков, живописцев, с точки зрения сиднейцев, вычурных и помпезных.
Такое разделение художников по географическому признаку, конечно, весьма условно. Старейший и, по мнению критиков, самый крупный из абстракционистов провел годы в хижине на острове недалеко от побережья Квинсленда, терпеливо совершенствуя свои лиричные работы, напоенные легкими и причудливыми цветовыми гаммами. Имя его Иэн Фэрвезер.
Один из наиболее оригинальных молодых художников-абстракционистов — Леонард Френч[11], чьи картины, написанные в суровом цвете, частично черпают вдохновение в русской иконописи, — родом из Мельбурна. А наиболее знаменитый Уильям Добелл стоит над всеми школами, группировками и модными течениями. Есть ли в наши дни в мире более тонкий портретист? Он создает портреты многих своих современников из разных стран мира. «Стараясь изобразить мужчин и женщин наиболее правдиво, — писал о Добелле доктор Бернард Смит, — он показал, что его видение мира столь же австралийское, как голландское у Рембрандта, испанское — у Гойи, английское — у Хоггарта. Он доказал, что можно стремиться к мастерству и достичь его, не унижая себя перед лжепророками культуры»[12].
Может ли существовать специфически австралийское видение предмета в абстрактном искусстве? Согласно общепринятым понятиям, абстрактное искусство в большей или меньшей степени интернационально. Нельзя приклеить национальный ярлык ромбу, кругу или линии из точек. Но что сказать тогда о персидской керамике, испано-мавританском фаянсе и большей части мусульманского изобразительного искусства? Однако этот спор уведет нас далеко от Сиднея, а большинство художников Сиднея считают, я думаю, что абстрактный экспрессионизм исключает географический подход.
Один из художников заявляет:
— Я пытаюсь изобразить анимистическое качество— некий мистический трепет, выразив его через природу.
Другой сиднеец надеется, «преодолев фальшь внешнего облика, передать скрывающуюся за ним жизнь, одинаковую для всех». Третьему «хочется сказать что-то об энергии и биении жизни в людях». Четвертый рассчитывает «сделать невидимое видимым». Эти идеи, насколько я понимаю, международны вне зависимости от того, где работают их последователи: в Париже или Лондоне, в Сиднее, Мельбурне или Нью-Йорке. Я не думаю, что можно говорить о каком-то специфически австралийском стиле, школе или понимании искусства у молодых художников предметного и абстрактного направления. Каждый из них идет своим путем и старается сделать «невидимое видимым». Но судить об этом — дело специалистов. Любитель же может быть уверен в одном — мир искусства в Сиднее, как и во всех городах Австралии, живет бурной жизнью и полон уверенности. Транспортные пробки у зданий, где устраиваются выставки, танцующие подростки и повторные вернисажи говорят о том, что у художников и любителей искусства единые интересы, а это далеко не всегда характерно для более старых стран.
Говорят, что австралийцы потребляют на душу населения больше, чем кто-либо в мире, мяса, пива и чая. Значит они должны писать и больше картин. Кто же покупает все эти полотна и куски картона, разукрашенные поливинилацетатом? Конечно, скотоводы, банкиры, судостроители, издатели, владельцы магазинов, угольные магнаты, маклеры по продаже собственности — богатые люди, сколотившие свои состояния как в многочисленных отраслях промышленности, возникших вновь во время войны, так и в традиционных. Многие из них живут в Сиднее, занимают комфортабельные, современные, но не бросающиеся в глаза дома. Ведь быть богатым — это одно, а подчеркивать свое богатство уже считается признаком дурного тона.
Например, Уорвик Фейрфакс обладает обширной и весьма впечатляющей коллекцией современного искусства. В течение века семье Фейрфакс[13] принадлежала газета «Сидней Морнинг Геральд», старейшая в Австралии, основанная еще в 1861 г. Хотя в настоящее время эта солидная газета, а также сиднейская «Сан» и «Канберра Таймс» принадлежат корпорации, два брата Фейрфакс, Уорвик и Винсент, остаются ее ведущими директорами.
«Сидней Морнинг Геральд» покровительствовала художникам. Она направила в 1944 г. в западную часть Нового Южного Уэльса в качестве своего корреспондента художника Сиднея Нолана для создания репортажей о влиянии засухи на человека, животных и природу. Спустя восемь лет этот художник с той же целью был направлен в Северную Территорию брисбенской газетой «Курьер Мейл». Хотя «Сидней Морнинг Геральд», как старейшая из ежедневных газет, определенно одна из наиболее влиятельных, с точки зрения тиража она отнюдь не самая крупная. Две мельбурнские газеты: «Сан-Ньюз Пикториэл» и «Геральд», а также сиднейская «Дейли Телеграф», принадлежащая издательству «Сан», в редакционную коллегию которой входит один из ведущих поэтов страны Кеннет Слессор[14], обгоняют ее. Естественно, по американским или английским стандартам тиражи австралийских газет не велики. Самая крупная из них — мельбурнская «Сан-Ньюз Пикториэл» выходит в количестве немногим больше шестисот тысяч экземпляров, а тираж трех основных ежедневных газет в Сиднее составляет лишь около половины этой цифры. Но так же, как мясо, пиво и чай, количество газетного материала на душу населения в Австралии самое высокое в мире. Менее чем тринадцать миллионов населения читают более шестисот пятидесяти газет. Не все они, конечно, выходят каждый день. Общий тираж ежедневных газет составляет немного меньше четырех миллионов, или один экземпляр на троих читателей. В Великобритании это соотношение составляет один к двум.
В целом австралийская пресса не одобряет неврастенического подхода к отображению событий, свойственного многим популярным американским изданиям. В Австралии никогда не было фигур, подобных таким крупнейшим газетным магнатам, как Уильям Рэндольф Херст или Бивербрук.
Наиболее суровыми критиками своей прессы являются, как это ни странно, сами газетчики. Дональд Хорн, бывший редактор «Сидней Буллетин»[15], обвинил газету в том, что она идет по проторенной дорожке, что в ее материалах отсутствует критический подход, что репортажи об общественной жизни формальны, а репортеров не направляют на места для сбора интересных материалов. Одним словом, он охарактеризовал газету как самодовольную и посредственную. По его мнению, уважение к журналистике упало, эта работа не привлекает больше творческих людей с живым умом, газетному материалу не хватает интеллектуальной заостренности. Но если об этом так говорит журналист — постороннему наблюдателю серьезный анализ газеты не под силу, — то на скамье подсудимых может оказаться не только австралийская пресса, но и многие газеты Запада, так как большую часть высказанных обвинений можно отнести к ним.
Соотношение рекламных объявлений к новостям нигде так не велико, как в Австралии. Кажется невероятным, что где-либо можно купить столько, сколько, судя по объявлениям, могут приобрести жители шести основных городов Австралии. Как могут они удержаться на поверхности грозящего захлестнуть их океана мыльного порошка и бакалейных товаров, кроватей и одеял, одежды и мебели, садового инвентаря, красок и оборудования для туалетов! Реклама подтверждает репутацию австралийцев как величайших в мире любителей все делать своими руками: кажется, не существует оборудования, которого они не захотели бы купить, чтобы делать моторные лодки, чучела птиц, витражи и гравюры, телескопы и ветровые мельницы, подставки для торта и детские игрушки, оформлять ванные комнаты, снимать домашние фильмы, шить и вязать.
В то время как в целом австралийская пресса впитала в себя больше английского, чем американского, географии страны наложила на нее как раз американский, а не английский отпечаток. Пресса носит региональный, а не общенациональный характер. Перт находится более чем в двух тысячах миль от Сиднея, Аделаида — в семистах милях, если лететь самолетом, и в тысяче миль езды по железной дороге. От Дарвина до Сиднея — почти две тысячи миль. Расстояния создали в каждом штате свой собственный мир. Расходы и время, необходимые для распространения газет из одного центра, не дали развиться общенациональному печатному органу, вернее, мешали этому до середины 1964 г., когда Руперт Мердок[16], сын сэра Кейта Мердока, издававшего мельбурнский «Геральд», приступил к выпуску первой национальной ежедневной газеты «Острэйлиен». Печатается она одновременно в Канберре, Сиднее и Мельбурне и доставляется в остальные крупные города самолетами.
Время покажет, будет ли успешным столь честолюбивый и дорогостоящий эксперимент. По шрифту, верстке и общему виду газета вполне современна. Внешнему виду отвечает и четкая подача материала. Газета печатает на своих страницах произведения лучших австралийских писателей. В ней широко отражаются европейские события. Поднимет ли это тираж — другой вопрос. Ведь большинство австралийцев больше интересуется результатами скачек или распродажей товаров по сниженным ценам, чем переворотами в Африке или судьбой НАТО. Но в то время, когда я была в Сиднее, первые австралийские солдаты направлялись во Вьетнам, и истребительная война вторглась на континент, который до сих пор избегал этой опасности. Возможно, придет время, когда афоризм Генриха Ибсена «только тот прав, кто действует в наиболее тесном союзе с будущим», будет применим к рискованному предприятию Руперта Мердока.
Еженедельники в Австралии всегда имели гораздо больший тираж. Так, «Острэйлиен Уименз Уикли» (журнал для женщин) занимает в этом отношении первое место. Число его подписчиков составляет восемьсот тридцать пять тысяч. Цифра говорит о том, что читателями журнала является около трех четвертей всего женского населения Австралии. Старейшее и, возможно, самое распространенное еженедельное издание — «Сидней Буллетин». С момента основания в 1880 г. и до дня смерти ее наиболее видного редактора Дж. Ф. Арчибальда в 1919 г. эта тогда еще острая и не признающая авторитетов еженедельная газета одновременно выражала и формировала дух молодой, дерзкой, самоуверенной и растущей нации, высмеивала политиканов, подкусывала Англию, шокировала богачей и ратовала за свободную, федеративную Австралию. Впервые в «Буллетине» были напечатаны стихи и рассказы Генри Лоусона[17]. В нем работали такие журналисты, как Фил Мэй и Дэвид Лоу[18], а также такие способные, хотя и малоизвестные за рубежом, художники, как Норман Линдсей и Д. Г. Саутер[19]. Затем наступил период реакции, и талантливые журналисты покинули еженедельник. После второй мировой войны он практически не выпускался. В 1961 г. владельцы сиднейской «Дейли Телеграф» восстановили ее по образу и подобию английской «Таймс». Мне она показалась информативной, не более как полезным путеводителем к событиям дня, по новым книгам, фильмам, спектаклям и выставкам. Тираж ее невелик. Имеется также еженедельник «Нейшн», известный как более независимый и радикальный.
Приезжему судить о сиднейской прессе трудно. Местные политические события не всегда интересны для жителей других стран. Австралийцы часто расплачиваются за свое равнодушие к судьбам мира.
Интервьюируя зарубежных посетителей, большинство репортеров начинает с вопроса: «Каковы Ваши впечатления от Австралии?» Иногда этот вопрос задается еще на теплоходе или когда турист ожидает свои чемоданы в аэропорту. Очевидно, ответы в этом случае могут сводиться лишь к тому, как все мило выглядит вокруг, как ярко светит солнце и как дружелюбны местные жители. Читателям это должно было бы уже давно наскучить. Не является ли такая «забота» о том, что думают соседи, своеобразным похмельем после колониальных дней, когда австралийцы не были уверены ни в себе, ни в положении своей страны. Видимо, став гражданами свободной, повзрослевшей и преуспевающей страны, австралийцы не хотят особенно волноваться о том, что думают о них туристы. Вероятно, австралийцам достаточно того, что их принимают за тех, кто они есть. Конечно, такого рода вопросы лицам, только что сошедшим на берег страны, могут задаваться и для испытания их находчивости. Я слышала об одном торговце рассадой роз, который ответил репортеру:
— Ваша страна станет еще прекраснее, если в ней будут разводить больше моих роз.
Я жалею, что, в свою очередь, не нашлась и не сказала:
— Вы будете жить еще лучше, если прочтете больше моих книг.
Проехав десять-пятнадцать миль на юг от Сиднея, вы приближаетесь к местам, которые в наши дни, очевидно, выглядят точно так же, как в те далекие времена, когда судно капитана Дж. Кука входило в Ботани-Бей. Удивительным казался здесь густой девственный лес, так близко примыкавший к городу с более чем двухмиллионным населением. Он сохранился потому, что в те далекие времена, когда землю делили на участки для заселения, холмы эти были каменисты, бесплодны и лишены воды, и их не имело смысла разрабатывать. Постепенно они превратились в лесные заповедники, охраняемые государством, и, естественно, оставались в первозданном виде.
За окнами машины в легкой утренней дымке гребень за гребнем пробегали холмы, покрытые лесами. В воздухе чувствовалось дыхание осени, носились нежные, как пыльца, пушинки. Бледная оливковая с красными вкраплениями зелень эвкалиптов. Ни домов, ни поселений… Как повезло сиднейцам, оказавшимся обладателями такой роскоши, как зеленый ковер, раскинувшийся прямо у порогов их домов. Позже я прочитала об этом районе, окаймляющем Ботани-Бей, у Д. Г. Лоуренса[20] в его «Кенгуру»: «Темные старые горы, темные заросли грациозных эвкалиптов с бледными стволами и тусклыми листьями, крепкий молодой лес и какие-то огромные остроконечные пики».
Стремясь вскрыть существо древнего пейзажа, он искал слова, чтобы передать «странную, неброскую красоту Австралии, которая, казалось, таится как раз за пределами нашего видения. У вас такое чувство, словно вы потеряли способность видеть, словно ваши глаза не в состоянии охватить этот пейзаж». Впрочем, такого рода ощущения не мучают уроженцев Австралии, которые, по словам поэта Джеймса Маколи[21], «так же срослись с этой страной как душа с телом». Маколи писал, что в Австралии «цветы смотрят широко раскрытыми глазами, воздух вливает свободу», а «сороки кричат вам «Джек» и, сидя на деревьях, насвистывают, как жаворонки».
Мы направлялись в Вуллонгонг и Порт-Кембла, где расположены крупнейшие сталеплавильные заводы. Это комплекс изрыгающих дым доменных печей и прокатных станов, шахт, новых домов и новых городов — один из основных районов Австралии, вбирающий в себя капитал и рабочую силу, в том числе иммигрантов, хотя и не в том количестве, в каком ему необходимо. Сталеплавильная компания могла бы принять на работу завтра же еще тысячу человек, сумей она заполучить их, как сообщил нам начальник отдела кадров, стараясь перекричать гул одной из крупнейших доменных печей мира.
Люди все еще склонны думать об Австралии как о стране овец, пшеницы и крупного рогатого скота. Шерсть действительно остается крупнейшей статьей экспорта и источником валюты страны, причем в настоящее время она главным образом идет в Японию. Но с годами продукция шахт и заводов начинает превалировать над сельскохозяйственной. Потребность в стали увеличивается вместе с ростом производства, и почти половина промышленных рабочих прямо или косвенно занята в переработке металлов и машиностроении. Завод в Порт-Кембла принадлежит крупнейшей компании Австралии — «Броукен-Хилл Пропрайэтри». После второй мировой войны компания вложила шестьсот миллионов долларов на расширение производства. Использовался только национальный капитал. Вскоре более крупное предприятие, строящееся в Уайалла (Южная Австралия), где недавно было спущено на воду крупнейшее построенное в стране грузовое судно для перевозки руды водоизмещением в сорок семь тысяч пятьсот тонн, затмит завод в Порт-Кембла.
Как и горы Морн, холмы Иллавара подходят к самому морю и полны угля. Для того чтобы добыть уголь, надо лишь прорубить шахты в склонах и опустить его к подножию в доменные течи. Это самый простой и дешевый метод добычи угля в мире.
Иммигранты составляют около половины рабочей силы в Порт-Кембла. Это представители тридцати трех национальностей, большинство из которых итальянцы, югославы и англичане. Многие англичане, с которыми я разговаривала и которые обращались ко мне сами, уэльсцы по происхождению. Один из них сказал:
— Если бы можно было начать сначала, я бы никогда сюда не приехал. Заработная плата выглядит здесь высокой только на бумаге.
Другая причина недовольства иммигрантов — нехватка работы для женщин. Все они, проживающие во многих городах Австралии от Вуллонгонга до Уайаллы, от Брисбена до Перта, испытывают примерно одинаковые трудности. Но в их жизни есть и светлые стороны.
— Здесь лучшие друзья, которых вы могли бы встретить. Когда я приехал в Австралию, у меня не было и пяти шиллингов в кармане. Я никому ничего не говорил, но они, видно, все понимали. Когда объявили перерыв и все пошли выпить чашку чая, я нашел в своем узелке пятифунтовую бумажку, — рассказал мне один из иммигрантов.
— Здесь просто можно выпить с любым, все мы одинаковы, не как дома, где живем по поговорке: «всяк сверчок знай свой шесток», — сказал другой.
Чиновник, оказывающий на первых порах помощь иммигрантам, назвал мне следующие три заповеди, которые подсказал ему опыт двадцатилетней работы: уезжать молодым; помнить, что в Австралии придется много работать и мужу и жене; иметь при себе сбережения. Те, у кого есть деньги, редко терпят неудачу, в основном потому, что могут снять или построить жилье, а возможно, их делают хорошими поселенцами расчетливость и умение благоразумно расходовать средства. Впрочем, есть, конечно, исключения из всех этих правил.
Зоопарк в Сиднее — это зоопарк, а не заповедник, и мне было интересно сопоставить два подхода к проблеме содержания животных в неволе. Задача заповедника— воссоздать природные условия, в которых животные живут на воле; железных решеток и бетонных оград здесь никто не возводит. В зоопарке сэра Эдварда Халлстрома, президента зоологического общества, есть и бетон и решетки. Животные у него в неволе, да это и понятно, если учесть, что зоопарк расположен лишь, на семидесяти акрах в пригороде Сиднея.
— В неволе можно разводить кого угодно, если вы знаете как, — заявил Эдвард Халлстром.
Его формула проста — чистота + хорошее питание = отличному здоровью. И эти правила тщательно соблюдаются: бетонные полы моют каждый день и весьма тщательно, а пища животных всегда доброкачественная и свежая. На ферме сэра Эдварда неподалеку от Сиднея люцерну скашивают ежедневно в семь утра и уже в десять подают в клетки.
Честно говоря, этот зоопарк (так называемый Таронга-Парк)[22] не принадлежит сэру Эдварду, а является собственностью города Сиднея. Но его спланировал, создал и с любовью руководит им Халлстром — энергичный человек в полном расцвете сил, хотя ему и больше семидесяти. Когда я встретила его, он только что вернулся из Новой Гвинеи и отправлял в Честер самолет с райскими птицами, которых закупил во время поездки. Состояние свое он нажил на холодильниках и большую часть его вложил в зоопарк.
Все здесь в идеальном порядке. Сквозь деревья, цветущие кустарники и ползучие растения видна безбрежная гладь океана. В клетках и на игровых площадках животные жуют свежую люцерну и морковь. Я никогда не видела таких упитанных зверей в неволе; многие из них дают приплод. Вот, например, только что родившийся толстенький малыш носорог, а вот детеныши кенгуру, выпрыгивающие из сумки матери и прячущиеся в нее обратно. Большинство сумчатых хорошо размножаются в неволе, да и не только в Австралии. Мне кажется, что они есть даже в Англии.
Многие животные, как и люди, имеют свои любимые блюда, и зачастую вкусы у них довольно необычные. Создается впечатление, что у горилл, например, слабость к сладкому картофелю, а у носорогов — к финикам, произрастающим близ залива Мортон. Другое дело коала[23], которые настолько консервативны, что едят листья только двенадцати из нескольких сотен существующих разновидностей эвкалиптов и скорее погибнут, чем откажутся от своей диеты. Более того, они поедают только верхушки листьев и потому должны получать их в огромных количествах, так как каждый коала съедает от двух до трех фунтов листвы в день. Коала не больше среднего пуделя и весит около тридцати фунтов, желудок у него небольшой. Он переваривает грубый корм благодаря длинному — от шести до восьми футов — аппендиксу и защечным карманам.
Я думала, что коала живут теперь только в зоопарках и заповедниках и была весьма удивлена, когда в саду моего хозяина в Клэравилл Бич на окраине Сиднея мне показали следы когтей, оставленные этими очаровательными маленькими животными на стволе высокого голубого эвкалипта. Хозяин сказал, что писк коала можно часто услышать вблизи облюбованного дерева. Ночью мы осветили листву, но никого из зверьков дома, не застали.
Дикие коала, кажется, стали довольно быстро размножаться, после того как были почти начисто истреблены. Это скверная история. В свое время миллионы коала спокойно поедали листья эвкалиптов в восточной и южной частях континента. Аборигены их не трогали. Затем явился жадный белый человек с ружьем. Дело в том, что шкурки коала стали подниматься в цене. И вот в первой четверти нашего столетия из Австралии ушло десять миллионов шкур. Последний коала на юге страны погиб вскоре после первой мировой войны.
В Квинсленде, где животных в какой-то мере охраняли, после того как в начале 1900 г. эпидемия значительно сократила их число, торговцы и охотники уже к 1927 г. добились получения лицензий для десяти тысяч охотников. И шестьсот тысяч коала за один год были истреблены.
В течение нескольких лет коала находились на грани вымирания. Сейчас им не угрожает физическое уничтожение — коала защищают и, как мне кажется, весьма эффективно. Сокращаются запасы пищи — вот где основная опасность. Да, люди прекратили ставить капканы на коала и отстреливать этих животных, но в то же время они лишают их листьев эвкалипта, с каждым годом вырубая все больше и больше деревьев для постройки своих домов.
Интересно то, что у коала в процессе эволюции исчезли хвосты, а вместо них развились мозолистые подушечки, на которых животные часами сидят в расщелинах деревьев. Их смышленые мордашки совершенно не отвечают действительности — они, я думаю, глупые зверюшки. Во всяком случае, коала не способны защитить себя и усвоить основное правило, необходимое для того, чтобы выжить: человека следует бояться. Они очень нежные существа с черными пуговками-носиками, простодушными глазками, пушистым мехом и похожими на детские ручки лапками, которыми зверьки цепляются за ветки деревьев. Они не кусаются и могут обнять вас за шею. Двигаются коала степенно и очень редко пьют. Посмотреть на коала приходит всегда много туристов. Хорошо хоть бесчисленные куклы на чайники с мордочками коала делаются из шкурок кенгуру, а не этих безвредных животных.
Коала не единственные дикие животные, которые проживали в Клэравилл Бич. Прямо у входа в дом, рядом с террасой росло дерево с сильно растрепанным гнездом, в котором жил фалангер, или поссум[24]. Я не знаю, к какому виду многочисленного семейства Phalangeridaeон принадлежал. Во всяком случае, он был похож на белку-летягу, в такой же степени не имеющую отношения к обычным белкам, как коала — к медведям. У этих животных передние и задние конечности соединены перепонкой, с помощью которой они перелетают, как циркачи, с ветки на ветку на расстояние до двадцати пяти — тридцати футов. Как и большинство сумчатых, они спят днем. Ночью поссумы ищут насекомых, собирают нектар, поедают цветы с деревьев. Они могут быть довольно большими, величиной с лисицу, но и совсем маленькими, когда, по словам натуралиста Джона Гулда, «обычная коробочка из-под лекарства может послужить им хорошим убежищем». При этом в своей сумке крохотный поссум может спрятать одновременно четырех детенышей. Новорожденные поссумы, наверное, самые маленькие млекопитающие на земле, и чтобы рассмотреть их, необходимо воспользоваться лупой.
Я все время называю этот приют коала и поссумов садом, хотя и не совсем правильно. Это часть крутого склона холма, покрытая деревьями и кустарниками, омываемая у подножия водами небольшой бухты, где стоит множество яхт и резиновых надувных лодок с яркими красочными парусами. На другом берегу раскинулся заповедный лес. В глубине бухты — обрыв с пещерами, в которых когда-то обитали племена аборигенов. От террасы вьется дорожка к лодочной станции и небольшому бассейну, который хозяева сделали сами. Папайя и бананы растут между эвкалиптами.
От дома до центра города всего двадцать миль, и мой хозяин ежедневно ездит на работу на машине. Его жена, Элен, остается дома. Она пишет яркие полотна с видами, напоминающими Средиземноморье, или работает над эскизами декораций и костюмов к драматическим и балетным спектаклям, которые принесли ей определенную известность.
Выходные дни местных жителей посвящены парусному спорту, плаванью, рыбной ловле с острогой, что очень популярно в Сиднее. Менее подвижные австралийцы загорают, ухаживают за садом, ходят друг к другу в гости, наслаждаясь холодными напитками и приятными спокойными беседами, которые редко (в противоположность обычным разговорам в английских домах) переходят в жалобы и критические высказывания. Разве что иногда посетуют на погоду. В обсуждение проблем мировой политики и постоянных трагедий, происходящих в мире, местные хозяева здесь вдаются редко, стараясь не обременять себя переживаниями. Поесть, пойти на пляж, к знакомым можно тогда, когда захочется. Вино, если покупаешь крупными партиями, стоит не больше десяти центов за бутылку.
Однако идиллией все это назвать нельзя. Я должна, например, упомянуть о том, как много здесь комаров и отвратительного вида пауков с жирными полосатыми телами и длинными волосатыми лапами. Меня уверяли, что они совершенно безвредны. Но в Сиднее можно встретить пауков, которые далеко не безопасны для человека. В Австралии есть пауки, которые ловят птиц. Хорошо еще, что я не повстречалась с гигантским земляным червем из пустыни Гибсона. Его длина достигает двенадцати футов[25]. Когда червь ползет, он издает булькающие звуки.
Утром, в воскресенье, мы наблюдали, как от пристани, расположенной по соседству, отошел ялик, поднял красные паруса и направился в открытое море. Когда я спросила, куда он направляется, кто-то ответил мне: «вокруг света». И это не была шутка.
Двое молодых людей, только что закончивших университет, подготовив за два года небольшое судно, отправились путешествовать по морям и океанам, следуя велению своих сердец. По их расчетам, они пробудут в пути не менее года. Первую остановку смельчаки решили сделать в Окленде на Новой Зеландии. Пятеро провожающих помахали им с пристани. Я часто думала, как сложится их путешествие.
Каждый приезжающий в Сидней должен осмотреть строящееся здание Оперного театра из стали и бетона, расположенное в самом центре порта. Оно возникает перед взором путника как некое фантастическое существо, поднимающееся из гигантского яйца. Сооружение дает почву для шуток по всей стране, кроме Сиднея. По первоначальным расчетам расходы должны были составить, кажется, около восьми миллионов долларов, что составляет немалую сумму для города с населением два миллиона семьсот восемьдесят человек, не имеющего ни своей оперной труппы, ни даже традиций демонстрации оперных спектаклей. Тем не менее сиднейцы решили построить свой оперный театр, собрали по подписке восемьсот тысяч долларов и объявили международный конкурс на лучший проект здания. Первое место получил датский архитектор Йоерн Утзон, создавший один из наиболее смелых и ярких проектов, родившихся за последнее время в европейских мастерских. (Впоследствии Утзон отказался от участия в строительстве театра из-за разногласий с правительством штата Новый Южный Уэльс.)
Сочетать смелую и оригинальную идею с точностью финансовых расчетов, требуемых для ее исполнения, очевидно, невозможно. Сумма в восемь миллионов долларов оказалась недостаточной. Смета была пересмотрена в сторону повышения и пересматривается систематически. К 1965 г. она выросла до сорока шести миллионов, и это, несомненно, еще не предел. К окончанию работ расходы, видимо, будут удвоены. Средства на строительство поступают от специальных лотерей. Тираж разыгрывается регулярно через несколько месяцев. Можно получить двести тысяч долларов, но есть довольно много и небольших выигрышей. Деньги, таким образом, текут, и оперный театр медленно поднимается над массивным фундаментом.
Это будет грандиозное здание. Уже сейчас чувствуешь себя карликом, глядя на мощные изогнутые ребра, океаны цемента, массивные бетонные стены. Строительство поставило перед инженерами вопросы, не только не решавшиеся ранее, но и просто никогда не возникавшие. Например, как создать эти громадные изогнутые ребра, взметнувшиеся вверх, которые поддерживают раковины из предварительно напряженного железобетона, формируют крышу или, вернее, крыши здания Оперы. Как раз в этих крышах и заключается оригинальность проекта. Десять крыш, как паруса, поднимутся над гаванью. Они и сейчас уже напоминают выгнутые крылья белых летучих мышей или петушиный гребень. Все необходимые для строительства расчеты могли быть произведены только с помощью компьютеров. Операции заняли две тысячи часов, а ведь один час работы компьютера равняется примерно сорока пяти рабочим годам человеческой жизни. Вскинувшиеся ввысь крыши будут облицованы белыми керамическими плитками, специально изготовляемыми в Швеции. В соответствии с данными электронно-вычислительных машин их должно быть 1 555 941. Как же все это будет сиять и сверкать над морем в ярком солнечном свете!
В здании планируется несколько залов. Самый большой вместит около трех тысяч зрителей. Запроектировано сорок восемь артистических уборных и девятнадцать репетиционных залов. Публика сможет подышать прохладным морским воздухом на многочисленных балконах и террасах.
Однако архитекторы многого не предусмотрели. Так, на несколько тысяч зрителей будет всего один ресторан, рассчитанный лишь па двести пятьдесят мест. Кажется, совсем не запланированы стоянки для машин. Но сиднейцы не обращают на это внимания. Придет время, и, и случае необходимости, снесут несколько кварталов контор, магазинов, жилых домов и на их месте оборудуют стоянки для автомашин.
Мне не пришлось написать, что я была оглушена пронзительным визгом компрессоров, стуком молотков и шумом кранов. Приехав на строительную площадку, я увидела, что рабочие отложили свои инструменты, и вышла из машины. Наступила тишина. Строители бастуют; на этой стройке редкий день проходит без забастовки.
Здание Оперы растет, и после завершения строительства это будет одно из самых прекрасных и величественных сооружений не только в Южном полушарии, но и во всем мире[26].
Когда в мое последнее утро в Сиднее я остановила такси, шофер еще подсчитывал деньги, заплаченные ему предыдущим пассажиром. Шести центов не хватало. Я ожидала свойственной лондонскому водителю реакции на такого рода незадачу (в одной из наших газет как раз недавно сообщалось об одном таксисте, оштрафованном на сто пятьдесят долларов за нападение на пассажира, давшего ему «на чай» всего лишь три пенса) и нерешительно смотрела на шофера. Однако этот здоровый австралиец спокойно сунул монеты в карман и пробормотал:
— Бедняге деньги, должно быть, нужны больше, чем мне. Куда вас, мэм?
Канберра и Тидбинбилла
В первом доме, который я посетила в Канберре, стояла на японской циновке ваза с букетом, подобранным в японском стиле, — хозяин дома недавно вернулся из Токио. Канберра стала космополитическим городом. Его можно также назвать и самым мелкобуржуазным городом в мире: одна треть работающих здесь — государственные служащие. В Канберре почти нет промышленных предприятий, зато растет три миллиона деревьев.
Пятьдесят лет назад на этом месте был лишь сухой коричневый кустарник, жесткая трава да эвкалипты. Стояла также церковь Св. Иоанна, построенная бывшими владельцами известковой равнины — Кэмпбеллами.
В центре Канберры на холме лежит каменная плита, отмечающая то место, где в 1913 г. жена генерал-губернатора леди Декман развернула лист бумаги, на котором было написано хранившееся до этого момента в тайне название еще несуществующей столицы. Прочитав его вслух, она таким образом утвердила и произношение.
Нужды в столице в те время вообще не было, и Канберра оставалась ею лишь номинально до второй мировой войны, когда жители штата Виктории и Нового Южного Уэльса временно прекратили свои междоусобицы, а федеральное правительство приступило к централизации сборов подоходного налога и таким образом прибрало к рукам ключи от казны.
С тех пор Канберра росла как на дрожжах и растет до сих пор. По площади она уже равна Портланду, крупнейшему городу штата Мэн.
Сердце Канберры — не комплекс зданий, а искусственное озеро, строительство которого обошлось в несколько миллионов австралийских долларов и разгневало многих австралийцев из других городов, которые считают, что эти деньги следовало бы вложить в нечто более полезное, например в сооружение плотин или ирригационных систем. Но жители Канберры гордятся своим озером, которое привлекает птиц, и предполагают построить здесь прогулочные площадки, разбить парки, открыть концертные залы и рестораны.
Вода притягивает австралийцев, чье благосостояние так часто от нее зависит. Вера в то, что среди безводного пространства пятого континента находится большое внутреннее море, владела умами многих первых исследователей Австралии. «Завтра мы двинемся к горам, — писал Чарльз Стерт[27], —а затем к морю — незнакомому морю, по которому никогда не ходили корабли…» В действительности же Австралия — самый сухой континент в мире.
Местные жители забросают вас статистическими сведениями: «если 'бы все наши реки текли к центру страны, они разлились бы по поверхности и уходили бы на глубину от одной и одной трети дюйма по сравнению с девятью дюймами в Соединенных Штатах»; «у нас в стране среднее количество осадков всего шестнадцать дюймов по сравнению с двадцатью шестью в остальных районах мира»; «реки, вливающиеся в Дунай, несут в шесть раз больше воды, чем все реки Австралии, вместе взятые» и т. д.
Я никогда не слышала, чтобы канберрское озеро называли здесь его официальным именем — озеро Берли Гриффина — в честь незадачливого чикагского архитектора, который вместе с женой в 1912 г. занял первое место на конкурсе проектов новой столицы Австралии — города красоты. Незадачливым его назвали из-за многочисленных трудностей, с которыми Гриффин столкнулся, приехав сюда в 1913 г. для воплощения в жизнь своего великолепного проекта, значительно измененного за это время правительственной комиссией. Фактически проект превратился лишь в пародию на него. Австралийские и британские архитекторы бойкотировали конкурс, объясняя это ничтожностью премии (три миллиона пятьсот американских долларов) и некомпетентностью жюри, которое не было в состоянии принять правильное решение.
В течение семи лет Уолтер Берли Гриффин безуспешно боролся с бюрократизмом, а затем подал в отставку и занялся частной практикой в Мельбурне и Сиднее. Он завоевал репутацию смелого и самобытного архитектора, не уделяющего внимания практическим деталям, что его современные почитатели объясняют отнюдь не отсутствием профессионализма, а мягкостью характера, которая мешала ему в отношениях с наглыми подрядчиками. А это уже ошибки исполнения, а не проекта.
Гриффин был романтиком-идеалистом, связанным догмами функционализма, господствовавшего тогда в архитектуре. Он писал, что цель его — «использовать архитектуру в качестве демократического языка повседневной жизни, а не языка аристократии, в особенности образованной элиты, что стало характерным начиная с 1500 г…»
Он хотел строить дома для простых людей, но не обычные дома; он хотел дать каждой семье возможность жить просторно и гармонично, а, главное, не теряя контакта с природой. Гриффин любил свет, воздух, воду и деревья. «Нам нужна общая первооснова, объединяющая все наши здания. Архитектора перегружают наукой. А нам надо изучать саму природу — красота там, где мы даем возможность природе проявить себя».
В Сиднее в 1921 г. он разработал проект пригородной зоны Каслкрэг, в котором отразились его взгляды на архитектуру. «Я хочу построить Каслкрэг так, чтобы каждый человек мог приобщиться к природе, окружающей его жилище. Никаких заборов, никаких красных крыш, портящих австралийский пейзаж».
Каждый дом должен был выглядеть как замок, при этом одна пятая всей окружающей площади остается в первозданном виде; у домов — плоские крыши, дворы, крытые аркады. Кругом свет, воздух, простор. Каждому дому в Австралии, считал Гриффин, нужна «терраса для обзора, для спокойного сна на свежем воздухе и прогулок, а таже сад».
Склонность к романтизму проявилась у него в зубчатых парапетах и лепных рельефах на стенах. По его мнению, «у цивилизованного человека никогда еще не было большей возможности найти дом в центре рая природы, чем та, которая предоставляется ему в австралийском городе».
Но как это случилось с большинством работ Гриффина, Каслкрэг в основном остался на бумаге, удалось выстроить всего лишь пятнадцать домов.
Как в видении предмета, так и в технике исполнения Гриффин был новатором. Изобретение дешевого, изготовленного заводским способом стандартного бетонного блока сделало Гриффина пионером в области сборных конструкций. Он запатентовал такое расположение черепичных кровельных крыш, которое дало ему возможность снизить их наклон в Мельбурне. Зачем делать скат крыш крутым, если нет снега? Правда, его почти плоские крыши доставляли архитектору немало неприятностей, так как некоторые из них протекали. Аквариум, встроенный в потолок одного из домов так, чтобы тень от игривой золотой рыбки отражалась на отполированном обеденном столе, катастрофически потек во время новоселья. На жену другого богатого клиента в ванной осыпалась штукатурка с потолка. Проржавели кое-где и сточные дренажные трубы. Но наследие, оставленное Гриффином австралийцам, как писал Робин Бойд, — «это галерея зданий, которые могли бы быть для них источником вдохновения». Большинство его работ либо было изменено до неузнаваемости, либо уничтожено.
В 1930 г. у архитектора оказалось так мало работы, что он был рад получить заказ на проект мусоросжигательных станций. Со своим природным оптимизмом Гриффин воспринял эту работу не как поражение, а как вызов, как предложение облечь в красоту промышленное уродство.
В 1937 г. он уехал в Индию проектировать университетскую библиотеку в Лакнау, упал там с лесов и умер от перитонита в возрасте пятидесяти одного года.
На его фотографиях мы видели нервное интеллигентное лицо, нежное, но волевое. По описаниям это был человек невысокого роста, застенчивый, скромный. Он не курил, считался вегетарианцем и, похоже, питался только финиками, которые доставал из мешочка во время своих постоянных поездок в пригородных поездах.
Гриффина ни разу не пригласили для разработки проекта какого-либо здания в Канберре. После его отставки Канберра росла спазматически, отдельными районами. Так продолжалось до середины 50-х годов. Сердце города оставалось свободным, а пригороды разрастались. Каждое бунгало его владельцы строили самостоятельно, без всякой архитектурной связи с другими, в то время как Гриффин постоянно говорил о необходимости единого архитектурного ансамбля. Как и Вашингтон, Канберра отражала трагедию творческой мысли и ее великолепной цели, погубленной нерешительностью, ограниченностью и мелкими интригами. Судьбы этих двух городов сходны. План строительства столицы Соединенных Штатов также потерпел крах, и Вашингтон превратился в скопище не связанных между собой строений. Положение изменилось только после гражданской войны. В судьбе Канберры наступил перелом в 1955 г., когда избранный Сенатом комитет вновь вернулся к плану Гриффина, и сэр Уильям Холфорд был приглашен из Лондона, чтобы его модернизировать. Никаких значительных поправок не потребовалось. Наоборот, Гриффин предугадал большинство идей, вошедших в моду в 50-е годы, в частности те, которые родили новые английские города.
Канберра, как говорил Гриффин, планировалась по английскому образцу, когда небольшие районы объединялись в самостоятельные, в противоположность планировке континентальных городов, представляющих собой единое целое, город за крепостной стеной (порожденный необходимостью защиты от нападений). Крепостные стены Гриффин заменил свободным пространством и деревьями. Он влюбился в австралийские деревья. «Эвкалипт не кажется мне однообразным и монотонным, но, напротив, привлекает меня. Это дерево поэта, оно должно иметь другое, более достойное его имя. Эвкалипт! Название не соответствует дереву. Это изумительное дерево — дерево архитекторов»[28],— писал Гриффин. Зеленые массивы современной Канберры понравились бы ему.
В наши дни строительство в городе контролируется Комиссией по строительству столицы, основанной в 1957 г. Она имеет широкие полномочия, необходимые финансовые средства и грамотного руководителя. Стиль города не может оставаться прежним. Ведь раньше владельцы домов строили их так, как им хотелось, и в довершение ко всему здания иностранных миссий придали городу опереточный оттенок, так как построены они были в национальных стилях, напоминая переодетых в псевдонациональные костюмы крестьян, позирующих перед туристами. Посольство Соединенных Штатов — это типичное американское здание в миниатюре; Южной Африки — старая голландская ферма со всеми ее атрибутами, включая завитки на фронтонах; Франции — здание, которое Робин Бойд определил как построенное в стиле «маленького Трианона» и т. д.
Политически Канберра всегда напоминала «горячую картофелину», но два человека оказались достаточно смелыми, чтобы схватить ее. Причем трудно было бы найти более разных людей. Первый — Кинг О’Мэйли, американец по происхождению, ловкач, преуспевший в Канзасе как агент по продаже недвижимого имущества, основавший религиозную секту под названием «Храм краснокожих». В Австралии он был министром внутренних дел федерального правительства в то время, когда строительство столицы еще только начиналось. Кинг О’Мэйли поддерживал все начинания своего соотечественника— Гриффина. Второй — Роберт Мензис[29]— в последние годы лично занимался благоустройством города и гордился тем, что столица из сухого, пыльного, захудалого и нищего поселка превратилась в просторный город-сад с двенадцатипроцентным ежегодным приростом населения, что составляет один из самых высоких процентов в мире. В первую очередь город украшают люди, его населяющие, но также и здания. Он отличается великолепным климатом, достаточно холодной зимой, чтобы придать жителям бодрость, но и достаточно теплым летом, чтобы они не забывали о пляжах, расположенных всего в двух часах езды от столицы. В сверкающих лучах осеннего солнца деревья стоят такие же золотые и багровые, как в любом другом штате Нью-Гэмпшира и Вермонта. Молодые люди тем не менее находят город скучным — здесь нет оркестров поп-музыки, мало кафе, сравнительно немного наркоманов — в общем сплошная порядочность.
Во всех столицах мира есть зоопарки, и генеральным планом предусмотрено создание зоопарка в Канберре[30]. Для этого потребуется четыре миллиона. Если деньги найдутся, то будет создан зоопарк совершенно нового типа, который послужит образцом для всего мира. По сути дела организуется подлинный Биологический центр. Подобная идея родилась у блестящего молодого патологоанатома, сотрудника научно-исследовательского института им. Джона Кертина. Доктор Стефан Бойден видит свой Биологический центр не как место, где глазеют на зверей, а как окно в мастерскую природы, где можно наблюдать, как все целесообразно в природе, тонкой и изумительной системе, где человек и животное, птицы и пресмыкающиеся, насекомые и микроорганизмы, деревья и растения поддерживают и уравновешивают друг друга. Центр должен стать местом, где можно будет изучать единство природы и человека.
Животных, число которых предполагается постоянно пополнять, будут тщательно исследовать на предмет того, как они добывают пищу, начиная от ультрамикроскопических организмов до тех видов, которые охотятся друг за другом. Центр поставит также такие проблемы, как сохранение плодородия почвы; рост населения и баланс в природе; зависимость количества живых существ от наличия пищи; распространение заболеваний насекомых, типы заболеваний и возможность контроля над ними; миграция птиц; пути общения животных с помощью сигналов, обоняния или танцев (пчел, которые таким образом сообщают друг другу, где находится мед); принципы иерархии, ранга и порядка среди огромного количества живых существ и т. д.
Все, что может жить, будет живым — насекомые и бактерии, растения и морские водоросли, вирусы и клетки. Посетители увидят здесь муравьев, доящих стада тлей; послушают записи голосов птиц, кваканья лягушек; понаблюдают ночью с помощью инфракрасных лучей маленьких пугливых ночных млекопитающих, таких, как сумчатые мыши; узнают, как растения и животные (например кузнечики, чьи яйца начинают развиваться за четыре дня до наступления периода дождей) приспосабливаются к условиям пустыни.
Доктору Бойдену хочется также, чтобы в его центр приходили не только учиться, но и получали от него удовольствие. Детишки придут сюда посмотреть на мир, молодые пары подержатся за руки, наблюдая за кенгуру или крабами; любители более спокойных развлечений посмотрят фильм о миграции птиц, танцах аборигенов и совершат общую экскурсию.
Две сотни акров отведены для претворения в жизнь проекта, который предложит миру нечто новое, творческое и значительное.
Доктор Бойден может послужить моделью современного ученого — человек, обладающий мягким характером, без претензий, вдохновленный идеей, которая, по мнению его друзей, изменила его, придала ему силы, дала возможность выступить перед большой аудиторией, в то время как раньше только «дуновение ветерка» приводило его в смущение. Я видела однажды, как из его кармана появился очаровательный маленький фалангер в серо-черную полоску, длиной не более шести дюймов, не считая пушистого хвоста. С удивительным проворством он прыгал по комнате, взбирался на занавески, где пытался спрятаться, на плечи присутствующим, но только мужчинам. По мнению доктора Бойдена, зверек выбирал мужчин, так как, возможно, плотная ткань мужских пиджаков отдаленно напоминала ему кору деревьев.
Летающие фалангеры или сумчатые летяги живут на деревьях, свернувшись калачиком в дуплах, сосут сок и жуют лепестки, добираясь до нектара. Говорят, что они могут преодолевать по воздуху до пятидесяти ярдов, но натуралист Гарри Фраука из Квинсленда утверждает, что двадцать футов — это самое большое расстояние, которое мог проделать живущий у него зверек, но и это совсем немало для такого крохотного существа. В воздухе его поддерживает мембрана, натянутая, как у летучей мыши, между кистями и коленями, а рулем служит длинный упругий, словно резиновый, хвост. Когти на лапах помогают зверьку цепляться за деревья и расчесывать шерсть. Новорожденный детеныш шестифутового кенгуру достигает в длину не менее одного дюйма, а новорожденная летяга может быть не более булавочной головки.
Канберра расположена у подножия Большого Водораздельного хребта, который тянется от севера Квинсленда до Виктории и является единственным крупным горным массивом страны. Его вершина — гора Косцюшко возвышается всего на семь тысяч сто тридцать шесть футов. То, что австралийцы называют горой, мы считали холмом, а их холмы в нашем понимании просто холмики. Ведь континент представляет собой огромную в целом плоскую равнину, рельеф ее сглажен ветрами и эрозией. Так что горы около Канберры не производят величественного впечатления.
В горах недавно основан небольшой национальный парк. В этом районе леса были вырублены, рыба в реках уничтожена. После новых лесонасаждений и улучшения системы землепользования сюда должна вернуться дичь, и земля вновь расцветет. Здесь, в долине Тидбинбилла, основал свою станцию Отдел охраны фауны государственной научно-исследовательской организации, так называемый КСИРО[31]. Станция занимается исследованием лирохвостых (Menura noval hollandiae). Один из ее сотрудников, Норман Робинсон, огородил проволокой участок в двенадцать тысяч ярдов и установил столбы на расстоянии двадцати пяти ярдов друг от друга. К некоторым из них прикреплены термометры, показания которых через равные промежутки времени передаются в небольшой деревянный дом среди деревьев. Записываются на магнитофон звуки леса, песни лирохвостов[32].
Норман Робинсон — орнитолог. В его распоряжении все современные виды техники. По образованию он лингвист, а не биолог. Его увлечение — изучение средств общения птиц между собой. Им собрана обширная документация по вопросам общения животных.
Было лето, а период спаривания лирохвостов приходится на осень. Они выводят птенцов замой, и случалось, что яйцо (а самка сносит только одно) находили в снегу.
Мне очень хотелось увидеть шалашника[33].
Мы выехали из Канберры до рассвета и вскоре достигли холмистого, покрытого лесами района, который напомнил мне зеленые холмы Африки. Верхушки холмов были закруглены, покатые склоны изрезаны темными глубокими оврагами, и длинные тени лучей утреннего солнца лежали на рыжевато-коричневых склонах. Воздух был свежий и чистый, звонко пели птицы. Мы наткнулись на лисицу, бившуюся в стальном капкане, и освободили ее, чего не следовало делать, так как эти животные такие же вредители, как и кролики. Лисица ускакала, подняв искалеченную лапу и оставив после себя неприятный запах.
Над небольшим деревянным домом повисла паутина проводов у горного родника. Даже летом воздух здесь холодный, чистый и пахнет опавшими листьями, мхом, папоротниками. Норман Робинсон приготовил чай, поджарил яичницу с ветчиной. После еды я вышла на улицу и спряталась рядом с гнездом. Оно было сооружено из двух пучков сухой травы. Каждое гнездо достигало около фута высоты и было расположено примерно на таком же расстоянии друг от друга; основание гнезда выложено из травы и палочек. С десяток голубых и желтых перьев валялось по всей территории. Самец предпочитает именно эти цвета, отдавая первенство голубому. На бревно около дома Норман клал колпачок от голубой ручки; самец всякий раз подбирал его и уносил в гнездо. Робинсон вновь забирал колпачок, потом опять клал на бревно, и игра начиналась сначала. Стремление собирать небольшие предметы голубого цвета настолько велико, что взрослый самец в неволе убил как-то голубого кубинского вьюрка, а мертвое тельце выставил как бы напоказ.
Я просидела в укрытии около часа. Появился самец шалашника величиной с большого голубя. Его голубое оперение с металлическим отливом говорило о том, что самец достиг зрелого возраста (пяти-семи лет), так как у птенцов оперение зеленое. Есть несколько видов этой птицы, отдаленно родственной райским.
Непреодолимое влечение собирать голубые и в меньшей степени желтые предметы объясняется желанием самца понравиться самке. Другие виды лирохвостов, например пятнистый шалашник (Ptilonorhytichys violaeus), предпочитают собирать раковины. Орнитологи считают, что разбросанные по земле перья — это символ собственности и знак предупреждения соперникам, говорящий о том, что владелец близко.
Самец покрывает иногда свое строение смесью слюны с золой. Эта черная клейкая смесь, напоминающая цемент, высыхая, превращается в песчаный порошок. Для выполнения этой задачи птица использует в качестве инструмента небольшой кусок коры, который держит в клюве. Профессор Дж. Маршалл, ведущий специалист по шалашникам, считает, что эта кора сочетает в себе функции губки, клина и пробки. Натуралисты старой школы высказывали предположение, что за стремлением к украшательству кроется эстетическое чувство. Джон Гулд, который в 1948 г. опубликовал первое полное описание австралийских птиц, писал о гнездах как месте встречи самцов и самок. Капитан Стоукс, который в 1837–1843 гг. пересек внутренние районы Нового Южного Уэльса, принял их за игрушки, которыми австралийские матери забавляют детей, а сэр Джордж Грей[34] предполагал, что это детские ясли кенгуру.
Я наблюдала за птицей, когда она подбирала голубое перо, прыгала с ним, клала на землю, повторяя все эти действия несколько раз в одинаковой последовательности, и затем улетела, издавая низкий жужжащий звук, похожий на кудахтанье, тихое мурлыканье кошки или шум заводной игрушки. Обратно она не прилетела.
Самцы шалашника ведут беспокойную жизнь. На участке площадью в три или четыре акра каждый из них строит несколько гнезд и должен защищать их от других самцов, которые стараются унести с собой трофеи и, если им удается, разрушить гнезда.
По словам профессора Дж. Маршалла, «соперник появляется украдкой, а не влетает смело через открытую изгородь. На участке мародер быстро и тихо разрушает стены, выхватывая клювом куски гнезда и беспорядочно разбрасывая их вокруг. Ему редко удается закончить свою разрушительную работу до того, как появляется владелец гнездовья. Обычно он улетает с полным клювом голубых перьев или стекла и никогда не остается на месте, чтобы подраться». Его цель — завладеть участком, который необходим для расселения представителей определенного вида, обеспечения их пищей и нормального размножения.
Шалашник улетел, но лес был полон звуков. Пролетало множество попугаев разных видов. Это были главным образом желтохохлые белые какаду. Они живут стаями, очень красивы, но кричат отвратительно. Это наиболее распространенный и очаровательный вид попугаев. Окраска их оперения спокойная: сверху мягкого голубовато-серого тона, грудка же и нижняя часть крылышек — розового цвета. Интересно, что их имя стало синонимом слова «дурак». Я никогда не могла понять, в чем здесь дело. Эти птицы отнюдь не глупее остальных попугаев. Мелькнула великолепная восточно-австралийская розелла, грудка которой ярко алого, хвост и крылья — зеленого, брюшко — канареечножелтого, а плечи голубого цвета. Оперение этих попугаев такое же интенсивное, как краски на картинах средневековых художников.
Попугаи поражают своим великолепием, а более скромно окрашенные птицы услаждают слух. Я слышала тихие голоса нескольких разновидностей медососов, которых здесь великое множество; резкий, как удар хлыста, крик австралийской трещотки, который часто имитируется «пересмешниками» (из числа последних наиболее известны шалашники и лирохвосты). Я услышала пенье дрозда, строго говоря, не настоящего, но свист его похож на свист этой птицы; лесных ласточек; маленького, незаметного с белой мордочкой крапивника, бегающего как мышь, и многих других. По пути домой мы наблюдали в бинокль большую группу нежных маленьких травяных попугаев, так стремительно передвигавшихся, что казалось, они прямо на глазах испарялись в траве. Даже специалистам трудно определить, к какому виду принадлежат эти попугаи — зеленые с желтыми пятнами и красными клювами, их почти невозможно поймать и даже рассмотреть. Изящные и стройные, с длинным хвостом, они издают столь сильный запах, что по их следу идут собаки.
Ранней осенью я вновь приехала в Тидбинбиллу, на этот раз понаблюдать за лирохвостами (Munera superba), у которых в это время начинается период спаривания. Мягкий голубой рассвет высвечивал темные горы, покрытые камедными деревьями, только что сбросившими кору и мерцающими, словно колонны из слоновой кости. Воздух был свеж и прохладен, как тонкая корочка льда на пруду. Повсюду пели птицы. Пара валлаби[35] ускакала в тень.
Как и в прошлый приезд, мы отдохнули и попили чай в деревянном домике, а затем отправились осматривать спрятанные микрофоны и сеть проводов, установленных Норманом Робинсоном. В то время он проводил наблюдение за шестью парами лирохвостов, каждая из которых занимала территорию — в зависимости от ее плодородия и насекомых — от двух до пяти акров. В желудке одной из птиц были обнаружены остатки семи различных видов насекомых.
Восточные склоны этих холмов более влажные, чем западные. Там произрастают иные виды эвкалиптов и акаций, да и растительность более густая, что нравится лирохвостам, которые вообще предпочитают тень и влагу. Поэтому на западных склонах территория обитания этих птиц обширнее, что возмещает некоторые неблагоприятные условия их существования.
Как птица завоевывает и защищает свою территорию? Об этом можно судить по пению лирохвостов.
— Если пение прекращается, — объяснил Робинсон, — это сигнал, означающий, что на территорию может проникнуть другая, более агрессивная птица, причем не обязательно находящаяся поблизости. Несколько лет назад я отобрал одного самца-лирохвоста для зоопарка. Птицы это поняли. Другая пара сразу же заняла его территорию. Произошло общее перераспределение участков. Как все это происходит, мы не знаем. Об этих птицах вообще многое неизвестно. Например, единобрачны ли лирохвосты, долго ли они живут, чем точно читаются.
В литературе описан опыт с прирученной птицей по имени Джек, пойманной в 1885 г. в Друине, которая прожила двадцать лет на ферме в Виктории. Джек был бы чемпионом среди подражателей любого вида. В его репертуар входили: скрип телеги; слова, которыми понукали лошадей; звуки скрипки, пианино, пилы; визг убиваемой свиньи; лай собак, плач ребенка и треск забора, через который пролезает овца. И все это он проделывал с клювом, полным насекомых.
Через каждые шесть минут в течение дня и ночи микрофоны Тидбинбилла автоматически включались на восемь секунд для записи звуков леса. За двадцать четыре часа магнитофон включается двести сорок раз, и, таким образом, выводится время, которое каждая птица посвящает пению. В среднем — это четыре с половиной часа в день. Песня лирохвостов отнюдь не спонтанное выражение joie de vivre[36]. Это обременительный тяжелый долг.
— Попробуйте встать в семь часов утра, — предложил Норман Робинсон, — и начать петь во весь голос. Ручаюсь, вы не протянете и двадцати минут. Даже оперный певец не может петь в течение четырех с половиной часов ежедневно.
Как и большинство представителей фауны Австралии, лирохвосты очень древнего происхождения. Возможно, они жили в этих лесах еще до появления человека и сохранили ряд биологически примитивных черт. Эти птицы лучше бегают, чем летают (последнему они научились совсем недавно), у них менее развиты голосовые связки, чем у представителей более современных видов. Этот недостаток они восполняют тем, что предпочитают гнездиться на склонах, где их песни усиливает эхо, как это делают тирольцы, которые любят петь в горах. Существует мнение, что изумительный, как у павлина, хвост, раскрываемый самцом в период спаривания, может отражать эхо и форсировать тем самым звук. Лирохвост — отличный «пересмешник» и может воспроизводить голоса других птиц с удивительной точностью. Он проделывает это с закрытым клювом, как чревовещатель.
Некоторые австралийские птицы обычно собирают кучи из разлагающихся растительных остатков. Сорная курица и кустарниковая индейка используют их для кладки яиц, а лирохвосты ухаживают здесь за самками. Трудно даже представить себе, сколько куч может насыпать одна птица. Норман Робинсон насчитал до пятидесяти куч на территории только одной пары лирохвостов. Располагаются они часто на расстоянии всего нескольких футов одна от другой и не все используются одновременно. Это было бы слишком тяжело даже для лирохвоста, поскольку он должен посетить каждую кучу дважды в день. Активно лирохвост пользуется шестью или семью кучами одновременно. Большинство их имеют в диаметре два-три фута, а некоторые даже больше, и высоту от восемнадцати дюймов до трех футов. Сама сорная курица ростом не более петуха, но лапы самца настолько сильны, что он может сдвинуть чурку толщиной с руку человека. Чтобы насыпать свои кучи, самец переворачивает за сезон несколько тонн земли.
Для человека птицы всегда были символом свободы. Наблюдая, как грациозно и легко они летают, мы с тоской вспоминаем свои узы — долга, повседневности, собственности. Нам кажется, что птицы свободны от всего этого; они летят, куда их влечет желание, и в песнях изливают радость жизни.
Чем больше мы узнаем о жизни птиц, тем более ложными оказываются эти представления. Лирохвост, например, такой же раб повседневной жизни, как любой сотрудник страховой компании, уезжающий на работу каждое утро поездом в 8.15 и возвращающийся вечером в 18.10. Птица приступает к своим обязанностям каждое утро, начиная осматривать кучи с вершины холма и заканчивая свою работу у подножия. Каждую из них следует разрыхлить, возможно, для того, чтобы показать самке, где куча находится, и наверняка с той целью, чтобы отпугнуть других самцов.
В период ухаживания, который продолжается три месяца (спаривание занимает из них около одного), самец исполняет свой удивительный танец, во время которого распускает широко развернутый хвост в форме лиры с длинными перьями на спине так, что последний закрывает своей бахромой даже его глаза. Кажется, он едва видит, походя при этом на йоркширского терьера. Затем самец энергично отряхивается. Ни один подросток, танцующий шейк, ни одна египетская танцовщица, исполняющая танец живота, не могут трястись с большим экстазом. Он весь дрожит, перья мерцают, самец похож на вибрирующий комок темнокоричневого цвета с серебряным отливом. Все это время он стучит лапами так быстро и сильно, что весь его танец сопровождают звуки, похожие на частые удары барабана.
Не удивительно, что этот танец сказался в какой-то степени на хореографии австралийского балета. Это и есть балет с постоянно повторяющимися выходами и отступлениями, стремительными бросками и быстрыми, как молния, телодвижениями, так плавно переходящими одно в другое, что глаз не может их охватить. Птица трепещет. И все это делается для того, чтобы отпугнуть соперников; самка часто даже и не смотрит на танец. Есть что-то грозное и жуткое в этом странном существе, вращающемся и прыгающем, словно в него вселился бес, в темноте леса под сопровождение низкого барабанного звука. Он похож на африканского колдуна, исполняющего танцы дикарей, которые вселяют страх в новичков, посвящаемых в тайный культ. Увы, мне так и не удалось наблюдать это представление.
Лирохвост — пугливое существо с очень тонким слухом. Чтобы увидеть его танец, нужно иметь много времени, терпения и везения. К счастью, есть несколько великолепных фильмов, где запечатлено это прекрасное зрелище. Один из них, который я видела, был снят Гарри Поллаком, фотографом-натуралистом, о котором говорят, что он так же неуловим и любит одиночество, как и дикие животные, которых он выслеживает и фотографирует.
В фильме показано, как самка-лирохвост кормит в своем гнезде единственного птенца. Когда птенцу нужно очистить желудок, он испускает маленькую закрытую капсулу, которую наседка берет в клюв. Затем она улетает и выбрасывает ее в воду. Таким образом не только гнездо сохраняется в чистоте, но и хищники лишаются указателя, позволяющего им его обнаружить. Контраст между уровнем гигиены лирохвоста и человека можно оценить во время прогулки по любому шоссе в Англии, где каждый кювет используется автотуристами как отхожее место.
Удивительный фильм Гарри Поллака прослеживает весь строгий порядок жизни самца-лирохвоста. После утреннего инспекционного осмотра куч он кормит птенцов и немного отдыхает в разгар дневной жары. Затем проделывает обратный путь к вершине холма, по очереди останавливаясь у каждой кучи, исправляя неполадки, где это необходимо (большой урон им наносят грозы). Все это время он насвистывает свои мелодичные, но изнуряющие его песни, а в соответствующий сезон исполняет еще и танец. Наседка, после того как она снесла яйцо, в течение шести недель высиживает его в растрепанном гнезде, которое как бы случайно прилепилось к камню или пню. Самец не принимает в этом участия. У него достаточно других дел. Если бы птицы были подвержены заболеванию язвы желудка, то лирохвост несомненно страдал бы этой болезнью, настолько трудна его жизнь, так много у него забот и так неусыпна его бдительность.
Сноуи и Косцюшко
Для австралийцев гидроэнергетический комплекс в Снежных горах, «Сноуи», — символ современности. Смелое решение, блестящее техническое выполнение, экономически выгодный проект — американцы едва ли смогли бы сделать лучше. «Сноуи» перечеркнул привычное представление об австралийце, как вспотевшем парне в подтяжках, жадно пьющем пиво. Его место занял инженер в белом накрахмаленном халате у пульта управления подземной электростанции. Статистика обрушивается на вас в «Сноуи», так же как потоки воды, которые инженеры перегоняют по гигантским трубам сквозь горы: киловатты, акры, футы, отводные плотины, водосборные площади, максимальные нагрузки… Но за всем этим стоит простой смысл.
На вершинах и в ущельях Большого Водораздельного хребта берут начало крупнейшие реки Австралии — Муррей и Маррамбиджи, которые текут на запад и в центр страны, встречаясь на границе Нового Южного Уэльса и Виктории, а затем впадают в море приблизительно в пятидесяти милях к востоку от Аделаиды, в Южной Австралии. Земля Австралии плодородна, но осадков выпадает так мало и распространяются они столь неравномерно, что не могут обеспечить устойчивого развития сельского хозяйства. Решение заключается в ирригации, и обе реки уже орошают значительное количество земли.
Но другая река Австралии, Сноуи-Ривер, не используется в этих целях. Она берет начало на восточном склоне хребта, и путь ее до моря короток. Почему бы не прорубить туннель в горах, повернуть Сноуи, направив ее воды в систему Муррей — Маррамбиджи, и использовать эти реки как для орошения, так и для производства электроэнергии? Таков смысл проекта, который обсуждался в течение восьмидесяти лет. В 1949 г. была создана Гидроэнергетическая комиссия гор Сноуи для претворения проекта в жизнь.
С самого начала все работы бессменно возглавлял один человек. Он же и подобрал коллектив, который прошел вот уже полпути без единой серьезной ошибки или просчета. Это Вильям Хадсон, новозеландец, который приобрел опыт работы на строительстве гидроэлектростанции в Шотландии еще до второй мировой войны. Сейчас ему за семьдесят. Он не только блестящий инженер, но и отличный руководитель. Рабочие и инженеры заняты на строительстве. Они верят, что помогают создавать энергетический комплекс, полезный не только для своей страны, но и для других стран.
Строительству требуется рабочая сила, и поэтому всякий приезд сюда людей, интересующихся комплексом, приветствуется. «Сноуи» стал одним из основных туристских центров Австралии. Водители автобусов, во всяком случае те, с которыми я общалась, вежливы, хорошо информированы и отвечают на одни и те же вопросы терпеливо и с юмором. Отлично налажена работа столовых, они чистые и оформлены со вкусом. Цветы в горшках, красиво покрашенные стены, даже высокие стульчики для малышей. Пища всегда свежая, дешевая и обильная.
Свежий, прохладный и чистый воздух, аромат эвкалиптов — все говорит о том, что вы в горах. Яркие солнечные лучи освещают высокие, конусообразные стволы эвкалиптов, кора которых постоянно меняет свой цвет. В воздухе стоит птичий гомон, перед глазами мелькают красочные пятна. Это попугаи! Они не перестают меня удивлять. С записной книжкой, биноклями и карманным орнитологическим справочником я пробираюсь между деревьями, стремясь распознать попугаев, прячущихся среди травы. «Серый, крапчатый или весь в полоску, с ярким зеленовато-желтым хохолком»— это, очевидно, попугай Quarrion,находящийся где-то посредине между какаду с хохолками и попугаями без хохолков. «Алая головка и грудь, зеленое оперение крылев, желтое с голубыми пятнышками брюшко» — это, должно быть, восточноавстралийская розелла. Группы небольших, но не менее ярких птиц, в гамме цветов оперения которых встречаются сапфиро-голубые, кроваво-красные и лимонно-желтые оттенки, возможно медососы, — порхали по цветам, густо осыпавшим камедные деревья, собирая нектар. Своими сильными и гибкими коготочками они цеплялись за ветки и, казалось, бегали вверх и вниз, совсем как белки.
Согласно моему справочнику, в Австралии пятьдесят семь разновидностей попугаев, причем более пятидесяти из них не встречаются больше нигде в мире. Не удивительно, что один из первых исследователей Австралии написал на своей чистой карте слова Terra psittacorum(«Страна попугаев»). В справочнике сказано также, что пение австралийских птиц охватывает широкий диапазон «от нежного шепота крохотных крапивников до рождающегося глубоко в горле резкого металлического звона кукабарры»[37]. «В австралийском буше, — сообщает справочник, — проходит настоящий музыкальный фестиваль». Конечно, нельзя отрицать того факта, что австралийские птицы красиво поют, но никто все же не будет восхищаться голосами попугаев. «Они или негромко болтают, или довольно немелодично кричат». Зато окраска их фантастична, а недостатки есть у всех нас.
Сквозь серебристые и розоватые стволы деревьев проглядывают голубые воды озера Юкамбин. Туристский маршрут включает прогулку на катере по этому большому водохранилищу, созданному после возведения плотины на реке Юкамбин, главному притоку Сноуи-Ривер. Сейчас русло реки повернуто, и, проходя по туннелю протяженностью в четырнадцать миль, прорубленному в скале, ее воды вливаются в Тамет, которая, в свою очередь, сливается с Маррамбиджи.
Система сложная, и мне было трудно даже с помощью диаграмм и макетов, которые используются для пояснения посетителям, понять, как менялись русла. На западном склоне хребта три реки были отведены и образовали водохранилище. Падая с высоты двух тысяч семисот футов, их воды вращают турбины четырех электростанций, а затем собираются в огромном резервуаре — озере Блоуэринг, которое наполняется во время таяния снегов и орошает большую часть долины Муррей-Маррамбиджи во время засушливого лета. Озеро затопило небольшой город — Адаминаби. Новый Адаминаби вырос в нескольких милях. Предполагается затопить и город Джидабайн. Для его жителей уже построен новый город со всеми удобствами.
Все эти реки частично протекают по территории Национального парка Маунт-Косцюшко (Новый Южный Уэльс), самого большого в Австралии[38]. Название «Национальный парк» не совсем точно. В полном смысле этого слова таких парков в Австралии нет. Все они, за исключением одного небольшого в окрестностях Канберры, принадлежат отдельным штатам и различаются по целям, путям развития и размерам. Территория парка Маунт-Косцюшко составляет 1,3 млн. акров; есть парки размером всего в несколько акров, созданные для того, чтобы сохранить редкое растение или определенных представителей животного мира. В парке Маунт-Косцюшко озера, появившиеся в результате изменения русла рек и создания гидроэлектростанций, станут способствовать культурному отдыху. Здесь можно будет половить рыбу и заняться водным спортом. Вырастут дома для туристов, а любители наблюдать за птицами и пожить в палашах встретятся на заросших тростником берегах, уже возникших на месте бывших сухих пастбищ.
От озера Юкамбин дорога серпантином поднимается к городу Кабрамарра, расположенному на высоте около четырех тысяч девятисот метров над уровнем моря — выше всех городов Австралии. Здесь есть отличная туристская база, принадлежащая Управлению комплекса «Сноуи». Порции в местной столовой такие громадные, что даже австралийские желудки не в силах их поглотить. По подсчетам директора, одна треть приготовленной пищи выбрасывается. Над окном раздачи висит объявление: «Если вам нужна добавка, обращайтесь к шефу». Многие из посетителей так и делают, но в результате оставляют половину заказанного на тарелках.
Мы подъехали к реке Тамет, которая, пробираясь сквозь густой эвкалиптовый лес, стекает с западного склона хребта. Здесь есть пропасти, которые наверняка никем не исследовались, настолько они круты и обрывисты; растет великолепный высокий альпийский ясень и рябина (Е. regnuas), менее высокий и одиноко растущий снежный эвкалипт (Е. tiiphophila), кое-где встречается узколистное мятное дерево (Е. australia).
Камедные деревья Австралии отнюдь не однообразны, как это можно подумать на первый взгляд. Имеется несколько сотен их разновидностей, и неспециалисту очень трудно отличить их друг от друга. Рябина, например, отлично растет здесь выше линии выпадения снегов и достигает более трехсот футов длины; другие деревья можно встретить в пустыне в виде низкорослых пыльных кустарников. Одни цветут изумительными красными цветами, цветы других трудно даже разглядеть. Эти деревья растут и на болотах и на дне рек, причем иногда прямо из сплошного камня. Заостренные листья ряда пород предназначены для того, чтобы направить каждую каплю падающей на них влаги в землю; их форма затрудняет активное испарение. Камедные деревья дают масла и танин.
Эвкалиптов в Австралии великое множество. Акклиматизировались они около пятидесяти миллионов лет назад, уже после того, как континент был отрезан от основного материка. Эвкалиптовые чаще представлены семейством миртовых. Иногда можно услышать, что цвет их монотонен: на первый взгляд это так и кажется. Красного цвета много, но это вообще цвет Австралии, ее почв, скал, деревьев. Молодая поросль более темного цвета, кончики листьев — бордовые, а кора, часто висящая лохмотьями, вся в разноцветных полосах, обычно розового оттенка. Разнообразие эвкалиптов диктуется именно корой; стволы их могут быть ободранными, но редко однотонными.
В глубине ущелий, покрытых камедными деревьями, почти в тысяче футов под землей, расположены электростанции. Все, что с ними связано, — фантастично, начиная с того момента, когда невидимый луч, подняв стальной занавес, открывает путь вашей машине; причем лично меня преследовал страх, что обратно мне уже не выехать. Я словно попала в огромные, серые, гладкие, сверкающие внутренности какого-то механического животного. Но там в глубине вы не увидите ни движения потоков воды, ни вращающихся валов.
Все, что открыто глазу, — это большие панели с измерительными приборами. Лампы, похожие на зеленые и белые глаза, то загораются, то гаснут. Стрелки, перемещаясь по циферблату, останавливаются на разных цифрах. Было время, когда горы раскрывались перед заветным словом и из них выходили сказочные короли и королевы, теперь же горы скрывают невидимые турбогенераторы, подчиняющиеся молчаливым дискам и выключателям. Вся станция работает без присутствия хотя бы одного человека. Меня это беспокоило.
В длинной, тихой, без единого пятнышка галерее — муха, перышко, пылинки могли бы осквернить этот храм — стояла группа монахинь в черных одеждах и белых головных уборах, рассматривая со смущенными улыбками многочисленные приборы. В их руках висели четки. Надеюсь, что они лучше меня поняли интересный рассказ гида.
— Общая мощность Тамета I, Тамета II и Тамета III превысит полтора миллиона киловатт, дополнительный объем воды в реке Маррамбиджи составит более чем один миллион акр-футов в год… восемь основных плотин… протяженность туннеля — пятьдесят шесть миль…
В одно ухо влетает, в другое вылетает. Было ли это тем ущельем, по которому скакал сказочный Человек со Снежной реки на своем легендарном коне?[39] Сегодня стук копыт не потревожит подземные турбогенераторы, его просто заглушит шум чудовищных экскаваторов, валящих деревья.
Оказавшись вновь на поверхности, мы увидели прямо перед собой станцию электропередачи, окруженную черными мертвыми пнями и стволами вывороченных деревьев. За ней виднелся склон холма, на котором возвышались живые деревья цвета слоновой кости и олова, серебристо-серые, сверкающие в ярком солнечном свете, призрачные и громадные, как изолнутые руки балерин, застывших в какой-то немой сцене. Станция электропередачи была мертвенно-белого цвета, крюки и диски, прикрепленные к пилонам, гроздья изоляторов, нанизанные на мачты, напоминали бусины счет, поставленных вертикально. Все это мерцало, сверкало, переливалось под лучами солнца и было необычайно прекрасным. По горам тянулись ряды столбов, также блестевших под солнцем; каждый из них был увенчан четырехконечной звездой. Открывающаяся перед нами картина производила сказочное впечатление и походила на паутину гигантского механического паука, сотканную среди странных, покрытых темной листвой деревьев.
Название Кенкобан (Ханкобан) наводит на мысль о косматых азиатских козлах, мулах, овечьем сырье и бородатых мужчинах в каракулевых шапках. В действительности так называется новый город с чистой гостиницей, принадлежащей Управлению «Сноуи», со стоянками для машин, кафе и зелеными лужайками, где установлены крутящиеся дождевальные установки. Сидя с чашкой кофе на ярко освещенном солнцем балконе, я наблюдала за стайкой попугаев, носящихся в поисках насекомых; в воздухе они были похожи на летающие розовые лепестки. Далеко внизу облако коричневой пыли поднималось над строительной площадкой плотины, где всю ночь ревели машины. Они будут реветь круглые сутки до тех пор, пока строительство не закончится. Огромные трубы устанавливаются в ущельях, для того чтобы прогонять воду сквозь турбины по три миллиона галлонов каждую минуту.
Пики гор покрыты снегом. Одна из них Косцюшко. Однако надо хорошо знать все плато, чтобы выделить ее из многочисленных вершин.
Национальный парк Маунт-Косцюшко, как и большинство ему подобных, одновременно и заповедник для диких животных и место отдыха. К сожалению, эти два фактора плохо сочетаются. Кому из животных понравится постоянный треск кинокамер, руки, которые лезут в гнезда, шум машин и вой транзисторов. Редкие растения цветут, когда их топчут, или местность, на которой они растут, используется для пикников, а еще реже выживают, после того как их выкопают, чтобы «посадить» дома. Дороги и мотели нарушают покой, который совершенно необходим для заповедника.
Итак, перед (всеми национальными парками и заповедниками мира стоит дилемма. Человек убивает то, что любит. Толпы людей лишают животных уединения, нарушают тишину лесов, одиночество холмов. Люди приносят с собой то, от чего пытаются уйти, — собственное окружение и общество себе подобных.
Роща, лесистая долина, луг у водопада превращаются в площадки для кемпинга. И нет возможности найти выход из положения, можно только достичь компромисса. Менее ста квадратных миль из двух тысяч (т. е. не более пяти процентов) были объявлены «заповедной зоной», которая должна быть оставлена такой, как она есть, где природа идет своим путем. Никакого строительства дорог — люди смогут посещать заповедник только пешком. Акведуки укроют так, чтобы скрыть всякие следы вмешательства человека. Будет запрещено носить с собой огнестрельное оружие, никто не посмеет сорвать цветок или унести образец горной породы.
По другую сторону хребта за ущельем Мертвой Лошади находится местность Тредбо, которую меньше всего можно назвать «нетронутой зоной». Это центр единственной в Австралии зоны зимнего спорта. Здесь построена копия швейцарской деревни, такое же последнее слово техники, как, например, спутники земли. Номер в первоклассной гостинице стоит сто долларов в неделю. Повсюду разбросаны маленькие коттеджи с остроконечными крышами, построенные из пожелтевшего дерева по типу альпийских домиков. Так и кажется, что сейчас увидишь швейцарских крестьян в кожаных шортах и подтяжках. И их можно наверняка увидеть зимой, когда горы покрыты глубоким снегом. Кататься на лыжах теперь модно. Кое-кто считает, что это доказывает принадлежность к привилегированным классам.
Строительные работы зимой ведутся в тяжелых условиях— снегопады, ледяные ветры, низкие температуры, но, несмотря на это, темпы строительства опережают намеченные сроки. Комплекс прибавит к общему объему вырабатываемой в стране электроэнергии еще сорок процентов, что даст возможность ежегодно выращивать на орошаемых землях сельскохозяйственную продукцию стоимостью в шестьдесят миллионов долларов[40].
Золотое руно
По дороге к Гандауринго мы проехали два очага пожара и сквозь клубы дыма видели людей, боровшихся с огнем с помощью палок и мешков. На обочине дороги стояли пустые машины; их владельцы помогали на пожаре. В этот летний, засушливый период любая искра или небрежно брошенная сигарета могли послужить началом пожара. «Языки пламени» — это, конечно, штамп, но как точно рисует он пламя, полыхающее под аккомпанемент непрекращающегося рева. Напоминает оно и огненный столб, вырывающийся из пасти разъяренного дракона, уничтожающий все живое — ящериц, лягушек, мышей, жуков и перепуганных овец. Повсюду, где прошел огонь, остается черная, покрытая пеплом земля, обуглившиеся строения, искореженные деревья.
Мы выбрали не лучшее время для поездки в гости на эту субботу и воскресенье. Пожар вспыхнул на территории, принадлежавшей нашему хозяину.
Дом был полон маленьких детей, жующих бутерброды перед телевизором. Их матери в это время присоединились к людям, боровшимся с пожаром. Он угрожал сейчас одному из жилых домов и, что было опаснее, стойлу с породистыми баранами. В Гандауринго разводят знаменитых овец, породы, полученной в результате многолетних скрещиваний. Оцениваются они в десятки тысяч фунтов, да вообще их было просто по-человечески жалко, ведь погибали живые существа.
Хозяйство, которое мы посетили, принадлежало двум незамужним женщинам и управлялось двумя энергичными племянниками. Один из них играл в крикет где-то в двадцати милях от фермы. Получив сообщение о пожаре, он уже через пятнадцать минут был на месте. Цистерна с водой вместимостью в шестьсот галлонов всегда стояла наполненной на случай пожара, так как в период засухи здесь живут в состоянии круглосуточной боевой готовности. Вскоре появилась стройная, перепачканная сажей девушка в шортах. Она вместе с одной из тетушек вывела стадо бараков из находящегося под угрозой стойла по узкому дощатому мосту через речку. Это было не так-то просто, если учесть, что огонь уже подобрался к входу в стойло. На следующее утро мы своими глазами убедились, как «поработал» пожар. Все вокруг обуглилось, пастбище погибло, пламя прихватило даже стены сарая, но овец спасли.
В прошлом году в Гандауринго было острижено около двадцати одной тысячи овец. Цифра значительная, но это число еще не рекордное. Есть фермы, где овец в два раза больше. Стригали зарабатывают большие деньги, но они заслужили их тяжелым трудом. Каждый обрабатывает от ста до ста пятидесяти голов в день. Стригаль выводит овцу из стойла и обхватывает ее коленями каким-то особым образом. Лишь только одно движение достигает нужного эффекта и приводит овцу в своеобразное гипнотическое состояние. При этом она не сопротивляется, когда стригаль плавно, ровно, одним непрерывным движением снимает с нее шерсть, как кожу с банана.
Сарай, где происходит стрижка, — центр всего хозяйства. Некоторые семьи сами живут в лачугах, но имеют просторные сараи, которые в десятки раз дороже самого жилья. Здесь обязательно должно быть помещение для готового к стрижке окота, ожидающего своей очереди в загонах; помещение, где производится сама стрижка; отделение для обработки шерсти и для ее хранения.
В прошлом жена скотовода должна была кормить стригалей — десяток здоровых мужчин — пять раз в день, и труд ее был нескончаем. Сейчас каждая бригада имеет своего повара, и говорят, что он здесь самое ответственное лицо. Если повар хорош, то в бригаде сохраняются ровные, дружеские отношения, работа идет спокойно. Если же повар плох, то и стригали недовольны, а их настроение отражается и па труде. Баранина, хотя ее и подают три раза в день, никому не надоедает, если она доброкачественна и ее достаточно, но жесткое, подгорелое мясо может привести к конфликту.
Породистые бараны спокойно жевали жвачку, не ведая, как близки они к своей гибели. Выглядели они совершенно квадратными. Тонкорунная их шерсть была шелковистой, чистой и нежной. Тонкость каждой шерстинки, завиток и способность растягиваться без разрыва — основные категории ее качества. Скотоводы, стремясь к эталону, достичь которого трудно, постоянно экспериментируют, выводя новые породы так же, как сорта табака, кофе и вина. При этом принимается во внимание форма и приспособляемость, прочность и тонкость шерсти, быстрота роста и экономичность, продолжительность жизни, плодовитость, молочная производительность и другие подобные качества.
Придет время, и все эти проблемы решит компьютер. Пока же породы выводят люди, призывая на помощь искусство, инстинкт, опыт, терпение, а иногда и смелость. Работа, на которую уходит пятьдесят лет, может в результате оказаться совершенно бессмысленной. Я видела человека, спустя несколько недель после нашей встречи, своей рукой уничтожившего овец, на создание пород которых он потратил жизнь и которые превратились в искалеченные жалкие создания, взывающие к милосердию. Сам он затем попал в больницу.
Жилой дом в Гандауринго — большое вытянутое бунгало, которое окружает широкая веранда. Здесь разбит тенистый сад и хорошо политые лужайки. Почему же современные строители, когда уже найдено правильное архитектурное решение жилища для такого климата, создают бесформенные коробки, обращенные к солнцу, лишенные защиты веранд, принуждающие их владельцев жить в темноте за постоянно закрытыми ставнями?
Если вам надоела веранда или прохладные просторные комнаты, которые на нее выходят, в Гандауринго всегда можно сбежать в «холодильник» — своеобразный грот около плавательного бассейна, затянутый тончайшей решеткой, защищающей от мух. Эти маленькие хотя и не кусающие, но доводящие до бешенства насекомые, настолько настырны и многочисленны, что заползают вам в уши, откуда извлечь их невозможно. Женщины вынуждены носить здесь шляпы с вуалью, подобные тем, которые надевают пчеловоды, работающие около ульев. К гроту подведен водопровод. Там есть электроплита, холодильник, удобная мебель и телефон. Здесь можно провести весь день, наблюдая за детьми, плескающимися в бассейне, да и самому искупаться под лучами неутомимого солнца. Но поблаженствовать удается только в воскресенье. Здесь все работают упорно, но без излишнего напряжения. Рабочий день начинается с восходом, когда сорока-колокол, которую также называют курравонг, начинает свою песню, напоминающую колокольный звон, медовосладкую, чистую, нежную и мелодичную. Это красивая пестрая птица с таким же черно-белым оперением и такой же величины, как английская сорока; но она не родня ей. Сорока-колокол так же вездесуща, как воробей. Как правило, первый звук, раздающийся с восходом солнца, лучи которого бросают длинные тени на лужайки под окном, — это модуляции ее серебристого голоса.
В телефонном справочнике городка Бига 73 фамилии, из них двадцать семь — Пиккеры. Проезжая по этой части Нового Южного Уэльса, Пиккеров найдешь повсюду: направо, налево и прямо. Все они происходят от прапрадедушки Пиккера, который приехал из йоркшира сто лет назад, занял здесь свободный уголок земли в шестьсот сорок акров и оставил множество сыновей.
Уже на третий год шерсть мериносов Тревора Пиккера была оценена на аукционе выше всех других сортов. Другие Пиккеры тоже не отставали. Это было достигнуто не путем сложных научных исследований, а благодаря природному уму и традициям, передаваемым от отца к сыну.
Дед Пиккер начал селекцию на глазок, отбирая тех мериносов, шерсть которых была самой длинной, самой мягкой и самой тонкой, и свел свою породу до потомства четырех семей. Шерсть его мериносов вскоре завоевала репутацию высокого качества, но цены на нее не были самыми высокими на рынке, и в период спада она продавалась по тринадцать центов за фунт. В этом году его внук получил восемнадцать долларов за кипу, установив мировой рекорд. Шерсть доставили в йоркшир, из нее изготовили ткань, из которой, в свою очередь, сшили двадцать пять костюмов, проданных в Нью-Йорке по четыреста долларов за каждый — рекламный фокус, конечно. И тем не менее, несмотря на рекордные цены и известное во всем мире имя, гарантирующее качество, Пиккеры с тяжелым сердцем пришли к выводу, что производство шерсти малоэффективно, и даже собирались разводить овец на мясо.
У Пиккера, еще молодого человека, привлекательная жена и четверо маленьких смуглых отмытых до блеска сыновей. Он ведет хозяйство вместе со своим отцом. Помогает ему дядя, который живет рядом со складом, где хранится шерсть, в окружении собак-келпал, умных коренастых псов местной породы, о которых говорят, что они наполовину динго. А динго — бич Австралии, но все-таки самый страшный ее враг — пожар. Химикаты помогают бороться с мухами, лис можно травить и стрелять, но проблему пожаров разрешить невозможно.
Бига — типичный маленький австралийский провинциальный город — растянутый, небрежно заостренный, разбитый на прямоугольники, которые, в свою очередь, делятся на участки одинакового размера с коробкообразными бунгало. Каждое бунгало стоит отдельно и построено, как правило, владельцем. В садах больше банок из-под пива и старых шин, чем роз или георгинов — правильнее сказать, это дворы, а не сады. Здесь слишком жарко, сухо и пыльно, чтобы возиться с вилами и тачкой или вообще заниматься любой трудоемкой работой.
Женщины сидят дома за занавесками, предохраняющими их от мух, одинокие или с детьми, наедине с порванными, замызганными журналами, тикающими часами и монотонным гудением транзистора.
— Для женщины здесь тяжелая жизнь, — говорит мой спутник. — Только работа и ради чего? Куча детей, жара, мухи, раз в месяц встреча в Ассоциации женщин или собрания в школе, что влечет за собой дополнительную возню на кухне. Совсем молоденькими они становятся или слишком худыми или слишком толстыми.
Мужчины проводят время в пабах. Длинная стена мужских спин, склонившихся над стойкой бара, кружки в коричневых тяжелых кулаках, сигареты в зубах, ноги на перекладине — это провинциальная Австралия. В дальнем углу бара стоит стол и десяток табуреток для женщин, если они вдруг здесь появятся. Но из них мало кто приходит, да и зачем? Ничего интересного не предвидится, а встречают их без восторга. Говорят, что сейчас в моде пивные бары на свежем воздухе. Мужчины приводят свои семьи, и все пьют вместе на европейский манер.
Может быть, эта мода и распространится на Австралию, но пока еще очень далеко до того момента, когда фаланга женщин в платьях с короткими рукавами, плечо к плечу, прорвет мужские ряды.
В Уоллогоранге, неподалеку от Гоулберна, я увидела моих первых кенгуру, живущих на ферме Джона Ватсона. Ему нравится наблюдать за ними, но он должен постоянно контролировать их прирост. Большинство скотоводов уничтожают кенгуру, попавших на фермы, сами или вызывают профессионалов.
— Попросить скотовода не убивать кенгуру все равно что обратиться к американскому фермеру прошлого столетия с просьбой разрешить стаду бизонов вытоптать его посевы, — сказал мне доктор Гарри Фрит. Руководитель Отдела охраны живой природы КСИРО, он видит свою миссию в сохранении местной фауны. При этом число таких животных, как кенгуру, конкурирующих с домашним окотом, должно быть лимитировано. Кенгуру могут существовать только с всеобщего согласия и только при благоприятном отношении к ним скотоводов.
Стрелять кенгуру, потому что они могут стать такими же вредителями, как кролики, одно дело, делать же это из спортивного интереса — совершенно другое. Кенгуру— безобидное, безвредное, бесхитростное животное, оно не умеет скрываться от нападения. Кенгуру стоят и смотрят. Головы их слегка откинуты, уши наклонены, длинные морды — нежные и чувствительные, взгляд гордый и доверчивый. Если к ним приблизиться, они убегают, прыжки их странны и грациозны; лапки, похожие на человеческие ноги, покачиваются впереди, как бы моля о пощаде; детеныши подпрыгивают в своих сумках, как на пружинах. Совершенно непохожие на животных других стран, кенгуру имеют такой невинный вид, что его трудно даже описать словами. Все это превращает их уничтожение в прямое убийство. «У нее маленькие покачивающиеся руки и покатые викторианские плечи», — писал Д. Г. Лоренс, рассказывая о самке кенгуру, которую он кормил леденцами. Далее Лоренс продолжал: «она сидела на большом мускулистом своем хвосте, похожем на питона, а из ее сумки, как из окошка, выглядывала худенькая маленькая мордочка, остренькая и немного испуганная, и сразу же пряталась от всего мира в теплую глубину, лишь мелькала на секунду в воздухе маленькая лапка…».
Некоторые скотоводы рассказывали мне, что в Уоллогоранге «они морят голодом своих овец». До какой-то степени это оказалось правдой. Не всех овец и не все время, но некоторых время от времени морят, для того чтобы приучить есть чертополох и другие сорняки и неаппетитные травы, изучая таким образом поведение овец на пастбищах. Странно, но многие полученные данные оказываются совершенно неожиданными, хотя мериносных овец разводят уже в течение целого столетия.
Впрочем, это не удивляет Джона Ватсона, который утверждает, что на овцеводческих станциях мало что изменилось за последнее столетие, так как развитие шло само собой без лишних усилий. Основное новшество, которое применили при выращивании овец начиная с 20-х годов XIX в., когда земля стала в этой части Австралии сдаваться в аренду, это использование суперфосфата и посевы клевера. Даже в наши дни многие скотоводы или вообще игнорируют эти методы, или используют, не придавая им большого значения. Большинство довольствуются тем, что предпочитают оставлять все так, как велось испокон веков: наживают состояние в хорошие годы и теряют его в годы засухи.
По мнению Дж. Ватсона, далеко не всеми разделяемому, скотоводы совершенно недостаточно используют землю. Среднее производство шерсти в этих местах — девять фунтов на акр пастбища; на станции Уоллогоранг всего лишь после семи лет применения новой техники выращивания овец — восемьдесят фунтов, на лучших выгонах оно возрастает до ста тридцати пяти фунтов. В этой части восточного Нового Южного Уэльса производство, с точки зрения Дж. Ватсона, может быть увеличено в десять раз с помощью средств, уже сейчас находящихся в руках скотоводов, без каких-либо дополнительных нововведений.
Почва бедна. Бедна и тонка. Есть места, где ее просто нет, на поверхность выходят лишь кварцевые скалы. В большинстве районов она неплодородна, красного цвета, разрушенная глубокими оврагами, песчаная, лишенная чернозема и легко разрушаемая. Природные травы грубы, их мало, они не питательны, лишены таких сортов, как клевер, которые извлекают азот из воздуха и закрепляют в своих тканях. Азот — необходимая составная часть протеина, а протеин — это мясо. Поэтому чем больше почва обогащена азотом, тем большее число животных на акр сможет она прокормить. Следовательно, для лучшего использования бедных пастбищ нужно способствовать росту бобовых. А это целиком зависит от особого рода клубеньковых бактерий, которые образуют маленькие узелки на корнях бобовых, таких, как люцерна и клевер, и вытягивают азот из воздуха. При высеивании нового сорта клевера зерну должен быть привит определенный штамм клубеньковых бактерий. Обычно вводится около двух тысяч бактерий в каждое зерно клевера, но ученые проводят опыты, доводя это количество до десяти миллионов организмов на зерно; тогда каждый корень сможет получить в десять раз больше азота, чем имеет среднее растение в настоящее время.
Как только клевер выращен, на пастбище запускают овец, выполняющих роль косилок и распределителей навоза. Таким образом повышается плодородие почвы, что стимулирует рост клевера, а это, в свою очередь, увеличивает содержание азота в почве и вновь повышает ее плодородие. Прекрасный кругооборот! Система подразумевает использование овец для разработки пастбищ, а не то положение, когда пастбища диктуют рост овец.
Первые скотоводы разгораживали земли на очень большие пастбища, каждое — несколько тысяч акров. И так поступало большинство. Сейчас нужны пастбища гораздо меньших размеров, скажем, акров пятьдесят. На эту площадь сгоняются три тысячи овец на пару недель: обработка шоком, массовая атака на композиционное строение травяного покрова. И вот в этих случаях в ход идет голодная диета. Многие из пастбищ заросли чертополохом, камышом и другими бедными растениями. Овцы не будут есть чертополох, если они сыты, но, подгоняемые голодом, возьмутся и за него и, более того, уже приученные, отдадут предпочтение сорнякам перед другими травами. Стадо, запущенное на пастбище, заросшее сорняком шандра, так полюбило его, что впоследствии на пастбищах, где в изобилии были другие, гораздо более питательные травы, овцы выискивали именно шандр.
Однако дело обстоит не так просто. Овец можно держать на голодном режиме только определенное время. Самке необходима обильная и хорошая пища, когда она понесла и когда ягнится. В Уоллогоранге в результате исследований пришли к выводу, что между периодами ягнения овца может съесть в три раза больше, чем ей необходимо для поддержания веса и хорошего состояния здоровья. Таким образом, она растрачивает впустую пищу, которая может и должна быть сохранена. Борьба с этим и называется правильным управлением питания скота. Контроль осуществляется регулярным взвешиванием. Ежедневно на одной из частей станции собирают группу овец для осмотра и каждую десятую взвешивают. В результате выводится кривая веса. Когда она достигнет вершины, овец выпускают на богатые азотом пастбища; когда вес падает — их кормят чертополохом. Таким образом, скотовод в состоянии регулярно и разумно использовать пастбища, выращивать больше овец на акр и, следовательно, увеличивать производство шерсти.
Все это очень хорошо, возражают критики, но рано или поздно наступит засуха и тогда у скотовода, полностью или выше нормы загрузившего свои пастбища, не будет резерва. Использование пастбищ не на полную мощность — форма страхования. Ответ Дж. Ватсона следующий — когда наступает засуха, овец нужно кормить закупленным зерном. Он считает, что необходимо переходить на более интенсивные и соответственно более совершенные методы производства, так как рост населения предъявляет все возрастающие требования к землепользованию. Методы станции Уоллогоранг могут быть правильными или нет, но они безусловно перспективны. Однако в настоящее время в мире, кажется, слишком много шерсти; цены упали, и был введен налог для сбора средств и проведения кампаний, стимулирующих продажу шерсти. Если каждая овцеводческая ферма в Австралии удвоит свое производство, не говоря уже об увеличении его в десять раз, это приведет к экономическому кризису. Так что еще вопрос, кто здесь прав. Те, что верят в интенсификацию, прогресс и усовершенствования, или сторонники традиционных методов, работающие по принципу «будь что будет».
Все зависит, очевидно, от того, насколько широко смотришь на вещи, а может быть, и просто от склада ума. Дж. Ватсон предпочитает перемены. Семь лет назад, когда он пришел к руководству на станции Уоллогоранг, там было двенадцать тысяч овец, сейчас их уже тридцать шесть тысяч. Он намеревается удвоить это количество. Ватсон распространяет среди скотоводов соседних хозяйств вопросник, содержащий сто четыре вопроса о разведении овец, на которые, по его мнению, еще не найдено правильного ответа. Он руководит школой — своеобразным сельскохозяйственным колледжем одного преподавателя; хобби Дж. Ватсона — покупка старых машин, из которых он собирает новые; охотиться на своей территории он не разрешает. В его голове возникает еще много различных проектов. Это и разработка новой системы чисел, «которая так же превосходит арабскую, как последняя — римскую»; и регулирование микрофлоры желудка овцы; и указ, обязывающий политических деятелей выходить на пенсию в пятьдесят лет; и устройство «клеверных фестивалей» в сельскохозяйственных районах; и учреждение комитета, борющегося «за чистоту мышления»; и разработка системы, «информирующей о всех опытах, приводящих к отрицательным результатам».
Странно, но в стране, которая посвятила себя борьбе за равноправие, на многих фермах сохраняются явно феодальные отношения. Я не имею в виду какие-либо жестокие методы наказаний за совершенные проступки. Но каждая ферма в Австралии — это община, напоминающая средневековое помещичье хозяйство. Владелец станции Уоллогоранг опекает около тридцати семей. Обычен для фермеров длинный полированный обеденный стол. Буфет украшает посуда из литого серебра, есть и старинные серебряные блюда для мяса с тяжелыми крышками.
В доме много просторных комнат, но все предпочитают собираться в одной небольшой, уютной, где полно журналов, стоят чашки с чаем и висят фотографии лошадей и баранов.
Все время кто-то выходит и входит: молодой человек, коллекционирующий старинные коляски, который только что обнаружил в одном из сараев какой-то экипаж; девушка из сельскохозяйственного колледжа, проходившая здесь практику; французский школьник с острова Новые Гебриды; ученый, интересующийся опытами, проводимыми с овцами на местных пастбищах.
В библиотеке я наткнулась на книгу воспоминаний одного из первых поселенцев. Это было повествование о днях, когда группы каторжников начали прибывать в Австралию и были основаны многочисленные фермы, подобные тем, которые я посетила.
Автор рассказывал, как двое досрочно освобожденных ссыльных купались в крике[41], в то время как мимо них проезжала группа представителей власти. Так как среди проезжающих были женщины, наши купальщики, естественно, остались в воде. Однако это было расценено как проявление неуважения. Виновных вновь заковали в кандалы, и каждый получил сто ударов кнутом двумя порциями, пятьдесят для начала и еще пятьдесят, когда раны начали заживать.
Один ссыльный получил пятьдесят ударов только за то, что однажды темной ночью вбежал в помещение для слуг, крича, что видел дьявола, хотя оказалось, что это был всего лишь белый пони. В лагере для заключенных около Гоулберна некий надсмотрщик по прозвищу Черный Фрэнсис порол заключенных с такой жестокостью, что завоевал печальную славу у всей колонии, в результате чего был убит. Один из заключенных после семидесяти пяти ударов Черного Фрэнсиса кнутом встал шатаясь на ноги, плюнул в лицо своему палачу и сказал:.
— Такой удар не убьет и бабочку.
Правнуки этих людей живут сейчас в Австралии. Разбогатевшие на разведении тонкорунных овец, они создали свое общество, построили удобные красивые дома и пересадили на новую почву английский образ жизни, так же как в свое время англичане — заключенных. Простой и приятный георгианский стиль сохранялся в колонии еще с десяток лет, после того как в Англии уже установился более грубый — викторианский.
В памяти первых поселенцев жили воспоминания об английских помещичьих домах, где многие из них провели свое детство. Некоторые поселенцы служили офицерами в американских колониях и помнили колониальную архитектуру южных плантаций и городов Новой Англии. Они обжигали кирпичи из глины и использовали древесину местных пород для кровли, облицовки стен и мебели.
Самой большой эстетической трагедией для Австралии стало распространение в 50-х годах XIX в. кровельного железа, чье зарифленное уродство сменило деревянную кровлю ручной работы, до этого времени покрывавшую деревенские дома.
Некоторые породы эвкалипта, отполированные в течение столетия, (великолепны. Они светятся. С большим удовольствием вспоминаю я широкие двери, величественную лестницу с балюстрадой, темно-красную обшивку стен, сверкающую и гладкую как стекло, а также прекрасные стулья периода Регентства в Уоллогоранге. Простой фасад в георгианском стиле выходит в сад, наполненный щебетом птиц.
Вспоминаю пропорциональные комнаты в Уингене и большой амбар, который погиб в огне пожара всего через несколько недель после моего посещения, и, возможно, самый прекрасный из колониальных особняков — Кэмден-Парк около Кемпбелтауна, где все еще живут потомки Джона Маккартура[42] по прямой линии. Особняк был закончен архитектором Джоном Берджем[43] в 1835 году.
Простой дом в стиле эпохи Регентства сохраняет прекрасные пропорции; в нем нет ничего показного или дешевого. Маккартур жил во времена, запятнанные скандалами, дебоширством и коррупцией, когда колонию годами терроризировали беспутные офицеры «ромового корпуса» британской армии Нового Южного Уэльса[44].
Семья Джона Маккартура благоговела перед своим хозяином; его жена Элизабет с легким сердцем прошла ради Джона через тяжелые испытания, а помнят его, в основном, как задиристого, вспыльчивого бунтовщика, который, используя связи, захватил огромные территории свободной земли и интриговал против капитана Уильяма Блая — единственного губернатора, пытавшегося призвать к порядку «ромовый корпус». Джон Маккартур вырастил первое стадо тонкорунных овец и экспортировал первое тонкое руно, которое могло соперничать с испанской и германской шерстью.
Его биограф М. X. Эллис писал, что у Джона Маккартура «взрывчатый» характер. Он мог быть высокомерным, язвительным и в то же время любящим, нежным и снисходительным отцом, справедливым и щедрым. Он дрался на дуэли с капитаном корабля, на котором в 1790 г., будучи произведен в чин младшего лейтенанта 68 пехотного полка и затем переведенный в полк Нового Южного Уэльса, отплыл в Сидней. Одиннадцать лет спустя он на другой дуэли ранил командира и таким образом положил конец своей военной карьере. Но возможно, что в обоих случаях Маккартура просто спровоцировали на дуэль.
У него была удивительная способность приобретать влиятельных врагов. Один из них, губернатор Филипп Паркер Кинг, писал о Маккартуре: «Он использует любые ухищрения: хитрость, дерзость, чары глаз для достижения своей цели». Но это говорилось в тот момент, когда Маккартур перехватил стадо овец, которое губернатор Кинг тоже хотел купить. После ссоры с Кингом Маккартур был отправлен в Лондон, где ему предстояло держать ответ за свое поведение. С собой он взял несколько экземпляров растений для сэра Джозефа Бэнкса[45] и коробку с образцами шерсти.
Мериносов привез из Кейптауна не Маккартур. Но из первой партии он закупил четырех овец и двух баранов и сумел вывести чистую породу. Несколько лет спустя он купил у другого офицера значительно большее стадо, которое губернатор Кинг хотел приобрести для колонии. Образцы шерсти, взятые Маккартуром в Лондон в 1802 г., поистине оказались золотым руном. В Новом Южном Уэльсе жесткая шерсть индийской смешанной овцы — причем отнюдь не тонкорунная — стоила два цента за фунт. Владельцы же мануфактур в Йоркшире, отрезанные от европейских источников наполеоновскими войнами, предлагали за тонкую шерсть Маккартур а пятьдесят центов за фунт.
Поняв, какое богатство сможет принести Австралии мериносовая шерсть, Маккартур представил свои планы британским властям. В результате государственный секретарь лорд Кэмден высказал рекомендации о том, что «аренда земель в разумных пределах может быть с уверенностью в успехе предоставлена г-ну Маккартуру только для разведения овец». Таким образом, Маккартур получил пять тысяч акров земель, которые были тогда названы Каупэсчерз (коровьи пастбища) и тридцать бывших заключенных в качестве работников. В настоящее время — это часть поместий Кэмден-Парка. Возможно, что еще никогда предоставление в аренду земли не было столь плодотворным. Оно положило начало промышленности, которая создала Австралию и дала ей возможность выстоять в тяжелые годы. В наши дни овцеводство — одна из ведущих отраслей в экономике Австралии.
Потомки первых мериносов еще живут в Кэмден-Парке, так же как и потомки Маккартуров (теперь под фамилией Стэнхем). Но основатель династии не дожил до окончания строительства своего дома. Он умер за месяц до этого события в результате душевного заболевания, развившегося на почве слабого здоровья, подорванного длительной и тяжелой болезнью, очевидно ревматизмом, полученным на корабле, на котором в возрасте двадцати трех лет он вместе с заключенными впервые плыл в Австралию.
Сейчас Парраматта — пригород Сиднея. Здесь можно еще увидеть дом Элизабет, который, как чужак, стоит среди современных бунгало на перекрестке шоссейных дорог. Говорят, что это самое старое жилое здание в Австралии. В 1793 г., спустя три года с момента своего прибытия в колонию, Джон Маккартур получил в аренду сто акров и поселил здесь свою семью. Это место, где родилось фермерство Австралии. В Парраматте в 1792 г. капитан Артур Филипп впервые стал сдавать землю в аренду. Двадцать пять акров солдату, тридцать — досрочно освобожденному заключенному. Многие из них проигрывали или продавали свои земли людям более благоразумным и расчетливым. Освоение их шло медленно. Преемник Филиппа, майор Френсис Гроуз, разрешил платить за труд заключенных ромом. Десять часов в сутки они должны были работать на колонию, после чего могли заключать сделки для своей выгоды. В каторжный труд превращалась работа мотыгой на твердой «земле угрей», как называли этот район аборигены.
Прибытие из США корабля «Хоуп», груженного продовольствием, которое капитан отказался продавать до тех пор, пока колония не закупит семь тысяч пятьсот девяносто семь галлонов бенгальского спирта-сырца, явилось тем не привлекающим внимание событием, часто не отмечаемым историками, которое делает историю. Гроуз согласился, и спирт потек рекой. Затем прибыла «Беллона» с пятью бочками портвейна. Выросли винокуренные заводы. Офицерам корпуса Нового Южного Уэльса было разрешено торговать с капитанами приходящих судов и снаряжать экспедиции и китобойные суда. Офицеры богатели. Широко используя труд заключенных, они строили дома, выращивали урожаи.
К этому времени у Маккартура в Парраматте было уже сто акров возделанной земли, тысяча восемьсот бушелей зерна в амбаре, две кобылы, две коровы, сто тридцать коз, сто свиней и еще сто акров в качестве вознаграждения за то, что он был первым поселенцем, засеявшим более пятидесяти акров земли. Он получил также десять бывших заключенных. Маккартур писал: «С помощью одного человека и десятка борзых мой стол всегда был обеспечен дикими утками и мясом кенгуру». На своей земле он построил «прекрасный кирпичный дом… окруженный виноградником и фруктовым садом с множеством фруктовых деревьев». Его жена любила ферму так же, как и он. «Нет пары на земле более счастливой, чем мы», — писала она, спустя несколько лет.
Ныне дом — частная собственность, но он открыт для посетителей, приходящих по предварительной договоренности или без нее в любое время, а австралийские традиции гостеприимства вкупе с добрым характером владельцев не дают им возможности закрыть вход для посетителей. В 1904 г. дом был куплен Вильямом Свэнном. После смерти он оставил трех дочерей, которые и сейчас живут в доме. Государство не выделяет средств для поддержания в порядке дома-музея. Для этой цели Новый Южный Уэльс имеет национальный фонд, который держится в основном лишь на энтузиазме его членов. Пополняется он целиком за счет частных пожертвований.
В один из воскресных дней я посетила ферму. Сестры угостили нас чаем в столовой, где семья Маккартуров, должно быть, часто собиралась к обеду, к которому подавались дикие утки, мясо кенгуру, сливки, масло и свинина собственного изготовления и отличные овощи. Низкий, длинный без претензий дом поражал резными дверями, неровными стенами, изящными лепными украшениями. В нем царил дух непринужденности, свойственный только старым зданиям. Очевидно, его несколько раз перестраивали. Когда я спросила, сколько в доме комнат, то одна из сестер ответила:
— Это как считать.
Я поняла, в чем дело. В доме имеется множество угловых холлов и коридоров, которые при желании тоже можно назвать комнатами. Солнечный свет рассеивают веранды с низким потолком; это дает отдых глазам, да и жара меньше проникает в дом. Из корзин свешиваются листья папоротника. Он же растет и в горшках. Все здесь создает впечатление благородства, уюта и очарования.
В этом доме Элизабет Маккартур оставалась одна, пока муж ее находился в изгнании; ей приходилось управляться с фермой и с растущей семьей. Первый раз ее муж отсутствовал четыре года, л осле того как ранил своего командира. Вторая ссылка, вызванная более серьезным проступком — открытым мятежом против губернатора Уильяма Блая, длилась восемь лет. Элизабет прожила тяжелую жизнь, но она обладала удивительной способностью смотреть на нее сквозь розовые очки и во всем видеть хорошие стороны. Это придавало ей силы выдерживать все невзгоды, не теряя жизнерадостности, все испытания, уготованные ей судьбой, начиная с неудачных родов в вонючем трюме корабля, перевозившего ссыльных, и до последних печальных лет жизни с сумасшедшим мужем.
Будучи женщиной деловой, Элизабет Маккартур управляла фермой в Парраматте и большим поместьем в Кэмден-Парке даже с большим умением, чем ее муж, и губернатор Лаклан Маккуори вознаградил ее, пожаловав дополнительно шестьсот акров. Она должна была оправляться и с засухой, и с динго, и с бандитами. С портрета Элизабет в старости на вас смотрит властное, мужественное лицо, уверенное и целеустремленное, с чистыми голубыми глазами и твердым подбородком. Она вырастила четырех достойных сыновей, спокойных и предприимчивых, разумных и трудолюбивых.
«Моя любимая жена, — писал ей Маккартур из Лондона, — когда я вспоминаю те неблагоприятные обстоятельства, которые встали на твоем пути, те страшные трудности, которые стойкость твоего духа и разума помогли преодолеть, у меня не хватает слов, чтобы выразить мое восхищение и гордость, которые я испытываю. Я без стеснения говорю о твоей жизни жены и матери, как достойной всяческого подражания».
Именно на ферме Элизабет, можно оказать, начались «ромовые волнения» 1807 г. Сигналом послужил вызов Джона Маккартура в суд по уголовному обвинению— он забрал с одного из принадлежащих ему судов чан, использовав его для винокуренного завода. Маккартур закупил также оборудование для двух винокуренных заводов. Оба они были конфискованы по приказу губернатора Уильяма Блая. В соответствии с одной из версий, причиной волнений послужили достойные всяческого восхваления усилия губернатора положить конец скандальной монополии на торговлю ромом, захваченной беспутными английскими офицерами корпуса с дурной репутацией. Разгневанные офицеры восстали и поставили во главе колонии своего человека — майора Георга Джонстона. По другой версии, виновником волнений был сам Блай с его надменностью, манией величия и тупостью. Даже Элизабет Маккартур, видевшая хорошие стороны в каждом человеке, отзывалась о нем как о «несдержанном, неосторожном и властном человеке» и отмечала, что «чрезмерный деспотизм правителя лишь подчеркивал острую необходимость реформ», а акт государственной измены, в результате которой губернатора арестовали и сместили, называла «смелой операцией». Да, операция была проведена энергично и состоялась сразу после шумного празднования двадцатой годовщины со дня высадки капитана Филиппа в Ботани-Бей. Вооруженная группа офицеров напала на дом губернатора и после двухчасовых поисков извлекла его из-под кровати в каморке прислуги. Естественно, что существуют две версии и в этой истории. Позднее Блай писал, что он удалился в эту каморку, чтобы продумать пути восстановления своей власти, где его и захватили двенадцать бунтовщиков, державших ружья с примкнутыми штыками. Согласно же версии Джонстона, в комнату вошли всего лишь трое — больше в ней бы и не поместилось — и они не только не угрожали штыками, а дружески протянули руку губернатору, чтобы помочь ему подняться и выйти из того странного положения, в котором он очутился.
Освобожденные заключенные, независимые торговцы и фермеры были единодушны с офицерами, торгующими ромом, в своем стремлении освободиться от деспотичного Блая, который настолько часто пересыпал свою речь неприличными ругательствами, что вызывал возмущение его предшественника губернатора Кинга, когда последний оказывался с ним за одним столом.
Но как бы справедливо ни поступали офицеры, смещая Блая[46], они совершали акт государственной измены и знали, что будут нести за него ответ в Лондоне. Восьмилетняя ссылка подорвала здоровье Маккартура и вызвала у него приступ страшной тоски по дому. «Дорогие мои, любимые, — писал он из Лондона, — когда я смогу вновь вас увидеть и обнять?»
Маккартура не могли предать суду в Англии за проступок, совершенный в Новом Южном Уэльсе, но он знал, что губернатор Маккуори, сменивший на этом посту Блая, имел указание Государственного секретаря предъявить Маккартуру обвинение в уголовном преступлении, как только он окажется на территории колонии. Так что Маккартур безнадежно застрял в Англии, оставшись без средств к существованию. Он посылал одно за другим отчаянные письма к Элизабет, умоляя перевести все те деньги, которые у нее были.
В то время Маккартур многое узнал о тонкорунной испанской шерсти. Его постоянно мучала нервная депрессия. Время от времени от тщетно пытался добиться от лорда Батерста заверения в том, что обвинения, выдвинутые против него, будут сняты по возвращении в колонию. Единственным светлым пятном, за исключением редких писем от Элизабет, многие из которых были или утеряны, или перехвачены (так однажды в течение двух лет он не получил ни одного), было поступление в Англию во все возрастающих количествах тонкорунной шерсти с его овец. К 1817 г. у Элизабет было около пяти тысяч овец. Она экспортировала больше половины шерсти, производимой колонией.
Это был год, когда Батерст снял наконец свои обвинения и разрешил Маккартуру отплыть в Новый Южный Уэльс вместе с сыновьями Джеймсом и Вильямом, оранжереей и ста двадцатью горшками саженцев оливок, винограда, каперсов, инжира, яблок, орехов, ревеня, жасмина, а также рассады первоцвета и маргариток.
Прибыв на родину, Маккартур немедленно принялся за работу по перестройке фермы, и, по словам его сына Джеймса, «животворящий гений отца превратил ферму в блестящую и просторную резиденцию». Спустя шесть лет о поместьях Кэмден говорили как о самых отличных хозяйствах колонии. На Маккартуров работали сто двадцать три бывших каторжника, которые дважды в день получали чай и сахар. Им также выдавалась одежда и табак. Шерсть Маккартура постоянно пользовалась наибольшим спросом на рынке. Джеймс и Вильям впервые стали мыть овец в реке для очистки шерсти, что привело в дальнейшем к разработке системы очистки и стрижки шерсти, впоследствии принятой по всей Австралии. В 1830 г. Маккартуры снимали шерсть с двенадцати тысяч овец.
Но хозяин стад уже не был прежним. Взрывы лихорадочной энергии сменялись приступами черной меланхолии; в конце жизненного пути он не мог переносить даже присутствия жены и детей… Но уважение и любовь последних к нему были неизменны. Они помнили его как человека, склонного к щедрым порывам, любящего читать вслух произведения классических авторов, принимавшего за свой идеал Сципиона Африканского[47]. Так, он, подражая последнему, каждое утро мыл холодной водой голову и ноги. В год смерти Маккартура Австралия экспортировала четыре с половиной миллиона фунтов тонкорунной шерсти. В наши дни цифра эта равняется 120 500 млрд. фунтов.
Для города Виндзора, расположенного на равнине Хоксберри, в районе первых постоянных поселений в Австралии, характерна английская атмосфера успокоенности и удовлетворения. Вне сомнения, наличие в городе ряда зданий в георгианском стиле способствует возникновению подобных ощущений. Особняк Маккуори Армс, построенный в год Трафальгарской битвы (1805), — двухэтажное строение, олицетворяющее прочность и элегантность. Здание украшено прелестными ставнями и дверьми из местных пород кедра. Один из дверных молотков выполнен в форме грозди винограда. Больше всего в городе любят показывать здание суда и церковь Св. Матфея, построенные по проекту Фрэнсиса Гринуэя[48], которого принято считать крупнейшим австралийским архитектором.
По образованию Гринуэй был не архитектором, а строителем. Родился он в Манготсфилде вблизи Бристоля. Как строитель Гринвей не преуспел. Разорился, подделал документ, согласно которому клиент якобы задолжал ему пятьсот долларов. В 1813 г. его сослали в Австралию на четырнадцать лет. В это время у власти стоял губернатор Лаклан Маккуори, известный своим хорошим отношением к ссыльным. Он принимал в своем доме освобожденных, назначал их на ответственные посты, часто не считаясь с мнением свободных граждан колонии. Маккуори писал лорду Сидмуту: «Согласно моему принципу, как только заключенный получает свободу, его прошлое не должно использоваться против него, ему нужно предоставить возможность свободного выбора любого положения в обществе, способность занять которое он доказал своим безупречным поведением в течение длительного периода».
В случае с Гринуэем отбросили даже формулу о необходимости «безупречного поведения в течение длительного периода». У Маккуори была мечта превратить грязное, убогое, хаотически построенное поселение ссыльных в бухте Сиднея в просторный, благородный столичный город, достойный окружавшей его прекрасной природы, а также чести и славы Англии. Помочь претворить действительность в мечту могли лишь военные инженеры, которые, хотя и симпатизировали идеям Маккуори о необходимости строительства оборонительных сооружений и жилых домов для ссыльных, тем не менее не обладали нужной подготовкой для создания пышных особняков, прекрасных церквей, величественных зданий, государственных учреждений, хорошо спланированных площадей, парков и бульваров, которые владели воображением губернатора. Не удивительно, что он столь быстро оценил Гринуэя, отделил его от закованных в цепи и поручил работу сначала по строительству маяка, а затем здания в Гайд-Парке для размещения мужчин-ссыльных.
В 1819 г. в день рождения короля на церемонии торжественного открытия казарм Маккуори принял участие в трапезе вместе с пятьюстами восьмьюдесятью девятью заключенными. Подавали говядину, сливовый пудинг и пунш. Заключенные «производили впечатление счастливых и довольных людей и трижды прокричали «ура», когда мы покидали стол». Губернатор был в таком восторге от красивого, благородного и удобного здания, что даровал Фрэнсису Гринуэю помилование.
Гринуэй построил три церкви, используя труд ссыльных: Св. Джеймса в Сиднее, Св. Луки в Ливерпуле и Св. Матфея в Виндзоре. Отличительная черта его строений — гармоничная, благородная простота линий. Украшательство отсутствует. Хотя работы Гринуэя и не являли собой нового слова в архитектуре, они вполне отвечали поставленной цели — воссоздать в стране противоречий спокойный и приятный стиль архитектуры времен Регентства.
Карьера Гринуэя закончилась в 1832 г. с отъездом из колонии его покровителя, попавшего в опалу и обвиненного в расточительстве, принятии неправильных решений и чрезмерных уступках отпущенным на свободу ссыльным, злоупотреблявшим его доверием. Дж. Т. Бигг, уполномоченный разобраться в деле Маккуори, писал о Гринуэе: «Что ж, если ему разрешить продолжать, то город превзойдет по своей архитектуре Лондон». Но до этого не дошло, Гринуэй, обидчивый, высокомерный, трудный в общении, потеряв покровителя, в скором времени рассорился со своим начальством, а последнее, не теряя времени, уволило его с поста правительственного архитектора. Гринуэй совершенно растерялся и продолжал изводить всех рассказами о своих неприятностях. От голода его спасла жена, с умением руководившая небольшой школой. По иронии судьбы его имущество распродавалось с торгов в тот день, когда в центре Сиднея со всей помпезностью проходила церемония освящения церкви Св. Джеймса. Умер Гринуэй в нищете в 1837 г.
Церковь Св. Матфея, построенная из кирпича и песчаника, освящалась в год, когда архитектор попал в немилость. Простую квадратной формы башню венчает изящная восьмиугольная звонница, реконструкция которой шла полным ходом во время моего пребывания в стране. Первоначально звонница поддерживалась тяжелыми изогнутыми балками из трех видов эвкалипта. В 1820 г. строители могли еще валить деревья прямо у строительной площадки. В 1964 г. стволы приходилось доставлять за четыреста миль. Местную кровельную дрань достать оказалось просто невозможно, и подрядчики вынуждены были использовать канадское красное дерево. Каменщик Айронс, ирландец по происхождению, выполнял свою работу с энтузиазмом. Мастером работал датчанин, несколько рабочих были итальянцами. Всех их пленила задача, требующая мастерства и использования таких материалов, как известь и известковый раствор вместо цемента. В наши дни при современной оплате труда ремесленная работа оценивается безумно дорого, и то, что женскому Комитету национального фонда Нового Южного Уэльса удалось собрать необходимую сумму денег, фактически явилось чудом.
Такая же красивая кирпичная кладка украшает здание суда в Виндзоре, строительство которого по проекту Гринуэя закончилось в 1822 г. В здании не только отправлялось правосудие, но и проходили театрализованные представления, такие, например, как «Отелло» в исполнении одного актера, покрывшего черным гримом только одну половину лица. Ею он поворачивался к зрителям, произнося реплики мавра, а другою, незагримированною, исполняя роли Дездемоны и Яго. В конце концов, неблагодарная публика изгнала актера из города, шумно потребовав возвращения денег.
Мои собственные воспоминания о Виндзоре гораздо скупее. Особенно запомнился мне пикник на берегу реки Хоксберри. Мы сидели в пятнистой тени, отбрасываемой казуариной, и наслаждались превосходными свежими фруктами и сухим белым вином, производимым в долине реки Хантер, качество которого великолепно, а цена поразительно низка. Многое из того, что украшает жизнь, легко достижимо в Австралии, если вообще не достается бесплатно. Но так же часто встречается и то, что жизнь уродует, — количество мусора, разбросанного у дорог, производит удручающее впечатление. Вдоль шоссе Хоксберри, столь знаменитом своей историей, расположились многочисленные ларьки, 77 торгующие пирожками с мясом, отвратительными синтетическими фруктовыми напитками, бутербродами с сосисками и котлетами, жареными цыплятами. Повсюду валяются пивные бутылки, ржавые консервные банки, растоптанные картонки и коробки из-под сигарет и множество других отходов. Никакое другое животное на земле не оставляет после себя столь отталкивающих неорганических испражнений и в таких огромных количествах, как человек. Испражнения человеческого организма быстро уничтожаются под влиянием воздуха, солнечных лучей, дождя и бактерий. Но эти факторы неэффективны против пробок от пивных бутылок, разбитого стекла, старых сапог, ржавых консервных банок и металлических остовов брошенных автомобилей.
По обе стороны шоссе расположились небольшие фермы, которые, так же как террасы в сиднейском районе Паддо, казалось, созданы для пигмеев. А ведь большинство австралийцев крупные люди, да и имеют в своем распоряжении достаточно свободного пространства. Домишки же выглядели съежившимися, как сморщенные трофеи охотников за скальпами. Первоначально это были «карточные» домики, сбитые из грубо отесанных досок и покрытые дранкой. На некоторых старых домах дранка еще сохранилась, как своеобразная нижняя юбка под крышей из гофрированного железа.
Существует ли австралийский стиль в архитектуре? Мы обсуждали это по дороге. По мнению моих спутников, существует: традиционно квадратное бунгало, опоясанное верандой, стоящее изолированно от других построек, просматриваемое со всех сторон. Нет необходимости строить дома террасами, один над другим или прижатыми один к другому. Поэтому здесь не возникало планированной застройки по зонам, которую можно было бы сравнить с английскими террасами Нэша[49] или комплексами — особняк с прилегающим складом, которые обрамляют каналы в Амстердаме. А что можно сказать о современной городской архитектуре в Австралии? В основном архитектурный стиль в стране такой же, как и во всем мире. Нельзя ограничить каким-то одним районом земного шара башню из стали и бетона и куб. Бетон есть бетон, замешивают ли его в Сиднее, Токио или Аккре, и если говорить о городах, то архитектурный регионализм практически исчез. Однако мои спутники показали мне новую церковь на окраине Сиднея. Целиком построенная из австралийских пород дерева, непокрашенная, с резко устремленной кверху крышей, она была окружена верандой. Балки обнажены. Вся церковь могучая и прочная, довольно темная, коренастая, не элегантная, но и не вычурная, какая-то добропорядочная. «Это и есть пример подлинного, исконного австралийского стиля», — сказали мне спутники. Но никто не смог бы построить такого рода здание в центре Мельбурна или Сиднея. В современном городе нет для них места, в нем можно лишь строить башни или кубы из стали и бетона.
Брокен-Хилл
В мире не так уж много мест, где люди, родившиеся за пределами данной местности, не принимаются на работу на промышленные предприятия единственной отрасли, развитой в этом районе. Но именно так обстоит дело в Брокен-Хилле, вернее, почти так. Если вы проживете там восемь лет подряд и заручитесь благосклонностью нужных людей, то сможете поступить на работу. Однако случается это редко. Ведь Брокен-Хилл не только закрытое предприятие, но и закрытый город. В нем проживает тридцать две тысячи человек, жизнь которых целиком зависит от работы четырех шахт, где добывается свинец, цинк и серебро. Почти половина всей рабочей силы нанимается компаниями непосредственно для работы на шахтах, другая — зарабатывает себе на жизнь тем, что обслуживает первую.
Этот удивительный шахтерский город на западе Нового Южного Уэльса расположен глубоко в пустыне, в двухстах милях от ближайшего города, а от Сиднея его отделяет семьсот миль. Среднегодовое количество осадков составляет здесь девять дюймов, но это ни о чем не говорит, так как бывают годы, когда их не выпадает совсем, а если и выпадают, то в виде двух-трех сильнейших ливней, в перерыве между которыми от шести до восьми месяцев длится сухой сезон. Тем не менее любимое развлечение местных жителей — водные лыжи; катаются на них в семидесяти милях от города, где сооружена система резервуаров, в которых, говорят, больше воды, чем в гавани Сиднея.
Азартные игры запрещены в Новом Южном Уэльсе, но не в Брокен-Хилле, где букмекеры открыто занимаются своим бизнесом и процветают. Пивные в Австралии обычно закрывают в девять часов, но в Брокен-Хилле они открыты до полуночи и выпить можно почти в любое время. Однако вся «свобода» на этом, пожалуй, и кончается. Если вы жена шахтера, то не имеете права поступить ни на какую работу, даже с неполным рабочим днем. Покупать вы сможете только в определенных магазинах и у определенных фирм и должны соблюдать определенные правила, чтобы не попасть в «черный список». Если же это случится, то с вами все кончено. Вы будете изгнаны из общества, и никто не примет вас на работу. Никто не починит плиту, не доставит топливо, не продаст бензин, даже не поздоровается, встретив на улице. Вам будут угрожать по телефону. Здесь бывали случаи, когда зубные врачи подвергались преследованию только из-за того, что они лечили таких «персон нон грата».
Из того, что вам говорят, невозможно уяснить всю правду. Примеры подобного вторжения в личную жизнь людей, возможно, были приведены мне в силу какой-либо личной предубежденности или же привычки поносить любую власть, какая бы она ни была. Может быть, в Брокен-Хилле есть люди, в чью жизнь никто никогда не вмешивался. Безусловно, есть и такие, кого такое вмешательство не задевает, и такие, которые его оправдывают. Даже если учесть все это, несомненно то, что рабочие, занятые в горнодобывающей промышленности, или женщины и дети, чьи мужья и отцы работают там, не всегда могут встречаться с теми, с кем хотели бы; не могут высказать то, что хотели бы, не могут выбрать работу, соответствующую желаниям, и купить то, что им нравится.
Приведем три примера. Каждый член профсоюза, а это значит каждый, работающий на шахте, должен подписаться на профсоюзную газету «Бэрриер Дейли Трус».
Если в семье пять членов профсоюза, им ежедневно доставляется пять номеров газеты. Шахтер-пенсионер устроился на две работы на неполный рабочий день. Руководство профсоюза вызвало его, предъявило письмо осведомителя и приказало немедленно уволиться с одной из работ. Он подал заявление об уходе за неделю, но ему предложили уволиться в тот же день. Фирма, производящая ковры, снизила на них цены; в связи с этим ее внесли в «черный список» и вынудили закрыть отделение в Брокен-Хилле. Некоторые постоянные покупательницы фирмы отказались подчиниться этому решению и решили купить ковры в другом филиале фирмы, расположенном в нескольких сотнях миль от Брокен-Хилла. Тогда их мужей предупредили, что, если заказы не будут ликвидированы, их ждут серьезные неприятности. Женщин запугивали анонимными телефонными звонками, в результате заказы были аннулированы. Мне говорили, что одно время домашним хозяйкам даже указывали, какие торты можно покупать, а какие нельзя. Подобные факты позволяют предположить, что в Брокен-Хилле назревает атмосфера недовольства, по крайней мере среди женщин.
Деспотизм, о котором я уже писала, а также жара, одиночество и однообразие жизни угнетают женщин. Большинство мужчин проводит время или на работе, или в пивных барах и приходит домой только для того, чтобы тут же лечь спать. По воскресеньям они выезжают с семьями в Менинди, где есть яхт-клуб. Больше ехать некуда. Запрет устраиваться на оплачиваемую работу обрекает многих деятельных женщин на длинные скучные и безрадостные дни, превращая их в некоторое подобие недвижимого имущества. Одна женщина призналась мне, что ей всегда хотелось стать журналисткой и что она могла бы получить работу в центральной газете, но местными правилами это запрещено, и она упустила эту возможность. Дочерям, оканчивающим школу, не хватает работы в городе, и они уезжают в Мельбурн или Сидней и больше не возвращаются.
— Зависть, — сказала одна из женщин, — вот в чем беда Брокен-Хилла. Никто не хочет, чтобы его сосед зарабатывал больше, чем он сам, чтобы у кого-то дела шли лучше, чем у него. У всех должно быть все одинаково.
Другая заявила с не меньшим недовольством:
— Почему по воскресеньям можно увидеть вывешенным так много только что выстиранного белья? Да потому, что больше нечем себя занять. Мужчины отсыпаются после выпитого в субботу пива. Мой муж никогда со мной никуда не ходит. Некоторые мужья даже не говорят женам, сколько они зарабатывают. Автоматы для игры в покер, лошади и пиво, пиво м снова пиво. Город для мужчин.
Однако есть женщины, которые встают на защиту существующих порядков:
— Брокен-Хилл, — говорят они, — самый лучший город в Австралии. — Те, кто плохо о нем говорят, — предатели. Здесь заботятся о каждом. Наша больница и школа — самые лучшие в Новом Южном Уэльсе.
Под невысокими горными кряжами, которые пересекают голую каменисто-песчаную страну, находятся залежи цинка, серебра и свинца, как говорят, самые богатые в мире. Как и большинство шахт, они берут свое начало с тех времен, когда здесь жили золотоискатели, стригали и бродячие сельскохозяйственные рабочие, исходившие вдоль и поперек эти равнины и продуваемые ветром горные кряжи. Эти люди, единственной надеждой которых была внезапная удача, не знали, что такое геология, но у них был достаточно зоркий глаз, чтобы заметить в породе сверкающую искру, и острый слух, чтобы понять смысл неосторожно брошенного слова какого-нибудь завсегдатая кабачка.
Рождение Брокен-Хилла относится к тем временам, когда немецкий иммигрант Чарльз Расп, нанявшийся объездчиком на станцию Джинс-Хилл, отколол несколько образцов породы горной гряды, простиравшейся через весь край, и отослал их на пробу в Аделаиду. Это произошло в 1883 г. Результаты исследования оказались неутешительны: карбонат свинца со следами серебра. Но как раз в это время промышленность по добыче серебра переживала период бума, и старатели все время лелеяли мечту о том, что следы в конце концов приведут к огромным залежам. Расп и семеро его друзей образовали синдикат, вложив в предприятие по сто сорок долларов каждый, и получили в аренду сроком на двадцать один год участок площадью почти в триста акров, который в будущем оказался самым богатым в Австралии месторождением полезных ископаемых.
Откладывая по два доллара в неделю от своей зарплаты, члены синдиката, среди которых был владелец местного магазина, мастер и рабочий овцеводческой станции, наняли шахтера, который пробил шурп, но нашел только следы серебра. Они продали бы свой участок, если смогли бы вернуть деньги, но покупателей не находилось. Двоим членам синдиката удалось все же сбыть свою долю почти за бесценок. Торговец скотом Сидней Кидман приобрел часть акций в обмен на старого быка. Он перепродал их попутчику в дорожной карете за двести сорок долларов. Это было одной из немногих ошибок Кидмана. Он стал скотоводом-миллионером, а мог бы стать еще и миллионером-шахтовладельцем. В конце концов, прорубили шахту, которая дошла до слоя руды, содержавшего достаточное количество хлорида серебра. Члены синдиката направили на переплавку полную вагонетку руды. 1885 год стал годом рождения «Брокен-Хилл Пропрайэтри» — в будущем крупнейшей в Австралии группировки монополий. История превращения шахтерского поселка в крупный процветающий город типична для всех подобных городов. Сначала лачуги, сооруженные из палок и мешковины; улицы, утопающие в пыли и непролазной грязи; скопище мух и мусора, кабаки, шумные драки, азартные игры и эпидемии тифа, а спустя шесть лет после выплавки первой партии серебра поселок насчитывал уже двадцать тысяч жителей. «Брокен-Хилл Пропрайэтри» выплатила дивиденды на два миллиона долларов; к этому времени здесь добывали одну треть всей мировой добычи серебра. В период засухи воду привозили сюда за семнадцать миль в повозках, запряженных лошадьми.
Романтическое рождение, тяжелое детство, беспорядочная юность и наконец степенная зрелость — вот типичный путь развития подобных городов. Несмотря на количество потребляемого пива и на процветание азартных игр, Брокен-Хилл пользуется репутацией респектабельного буржуазного города.
— У нас не какое-нибудь захолустье, а устоявшееся общество, — сказал один из административных работников. — Жители нашего города гордятся своими школами, больницами, художественными училищами, парками и спортивными площадками. Мы планируем окружить город зеленым поясом деревьев и кустарников, разбить сады с системой ирригации, стараемся украсить его. Но есть и другая сторона медали. Мы очень консервативны.
Он хотел сказать «слишком консервативны» и в качестве примера привел нежелание развивать какую бы то ни было промышленность, кроме добывающей. В настоящее время ©се меньше людей может устроиться на работу, а возможностей для молодежи практически не остается уже никаких.
Выход заключается в развитии новых отраслей промышленности. Однако высокая заработная плата и строжайший контроль профсоюзов исключают появление новых предприятий.
Большинство рабочих, занятых под землей, трудятся бригадами, по два-четыре человека, оформляя подряд на выполнение определенного вида работы. Члены бригады могут заработать до ста долларов в неделю и сверх того получают надбавку за вредность, которая в настоящее время составляет тридцать четыре доллара в неделю. Но время на подземные работы было сокращено до трехсот десяти минут в день при пятидневной неделе.
Работа на поверхности выполняется водителями грузовиков и самоходных вагонеток. Представителя профсоюзов они приветствовали взмахом руки и фразой:
— Как дела, Джонни?
Большинство из них казались просто наблюдателями.
— Надоело стоять и делать вид, что мне есть что делать, — сказал мне один из шахтеров. — Но я не мог получить контракт на подземную работу, так как считаюсь здесь «чужаком».
Это значит, что он родился не в Брокен-Хилле. Лишь после долгих усилий этому рабочему удалось как-то устроиться на хорошо оплачиваемую подземную работу.
Инженерно-технический персонал должен соблюдать установленные правила не в меньшей степени, чем шахтеры. Директорам и руководящим работникам не разрешается даже мыть собственные машины; исключение не делается и для воскресных дней.
Члены Ассоциации сельских женщин и Молодежной женской ассоциации на приемах щеголяют в модных платьях, нарядных шляпках и белых перчатках. Чай разливается в чашечки из лучшего фарфора; к нему подаются тонко нарезанные бутерброды и кусочки торта на бумажных блюдечках. В этом мирке, в жизни которого мужчины в большинстве своем участия не принимают, женщины Много трудятся, как дома, так и в благотворительных организациях. Чтобы собрать деньги, они организуют буфеты на скачках, школьных спортивных соревнованиях, футбольных матчах, церковных базарах и свадьбах. Эта работа довольно изнурительна, особенно если учесть, что термометр неделями показывает 100° (по Фаренгейту) в тени, а при этом нужно жарить мясо, печь торты и пирожные.
Освободившись наконец от шляп и перчаток, мы отдыхали в безукоризненно чистом, выкрашенном в розовый цвет домике из гофрированного железа, построенном, как и многие другие дома, самим хозяином. Хозяйка сказала мне, что женщины в Брокен-Хилле предпочитают иметь в комнатах ковры во всю ширину пола, прикрепленные намертво гвоздями, чтобы мужья, проиграв все деньги в один из вечеров в пятницу, не унесли бы их на продажу. В саду на поливной земле росли фиговые, персиковые и сливовые деревья; одна из стен дома была увита виноградной лозой, с которой свисали крупные гроздья мускатного винограда; на бетонированном дворе расположились курятники. Сын владельца дома когда-то разводил бойцовых петухов. После окончания местной школы он получил стипендию, стал физиком и теперь работал за границей научным сотрудником в области космических полетов.
Владельцев этих аккуратных, ухоженных, похожих на корабли домиков можно частенько застать в клубе музыкантов, куда меня провели тайком. Ведь этот клуб — святилище, женщин пускают туда только в определенные дни и в специально отведенное для них помещение. Да и на таких условиях мало кого приглашают, и я поняла, что мне оказали большую честь. Программа клуба ничего общего не имеет с музыкой. Членом его может стать любой работающий на шахте и заплативший членский взнос в размере шести долларов в год. Это маленькая копия клуба лиги Св. Георгия в Сиднее. Здесь такая же красивая облицовка стен, скрытое освещение, великолепные потолки, хромированные бары и роскошный интерьер. Целые батареи игральных автоматов пользуются такой популярностью, что после пяти часов вечера нужно встать в очередь, чтобы пробиться к ним. Они приносят прибыль в шесть тысяч долларов ежемесячно, а от баров прибыль еще больше.
Один мой знакомый, который любезно пригласил меня в клуб, привел туда и свою жену. Она с интересом осматривала все вокруг, так как была здесь впервые, хотя клуб работает уже два года.
— Мужья не приводят сюда своих жен.
— А жены возражают?
— Некоторые возражают. У меня есть подруга, чей муж приходил сюда каждую пятницу и часто возвращался домой без копейки в кармане. Никто не знает, как она ухитрялась сводить концы с концами. Ее часто заставали в слезах.
У этой истории, однако, оказался счастливый конец.
— Они нашли себя в религии, оба стали баптистами. Теперь он не играет в азартные игры, не пьет, не курит, и они вполне счастливы.
«Город мужчин». Эту фразу повторила мне и жена английского специалиста-переселенца, приехавшая сюда с мужем.
— Меня в клуб не зовут, — сказала она. — Муж принимает приглашения, а я должна сидеть дома. Женщины сначала звали меня на утренний чай, но я не люблю булочки с кремом, а это их возмущало. Возмутительным казалось для них то, что я, видите ли, слежу за своей фигурой, тогда как они давно испортили свою булочками. Одна из них даже заявила: «Мы перестанем приглашать вас на чай, если вы будете задирать нос и не станете есть наши кексы». А однажды одна из них набросилась на меня с криком: «Ты позоришь нас, пришла без косметики, даже губы не накрасила». Она попыталась измазать мое лицо помадой. Всему виной одиночество и климат, а кроме того, многие женщины не живут нормальной замужней жизнью.
Возможно, англичанка была предубеждена; на нее действовала жара, она не могла заниматься привычным уходом за своим садиком и скучала по родине. И в самом деле от Брокен-Хилла так далеко до Джералд-Кросса.
Проблема обособленности полов волнует большинство самокритично настроенных австралийцев.
Одна из существующих здесь теорий заключается в том, что все объясняется традицией «сарая для хранения шерсти» старой Австралии. В то время когда страна только формировалась, люди жили изолированно друг от друга, разрозненно. Собраться у кого-нибудь в «сарае для хранения шерсти», чтобы отпраздновать рождество, справить свадьбу или провести бараньи торги, было целым событием. Во время этих торжеств мужчины держались вместе и обсуждали настриг шерсти, цены на овец и победы скаковых лошадей. В свою очередь, женщины обменивались новостями о детях, новинками мод и кулинарными рецептами.
— Некоторые из мужчин не видели женщин по полгода, а их интересовала лишь шерсть да цены на овец. Им просто хотелось поговорить друг с другом, — рассказывали мне в Брокен-Хилле.
Так появился этот обычай, до сих пор соблюдаемый во многих домах Австралии, хотя вместо настрига шерсти теперь обсуждают марки автомашин и результаты последних матчей.
Один из мужчин возложил всю вину на женщин:
— Они не пытаются заинтересовать мужчин, — жаловался он. — В девяти случаях из десяти стоит мужчине подойти к женщине, как беднягу тут же осадят.
На это одна из женщин возразила:
— Это потому, что мы боимся своих мужей. Австралийские мужчины очень ревнивы и эгоистичны. Они терпеть не могут, когда их жены разговаривают с другими мужчинами, и, возвращаясь домой, устраивают скандалы по любому поводу, делая жизнь невыносимой.
Большинство женщин согласилось с этим мнением, мо одна все же сказала:
— Может быть, мы действительно прилагаем мало усилий, чтобы заинтересовать мужчин. Но уж если разговор зашел на эту тему, то что их вообще интересует? Спорт, политическая деятельность и машины. Довольно скучные темы, честно говоря, но я заметила, что стоит мне заговорить о чем-то другом, как мой собеседник покидает меня и присоединяется к мужчинам, где он чувствует себя в безопасности. Ни один нормальный австралиец не признается, что женщина может знать о чем-то больше, чем он.
Возможно, что это и так, а может быть, и нет. Во всяком случае, в настоящее время проблема остается нерешенной.
Но говорят, что времена меняются. Коктейли, путешествия за границу, телевидение, пивные бары, расположенные в садах, новое поколение австралийцев, процесс американизации, по всеобщему мнению происходящий сейчас в Австралии, — все эти новые веяния преобразуют австралийское общество.
— Когда я научилась водить машину, все изменилось, — сказала жена управляющего скотоводческой фермы. — Бывало, мы месяцами сидели дома и не могли никуда поехать, если мужья не брали нас с собой, находились словно в заключении. Теперь мы, когда захотим, можем поехать за покупками или навестить соседей. Самое главное знать, что это можно сделать. Дети тоже знают это. Они вырастают и учатся видеть в матери человека, у которого есть свои интересы, свои права. У мальчиков и девочек много общих дел, чего никогда не было в дни моей молодости. Все это ведет к большим переменам.
В формировании Австралии большую роль сыграла ее обособленность, ее изолированное положение. Сначала это наложило отпечаток на ее животный и растительный мир, затем на ее население. Все живое было отрезано друг от друга временем и пространством и вынуждено по-своему приспосабливаться к окружающей среде. Выжили архаические формы, как, например, сумчатые, однопроходные, различные растения, сохранившие примитивную форму размножения. Люди тоже продолжали жить архаичным патриархальным обществом, которое отвечало условиям Северной Европы с ее холодными ветрами, неподатливой и плохой землей, суровыми лесами, где следовало заниматься тяжелым и неблагодарным трудом, чтобы подчинить себе природу. А это едва ли необходимо здесь, на теплом юге, где нет ни холодных ветров, ни дремучих лесов, ни таинственных лесных болот. Долгий период изоляции Австралии кончился, и скоро некоторые обычаи, которые сохранились подобно музейным экспонатам, совсем исчезнут.
Зоной отдыха Брокен-Хилла является Менинди, одно из озер, образованных рекой Дарлинг, впадающей в Муррей, и превращенных теперь в резервуары. По воскресеньям людской поток заполняет дороги и устремляется к воде и пляжам, расположенным так далеко от моря. Все выглядят загорелыми и крепкими, а чтобы в пути никто не испытывал недостатка в еде, вдоль дороги выстроились многочисленные закусочные и кафе, где можно пополнить домашние запасы мясными пирожками, сосисками, бисквитами, пирожными, леденцами и огромным количеством холодного пива. В Менинди никто не страдает ни от голода, ни от жажды.
Вокруг простирается пустыня с редкой серо-зеленого цвета и примерно в фут высотой растительностью, которая, по-видимому, может существовать и без влаги. Поскольку озера в Менинди никогда не пересыхали, сюда часто приходили аборигены, от которых сейчас почти уже ничего не осталось, разве только рисунки в пещерах Мутвинджи, несколько круглых камней, при помощи которых коренные жители континента перемалывали семена различных растений, и необычные и привлекательные названия озер (Памамару, Танду и др.), где шахтеры увлекаются теперь водными лыжами.
Раньше эти озера то разливались во время наводнения, то пересыхали, но теперь они образуют часть сложной ирригационной системы, орошающей виноградники и сады бассейна реки Муррей. Каждое воскресенье оранжевые, алые, топазовые и желто-красные паруса бесчисленных лодок расцвечивают озера веселыми красками; водную гладь прорезают стремительные следы водных лыж, а воздух оглашается шумом моторных лодок. Вдоль пляжей стоят домики, которые оборудованы лучше и более комфортабельны, чем многие жилые дома. Недалеко от одного из парков, где расположены домики, стоит на приколе несколько легких самолетов, владельцы которых прилетают из Брокен-Хилла или из засушливых мест, чтобы провести несколько часов на воде. Дети носятся вокруг, как водяные жуки. Какими бы темноволосыми ни были их родители, все они кажутся белокурыми. То ли просто выгорели на солнце, то ли в их генах происходят какие-то изменения. В странах с сильным и постоянным солнечным излучением естественный отбор обычно склоняется в пользу темного пигмента и возникает феномен «затененного покрова ослепительного солнца».
Здесь же все происходит наоборот и ослепительным становится покров. В самом деле, в Австралии удивительно много светлокожих и белокурых детей; за исключением аборигенов, у которых смуглые дети встречаются часто.
Во дворе одного из небольших домов в Менинди мне бросилось в глаза яркое алое пятно. Это оказался горошек Стерта (Clianthus formosus), который, как мне сказали, после дождей расцветает и покрывает пустыню кроваво-красным ковром. Его назвали по имени путешественника Чарльза Стерта, который был первым из белых, прошедшим вдоль русла реки Дарлинг. Цветок окрашен в драматические цвета: черная как смоль сердцевина в окружении алых лепестков. Аборигены сравнивают его с черноволосой головкой девушки, украшенной красными перьями попугайчиков, которые ей подарил любимый. Легенда говорит, что юноша ушел на охоту и не вернулся, а девушка с горя умерла, и на том месте, где они простились, расцвел яркий цветок.
Именно Чарльз Стерт привез на берега Дарлинга овец, чтобы кормить своих людей. К всеобщему удивлению, овцы прижились и хорошо размножались, питаясь солончаковой растительностью, что вызвало спрос на аренду земельных участков. Начиная с 1850 г. земля сдавалась в аренду большими участками и на длительный срок. Вниз по Дарлингу в Аделаиду повезли шерсть либо на верблюдах (они использовались здесь вплоть до 1920 г.), либо на колесных пароходах. Затем в 1862 г. на западе Нового Южного Уэльса землю стали предлагать всем желающим, которые могли приобрести участок в триста сорок акров, внеся небольшой аванс. Таким образом все большие участки были раздроблены. Вслед за этим последовала экономическая катастрофа; на участке в триста сорок акров можно было содержать не более пятнадцати овец. В настоящее время уже доказано, что минимальным количеством овец, дающим экономический эффект, является стадо в пять тысяч голов. Чтобы их содержать, необходима территория по крайней мере в сто тысяч акров, да и это будет совсем небольшое хозяйство.
Полузасушливый пояс Нового Южного Уэльса, расположенный между влажным побережьем и засушливой центральной частью континента, усеян городами-призраками. Один из них находится в четырнадцати милях от Брокен-Хилла. Там в 1882 г. было обнаружено серебро, и в течение трех лет город с населением в три тысячи человек процветал. Появились шахты, названные «Моряк Джо», «Шантеклер», «Курица и цыплята». Молодой ирландец Хэрри Мини, который сколотил состояние на шахте «Мечта», на свою свадьбу поехал в повозке, запряженной четверкой серых лошадей с колокольчиками на дугах. Он устроил завтрак в гостинице Невада, который длился день и всю ночь, было выпито двадцать ящиков шампанского.
Однако бум был столь же ошеломительным, сколь кратковременным. В течение последующих десяти лет шахты закрылись, и город опустел. Здание суда превратилось в общежитие для молодежи, где я встретила группу молодых людей, занимающихся на курсах по организации и управлению производством. Курс им читал священник методистской церкви. Полуразрушенный, заброшенный Силвертон изнывал от испепеляющего зноя; жара стояла такая нестерпимая, что жгло ноги. Трое или четверо аборигенов-метисов сидели на корточках на веранде пивного бара, а вокруг в пыли бродили козлы в поисках какой-нибудь случайной веточки.
Раньше в Силвертоне было тринадцать пивных баров и пивоварня, приносившая большой доход. Теперь в городе осталась лишь одна небольшая пивная, несколько магазинчиков и полдюжины ужасающе грязных домов, где живут аборигены-метисы.
Пивную содержит чета итальянцев, которые копят деньги, чтобы открыть свое дело, возможно, в Аделаиде или Мельбурне.
— Сюда приезжают из Брокен-Хилла на уик-энд, — сказали они мне.
Сначала я удивилась, зачем люди сюда едут. Ответ на этот вопрос стал мне отчасти понятен, когда юная аборигенка зашла в пивную купить бутылку вина. Стройная, с гладкой кожей и крепкой грудью, она с каким-то шиком прошла мимо, унося бутыль с вином.
— В двадцать лет они уже не те, — сказал итальянец, рисуя в воздухе очертания расплывшейся женской фигуры. — Рожают детей.
Обычной платой девушке за ее услуги в течение уикэнда является бутылка австралийского брэнди.
Среди лачуг из кусков ржавого гофрированного железа и рваной мешковины мы обнаружили и древнего старика-аборигена со сморщенным, высохшим, цвета пергамента лицом, воспаленными глазами и большими белыми усами. Он сидел в пыли, среди кучи ржавого искореженного и поломанного хлама, прислонившись к пустой канистре из-под бензина, и курил старую трубку. Говорил он медленно, но на чистом английском языке:
— Вчера выпил, чувствую себя прескверно.
В лачуге, раскинувшись на грязной кровати, отсыпалась его внучка.
Старик был когда-то гуртовщиком и гнал стада от Квинсленда до Южной Австралии. Он вспоминал, как они переправляли обычно скот через реку Дарлинг. Родился старик недалеко от Куперс-Крика. Всю свою жизнь провел в седле.
Даже здесь, посреди всей этой грязи, он держался с достоинством.
В пригороде Брокен-Хилла мне показали холм, где произошла единственная на австралийской земле битва в годы первой мировой войны. Как это ни покажется невероятным, сражение велось против Турции, а точнее, против двух турок: Гул Махомета и Муллы Абдуллы. Продавцы мороженого, в день Нового 1915 года они укрепили на своей повозке турецкий флаг и дали залп по поезду, в котором жители Брокен-Хилла направлялись на пикник, организованный Манчестерским союзом независимого «ордена чудаков». В результате трое было убито и несколько человек ранено. Затем выжившие из ума турки отступили к скалам и в течение двух часов отражали атаки жаждущих мести жителей и полиции, под натиском которой сражение и было завершено. Муллу Абдуллу нашли мертвым, а Гул Махомет, получив шестнадцать ран, скончался в больнице. Потери населения составили четверо убитых и семеро раненых, из них пять женщин.
Этот эпизод стал легендой Брокен-Хилла. В первый раз мне рассказывали, что пассажиры поезда были не участниками пикника, а патриотами-добровольцами. Гурки будто бы застрелили машиниста и пустили поезд под откос. На помощь прибыли войска, участники сражения проявили чудеса героизма, а после сражения поезд взорвался. На самом деле все происходило не так драматично, но история стала от этого не менее странной. Что нашло на турок? Никто никогда не узнает. Впрочем, известно, что Мулла Абдулла забивал верблюдов и незадолго до случившегося был привлечен к суду за охоту в запретной зоне. Он не смог уплатить штраф, и перед ним встала угроза потери заработка.
Событие это увековечено в работах патриарха Брокен-Хилла Сэмюэля Бирна, который начал рисовать, когда ему было уже за семьдесят. Его картины написаны чистыми, яркими красками. Каждая картина — абсолютно точная копия определенного места, события и времени. На стенах опрятного бунгало картины висят одна рядом с другой, рама к раме, сверкая красками. Вот изображение Брокен-Хилла. Каждый дом выписан отдельно, со всеми деталями, вплоть до цвета дверей и сороки в саду, словно на эскизе проектировщика. А здесь территория шахты, каждый грузовик, каждая доска объявлений, каждый забой — все на своем месте. Есть картина и с пасторальным сюжетом, где изображена масса кроликов; их тысячи и каждый выписан отдельно.
Сэм Бирн обладает исключительным терпением, у него острый глаз и живое чувство юмора.
— Все должно абсолютно точно соответствовать действительности, — сказала его жена.
Художник — бывший шахтер, ему восемьдесят два года. За несколько дней до нашей встречи он проехал тридцать миль на велосипеде, чтобы написать картину, захватившую его воображение. Ночевал в сарае и на следующий день вернулся домой, привязав картину к велосипеду; потом он подарил ее своему другу. Сэм Бирн не пишет за деньги. Австралийцам льстит, что среди них есть настоящий художник-примитивист, а сейчас появились и другие. Среди них особенно заметен Генри Бастин, тоже бывший шахтер, работавший в Южной Австралии на опаловых разработках.
В Брокен-Хилле собралась группа художников, которые, поднимаясь на поверхность из подземных туннелей, сбрасывают сапоги и шахтерские каски и спешат домой к мольбертам, стоящим посреди детских игрушек и прислоненным к стиральным машинам. Рисуют они старательно и много.
Почему же именно в Брокен-Хилле, а не где-нибудь в другом месте так много художников, причем настолько талантливых, что у троих прошли персональные выставки в Аделаиде и Мельбурне?
— Во многом это объясняется нашей изолированностью. Даже сейчас Брокен-Хилл — это замкнутый мир, поэтому мода не порабощает нас. Мы можем рисовать то, что видим сами, а не то, что видят другие, то есть не копируем чей-либо стиль, что сейчас так распространено, — таково было мнение одного из моих собеседников.
Другая причина заключается в том, что в Брокен-Хилле живет Мей Хардинг. Она преподает живопись в небольшом муниципальном музее. В то же время она и сама хорошая художница, а кроме того, ботаник-энтузиаст, помощник всем, кто нуждается в помощи, человек, вызывающий к жизни новое. Именно она пробудила интерес к живописи у шахтеров, вселила в них уверенность и убедила в том, что это — занятие достойное мужчины и одновременно увлекательное.
Пожалуй, наибольшей известностью среди художников Брокен-Хилла пользуется Про Харт, которого мы застали в садовом домике за работой над несколькими картинами сразу. Каждую из них подпирала спинка стула. Работая, он сновал от одной картины к другой и в то же время энергично поддерживал с нами беседу. «Про», как он объяснил, является сокращением слова «профессор». Так прозвали его друзья. Харт работал над серией картин (австралийцы весьма увлекаются такими сериями), на которую его вдохновила одна из баллад «Банджо» Патерсона. Вечером ему предстояло выйти в ночную смену и вести под землей локомотив. На лужайке стоял телескоп, направленный на Луну, а в углу сарайчика лежали какие-то необычные предметы.
— Автоматы, — объяснил Харт. — Я сам делаю их. Если бы я не рисовал, то что-нибудь изобретал. Я сделал несколько картин вот этими автоматами — стрелял из них по куску фанеры.
Про Харт — плотный, широкоплечий, с простыми чертами лица, разговорчивый и очень дружелюбный человек. Едва ли можно было отыскать в его облике что-либо более несоответствующее общепринятому у нас образу художника. Его картины пронизаны радостью, поражают смелостью и богатством воображения, они поэтичны и имеют хороший спрос.
Мы побывали в гостях у множества художников. Могло показаться даже, что с наступлением вечера половина жителей Брокен-Хилла берется за кисть. Нас сопровождал Ле Виллис. Он тоже показал нам несколько своих картин — немного, потому что, так же как у Про Харта, они продаются прежде, чем просохнет краска. В это время у Ле Виллиса как раз был агент по продаже картин из Сиднея, который ходил по комнатам, сараям и гаражам, служащим Виллису мастерскими. Ле Виллис, так же как и Про Харт, любит возиться с механизмами, когда не рисует. Он был гонщиком-любителем, пока не попал в автомобильную катастрофу на своем самодельном карте.
— Вот тогда я и занялся живописью. Мне это действительно нравится.
Встретились мы и с Фредом Прэттом, ветераном первой мировой войны. Он живет в небольшой комнате, и все его имущество — это, пожалуй, краски и кисти. В молодости в фургоне, запряженном лошадью, он ездил из одного городка в другой и рисовал всех, кто соглашался ему позировать, за плату, равную стоимости обеда. Фред рассказывал нам, что, когда нужно было ехать в гору, он становился перед лошадью и пятился назад, заманивая ее пряником; когда же лошадь останавливалась, он подбегал к фургону сзади и подкладывал под колесо камень. Сейчас картины Прэтта никто не покупает, но он продолжает писать полотна о днях своей молодости с прежней любовью и старанием.
Было уже далеко за полночь, когда мы вернулись к Мей Хардинг и зашли на кухню выпить кофе. Ее гостиная была завалена книгами, незаконченными рисунками растений, а спальня — набросками пейзажей и портретов, написанных маслом. Для собственных занятий живописью у нее остается мало времени. Зато уж эта-то женщина в Брокен-Хилле никогда не скучает!
К тому времени, когда мы улеглись спать, наши художники работали в ночную смену глубоко под землей, снова превратившись в шахтеров, как в той сказке, где кучер превращается в мышь. Ни один из них не выражал желания променять свою работу шахтера на жизнь свободного художника в Нью-Йорке, Париже или даже Сиднее и Мельбурне. По крайней мере эта группа художников показалась мне вполне удовлетворенной своей жизнью. Их не одолевают сомнения, не порабощают модные течения. Они мыслят здраво, а наши неторопливые беседы об искусстве поддерживались исключительно чаем или кофе. В Брокен-Хилле знают дело, но не оставляют места для эксперимента. Наряду с этим люди получают здесь удовольствие от живописи, относятся с уважением и любовью к тому, что видят вокруг себя.
Кенгуру
В районе Теро-Крик почти двести миль к северу от Брокен-Хилла в прошлом году число осадков равнялось четырем дюймам; за год до этого — пяти. Засуха продолжается, жара свирепствует. С воздуха бесконечные равнины похожи на твердое красное песчаное дно глиняной печи для обжига кирпичей. То здесь, то там мигает квадратный коричневый глаз — водяная клякса глинобитного резервуара с запасами воды.
Пейзаж этот достоин кисти художника-абстракциониста — сплошные пятна и завихрения; смотришь вниз и видишь лишь какой-то остов без тканевого покрова. Резкие линии сухих, выжженных бурями оврагов напоминают взлохмаченные длинные пряди волос. Цвета тонкие, сдержанные; преобладают телесно-розовый и пятнистый, бледно-зеленый цвет созревающего сыра с его мельчайшими рябинками. Не видно никаких признаков жизни, только местами группа зданий — невыносимо одинокая, открытая ветрам крошечная капля на гладком шаре. И ни одного дерева вокруг. Крыша одной из ферм была окрашена в ярко-голубой цвет, а над другой фермой совсем не было крыши: вокруг валялись листы гофрированного железа, сорванные ураганом.
Мы приземлились на каменистом пустыре. К забору был приколочен большой почтовый ящик, в который пилот засунул несколько писем и сверток с бакалейными товарами.
Маленький самолет, который прилетает сюда раз в неделю, открывает окно в мир; бакалею заказывают по радио, и выполненный заказ спускается с неба по субботам. Кое-какая дорога есть, но она труднопроходима, пыльная, утомительная и ненадежная. Стоит, наконец, начаться дождю, как каждый крик превращается в поток шириной в несколько сотен ярдов. Другая дорога жизни — это санитарная авиация. Она имеет свою радиосвязь, используя которую можно поболтать дважды в день с другим миром.
Обмениваются обычно всеми новостями, хотя приоритет отдается дождю, если таковой идет. В основном же говорят о проделках детей, здоровье овец, их стрижке, даже о том, сколько котят принесла кошка или какой получился пирог. Ничто не рассматривается здесь как слишком обыденное или же слишком удивительное. На этих удаленных от населенных пунктов станциях люди живут на виду друг у друга, открыто, почти ничего не утаивая. Может быть, сдержанность это вообще защитный механизм при перенаселении? Во всяком случае, тут в пустыне преобладает стремление принять участие в чужой судьбе. Санитарная авиация спасла многих женщин от помешательства. Она помогает оторванным от человеческого общества людям преодолеть чувство одиночества.
Сейчас с организацией медицинской помощи по воздуху охотно знакомят туристов. В Брокен-Хилле посетителям вежливо предлагают стул в небольшом зале с установками кондиционирования воздуха, где можно наблюдать за врачом, который точно в назначенный час отвечает на вызовы, не обращая внимания на многочисленные вспышки блицов туристов. Вызовы следуют один за другим, резкие отрывистые голоса возникают из пустоты.
— Добрый день, г-жа Браун.
— Добрый день, доктор. Я даю ребенку по девять капель ежедневно. Это достаточно или нужно давать два раза в день?
— Следует давать по восемнадцать капель в день. По девять два раза.
— Спасибо, доктор. Всего хорошего.
— Всего доброго.
— Вызывает 321 Пайнди, 321 Пайнди. Здравствуйте, доктор.
— Добрый день, госпожа Форд.
— Она все еще болеет. В среду вышли глисты величиной по крайней мере в два дюйма.
— Возможно, острицы, они действительно около двух дюймов длиной. Продолжайте внимательно наблюдать за стулом, следите за появлением аскаридов, давайте лекарство. Через несколько дней все должно прийти в норму.
— Спасибо, доктор. До свидания.
Затем последовали самые разнообразные случаи. Кого-то укусила пчела; где-то лекарство плохо подействовало на ребенка; кто-то разбил спину. И наконец, эфир загадал настоящую головоломку. Раздался женский голос:
— Вызывает П. М. Кью Теро-Крик. Молодая кобыла, четырехлетка, рост пятнадцать ладоней, упала и разбила голову. Десять минут находилась без сознания и сейчас ослепла. У нее головокружение и лучше ей не становится.
— Принимает она пищу и воду?
Пауза. Пробивается другая станция, требуя сообщить о каких-то порошках.
— Нет, доктор, лошадь не пила и не ела.
— Очевидно, у нее проломан череп. В таком случае надежды мало. Может быть, это сильное сотрясение. Тогда следует дать ей английской соли, чтобы снизить количество жидкости в организме.
— Хорошо, доктор. Какая доза?
Пауза.
— Я пытаюсь рассчитать вес лошади ростом в пятнадцать ладоней.
— Ладонь — это четыре с половиной дюйма, доктор.
Пауза.
— Четыре столовых ложки английской соли дадите сейчас и повторите дозу утром.
— Спасибо, доктор. Четыре столовых ложки английской соли с водой. До свидания.
— До свидания.
В наше время труд врача, особенно вылетающего на вызов, окружен ореолом славы. Помощь его эффективна, но и нагрузка очень велика. Некоторые пациенты живут на расстоянии более чем пятисот миль от медицинского пункта. Район, за который отвечают врачи, в семь раз больше всей территории Британских островов. На него приходится два врача; у них более пяти тысяч пациентов. Один из врачей всегда на вызовах; оба вылетают каждый день… На станции работают три пилота, имеется два самолета скорой помощи. Квалифицированных летчиков много, а вот подбирать врачей становится все труднее. С каждым годом привлекательность городской жизни растет. Одна или две станции даже закрылись. Но задачи, которые выполняют остальные, по-прежнему продолжают оставаться первостепенными.
В районе Теро-Крика (отделения диких животных КСИРО) расположен домик из алюминиевых деталей. Вокруг жесткая земля, мало тени, нет воды. Два молодых человека заманивают кенгуру в ловушку, чтобы их пометить. Их задача — наблюдать за образом жизни кенгуру, чтобы понять, как эти существа живут, питаются, размножаются, мигрируют. Это часть обширного научного проекта по изучению всего лишь одного млекопитающего. Такого рода работа, как сообщил мне в Канберре начальник Отделения доктор Гарри Фрит, проводится впервые.
Удивительно, как мало научных сведений о кенгуру и валлаби было получено в течение двух веков, прошедших с тех дней, когда капитан Джемс Кук написал об этом странном животном[50]: «Я чуть было не принял его за дикую собаку, если бы не увидел, что оно передвигается и бежит, подпрыгивая как заяц или олень». Зоологи много спорили и спорят еще до сих пор о том, какое животное видел Кук. Его экспедиция привезла два черепа, один из которых, возможно, принадлежал гигантскому кенгуру (Macropus giganteus), а второй кистехвостому валлаби (Wallabia elegans).
Со времен Дж. Кука миллионы кенгуру и валлаби были истреблены. Они изображены на эмблеме Австралии, но изучены еще далеко не полностью. Не уточнена, например, продолжительность жизни каждого вида. Неизвестно, чем точно они питаются, как далеко продвигаются, как регулируется их размножение и т. д. Мы хорошо знаем лишь такие очевидные факты, что они скачут, едят траву и вынашивают своих детенышей в сумке.
Вопрос о будущем семейства кенгуру — предмет жарких споров. Является ли это животное — естественно, с точки зрения человека — хорошим или плохим? Что это — безобидное, очаровательное и уникальное создание, символ Австралии, которое нужно защищать и заботливо за ним ухаживать, или же вредитель, такой же, как кролики и динго, пожирающие пищу овец, которых необходимо уничтожать? Объект ли это, привлекающий туристов, или жертва профессионалов-охотников? Являются ли те, кто печется о сохранении кенгуру, людьми близорукими и просто-напросто сентиментальными? И в конце концов, действительно ли кенгуру истребляют или, наоборот, число их увеличивается?
Понимать под термином «кенгуру» одно какое-либо животное — миф. Имеется от сорока пяти до пятидесяти различных видов кенгуру и валлаби, от миниатюрных кенгуровых крыс длиной меньше фута (без хвоста) до крупных экземпляров, которых большинство людей называет кенгуру. Это в первую очередь рыжий гигантский кенгуру (Macropus rufus)и гигантский кенгуру; самцы этого вида зачастую превышают рост человека и весят до двухсот фунтов, хотя средний вес самца рыжего гигантского кенгуру около восьмидесяти фунтов (кстати, только самцы этого вида имеют красноватую шерсть, самки же — серые, а детенышей женского рода за их окраску называют «голубые пилоты»). К этому семейству относится и валлару или горный кенгуру, шерсть которого гуще, чем у крупных кенгуру.
Поразительна география распространения этих видов, представляющих огромный полумесяц, который охватывает большую часть континента. Само название древесных кенгуру говорит о том, что они обитают в лесной зоне страны. Этот вид широко распространен.
Большинство экспертов считает, что нет непосредственной опасности серьезного сокращения числа гигантских кенгуру (тут нужно, правда, обратить внимание на слона «непосредственной» и «серьезного»). Главный спор идет вокруг рыжего гигантского кенгуру, основного обитателя Нового Южного Уэльса, который скачет по сухим открытым внутренним равнинам страны. Этот вид, возможно, находится в серьезной опасности, о чем говорит, например, засуха 1959–1966 гг., когда в западной части Нового Южного Уэльса были по существу уничтожены их пастбища.
За крупными видами кенгуру 'беспощадно охотятся в погоне за шкурой и мясом. Мясо экспортируется в Гонконг, Сингапур, Японию и другие страны Азии. Его используют также для изготовления консервов, идущих в пищу комнатным животным. Из шкур изготовляют сапоги, пояса, кошельки, сумки и другие предметы, в частности сувениры для туристов — игрушечные коала, бабы на чайник, открывалки для бутылок (последние изготовляются из лап).
Сколько кенгуру уничтожается ежегодно? Предприятия по переработке шкур и мяса принадлежат отдельным штатам, поэтому статистика приводит разные цифры. Мнения экспертов туманны. Самый, возможно, осведомленный специалист, могущий дать наиболее точный ответ, доктор Фрит, называет цифру ежегодной убыли представителей всех видов кенгуру — около двух миллионов. По мнению профессора Маршалла, эта цифра достигает десяти миллионов.
В Квинсленде, где закон разрешает охоту на гигантских рыжих кенгуру и на шесть видов валлаби круглый год, в 1964 г. общее количество шкур, в основном гигантских кенгуру, прошедших через руки торговцев, равнялось 1 305 111 штук. Это число не включает раненых животных, погибших в буше; детенышей в сумках, уничтоженных вместе с матерьми, или зверей, убитых «спортсменами» (кавычки здесь просто необходимы; я не знаю, как лучше определить значение слова «спорт», но вгонять свинец в мирное, беззащитное и почти ручное животное, совершенно ошеломленное светом прожекторов в темноте, — действие, вряд ли отвечающее этому понятию).
Новый Южный Уэльс не отстает от Квинсленда. Здесь в основном уничтожается рыжий гигантский кенгуру. До 1965 г. Отдел охраны животных, возглавляемый Алленом Стромом, не имел права заниматься регистрацией или же собирать статистические сведения такого рода. В результате оказалось невозможным выяснить, растет или падает число кенгуру. Но отсутствие статистики не может лишить нас здравого смысла.
По грубым подсчетам доктора Гарри Фрита, общее количество кенгуру в стране составляет два миллиона. Менее года спустя, после того как вошел в силу закон о праве штатов регистрировать профессиональных охотников и их добычу, выяснилось, что более восьмисот тысяч туш кенгуру было сдано на холодильные установки. Смерть от других причин — уничтожение кенгуру как вредителей владельцами овцеводческих станций, несчастные случаи, гибель детенышей, лишенных матерей, — доводит уровень потерь по крайней мере до миллиона. Это половина общего числа животных, а то и более. Ни один вид не сможет долго выстоять против такого наступления. Кроме того, кенгуру подкосила засуха. Уже определено, что в этот период смертность детенышей в некоторых районах достигла девяноста восьми процентов.
В Новом Южном Уэльсе рыжие гигантские кенгуру, как и все сумчатые, официально находятся под защитой. Для охоты на них необходимо приобретать лицензии. Заявки на получение лицензий рассматриваются Главным хранителем Отдела охраны животных столь тщательно, насколько ему позволяет небольшой состав сотрудников. Однако в западном районе штата, месте основного распространения кенгуру, лицензии выдаются практически немедленно по поступлении заявки. Здесь скотоводы, измученные засухой, особенно настойчиво заявляют о вреде кенгуру, и самоотверженные сотрудники Отдела охраны животных отнюдь не пользуются широкой поддержкой общественности. Они считают, что количество кенгуру за последние несколько лет уменьшилось на две трети, и процесс этот продолжается.
В то же время существует мнение, которое поддерживает и столь ответственное лицо, как доктор Фрит, что общее количество рыжих гигантских кенгуру в течение последнего столетия увеличилось. Считают, что они растут на гребне роста овец. Скотоводы создают водоемы и артезианские колодцы для снабжения овец водой, — одновременно этими благами пользуются и кенгуру. Да и сами овцы влияют на окружающую среду. Так, их присутствие вызвало появление на солончаковых почвах травяного покрова, который пришелся по вкусу кенгуру. Однако дело не только в том, выстоит или нет тот или иной вид против разрушительной силы человека. Гораздо важнее определить, будет ли его развитие окончательно приостановлено теми изменениями, которые экономическая деятельность человека осуществляет на местах их распространения. По словам доктора Фрита, «у животного должно быть жизненное пространство, дающее ему возможность выжить; нельзя ждать, что кенгуру сможет существовать на небольших молочных фермах, где не осталось никакой естественной растительности, свойственной этим краям, и травы заменены бобовыми Средиземноморья. Поэтому кенгуру сохраняются только в местах, которые считаются непригодными для сельского хозяйства».
Процесс экономического использования районов, ранее считавшихся бесполезными с точки зрения развития сельского хозяйства и скотоводства, идет последнее время колоссальными темпами. Он будет и дальше распространяться в связи с ростом населения, улучшением и расширением применяемых в сельском хозяйстве технических средств. С каждым годом все больше буша и лесов расчищается, пастбища делятся на более мелкие участки, изменяется характер растительности. Дикие заросли отступают. В конечном счете (за исключением заповедников, некоторых лесов, принадлежащих штатам, и, может быть, частным владельцам участков, любителям диких животных) большинство кенгуру исчезнет, если только их не начнут разводить с коммерческими целями для производства мяса, как разводят в Африке буйволов и некоторые виды крупных антилоп. «Животных, погибающих ежедневно из-за того, что горит скреб, расчищаются леса и осушаются болота, намного больше, чем тех, которых убивают на охоте», — сообщает Главный хранитель Отдела охраны животных Нового Южного Уэльса.
Заповедников, имеющихся в Австралии, не так уж много, и они не такие большие, чтобы обеспечить будущее рыжего гигантского кенгуру. Большинство этих животных уже уничтожено в прибрежных, относительно хорошо орошаемых и плодородных районах, где когда-то их было великое множество. Кенгуру отступили к широкому поясу сухого скреба и солончаков, малли и мульги[51], который лежит между Большим Водораздельным хребтом и центральной пустыней. Именно там их сейчас беспощадно преследуют с помощью автомобильных фар и ружья. Если кенгуру выживут и из этого района, они потеряют свою последнюю базу. За исключением лесов, принадлежащих штату, которые одновременно являются заповедниками, нет площади в государственном владении, столь значительной по размеру, которая могла бы поддержать устойчивый рост гигантских кенгуру, принимая во внимание периодические засухи. Пустынь имеется достаточно, но кенгуру, так же как и овцы, не могут выжить без пищи и воды, хотя они и предъявляют меньше требований к окружающей природе.
Итак, гигантские кенгуру должны жить на земле, находящейся в частном владении, а на это должны согласиться землевладельцы. Невозможно заставить людей содержать животных, которые могут лишить пищи их стада. То, что некоторые скотоводы, как, например, господин Ватсон на ферме Уоллогоранг, содержат домашних кенгуру, достойно большего удивления, чем уничтожение их большинством скотоводов с помощью ружей и яда. Оптимистически настроенные служащие Отдела охраны животных верят, что не только в городах, где не составляет большого труда защитить кенгуру, но и в среде скотоводов, которые должны их кормить, постепенно сформируется правильная точка зрения на проблему кенгуру. Однако настроенный более пессимистически специалист из Нового Южного Уэльса заявил:
— Лично я думаю, что смерть последнего кенгуру послужит поводом для большого праздника среди многих скотоводов.
Некоторые фермеры говорили мне, что один кенгуру съедает столько же травы, сколько пять овец. Это распространенное мнение совершенно не соответствует истине. Последние исследования показали, что один рыжий гигантский кенгуру съедает почти столько же, сколько одна мериносовая овца, а гигантский и того меньше. (Гигантский кенгуру семидесяти фунтов весом съедает в день около четырех с половиной фунтов сухого веса растительной массы, в то время как норма, необходимая для овцы ста фунтов весом, — девять и три четверти фунта.) Другая распространенная среди скотоводов точка зрения заключается в том, что кенгуру мигрируют на большие расстояния. Как только проходит сильный дождь, говорят они, и пастбища покрываются свежей травой, к ним отовсюду стягиваются кенгуру и таким образом объедают овец.
Установить границу миграции кенгуру — одна из задач, над которыми работают у Теро-Крика молодые биологи Питер Бейли и Питер Маркиниз. Их работа еще не закончена, но до настоящего времени ни одно из меченых животных из числа рыжих гигантских кенгуру не было обнаружено на расстоянии более двадцати миль от первоначального местопребывания. Преобладающее большинство их не уходило дальше чем на четыре-пять миль.
Примерно дважды в неделю биологи отправляются ставить ловушки — почти всегда около одной из цистерн с водой или огороженного водоема. И овцы и кенгуру проходят на водопой через ворота в ограде. На заходе солнца мы отправились их закрывать. Теперь к воде можно попасть только через узкое отверстие в проволоке в одном из углов забора. На другом конце исследователи закрепили кольцами мягкую сетку, которая образовала небольшой огороженный участок, куда и нужно было загнать кенгуру, чтобы захватить их без риска нанести животным повреждения.
После безумно жаркого дня — около 106° (по Фаренгейту) — наступил чудесный спокойный вечер. Линия горизонта была совершенно прямая, не мягко прочерченная карандашом, а как бы вырубленная в багровом небе. Заходило похожее на апельсин солнце, на небе не было ни облачка.
Австралия — это красная страна. Красный песок, изборожденный длинными тенями от паукообразных деревьев и редких кустарников; красное небо; красный свет без полутонов; красная земля, твердая как гранит, древняя и равнодушная — не жестокая, а просто не обращающая на себя внимания. С этой землей не войдешь в компанию. Живешь на ней, но не с ней. Таковы были мои ощущения — человека здесь постороннего. Австралийцы, которые полюбили эту землю', очевидно, победили ее равнодушие. Один из них, который понял ее, написал: «Эта чувствительная страна отвечает на прикосновение, как музыкальный инструмент… Несчастье для Австралии наступает тогда, когда там ничего не происходит, например не идет дождь».
После завтрака в алюминиевой хижине, состоящего из котлет, тыквы и чая, мы погрузили в «лэндровер» массу всяких вещей. Это были весы, мешки, ошейники, крюки, фонари, необходимые лекарства. С темнотой пришла минута затишья перед наступлением активной деятельности ночных животных. Ярко светил месяц. Свет фар выхватывал из темноты одно-два небольших стада кенгуру, скачущих среди черных карликовых кустарников. Рыжие гигантские кенгуру предпочитают жить небольшими семейными группами. Рядом с матерями прыгали один-два кенгуренка.
Только пара кенгуру попала внутрь заграждения, окружавшего цистерну. Вооруженные фонарями, одетые в тяжелые башмаки биологи пытались загнать их через узкий проход в ловушку. Животные сопротивлялись. Круг за кругом с удивительной быстротой проносились они вокруг цистерны. «Бух, бух» — слышался топот ног и шум ударов толстого хвоста по песку. Круг за кругом гнались за ними оба Питера с высунутыми языками, как две собаки. В ужасе кенгуру бились о проволоку. Эта гонка продолжалась с полчаса, пока один кенгуру не был загнан в угол. На него быстро накинули сетку. В свете фонаря животное с полными страха глазами лежало, тяжело дыша. Биологи, в свою очередь, были мокры от пота и нисколько не похожи на общепринятый облик ученого в белом халате, в очках с толстыми стеклами, склонившегося над микроскопом. Исследователи диких животных должны сочетать в себе физическую подготовку футболиста, равнодушие кочевника к комфорту, изобретательность прирожденного механика и ум ученого.
Физическая сила нужна была здесь хотя бы для того, чтобы сделать кенгуру укол нембутала — такая толстая у него шкура. Пока он спал, началась погоня за вторым животным. Этот был еще более диким и всем телом кидался на проволоку. Если погоня настигает самку, она выбрасывает детеныша из сумки и отказывается взять его назад. Оба кенгуру, попавшие в загон, были самцами. У второго шла кровь из разбитого носа, когда его наконец поймали. Ему тоже сделали укол. Затем оба безжизненных тела отнесли к «лэндроверу», взвесили и все вплоть до зубов измерили. Вес одного из животных достигал ста пятидесяти фунтов. Затем на шею каждому был надет широкий желтый пластиковый ошейник, который кенгуру будут теперь носить до конца своих дней. Можно было подумать, что их товарищи встревожатся, увидев это странное и непонятное уродство, но, очевидно, оно не воспринимается в стаде как нечто необычное, а может быть, кенгуру слишком вежливы, чтобы привлекать внимание к изменению внешнего вида себе подобных. Во всяком случае они не избегают особей с ошейниками.
Животным сделали еще один укол, чтобы привести их в чувство. Кенгуру приходят в себя постепенно, переворачиваются по нескольку раз, бьют лапами по земле и выглядят при этом довольно жалко. Но еще до того как их преследователи допьют по большой кружке холодного пива, оба животных исчезнут в темноте.
Тяжелый урон наносит кенгуру человеческое любопытство, хотя и не в таких размерах, как алчность. Раз в месяц Питер Бейли убивает около двадцати животных, для того чтобы направить их гланды в США одному крупному специалисту по гормонам. Гормоны регулируют размножение, а процесс этот у кенгуру сложный и удивительный.
Все сумчатые после родов донашивают крошечные эмбрионы во внешних сумках, а не в матке. Это — примитивная форма размножения; позднее, в процессе эволюции, у животных появилась плацента, которая оказалась значительно более удобной, а сумчатые вымерли не полностью, так как они еще встречаются в Латинской и Северной Америке, где широко распространен опоссум. К этому времени, пятьдесят-шестьдесят миллионов лет назад, мост, соединяющий Австралию с материком, был затоплен, и несумчатые млекопитающие не могли пробраться в Австралию. В Австралии же сумчатые не только сохранились, но и появились новые виды, разных форм и размеров. Одни живут на деревьях, другие — под землей, третьи скачут по равнинам, как и кенгуру. И каждый из развившихся в Австралии сумчатых соответствует появившемуся в других странах виду несумчатых животных.
Так, например, сумчатая мышь — точная копия несумчатой (они имеют даже одинаковые повадки). Так же обстоит дело с кротами; некоторые из летающих сумчатых со складывающимися мембранами напоминают белок; местные кошки похожи на диких кошек Европы и Азии; коала иногда называют медведем, потому что он очень похож на медведя в миниатюре; тасманийский тигр[52]— если не принимать во внимание его полосатость — копия волка и т. д. Только у кенгуру нет соответствующей пары. Нигде больше млекопитающие не прыгают. Но экологически они заняли место копытных животных — оленя, овцы, крупного рогатого скота и козла. В Австралии не было копытных, пока их не завез человек.
С появлением плацентных животных большинство из них стало вытеснять сумчатых, повторяя в течение одного столетия эволюционный процесс, проходивший миллионы лет. Создается впечатление, что выигрывает тот, кто обладает большей способностью к добыче пищи. Например, кролики оказались более приспособленными, чем сумчатые крысы, лисы, местные кошки, динго, плотоядные животные, такие, как сумчатый волк, или тасманийский дьявол, и т. д. Таким образом, конечно при активной помощи человека, плацентные выживают сумчатых.
После периода беременности, продолжающегося в среднем тридцать три дня, детеныш кенгуру появляется на свет мягким, слепым, лишенным шерсти, совершенно беспомощным существом, размером меньше дюйма. Весит он от 750 до 900 мг (вес полдюжины спичек). У него развиты только передние лапки с коготками, которыми детеныш цепляется за шерсть матери. Работая ими, он ползет по густой шерсти от входа во влагалище до сумки. Добраться туда кенгуренок должен за четыре минуты, иначе он может погибнуть. Существовало мнение, что мать-кенгуру помогает ему, вылизывая дорожку по своей шерсти. Но после того как были проведены наблюдения за родами, выяснилось, что эмбрион должен пробиться к сумке самостоятельно и присосаться там к одному из сосков. В таком положении он остается в течение ста девяноста дней, после чего начинает выходить из сумки, сначала на очень непродолжительное время. Постепенно эти периоды увеличиваются, и наконец детеныш покидает сумку, спустя двести тридцать пять дней после рождения.
Он скачет рядом с матерью, но продолжает сосать молоко еще в течение примерно десяти месяцев. Не удивительно, что даже при сравнительно благоприятных условиях половина детенышей погибает до того, как они достигают зрелого возраста. Четверо из пяти умирают во время засухи от голода, когда у матери пропадает молоко.
Неблагоприятные условия выращивания потомства содействовали созданию у кенгуру удивительного механизма для контроля за рождаемостью. Обычно самка спаривается уже через двадцать четыре часа после завершения родов. Затем события разворачиваются странно. Оплодотворенное яйцо остается в состоянии покоя и обычный процесс развития эмбриона задерживается. Это явление получило название «период покоя». Рост эмбриона возобновляется примерно за месяц до того момента, когда первый детеныш покидает сумку матери, уже не нуждаясь постоянно в ее молоке. Однако рост эмбриона возобновляется не тогда, когда кенгуренок окончательно отказывается от материнского молока, а в момент освобождения им комфортабельного помещения. На этой стадии эмбрион, ждущий своего часа в утробе матери, начинает расти. Расчет времени здесь настолько точен, что обычно второй кенгуренок рождается через день после того, как кенгуренок номер один, которому к этому времени исполняется восемь месяцев, навсегда освобождает сумку. В этот период у матери будет один детеныш в сумке и второй, самостоятельно передвигающийся, частично отлученный от молока, скачущий рядом с ней. Если мать погибает, то погибают и оба кенгуренка.
Во время засухи у самки не наступает период полового созревания сразу же после родов, спаривание происходит только после отлучения детеныша. Регулярных родов через каждые восемь-девять месяцев не происходит. Следующий кенгуренок появляется только тогда, когда пойдут дожди и у молодняка появится возможность выжить. Эта «затяжная течка» — удивительный пример приспособляемости данного биологического вида к окружающей среде. Существует мнение, что регулирующий рождаемость фактор — следствие влияния голодовок на гипофиз. Он характерен для красных кенгуру и некоторых видов валлаби, но, как ни странно, не для серых. Такая приспособляемость дает возможность кенгуру выжить ib голодные времена, во время засухи.
Положение с овцами, где рост молодняка контролируется не природой, а человеком, совершенно иное. Как правило, их большие стада скапливаются на пораженных засухой пастбищах в ожидании спасительного дождя. Если дождя нет, овцы гибнут тысячами, но не раньше чем съедят весь растительный покров, а их острые твердые копыта разрушат корни трав и превратят и без того незначительный слой почвы в пыль. Затем ветры унесут пыль, оставив голые камни и глину, на которых уже ничего не вырастет, сколько бы дождей ни прошло.
Проезжая по пустынным, пораженным засухой пастбищам, мы практически не встречали кенгуру. Этого можно было ожидать, так как кенгуру — ночные животные. Биологи проводят свою работу по ночам. Четыре раза в неделю они выходят с мощными прожекторами на поиски животных с желтыми пластиковыми ошейниками. За пятнадцать месяцев Питер Бейли нашел сто шестьдесят меченых кенгуру; около сорока из них были мертвы. Таким образом процент смертности (соотношение один к четырем) за короткий промежуток времени очень высок, особенно если принять во внимание то обстоятельство, что найти ошейники всех погибших кенгуру невозможно.
Ученые намереваются в ближайшем будущем прикрепить к каждому из находящихся под наблюдением животному крошечный транзистор, размером не больше монеты в шесть пенсов, который будет постоянно посылать сигналы, говорящие не только о местонахождении животного, но и о том, чем оно занимается — отдыхает, ест, передвигается или спит. Вся их «личная жизнь» окажется под надзором.
В противоположность сдержанной окраске кенгуру, птицы в Австралии так и сверкают разнообразием красок, временами доходящих даже до крикливых сочетаний. Стая зеленых вертишеек, словно струйки дождя, вилась среди изящных ветвей мульги; пролетел выводок грациозных длиннохвостых травяных попугаев; в песке важно прохаживался голубь с бронзового цвета крыльями и великолепным хохолком; громко верещали многочисленные птицы апостол из семейства ворон, которые делят между собой территорию и даже гнезда. Они строят их из мокрой грязи на деревьях. Когда же нет воды — нет мокрой грязи, и птицы не могут построить гнездо.
Кажется, что эта необозримая равнина продолжается бесконечно и где-то далеко переходит в огромную центральную пустыню. Она настолько плоска, что каменистая гряда, поднимающаяся на несколько сотен футов над ее уровнем, вздымается, как горный хребет, с вершины которого, словно с корабля в море, можно увидеть линию горизонта. «Гряда», по направлению к которой мы двигались, называлась Ванканнисе. Она была усыпана кварцевыми камнями, в большинстве случаев ярко-красного цвета, и испещрена высохшими кустарниками, ощипывая которые стадо розовых от пыли овец поддерживало свое существование. Клинохвостый орел[53] рвал под скалой тушу мертвого кенгуру. Великолепные птицы эти орлы, с размахом крыльев от шести до семи футов, свирепыми когтями и красными гранатами глаз! У птицы, которую мы видели, голова и шея были золотыми, как у фазана, что говорило о ее нечистой породе: клинохвостые орлы темнеют с возрастом и в шесть-семь лет выглядят почти черными. Фермеры обвиняют их в нападении на овец, поэтому западноавстралийское правительство выплачивает щедрые премии за орлиные клювы. Специалисты же орнитологи утверждают, что орлы, как правило, убивают только ослабевших овец и пожирают уже погибших.
За весь день мы встретили одного скачущего кенгуру и еще гигантского, скрывающегося в тени дерева кулиба у крика. У него была маленькая заостренная мордочка, и смотрел он на нас умоляюще. Попасть в него из ружья было бы детской игрой, но мы не нарушили покоя крика, окаймленного эвкалиптами и акациями, которые бросали темную ажурную тень на красный песок. Нежная эта тень действует смягчающе, как примочки к больным глазам. После блеска кварцевых скал, сухого и резкого солнечного света, беспощадных и жестких тонов атмосфера здесь внезапно изменилась и наполнилась добром. Птицы пели и щебетали среди листьев. Кенгуру сидел под своим деревом, а мы под своим, не желая обижать друг друга.
Наш крик был сухим. Австралийские водные потоки не похожи на реки других стран. Вместо того чтобы объединяться, сливаясь в одну реку, они расходятся, словно пальцы руки, и исчезают в скалах и песках. Если идти вдоль крика, то он скорее заведет еще дальше в пустыню, чем приведет к реке (как это должно было пугать первых путешественников!).
Мы вспоминаем о первопроходцах с благоговением. Откуда черпали они силу и веру продолжать свой поход день за днем, неделя за неделей, сквозь жару, пустыню и полное безлюдье! Их должна была вести мечта. У исследователей Африки была мечта о сказочных царствах, Австралии — об огромном внутреннем море. Но моря здесь не было, были лишь уходящие в никуда крики, и даже редкая тень эвкалиптов оставалась мучительным воспоминанием.
Мы зашли в дом владельцев крика и розовых овец. Они жили в роще апельсиновых и лимонных деревьев, яблонь и груш, олеандров и роз. Все это произрастало на искусственно орошаемой земле. А вокруг этого маленького оазиса лежала в песках пустыня. Воды здесь почти не осталось. Половину овец уже пришлось вывезти. Проблема заключалась в том, куда их перевозить дальше. По всему западному Новому Южному Уэльсу от голода умирали тысячи животных. До конца засухи четыре миллиона овец должны были погибнуть страшной голодной смертью, а остальные три миллиона ходячих скелетов отправиться на скотобойню. Если первооткрывателям нужны были вера и смелость, то в равной степени они нужны были мужчинам и женщинам, которые поселились на открытой ими земле и должны были жить в том окружении, которое убило Р. Берка, Л. Лейхардта и многих других путешественников. На их глазах усыхали пастбища, исчезала вода, умирали овцы; они должны были выдерживать ураганы, сносящие крыши с домов; пронизывающие ветры, засыпающие их песком; мух и монотонность, страшную жару. Единственно, что им оставалось — это выстоять.
Скалы сказали: «Терпи». Ветер сказал: «Добивайся». Солнце сказало: «Я высушу Твои кости и потом похороню тебя».Никто не мог бы выжить здесь, не обладая терпением и выносливостью.
Хозяйка дома высыпала на кухонный стол из коробки для сигарет горстку драгоценных камней — неграненый изумруд, агаты, бериллы, розовый горный хрусталь и другие нежной окраски камни. Она подобрала их на своем участке, который имела в Западной Австралии.
— Там они валялись кругом, — сказала хозяйка. — Едешь верхом по огороженному пастбищу в десять тысяч акров, а в глаза то и дело бросаются блестящие камни.
Под спинифексом[54] возможны залежи железной руды стоимостью в миллион долларов. Это другая сторона австралийской медали. Засуха может убить ваши стада, циклон — разрушить ваш дом, а на следующее утро вы можете найти богатейшую в мире золотоносную жилу, на будущий же год неожиданную удачу принесет стрижка овец и вообще где-то все еще ждет своего часа вечная мечта Австралии — огромное внутреннее море.
Трясясь по равнине, покрытой кустарниками, мы много раз проезжали мимо выбеленных солнцем костей, очищенных от мяса животными, питающимися падалью.
Неожиданно вдали показались какие-то люди.
— Охотники за кенгуру, — сказал Питер Бейли.
Лагерем охотникам служил старый самодельный фургон и палатка, окруженная пустыми банками из под пива. Из фургона вышел заросший недельной щетиной великан, темно-коричневый от загара, с волосатой грудью и мелкозавитой шевелюрой. Его покрытый татуировкой торс, казалось, принадлежал штангисту. Он приветливо улыбался.
Джим, в прошлом охотник за кроликами, теперь ловил кенгуру. Шесть ночей в неделю он выезжает на своем потрепанном грузовике с дополнительно установленной фарой. Одной рукой Джим регулирует фару, а другой крутит баранку. Свет гипнотизирует животное, и Джим стреляет из скоростного ружья двадцать второго калибра. Стреляет в бедро, чтобы не повредить шкуру, затем добивает беспомощное животное, потрошит его, отрубает задние и передние лапы. Когда ночная работа закончена, он возвращается и собирает обрубки мяса, которые перевозит в передвижную холодильную установку. Чтобы заработать на жизнь, Джим должен за ночь подстрелить сорок кенгуру или по крайней мере тридцать; семьдесят-восемьдесят — уже считается отличной добычей. Когда холодильник заполнен, вызывают по радио грузовик, который отвозит добычу для обработки в Брокен-Хилл, а затем туши направляют в Аделаиду. Перерабатывающие компании снабжают охотников передвижными холодильными установками и платят в среднем по три цента за фунт мяса. Только в Новом Южном Уэльсе имеется около шестидесяти предприятий по переработке туш кенгуру, каждое из которых нанимает примерно дюжину артелей профессиональных охотников.
Я посетила два завода-холодильника в Брокен-Хилле. Один из них имеет в распоряжении одиннадцать передвижных холодильников, чье месторасположение отмечается на карте. Сотрудники холодильных установок поддерживают связь с каждой артелью по радио.
Лучший охотник доставляет до трех тысяч фунтов мяса за ночь. Это означает, что он отстрелил не менее ста животных (около семидесяти красных кенгуру дают тонну переработанного мяса). То же предприятие перерабатывает кроликов; одна из артелей поставляет ему двенадцать тысяч пар в неделю. Второе предприятие, которое я посетила, было небольшим и принадлежало одному владельцу. Последний с помощью трех наемных рабочих снимал мясо с отрубленных конечностей, рубил на куски и упаковывал в большие пластиковые мешки. Это мясо впоследствии замораживается и отправляется в Аделаиду, где из него приготовляется фарш. Оно же идет на консервы для питания домашних животных. Предприниматель имеет восемь передвижных холодильных установок в буше; его предприятие перерабатывает в неделю от тысячи до полутора тысяч туш кенгуру; лучшее мясо используется в пищу. Его упаковывают в картонные коробки, по шестьдесят фунтов в каждую, уже подготовленным для экспорта. Условия, при которых туши обрабатываются в буше, вряд ли удовлетворили бы санитарную инспекцию, и противники этого рода бизнеса привлекают внимание общественности, указывая на опасность распространения желудочно-кишечных инфекционных заболеваний. Большая часть туш направляется в Японию.
Как только добыча падает ниже тридцати кенгуру за ночь, охотник меняет стоянку. Так что какое-то количество кенгуру остается в живых в покидаемом им районе, а так как эти животные размножаются быстро, то, по утверждению некоторых оптимистически настроенных специалистов, кенгуру быстро восполнятся, и опасность полного их уничтожения преувеличена.
При этом такие природные бедствия, как засуха, во внимание не принимаются. Если количество животных упадет ниже уровня, который ученые называют критическим, может последовать полное исчезновение вида. Более чем столетие назад натуралист Джон Гулд писал: «В скотоводах, которым помогает армия хорошо обученных собак, рыжий гигантский кенгуру видит врага, который одновременно изгоняет его с мест распространения и таким образом доводит до полного вымирания, что не случится только в том случае, если будет принят закон, защищающий это благородное животное». За исключением штатов Виктория и Тасмания, такой закон нигде больше принят не был. «Критический уровень ни для одного из австралийских видов животных еще не определен», — писал профессор Маршалл. Но мы знаем, что произойдет, если этот уровень будет пройден. Последняя пара кроличьих бандикутов[55], которые были настолько многочисленны в Новом Южном Уэльсе, что считались домашними животными, была застрелена в 1919 году. Мир распрощался с пятнистой сумчатой мышью. Возможно, что уже больше нет ночных попугаев; изумительная австралийская равнинная индейка, или дрофа, исчезла в Виктории. Животное за животным отступают к жалким остаткам ранее обширных территорий их распространения. Удивительно, насколько быстро вид начинает сокращаться, как только его число перешагнет критический уровень. В 1871 г. в одном районе гнездования странствующего голубя в Висконсине насчитывалось до 136 млн. высиживающих птенцов птиц. Последний из этой породы голубей погиб в зоопарке в Цинциннати в 1914 г. Продолжать это перечисление далее уже нет смысла.
Ну, а кенгуру? Смогут они выдержать ежегодное истребление, когда наступят тяжелые погодные условия? Приближаются ли они к своему критическому уровню? Или он уже достигнут?
Я спросила у Джима его мнение. Охотник улыбнулся и почесал грудь большой заскорузлой рукой:
— Я со своим помощником уеду отсюда на следующей неделе. Здесь мы почти все уже подчистили. В Брокен-Хилле знают, где их еще много. Чтобы кенгуру исчезли? — Он покачал курчавой головой и протянул выразительно — Никогда. Пройдет дождь, другой, и их будет множество. Они идут за дождем. Сейчас им нечем тут поживиться, но они вернутся с дождями.
В унисон с этой беседой прозвучали на следующий день слова девушки из Уайт-Клиффса, города-призрака, который когда-то обслуживал группу шахт по добыче опалов. Дочь охотника за кенгуру, она выросла в фургоне, постоянно переезжавшем с места на место. Семья никогда не вела оседлого образа жизни, да никогда и не стремилась к нему. У них был грузовик, достаточно мяса, столько одежды, сколько требуется в этом жарком климате, мало забот, отсутствие дисциплины— что еще надо человеку?
— Отец всегда найдет кенгуру, — сказала она, — кенгуру и кроликов.
Ученые в этом менее уверены. Недавно появилась трещина в удобной теории, утверждающей, что охотники, меняя места охоты после того, как добыча падает ниже определенного уровня, оставляют достаточное для размножения количество особей. Шаг за шагом бойня кенгуру индустриализируется, так как крупные предприниматели в городах забирают в свои руки контроль над такими охотниками, как Джим. Капиталовложения, долгосрочные контракты, компании, дивиденды — обычный комплекс аппарата современной промышленности начал строить свое здание на фундаменте из мертвых кенгуру.
В Новом Южном Уэльсе появилось уже с пяток крупных предпринимателей, вложивших деньги в эту промышленность. Это придает ей размах, выходящий за пределы обычной охоты, когда Джим меняет свое место, не сумев добыть более тридцати или сорока кенгуру за ночь. Охотники теперь должны продолжать охоту и тогда, когда ночная добыча практически равна нулю, для того чтобы артель держалась вместе, пока не будут найдены более богатые районы. Производительность труда охотников повысится благодаря применению самолетов и более совершенного оборудования. Прослеживается зловещая аналогия между данной ситуацией и той, которая возникла, когда крупный капитал взял в свои руки охоту за китами. Было время, когда бесчисленные миллионы голубых китов бороздили воды Южных морей, сегодня это мощное животное, самое крупное из млекопитающих, почти исчезло. Как только заводы-флотилии, вертолеты и большой бизнес заменили лодку с наблюдателем, судьба больших китов была решена. Возможно, такая же судьба ждет и гигантских четвероногих. Но Джим не волнуется, ведь кенгуру будут всегда.
Аделаида
Долина реки Муррей знаменита своими виноградниками. Некоторые сорта вин Баросса могут соперничать с мозельскими и рейнскими винами лучших марок. Но вино отсюда не экспортируется, мудрые австралийцы пьют его сами.
Искусство производства вин перешло сюда по насследству из Германии. Один из первых директоров Южно-австралийской компании, положившей начало Аделаиде, Джордж Энгес[56], в 1838 г. основал поселение лютеран из Бранденбурга, которые отвергли попытки короля Пруссии объединить лютеранскую и реформистскую церковь. Как отцы-пилигримы в прошлом, они предпочли изгнание подчинению светской власти и покинули родину, увозя с собой свои знания и ремесло.
Теперь их потомки в четвертом или пятом поколении все еще производят лучшее в Австралии вино (хотя, возможно, это утверждение и вызовет возражение виноградарей долины Хантер в Новом Южном Уэльсе) и ведут трудолюбивый и скромный образ жизни.
Производство вин одновременно и искусство, и научный процесс. Хороший винодел должен обладать определенным складом характера и выполнять свою работу крайне тщательно, не упуская из вида ни одну мелочь. При этом ему необходимы огромное терпение, любознательность, ум, интерес к экспериментальной работе, воображение, деловая хватка и, главное, любовь к своей профессии. Жизнь винодела полна забот. Бывают, конечно, периоды спада, но во время сбора винограда работа продолжается круглосуточно. В этот период даже незначительная ошибка может свести на нет труд всего года. А принять правильное решение бывает трудно, так как речь идет о природных процессах, не до конца осознанных, которые меняются от сезона к сезону.
Огромные, находящиеся под землей цистерны, чаны и прессы только что промыты и вычищены. Двое мужчин на коленях счищают каждую пылинку с пола, куда будет разложен виноград нового урожая. Один из них, веселый великан с кудрявой головой, явно немецкого происхождения; его руки, кажущиеся на первый взгляд такими толстыми и нескладными, артистически справляются со скребком. Другой, его сын, полный семнадцатилетний парень, говорит, что съедает каждое утро на завтрак фунт мяса и четыре яйца.
И для хозяев и для работников производство вина — семейная традиция; сыновья идут по стопам отцов, опыт виноделов передается им с молоком матери. В прохладной темноте глубоких подвалов сто пятьдесят тысяч бутылок выдерживаются до кондиции. Ряд за рядом стоят здесь большие бочонки из дуба, привезенного из Европы. Мельчайшие частицы танина проникают из этого дуба в вино. Легкое виноградное столовое-аристократ среди вин. Обычные крепленые вина, производящиеся путем добавления спирта, извлекаемого из раздавленной и перебродившей кожицы винограда, составляют большую часть продукции знаменитых винных заводов в долине Муррей — Ялумба, Пенфорд, Сеппел, Грампе. Массовое производство развилось здесь на основе традиционного кустарного.
В среде немецких семей, заложивших виноградники Баросса, есть и английские иммигранты. Среди них Самуэль Смит, покинувший свой родной Дорсет, где он работал на пивоварне. Его религиозные принципы, запрещавшие работу по воскресеньям, противоречили требованиям хозяина. Он уехал в Австралию, где нанялся садовником в семью Ангасов, накопил шестьсот долларов и взял в аренду земельный участок, на котором уже его сыновья построили винный завод. В наши дни это предприятие производит до трех миллионов галлонов вина, обрабатывает во время сбора винограда две тысячи тонн ягод за неделю и посылает вино Ялумба во все страны света. Жизнерадостные и радушные потомки Самуэля Смита живут в особняке, украшенном тигровыми шкурами и головами зверей, добытыми на охоте в Индии. Они успешно разводят скаковых лошадей, знают толк в винах, любят поесть, разбираются в современной живописи (мне особенно понравились у них богатые поэтическими образами картины художницы Джеклин Хик[57]) и сами пишут романтические пейзажи. Увлечение искусством, кажется, вообще свойственно виноделам, чей ритм жизни можно иногда сравнить с натянутой струной.
Потомки Ангасов тоже живут в этой долине, где им принадлежат прелестные дома в парках из красных камедных деревьев. Холмистый ландшафт, прочные каменные амбары, пасущиеся стада овец и скота, сады на террасах, даже тисовые ограды — это мечта англичан, которая воплотилась для них в действительность в Австралии.
Ангастон — чистый преуспевающий город. Он расположен в сельской местности, менее чем в сорока милях от Аделаиды, в основании которой принимали участие первые Ангасы, на месте, где в прошлом была равнина, покрытая травой и лесами, где водилось множество валлаби. Наша любовь к диким животным показалась бы странной пионерам тех дней, один из которых писал о том, что валлаби «похожи на огромных крыс и противны нашему взору».
Подлинным основателем Аделаиды был полковник Вильям Лейт. Естественно, что для австралийцев это личность знаменитая, но в Англии он менее известен, хотя и англичанин по рождению.
Отец его, Фрэнсис Лейт, капитан британского военно-морского флота, тоже основал город — Пенанг. Оба, и отец и сын, были незаконнорожденные (родители отца — сквайр из Саффолка и служанка, матерью же его сына была полукровка смешанного португальского и малайского происхождения). В 1792 г. капитан Фрэнсис Лейт послал своего старшего сына Вильяма, которому тогда было шесть лет, в Англию получать образование под присмотром старых друзей их семьи в Тебертон Холле.
В возрасте тринадцати лет Вильям Лейт начал службу на флоте. Позднее он купил звание корнета в четвертом драгунском полку и во время войны с Францией принял участие в сорока пяти сражениях, не получив даже царапины, хотя однажды проскакал вдоль всей линии расположения вражеской армии в голубом домашнем костюме, чтобы выяснить позиции французских сил и доложить о них Веллингтону. «Я никогда не встречал более ретивого, усердного и бесстрашного офицера», — писал сэр Бенджамен д’Урбан[58]. Все начальники похвально отзывались о нем, но по причинам, независимым от службы, Лейт вынужден был покинуть армию.
Разочарованный, странствовал он по Европе, не расставаясь с альбомом для зарисовок. Вильям Лейт сделал серию хороших рисунков в Сицилии, которые затем были воспроизведены Питером де Винтом. Несмотря на бедность и постоянные невзгоды, он женился на незаконной дочери герцога Ричмонда и приобрел бриг, названный им «Гюлнар».
В 1830 г. египетский паша Мохаммед Али пригласил на службу иностранных наемников для несуществующего флота. Вильям Лейт принял командование над столь же мифическим военным судном и вернулся в Англию набирать матросов. В Каире он оставил своевольную молодую жену редкой красоты, которая носила белый тюрбан с пурпурной кисточкой и шаровары, отделанные золотыми галунами. Она курила трубку, охотилась, управляла яхтой и держала себя так, как будто весь мир лежал у ее ног. Тут появился некто капитан Боден, ее старая любовь. Дочь герцога родила ему сына и в 1834 г. разошлась с мужем. Вильям, в свою очередь, сблизился с Марией Ганди, дочерью батрака, которая была, вероятно, выдающейся женщиной. Она уехала с ним в Австралию, где разделяла все его лишения, преданно ухаживала за ним и умерла, как и он, от туберкулеза.
Флот Мохаммеда Али родился в тот день, когда военный корабль «Нил» сошел со стапелей в британских доках. «Самое большое судно, построенное когда-либо, в нашей или любой другой стране», — с гордостью сообщала газета «Таймс». «Нил» был судном водоизмещением в девятьсот восемь тонн, с двумя паровыми моторами, мощность которых достигала двухсот шестидесяти лошадиных сил. Вильям Лейт провел его в Александрию. В качестве пассажира на «Ниле» плыл Джон Хиндмарш, капитан британского военно-морского флота, который надеялся стать командующим у Мохаммеда Али. Однако этот пост был отдан французу.
Во время всех этих событий либеральный филантроп Эдвард Уэкфильд[59], отбывая в тюрьме Ньюгейт наказание за похищение богатой наследницы, вынашивал идею о колонии нового типа, которая была бы основана не ссыльными и проходимцами, а «порядочными, свободными и уважающими закон» гражданами, которые создадут общество, где гармонично будут сочетаться «молодые и старые, мужчины и женщины, господа и слуги». По мысли Уэкфильда, на новой земле они должны были создать в миниатюре свое цивилизованное общество, которое сохранит все добродетели старого, но будет лишено его пороков. Оно будет стремиться к самоуправлению. Уэкфильд действительно основал Национальное общество колонизации и с таким упорством продвигал свою идею, что парламент сформировал Комитет колонизации, секретарем которого стал Роланд Хилл. Задачей комитета было создание новой колонии — Южной Австралии. Дж. Хиндмарша назначили ее губернатором, а пост генерального инспектора с жалованьем в восемьсот долларов в год он предложил Лейту.
Хотя к этому времени Лейту исполнилось уже пятьдесят лет и здоровье его сильно пошатнулось, он ухватился за предложение Хиндмарша. Его работа заключалась в выборе, осмотре и распределении земельных участков среди поселенцев, каждому из которых предоставлялась возможность купить до ста тридцати четырех акров земли в сельской местности по цене два доллара за акр, а также один акр в районе предполагаемого строительства города за каждые восемьдесят акров, которые он приобретет в буше. Идея заключалась в предотвращении захвата огромных территорий внутренней части колонии скваттерами и спекулянтами, как это уже было в Новом Южном Уэльсе.
Лейт снарядил бриг «Рэпид» водоизмещением в сто шестьдесят две тонны и 1 мая 1836 г. отплыл с командой, состоявшей из трех офицеров и тринадцати матросов. На борту находилась также его жена, семь пассажиров, оплативших проезд, и семнадцать рабочих. Один из офицеров писал о Лейте как о «достойном всяческих похвал старике, всегда готовом посмеяться над шуткой и пошутить самому, весьма талантливом и неутомимом офицере, всеобщем любимце». Лейту предлагалось не только исследовать земли для поселений, но также и выбрать место для строительства столицы и спланировать ее. Город должен иметь удобную и безопасную гавань, источники пресной воды, плодородную землю в окрестностях, природные строительные материалы, находящиеся поблизости и в достаточном количестве Строить столицу следовало на определенном расстоянии от границ колонии, чтобы оградить ее от возможных нападений каторжников, поселения которых имелись в Новом Южном Уэльсе и на Земле Ван-Димена.
17 августа 1836 г. Лейт и его спутники высадились в заливе Рэпид и разбили лагерь из четырех палаток, над которыми развевался британский флаг. Был разложен грандиозный костер в долине такой прекрасной, какую только могла создать природа.
Вскоре на британском военном судне «Буффало» сюда прибыл Дж. Хиндмарш. Корабль доставил также новых иммигрантов, несколько свиней и свирепых собак, так и норовивших разорвать своими клыками каждого, кто посмел бы оказаться рядом.
28 декабря 1836 г. около двухсот человек собрались у большого эвкалипта. Хиндмарш провозгласил создание первой свободной колонии Австралии. Дюжина пьяных матросов с корабля Его Величества «Буффало» разрядила в воздух несколько новых мушкетов. Было подано угощение из засоленной свинины, посредственной ветчины и рома, под воздействием которого празднество продолжалось всю ночь. Три дня спустя было принято предложение Лейта о месте будущей столицы, названной в честь королевы Аделаидой.
Объем работы, которую Лейт должен был выполнить в буше, мог обескуражить каждого. У него почти не было помощников, он не имел никаких транспортных средств и получил лишь незначительные запасы продовольствия. Завистливые сотрудники Хиндмарша всячески интриговали против него. Денег было мало, а пороки старого света расцветали на новой почве пышным цветом. «Работать никто не хочет, многие пьянствуют», — писал в своем дневнике один из молодых землемеров. Ром стоил меньше трех центов за бутылку, и «по понедельникам, как правило, мало кто работал». Вскоре начался бунт из-за снабжения чаем. Поставки опаздывали на три недели. По поселку пошли слухи, что губернатор прячет десять ящиков, «ругается и чертыхается», а про рабочих говорит, что «чай им не нужен, и они должны жить без него».
В буше Лейт и его небольшая команда трудились в поте лица, терпели и бури и приступы лихорадки. Их постоянно мучили мухи, а самого руководителя — бессонница. Но он работал с такой поразительной энергией, что менее чем за два месяца было обследовано 1142 акра территории нового города и определены участки, которые стали распродаваться на аукционе по цене, эквивалентной двадцати-сорока долларам за каждый. За последние пятнадцать месяцев число обследованной для будущего поселения в буше земли достигло ста пятидесяти тысяч акров. Тем не менее начальство отнюдь не поздравляло Лейта, а, наоборот, подвергало нападкам и критике. «Узнавать с каждым кораблем, приходящим из Англии, — писал Лейт Роланду Хиллу, — о многочисленных критических замечаниях, высказанных членами королевского парламентского комитета по поводу моей работы, выше моих сил». Легче всего было отправлять из Лондона депеши с указаниями, ведь члены комитета даже представить себе не могли Лейта и его людей, устало тащившихся по берегу реки с теодолитом на плече. «Часто только два человека могли помочь мне, — сообщал далее Лейт, — когда мы вынуждены были обходить один и тот же участок по многу раз подряд, расставляя флажки». Здоровье генерального инспектора все ухудшалось. «Я страшно обеспокоен, — писал Лейт Уэкфильду, — больше, чем вы можете себе представить. Я не могу заснуть из-за тревожных мыслей, иногда начинаю дремать, но это нельзя назвать сном… Я прожил тяжелую жизнь. Много страдал от усталости и лишений, часто подвергался опасностям. Но всегда, слава господу, поступал согласно совести… И теперь, в конце жизни, узнать, что мои действия вызывают сомнения со стороны господина Роланда Хилла и других выскочек! Боже мой, я этого не выдержу!»
И Вильям Лейт подал в отставку. Весь штат отдела изыскательных работ последовал его примеру, отказавшись работать под началом заместителя Лейта, который успешно подкапывался под него в Лондоне, чтобы занять его место. Лейт остался без копейки денег, весь в долгах. Он продал свои рисунки, стал компаньоном в агентстве по продаже земли и еле сводил концы с концами в своем маленьком домике из тростника и глины. Мария ухаживала за ним. Вскоре последовало новое несчастье. Пожар разрушил его жилище и уничтожил все вещи — непроданные рисунки, дневник, который он вел тридцать лет, инструменты, одежду… Он был окончательно разорен. «У меня нет больше сил, и я быстро угасаю», — писал Лейт. Жара достигала 110° (по Фаренгейту) в тени, все было покрыто пылью и мухами.
Врач, приехавший вместе с Вильямом на «Рэпиде», дежурил у его постели, смачивая его язык пером, пропитанным коньяком. Все было напрасно. Вильям Лейт умер в 1839 г. в возрасте пятидесяти четырех лет. Муниципалитет Аделаиды вынес решение выделять ежегодно по двадцать долларов «на покупку колониального вина и печенья, чтобы граждане могли почтить память полковника Лейта».
Памятником ему стал план центра Аделаиды. В наши дни город разросся, как и все современные города. Но сохранилось кольцо парков, которое было задумано Лейтом. Выдвинул ли Лейт впервые идею зеленого пояса — сказать трудно. В 1830 г. никому не известный служащий Восточно-индийской компании, вышедший в отставку, опубликовал книгу, где говорил о необходимости опоясать каждый город парком шириной в одну милю. Возможно, Лейт читал ее.
И Аделаида стала первым современным городом, окруженным со всех сторон кольцом парка шириной в полмили. Здесь множество цветущих деревьев, и трава всегда зеленая, орошаемая брызгами водяных струй.
Именно парк придает Аделаиде те черты, которые характерны только для нее. Практически вся остальная часть проекта Лейта не была реализована, так как поселенцы строились там, где им хотелось, и так, как им хотелось.
За два года до смерти основателя города один гордый его гражданин превознес в следующих словах образ жизни и общую атмосферу общества Аделаиды: «Вы можете споткнуться в темноте о свинью с поросятами или о скопище пустых бутылок, но вас могут также и пригласить к аккуратно, а иногда и элегантно накрытому обеденному столу, где будут поданы отлично приготовленные кушанья, шампанское, рейнтвейн, кларет и где будут присутствовать прекрасно одетые, обладающие хорошими манерами женщины, встречающие вас под успокаивающие звуки пианино».
Мои собственные воспоминания о столице Южной Австралии связаны прежде всего со скачками. Мне напомнили, что уже на первых бегах в Аделаиде присутствовало восемьсот человек, хотя участвовало в них только десять лошадей. Меня повели смотреть рысаков и иноходцев. В жаркие летние вечера на открытых стадионах Аделаиды собираются тысячи жителей, желающих отдохнуть вместе с семьей в непринужденной обстановке, заодно сделать ставки и посмотреть на красивых, с блестящей шерстью лошадей на залитом светом ипподроме. Уже через час зрители переходят с трибуны на трибуну, разгребая ногами пустые пластмассовые чашки и стаканчики из-под мороженого, слой которых доходит до щиколотки. В Южной Австралии продажа алкогольных напитков после шести часов вечера запрещена, но свое пиво принести можно. К пластмассовым чашкам присоединяются пустые банки, все ненужное выбрасывается. Порядка никакого, но никто внимания на это не обращает. Всем жарко, царит атмосфера добродушия и беззаботности. После окончания скачек по пути к стоянкам автомашин в сырой и теплой темноте зрители покупали вареных раков, чтобы прихватить их с собой на ужин.
В Южной Австралии все еще практикуют расчистку специально отобранных больших площадей буша для застройки под крупные современные города. Градостроительство ведется на высоком уровне. Так, в 1836 г. построили Аделаиду, названную в честь одной королевы, а в 1953 г. — Элизабет — в честь другой.
Двенадцать лет назад на месте Элизабет были лишь пастбища да буш. Южноавстралийская корпорация по строительству жилых домов (организация независимая, но финансируемая правительством, ежегодно строящая около сорока процентов жилых домов в штате) выделила территорию площадью около шести тысяч акров для создания современного города-сада с населением по крайней мере в пятьдесят тысяч человек. В основе города лежат микрорайоны. В каждом из них проживает от шести до семи тысяч человек. Это самостоятельные ячейки, оснащенные всем необходимым. Здесь имеется торговый центр, а также школы, церкви, поликлиники, стоянки для автомашин и клубы.
В Элизабет множество клубов и различных обществ. Согласно городскому путеводителю, их число достигает семидесяти семи. Интересы этих обществ охватывают все стороны жизни от стрельбы из лука, пистолета и игры в мяч до литературной деятельности, исполнения старинных танцев, балета и дрессировки собак. Основным принципом планировки города является отделение промышленных районов от жилых кварталов. Все части города соединяются специально спланированными дорогами, которые позволяют избежать транспортных пробок и автомобильных катастроф.
Эти черты характерны и для новых английских городов, но все же здесь имеются определенные различия. Так, в глаза англичанину бросается большое разнообразие архитектурных стилей. Нельзя сказать, что каждый из восьми или десяти тысяч домов Элизабет не похож на другой, но встретить два дома одинаковой архитектуры, стоящими рядом или даже на одной и той же улице, просто невозможно. Хотя все дома собираются из одинаковых деталей, отвечают одним и тем же целям, рассчитаны на одну и ту же социальную категорию людей, внешне каждый из них смотрится по-разному.
Удивительно, как можно достичь такого разнообразия при строительстве, в конце концов, все того же одноэтажного дома с тремя или четырьмя спальнями и гостиной, кухней и прочими удобствами. Здесь можно, наверное, провести параллель с человеческими пальцами, которые на первый взгляд выглядят и используются одинаково. Однако мы хорошо знаем, что двух идентичных пальцев не существует. Вероятно, и песчинка на морском берегу, если к ней приглядеться повнимательнее, хоть чем-то да отличается от лежащей с ней рядом, а ведь создали их одни и те же силы природы.
Стремление придать индивидуальный характер каждому дому выразилось в тенденции, которую Робин Бойд назвал «фичуризмом»[60]. Под этим словом он понимал «подавление целого и выделение избранных отдельных черт». Окно есть окно, но оконное стекло может быть украшено свинцовыми панелями или заменено витражом. Короче говоря, применяется целый букет нескончаемых ухищрений, цель которых одна — привлечь внимание. Все, о чем заявляет австралийский дом, — отвратительные розовато-лиловые оттенки заходящего солнца и грязновато-желтые тона панелей из предварительно напряженного бетона; крыши, то, казалось бы, готовые принять на себя альпийские снега, то подходящие лишь для климата аравийской пустыни; башенки из рифленого железа в стиле барокко, объединенные с современным» зеркальным стеклом и таинственными геометрическими переплетениями, — выражает, по мнению Робина Бойда, какую-то неуверенность. «Нервозная архитектурная болтовня, избегающая любого упоминания о пейзаже, — пишет он, — нежелание принять определенный стиль, нон-конформизм, рожденный не столько независимостью, сколько страхом выражаться определенно».
Никогда не устаешь удивляться размахом человеческой изобретательности, направленной на то, чтобы изменять внешний облик даже путем издевательства над такими простыми материалами, как кирпич, бетон, железо, а также с помощью украшения домов нелепыми деталями простой прямоугольной формы. Но одновременно это может показаться и трогательным. Ведь все так стараются. И никто вовсе не хочет ничего грубого, жестокого, антисоциального, злого. Люди стремятся лишь создать для семьи, своей жены и детей удобный, гигиеничный, уютный дом, где каждый уважающий себя человек сможет вести честную жизнь. Некоторые европейцы относятся к такому решению с презрением, испытывая ужас от той посредственности, которая сопровождает этот процесс. Как и австралийский ландшафт, все строительство здесь плоское и, возможно, скучное. Но в нашем жестоком мире презрительно улыбаться могут позволить себе только снобы. Приходится пока выбирать между скукой и вычурностью, отдавая во имя жизненных удобств явное предпочтение первой.
Городская Австралия фактически превратилась в огромный пригород, окаймляющий весь континент и разделенный на участки 150×50 футов по четыре хозяйства на акр (за вычетом дорог). Такой размер участка плюс десять футов, добавленные позже, был установлен капитаном Артуром Филиппом в 1790 г., для того чтобы «на участке никогда нельзя было построить более одного дома». Этой традиции придерживаются в какой-то степени и до настоящего времени. Австралия стала страной домовладельцев. Кредит предоставляется здесь на тридцать лет. Жители платят налоги, рожают детей в спальнях кремового цвета, где пол устлан ковром от стены до стены, а на кроватях положены вышитые покрывала. Сорок часов в неделю они работают на хозяина, стараясь потратить как можно меньше энергии, чтобы потом с особенной яростью приняться за работу в своих собственных домах, садах или на участках, отведенных для спортивных игр. Критиков особенно раздражает то, что такой образ жизни нравится многим, и австралийцы не хотели бы променять его ни на какой другой. Я вспоминаю слова загорелого молодого человека, стоявшего в лучах солнца на ступеньках какого-то конторского здания, кажется, в Перте, хотя, возможно, это и был какой-то другой город:
— Все идет слишком хорошо, чтобы так продолжаться. У меня есть и выгодная работа, и собственный дом, построенный именно так, как я планировал его, и хорошенькая жена, и здоровые дети, а в саду прижились все посадки. В выходные дни я хожу на рыбалку, получаю удовольствие от работы. У меня есть все, о чем всегда мечтали люди, и это замечательно.
Часто говорят, что скандинавы считают достижение благосостояния неразрывно связанным с посредственностью и полным отсутствием крайностей. Тогда жизнь становится настолько скучной, что многие либо начинают пить, либо кончают жизнь самоубийством. Австралийцы более склонны впадать в самодовольство. Если во время пиршества из трех блюд (супа, бифштекса и фруктового салата), а, возможно, и до его начала австралиец от кого-то услышит о каких-то неприятных событиях, он включит телевизор, достанет пиво из холодильника и будет держать кулачки на счастье, чтобы неприятности его не коснулись.
По мнению Робина Бойда, корни фичуризма лежат в подспудном беспокойстве, в нервозности, возникающей не только по поводу возможности выжить в этом гнезде под крылом Азии, но также из-за непримиримости и таинственности страны, слишком большой и пустынной для человека, в большинстве своем происходящего из городов маленького густонаселенного, ручного и благовоспитанного острова, где люди набиты как сельди в бочке. Новые пришельцы поворачивались к стране спиной, взор их устремлялся к морю. Затем они пытались стереть все, отличающее эту новую страну от старой, вырубая местные деревья и кустарники и высаживая на их месте, где только было возможно, английские, старательно уничтожая при этом местную фауну. В наши дни они засоряют землю проводами, трубами, указателями, дорогами, столбами, щитами и неоновыми лампами — всем искусственным и потому безопасным в противоположность исконно на этой земле существующему и потому угрожающему.
«Самое красивое, что я там увидела, — писала англичанка, посетившая Тасманию в далекие годы, — это изгороди из боярышника; такое впечатление — как будто ты вновь оказался на правильной стороне земного шара».
Жалуясь на «вечный эвкалипт», Бэррон Филдс[61] в 1822 г. писал: «Новый Южный Уэльс — неувядающий цветущий сад, но нет здесь ни одного уголка, который можно было бы живописать, не изменив основательно облик деревьев». В этом и заключается сущность фичуризма — вы должны «основательно изменить облик деревьев» или же дома, улицы и даже комнаты. Любой ценой простые строгие линии нужно смягчить или разбить. И делается это руками владельца с любовью, он посвящает подобной работе все свое время и мастерство.
Для большинства британских иммигрантов фичуризм — рай земной. На родине скупость и жесткая хватка организаций, планирующих небольшие города, сдерживает до какой-то степени собственный, родной британский фичуризм. А в Австралии он закусывает удила, бьет копытом и мчится вскачь. Изразцы из поливинила различных цветов; жалюзи, где каждая полоса выкрашена в свой пастельный тон; консоли в псевдотюдоровианском стиле и лепные украшения на стенах; декоративные решетчатые навесы над крыльцом, имитация светильников по типу встречавшихся в старые времена на каретах; встроенные аквариумы, подсвеченные в мрачных тонах; гномы на лужайках — все это пользуется спросом и вызывает восхищение.
Элизабет — город иммигрантов. Две семьи из трех переехали сюда из Европы, подавляющее большинство — из Англии. В пропорциональном отношении ко всему населению страны Южная Австралия абсорбирует иммигрантов в большей степени, чем любой другой штат. Необходимости экономить землю нет, поэтому плотность населения в Элизабет — меньше чем две семьи на акр. Одна пятая часть площади города отведена под спортивные площадки и парки, а каждое промышленное предприятие, школа и торговый центр окружены свободным пространством.
Элизабет раскинулся широко, в нем нет сгруппировавшихся многоэтажных домов. Планировкой города предусматривалось, что каждая семья будет владеть по крайней мере одной автомашиной. В штате в целом на четыре человека уже приходится один автомобиль. Считают, что в ближайшем будущем эти цифры достигнут соотношения один к трем. Каждый дом оборудован электроплиткой, водообогревателем, прачечной с электробойлером и круглой вешалкой для сушки белья во дворе — современным вариантом ушедшей в прошлое бельевой веревки. За весьма короткий период двор дома покрывается зеленой травой и веселеет от хорошо политых цветущих кустарников и роз. Я не увидела ни пустых банок из-под пива, ни старых шин, ни скомканных и выброшенных газет.
Все ли иммигранты счастливы в этом пригородном раю? На этот вопрос нельзя ответить утвердительно. Есть люди, которым трудно платить от восьми до десяти долларов еженедельно. Молодежь жалуется на скуку по вечерам, на закон, согласно которому пивные бары закрываются в шесть часов вечера. Деть этим молодым людям себя некуда, можно лишь пойти в гости или сидеть у телевизора. Ночная жизнь в Элизабет не бьет ключом, улицы не заполнены гуляющими толпами, ресторанов и кафе мало. Элизабет — храм, посвященный домашнему очагу, и живущие в нем должны в самих себе находить источник духовной жизни. Очень часто он беден и вся жизнь замыкается в семье.
К юго-востоку от Аделаиды Муррей заканчивает свой путь протяженностью в три с половиной тысячи миль в соленом озере Александрия, которое отделено от моря лабиринтом песчаных кос, полуостровков, заливов и бухт. Параллельно берегу тянется пятидесятимильная песчаная коса, которая как стена отделяет от моря длинный узкий залив с соленой водой, называемый Куронг. Это дикое, открытое ветрам место, где растут редкие, жесткие, цепкие и ползучие травы, характерные для засоленных почв.
Тут я познакомилась с вомбатами: густошерстными, неуклюжими, бочкообразными существами, которые не ходят и не бегают, а переваливаются с боку на бок. У них слабое зрение, что характерно для животных, живущих в норках под землей. Зубы у вомбатов удивительно крепкие, растут в течение всей жизни животного, постепенно стираясь, что дает им возможность пережевывать твердые корни и травы, которыми они питаются. Из-за способности пережевывать все что угодно скотоводы обвинили этих животных в разрушении изгородей. Они уговорили правительство штата Виктория выплачивать премию в размере десяти шиллингов за каждую шкуру вомбата. Возможно, что они живут только в определенных местах, и в этом случае многие из них приносятся в жертву напрасно.
Имеется два вида вомбатов: Vombatus hirsutus,распространенный на сравнительно узкой полосе вдоль побережья, на территории Нового Южного Уэльса и Виктории, и Lasiorhinus latifrons(с волосатым носом), обнаруженный только в Южной Австралии. Расстояние примерно в двести миль разделяет места обитания этих двух видов. Пара, которую я видела, принадлежит к Lasiorhinus latifrons,она была вывезена с равнины Налларбор, на расстояние шестисот или семисот миль от здешних мест. Фермер Боб Хоке, преданный любитель природы, надеялся развести вомбатов на новом месте, для того чтобы выяснить, смогут ли они приспособиться к окружающей среде. Как и большинству других животных в таких случаях, вомбатам, если они хотят выжить, придется пройти длинный путь приспособления. Ситуация достаточно хорошо знакомая. В Южной Австралии имеются национальные парки — ими занято почти полмиллиона акров, или почти 0,2 % всей территории штата. Делятся они на двадцать шесть заповедников, одни из которых занимает всего четыре акра. В штате, площадь которого в четыре раза превосходит Великобританию, имеется лесничий — один на все парки— и объездчик. «Многие из наших заповедников, — отмечается в докладе членов специального комитета, — в прошлом окруженные большими площадями необрабатываемой земли, быстро поглощаются заново культивируемыми участками».
Если смотреть правде в глаза, то вряд ли возможно соединить прогресс и сохранить дикую природу. Это вопрос, на который Боб Хоке тщетно ищет ответ. Он начал с шести тысяч акров скреба. Песчаная почва, практически лишенная перегноя, была в состоянии прокормить одну овцу на пятнадцати-двадцати акрах. Таким образом, вся его земля могла дать корм стаду примерно в четыреста голов. Он начал работу по замене скреб а питательными травами. Тяжелые цепи, которые тянули тракторы, корчевали малли, плуги перепахивали землю, суперфосфат вносили с самолета, недостаток в минеральных солях был скорректирован, высеивались семена трав и клевера. Затем возникли изгороди, появились овцы. Все это потребовало больших капиталовложений в землю, настолько бедную, что в течение столетия ни один жадный до участков поселенец, ни одна солидная компания не считала ее достойной внимания. Тем не менее не прошло и пяти лет, как пять тысяч овец Боба Хокса паслись на возрожденной земле. Теперь на один акр, согласно статистике, приходилась одна овца с четвертью. Он намеревается увеличить количество овец до девяти тысяч.
Останется ли место для естественной природы, когда вся земля разгорожена, вспахана и заселена? К сожалению, приходится признать, что большинству гигантских кенгуру придется исчезнуть. На территории станции есть озеро, окруженное растительностью. Этот уголок природы сохранится в первозданном виде: кустарник, который здесь называют жимолостью, несколько видов эвкалиптов и малли. Здесь найдут убежище водоплавающие и сумчатые небольших размеров.
Гордость этих мест — птицы. Великое множество попугаев, в том числе большое количество представителей вида травяных попугаев, которые до настоящего времени считались вымершими повсеместно за исключением одного района в Тасмании. День, когда Хоке обнаружил птиц и установил их принадлежность к данному виду, стал для него праздником. Он поймал пять птиц и надеялся, что они будут размножаться в его птичнике. Для начала он их перекормил, птицы растолстели. Тогда Хоке сократил рацион, так как знал, как и любой другой скотовод, что раскормленное животное плохо размножается. Следующей весной он надеется получить приплод.
Птичник Хокса поражает. Попугаи, постоянно старающиеся превзойти один другого яркостью оперения, добавляют к своему наряду все более яркие краски. Некоторые виды не удовлетворяются одним костюмом и позволяют себе удовольствие иметь два — один для самок и другой для самцов. Так, оперение у самки попугаев, так называемой «Уэльской принцессы» из Центральной Австралии, в основном красное и голубое, грудка розовая, клюв серый; в оперении самца преобладает зеленый цвет; нижняя часть крыльев красная, клюв оранжевый.
Здесь колонии вертишеек, розелл и редких попугаев EclectusНовой Гвинеи, травяных попугаев с алой грудкой. Пожалуй, один из самых красивых, несмотря на сдержанную цветовую гамму оперения, а, возможно, именно благодаря ей, какаду «Майор Митчелл» с чисто белым оперением и нежной, цвета заходящего солнца грудкой. Среди деревьев мелькают голуби; голубые крапивники виляют хвостиками на берегу озера; проносятся словно ветер какие-то розовые незнакомые птички; белые шелковистые бентамки клюют зерно; стадо коров мохнатой высокогорной породы стоит по колено в воде озера, чувствуя себя совершенно как дома в условиях столь далеких от туманной серости их родных мест.
Австралия — рай на земле, но ее осаждают дьяволы. Один из них принял вид кролика, продвижение которого с трудом сдерживают, разбрасывая отравленную морковь. Кролики, лисы, динго — эта дьявольская троица была завезена в Австралию человеком. В плане, созданном для этой страны природой, они не предусматривались.
Мельбурн
Ни один город в мире не был со дня своего основания в такой степени викторианским, как Мельбурн. Основанный на полстолетия позже, чем Сидней, за год до вступления королевы Виктории на престол, он развивался отнюдь не в духе георгианских традиций. В Мельбурне не было ни Гринуэя, ни Маккуори, ни «ромовых корпусов», ни поселений ссыльных, ни особых жестокостей, которые здесь все стараются как-то замять. С самого начала это был респектабельный и преуспевающий город. Один из его основателей — состоятельный скотовод из Тасмании, Джон Бэтмен с тремя белыми компаньонами и шестью аборигенами приплыл из Лонсестона в Порт-Филлип, как тогда называлось новое поселение, и приобрел у местных жителей около шестисот тысяч акров земли в обмен на несколько одеял, ножей и томагавков.
Второй — Джон Паско Фокнер, сын ссыльного. Был он продавцом книг в Лонсестоне и доставил на место будущего Мельбурна шхуну, полную саженцев фруктовых деревьев, семян и инструментов, а также необходимых здесь одеял и томагавков. Вскоре он открыл отель, где не подавались алкогольные напитки. В качестве основного достоинства этого отеля рекламировалась возможность воспользоваться в нем хорошей энциклопедией. Позже Фокнер основал первую газету в Виктории и одну из первых библиотек. В конце жизни он стал членом Законодательного совета.
Топографы из Сиднея спланировали город без малейшего воображения, без «всяких этих глупостей» типа поясов зелени или использования природного ландшафта при планировке. Купцы и скотоводы повалили из Тасмании и Нового Южного Уэльса принимать участие в массовых аукционах на землю. За десять лет население выросло до пяти тысяч человек, а правительство от продажи выручило сумму, равную миллиону долларов. Через пятнадцать лет после появления на побережье Бэтмена и Фокнера штат Виктория отделился от Нового Южного Уэльса.
Затем наступило золотое время: в 1851 г. здесь обнаружили золото. Мельбурн начал быстро расти. Тут постоянно трудились строители, появлялись новые каменные дома, как грибы разрастались пригороды, но всех удовлетворить все равно не удавалось. Во время расцвета «золотой лихорадки» более ста пятнадцати тысяч людей жили в палатках и хижинах из мешковины, хотя количество домов и выросло в восемь раз.
Состояния, нажитые на добыче золота, вкладывались в особняки — так велико было желание увековечить успех. Это был век, когда в домах отводились комнаты для прислуги, строились на верхних этажах детские и залы для балов, а на нижних — просторные столовые. Разбивались большие сады, где росли экзотические растения; домовладельцы ездили в каретах с кучерами, носили бакенбарды, карманные часы на золотых цепочках, любили цветное стекло и фамильные гербы.
Все английское старательно копировалось. Ничего местного, австралийского здесь не было, за исключением нескольких имен, таких, как Ярра и Турак, да веранд, единственной крупной уступки солнечному климату, на которую пошли британские поселенцы.
Дома украшались не только с внешней стороны, но и внутри. Для этой цели покупали картины.
К концу XIX и началу XX в. появилась плеяда художников, для которых австралийская природа стала родной, и в своих произведениях они стремились показать ее красоту всему миру. По словам одного из них, Артура Стритона, они ставили перед собой задачу «передать людям частицу великой поэзии, которая сопутствует здесь природе».
За пределами Австралии работы этих художников мало известны, хотя бы потому, что австралийцы либо сами раскупали большинство картин, либо дали возможность сделать это публичным картинным галереям, завещав для этой цели большие денежные суммы. Наиболее крупный посмертный дар был сделан Нифредом Фелтином, умершим в 1904 г. Его состояние, нажитое на производстве химикалий, удобрений и бутылок, равнялось миллиону долларов. Холостяк и отшельник со скромными привычками (говорят, что на завтрак ему каждый день подавали только рыбу, обед он не признавал вообще и лишь изредка позволял себе единственное удовольствие — выкурить слабую сигару), он завещал половину своего состояния Национальной галерее штата Виктория. Путем благоразумных капиталовложений сумма была увеличена до четырех миллионов и принесла Мельбурну богатейшую коллекцию произведений искусства из всех стран мира. Под энергичным руководством доктора Эрика Вестбрука она выставлена со вкусом, умно и в хорошем порядке.
Старания австралийских художников выразить великую скрытую поэзию своей родной земли начались с образования так называемой «гейдельбергской школы». Она выросла из ассоциации четырех молодых людей, которые в период с 1886 до 1890 г. жили в палатках и самодельных хижинах и писали на открытом воздухе, с одной стороны, потому что надеялись схватить свет, краски и атмосферу пейзажа, а с другой — потому что были слишком бедны и не могли рассчитывать на иные условия работы. Гейдельберг — название одного из районов недалеко от Мельбурна, где они разбили свой лагерь. Сейчас это пригород Мельбурна. Основоположником движения стал Том Робертс, которому в то время еще не было тридцати; а близкими его соратниками — Фред Мак-Кабин, помощник пекаря, Артур Стритон, ученик литографа и Чарльз Кондер, молодой англичанин, землемер, пробывший в колонии всего пять лет, но оказавший определенное влияние на «гейдельбергскую школу» '.
Эти молодые люди познакомили Австралию с импрессионизмом. Робертс учился в Лондонской королевской Академии с 1881 по 1883 г. Он, кажется, впервые услышал о целях, которые ставили перед собой французские художники, и их технике от двух испанских коллег, встреченных им в Гренаде.
Художники «гейдельбергской школы» изменили взгляд на Австралию и понимание ее. До этого большинство живописцев видели в ней только колонию, которая могла быть интересной или живописной, уродливой, а то и просто пугающей. Она всегда была для них на другой стороне земного шара, какая-то не совсем нормальная, и считалось, что этот континент будет смотреться лучше, если написать деревья как-нибудь по-другому. С появлением новой школы пришло желание жить одной жизнью со страной, понять ее солнце и деревья, небеса и реки; желание, рожденное любовью, а не мрачными страхами, которые заставляли писателей типа Маркуса Кларка[62] изображать континент похожим на парк вокруг замка. Леса им представлялись «мрачными и суровыми», которые, казалось, «душат в своих темных глубинах крик страшного отчаяния…» «В австралийских лесах, — писали они, — листья не опадают. Дикие ветры воют в горных ущельях. С меланхоличных эвкалиптовых деревьев свисает шелестящая белая кора… Огромные серые кенгуру беззвучно скачут по жесткой траве, и раздаются взрывы страшного нечеловеческого смеха кукабарры».
Именно против такого понимания страны восстали художники, жившие в лагере Гейдельберга. Доктор Бернард Смит, автор книги по истории австралийской живописи, предполагал, что они подняли на щит австралийский национализм, воплотив его в образе солнца, как «эмблему надежды, вдохновившей европейского иммигранта». Во всех случаях они стремились передать средствами живописи мощь и очарование страны. В 1889 г. эти художники организовали выставку под названием «Впечатление 9×5», так как большинство их рисунков было сделано на крышках от коробок с сигарами такого размера. Критики встретили выставку обычными надменными и кичливыми нападками, так как им было не под силу найти положительные стороны в любом отступлении от традиционного викторианского стиля. Тем не менее публика раскупила большинство работ. Кондер вскоре вернулся в Англию, а остальные прошли печально известный путь от юношеского горения до успокоения в среднем возрасте.
Том Робертс не сумел, однако, остановить ускользающее мгновение и создал (в течение двух лет) лишь огромное полотно «Открытие первого заседания парламента герцогом Корнвелла и Йорка». В свободное время он ужинал со знатью в здании парламента (то, что это не было откровенным снобизмом, можно понять, припомнив его замечание: «Нельзя продавать свою работу людям, снимающим домики за семь шиллингов и шесть пенсов в неделю, бизнес, мой дорогой, бизнес»).
Артур Стритон, который в дни своей юности стремился так ярко передать «огромное теплое и любящее солнце, освещавшее девушек в прелестных муслиновых платьях, золотые сладкие травы и матерински ласковый дуб», который увидел во взрыве горной породы «великолепный сверкающий триумф белого, оранжевого, кремового и голубого цвета», — этот самый Стритон в шестьдесят лет превратился в оракула с рыцарским званием, живущего в фешенебельном районе Турак, и, по словам критика журнала «Эйдж», стал писать «среди шума и гама рекламы в угоду коммерции». Он прожил до 1943 г.
Может быть, потому, что во времена своей молодости эти художники знали, что они пишут, и любили то, что знали, работы их известны и любимы бесчисленным количеством австралийцев. Это репродукции таких знаменитых картин, как «На поруки», «Побег» и «Стрижка баранов» Томаса Робертса; «Зимний вечер» и «Заблудившийся ребенок» Мак-Кабина и более драматических картин сэра Джона Лонгстарфа и сэра Ганса Гейзена. В одной из более поздних картин Гейзен довел изображение эвкалипта до такого совершенства, что целое поколение австралийцев приходило посмотреть на нее; копии ее можно встретить сейчас повсюду.
Австралийцы удивительно преданы тем художникам и поэтам, которые, отражая в своих произведениях австралийскую легенду, помогали ее создавать. Никто еще пока не занял место таких любимых здесь писателей, как «Банджо» Патерсон[63] и Генри Лоусон. Несмотря на появление большой группы ярких и плодовитых современных поэтов, чьи произведения имеют широкую аудиторию, книги «Банджо» Патерсона пользуются повсюду наибольшим спросом.
Соперничество между Мельбурном и Сиднеем — предмет старых общенациональных шуток.
Сиднейца обычно представляют дерзким, запальчивым, беспечным, нахальным парнем, с кипучей энергией, загоревшим во время уик-эндов на великолепных, но переполненных пляжах, увлекающимся спортом, знающим счет деньгам и целиком американизированным. Он любит делать вид, что презирает мельбурнца, как напыщенное ничтожество, вышедшее из таких привилегированных школ, как Джилонг, Мельбурнская классическая школа и Шотландский колледж. И живут-то эти мельбурнцы практически в морге (традиционной стала в Сиднее шутка о чиновнике, производящем перепись населения, который на вопрос: «Сколько у Вас детей, мадам?» получил ответ: «Двое живых и трое в Мельбурне»). В то же время мельбурнцев представляют как финансистов с каменными сердцами, манипулирующих банковской и торговой системами страны для достижения своих сугубо личных целей — образ, объединяющий в себе Джекиля и Хайда[64].
В то же время мельбурнцы говорят о себе как о трудолюбивых, твердо стоящих на земле, проницательных, быстро продвигающихся по службе людях, на которых можно положиться, патриотах Австралии до мозга костей, сознающих свою гражданскую ответственность перед страной, любящих культуру и цивилизацию. С их точки зрения, жители Сиднея легкомысленны, безвкусны, вульгарны. Они поддерживают правительства, печально известные банкротством, коррупцией и демагогией. Мельбурнцы гордятся своим консерватизмом. Директор одной старой мельбурнской фирмы сказал мне, что их председателю восемьдесят семь лет. При этом девятнадцать держателей акций принадлежат «одной и той же семье, и почти всем им больше шестидесяти; семнадцать из них — женщины».
Мельбурн — город, живущий бурной жизнью, но почти все мельбурнцы, с которыми я встречалась, казалось, говорили шепотом. Отель в Мельбурне был единственный из всех, куда я заезжала, где потребовали плату вперед. Топографически большая часть территории города монотонная равнина, по которой вьется река Ярра. О ней жители города скажут вам, что это единственная река в мире, которая течет задом наперед. Воды ее выглядят темно-коричневыми и грязными. Протекает она и через привлекательные пригороды. В саду, спускающемся к реке, принадлежащем Рэю Паркину, который столь волнующе описал свои морские приключения во время войны, я услышала сладкую мелодию птицы-колокольчика (одну из многочисленных птиц отряда воробьиных, питающихся медом), хихиканье кукабарры и песни многих других птиц; цветущие камедные деревья дают здесь приют поссумам, а по пруду время от времени проходит рябь, оставленная утконосом.
Эти образы Мельбурна и Сиднея соответствуют только последнему времени, в прошлом все было как раз наоборот. В 1884 г. англичанин Фрэнсис Адамс[65] был поражен космополитичным обликом Мельбурна, его, как он сказал, «столичным тоном». «Темп жизни у этих людей быстрый, — писал он, — и они не связаны никакими предрассудками». Напротив, «интеллектуальная жизнь» Сиднея не развивается столь быстро — сиднейцы цепляются за прошлое, отбрасываемое в Мельбурне прочь. В Сиднее Адамс был неприятно поражен чрезмерным влиянием английской цивилизации. В Мельбурне же, хотя и чувствовалось влияние Лондона, Нью-Йорка, Парижа, но было и что-то свое собственное. В Сиднее он обнаружил «следы большого пальца руки и большого пальца ноги британского обывателя… Те же унылые одежды, нескладные на женщинах, отвратительные на мужчинах, какие мы видим в Англии. Здесь та же пища, так же объедаются, так же напиваются и в те же часы, как у нас».
Но в дальнейшем эти часы оказались более благоразумными, чем в Мельбурне. В 1915 г. в качестве меры военного времени по всей Австралии был введен закон о закрытии питейных заведений в шесть часов. Хотя впоследствии большинство штатов и отменило его, Виктория и Южная Австралия соблюдали этот закон в течение пятидесяти лет. Природный викторианский консерватизм был подкреплен — во всяком случае существует такое мнение — «бесовским союзом» церквей и пивоваренных заводов, которые обнаружили, что рабочие и служащие, приходящие после рабочего дня с пяти до шести часов пропустить стаканчик, поглощают за этот единственный дозволенный им час больше пива, чем в других штатах за весь вечер. И только в 1966 г. законодательство штата Виктория разрешило своим гражданам покупать спиртные напитки до десяти часов вечера. Вскоре и Мельбурн распрощался с этой традицией.
По количеству населения оба города перешагнули за два миллиона, но Сидней идет чуть впереди, к середине 1965 г. его население насчитывало два миллиона триста пятьдесят тысяч человек[66].
В течение длительного времени Мельбурн был банковским и биржевым центром Австралийского Союза, а также утверждал свое превосходство и в области образования. Суметь основать одновременно целых два полноценных университета[67], каждый из которых рассчитывает довести количество студентов до восьми-десяти тысяч, — это говорит о высокой уверенности и честолюбии города, возникшего на территории пустынного буша, которая обошлась в несколько томогавков и одеял. И ведь случилось это не так уж давно, еще при жизни дедов некоторых из моих современников.
Сиднейская Опера и мельбурнский Центр искусств напоминают богатырей, которых выбирали в древние времена для битвы от имени своих армий или народов. И то и другое здание как нельзя лучше отражают облик своей столицы. Здание Оперного театра более самобытно. Оно было больше разрекламировано, для его строительства характерно беспечное пренебрежение к денежным расходам. Центр искусства не только не вышел за рамки бюджета, но обошелся даже несколько дешевле, чем предполагалось.
Вместо того чтобы провести международный конкурс, как это было в Сиднее и еще раньше в Канберре, организаторы строительства Центра искусств избрали архитектором жителя Мельбурна. Мне сказали, что Рой Граундс — наиболее яркий из архитекторов, работающих в Австралии. Он предпочитает предлагать свои идеи («одна строительная площадка, один человек, одна проблема»), чем копировать чужие, использует самые разнообразные стили. Его наиболее известное общественное здание — грибообразная Академия Наук в Канберре с куполом, покрытым медными пластинами. Но лучше всего, пожалуй, ему удаются проекты частных домов.
Единственный дом, построенный по проекту Роя Граундса, который я смогла посетить лично, принадлежит господину Клаудио Алкорсо. Он выстроен в пригороде Хобарта и обращен к морю, открытый воздуху, просторный, величественный, напоминающий своими прохладными мозаичными полами, высокими потолками, умелым использованием инкрустации и нежно окрашенными стенами образцы итальянской архитектуры. В гостиной встроен большой открытый камин. Здание действительно самобытно, оно несет на себе отпечаток идеи определенной личности. Именно Рой Граундс, как сообщил нам Робин Бойд, первый соединил кухню и гостиную, разрушив разъединяющую их стену и заменив ее стойкой высотой до пояса — важным элементом современной модной «открытой планировки квартиры».
Ему нравятся открытые дворы, расположенные в центре, с одним-двумя деревьями, кустарниками, травой, идеальными для австралийского климата. Большинство его проектов жилых домов отмечено определенным драматизмом, вероятно, это следствие его учебы на художника-декоратора в Голливуде.
Сейчас Рой Граундс и датчанин Иорен Утзон — соперники-гладиаторы. Природа на стороне Оперного театра, никакой изгиб реки Ярры не может сравниться с площадкой у великолепной гавани. Но Мельбурн сделал все, что от него зависит, выделив для своего культурного центра семь акров в самом сердце города на берегу реки. Все, что не будет покрыто бетоном, станет зеленым от травы и деревьев и веселым от обилия цветов. Будет выстроен огромный подземный гараж. Это практическое удобство упущено при строительстве Оперы в Сиднее. Гараж выгоден и с финансовой точки зрения, так как ожидается, что его ежегодный доход составит сто тысяч долларов, которые в какой-то степени будут окупать драматические спектакли, балеты, концерты, художественные выставки и встречи, планирующиеся в Центре искусств. Три прямоугольные площадки составят основу здания: первая — картинная галерея, вторая — театр, третья — зал для выставок. Все они имеют верхнее освещение. Если судить по макетам, то здание будет великолепным. Над центральным залом вырастет длинный, тонкий как игла, шпиль, заключенный в медную оболочку. Когда Роя Граундса спросили, почему он запроектировал такой шпиль, стройный и изящный, как пламя свечи, у архитектора нашелся лишь один ответ:
— Я осмотрел строительную площадку, и мне захотелось украсить здание шпилем. Я подумал, что он будет хорошо смотреться.
Шпиль сыграет и практическую роль — послужит футляром для башни телетеатра.
До настоящего времени строительство шло по графику, без серьезных просчетов и необходимости пересмотра проекта. Оно должно закончиться в 1970 г. Правительство штата Виктория выделяет на постройку Центра два миллиона долларов в год из своего бюджета, обходясь без лотерей.
Мельбурнцы глубоко убеждены, что их родной сын достойный соперник более широко разрекламированного датчанина сиднейцев. Конечно, два проекта не имеют ничего общего — место, задачи, замысел и исполнение совершенно разные. Но оба они представляют собой своеобразное, творчески богатое решение и оба поддерживаются городами, расположенными на краю негостеприимного континента, один из которых был местом ссылки, а другой — лагерем золотоискателей.
Несмотря на свою консервативную репутацию, Мельбурн уже имеет одно из наиболее самобытных зданий в стране — музыкальную раковину имени Сиднея Майера, похожую на огромное бетонное крыло, слегка приподнятое над лужайками, чью сцену, как мне говорили, могут видеть двадцать тысяч человек. Мельбурн всегда был городом, где любили музыку, а теперь здесь полюбили и балет. Его жители говорят, что Сидней будет первым городом в мире со своим оперным театром, но без оперной труппы.
«Мельбурн — город кастрюль и биржевых маклеров, — писал Фрэнсис Адамс в 1885 г. — Они знают, как делать деньги, но не умеют их тратить». За последние восемьдесят лет они научились это делать.
Мне рассказывали, что профессора в Австралии совсем не такие, как в Европе. Один из них — декан факультета зоологии Университета Монаш. В его крохотном загородном поместье за Мельбурном около горной цепи Данденонг я с восхищением наблюдала за парой куриных гусей[68] (Cereopsis noval hollandiae), которая вывела четырех птенцов на маленьком озере. Вокруг него профессор высадил разнообразные местные деревья и кустарники, превратив озеро в заповедник для птиц. Гуси — большие серые красивые птицы с красными лапами и желтыми клювами. Когда прибыли первые поселенцы, выводки этих птиц, насчитывавших буквально миллионы, заполняли небо над Тасманией, островами Феникс в Бассовом проливе и над южным берегом Виктории. В наши дни от миллионов птиц остались лишь горстки.
С 1957 г. Комиссия по охране животных и птиц Тасмании ведет с воздуха ежегодный подсчет выживших экземпляров. Число гусей сократилось с 1616 в 1957 г. до 943 в 1960 г., цифра, приближающаяся к тому критическому моменту, который говорит о полном вымирании.
Но у куриного гуся есть защитники, и среди них профессор Дж. Маршалл. Когда разгорятся страсти, он кидается в атаку в великолепном неистовстве, не обращая внимания, на чьи любимые мозоли наступает. Маршалл прекрасно понимает пользу рекламы и очень далек от традиционного образа ученого мужа, углубленного в бумаги.
Естественно, профессор не единственный биолог, заинтересованный в спасении куриного гуся, но он проявил столько энергии, сумел так обрисовать положение дел, что его действия пробудили общественность от апатии. Правительство Тасмании запретило отстрел взрослых птиц и разорение гнезд. Основные гнездовья находятся на островах Феникс, где сбор яиц и птенцов давно считался прибыльным делом рыбаков и посетителей островов. Когда лейтенант Мэтью Флиндерс[69] высадился на островах в 1798 г., он с удовольствием полакомился жареным куриным гусем, и с тех пор многие наслаждались этим блюдом. Народу стало значительно больше, а гусей, как мы уже знаем, — меньше.
Тем не менее от критической точки, до которой число гусей опустилось в 1960 г., их количество медленно растет вновь. Согласно подсчетам, проведенным в Тасмании в 1965 г., число гусей выросло до 1728, а в 1966 г. достигло 2946. Но профессор Маршалл считает, что гусей этого вида в мире все еще меньше пяти тысяч.
Решительные речи профессора стали еще решительней, когда он прокомментировал требование правительства Тасмании открыть сезон охоты на куриного гуся в апреле 1964 г. Правда, охота была разрешена только в течение трех дней и была ограничена тремя островами, и в ее результате, по подсчетам Комиссии по охране животных, было убито не более 116 птиц.
«А как же раненые птицы, которые улетели в море? — требовал ответа профессор Маршалл. — Даже если только сто пятьдесят птиц уничтожено, это уже означает, что вымирающий вид лишился ста пятидесяти ценнейших экземпляров. Взгляните на летопись Тасмании — там не понадобилось много времени, чтобы уничтожить всех аборигенов, а вслед за ними — эму и котиков». Эта атака, естественно, обидела тасманийцев, которые доказывали, что куриный гусь, с их точки зрения, уже больше не находится в опасности. Единственный путь обеспечить существование этой породы гусей — привлечь на их сторону общественное мнение, в том числе и любителей охоты на птиц.
— Я, возможно, убил больше животных, чем другие охотники Австралии, — говорит профессор Маршалл, — но при проведении экспериментов мне наплевать на отдельного индивидуума. Я хочу сохранить виды.
Кроме куриного гуся его волнует охрана кенгуру.
— Никто не имеет ни малейшего представления, подходят рыжие гигантские кенгуру к критическому пределу или нет. Но я очень хорошо знаю, что в прошлом десятки тысяч кенгуру прыгали по травянистым просторам между Сиднеем и Аделаидой. В наши дни они почти исчезли в этом районе и их вытесняют дальше, туда, где окружающая природа более сурова. Мы слишком благодушны. Прячут голову в песке совсем не страусы. Это делают люди.
Сложившаяся ситуация имеет и обратную сторону медали. В Западной Австралии некоторые скотоводы настолько перенасытили свои пастбища, что овцы уничтожили травяной покров, а это открыло путь спинифексу. Овцы не могут питаться спинифексом, но определенные виды кенгуру могут. Так кенгуру стали размножаться, а скотоводы разоряться.
— Такое положение, — сказал Дж. Маршалл, — пожалуй, заставит поверить и в бога.
Во что действительно верит этот энергичный профессор, так это в право живых существ жить в мире, где царствует человек, и в возможность самого человека жить цивилизованной жизнью.
— Что вы предпочитаете, посмотреть пингвинов и больших буревестников на острове Филлипа или птичий базар караваек в одном из последних сохранившихся убежищ красных речных эвкалиптов?
Интересно, что ответили бы вы, если бы вам предложили на выбор жареную куропатку или фазана, в то время как вы любите и то и другое. Я выбрала красные эвкалипты и караваек, так как они находились дальше, а это давало мне возможность поближе познакомиться со штатом Виктория. Нам предстояло проехать сто пятьдесят миль к северу, на реку Муррей, разделяющую штаты Виктория и Новый Южный Уэльс.
Итак, рано утром Грэхем Пиззи, натуралист и фотограф диких животных, который так мило предложил мне две поездки на выбор, погрузил фотоаппараты в машину, и мы направились к излучине Муррея. Ежегодно, за исключением периода засухи, этот район затопляется на глубину до пяти-семи футов и пребывает под водой около трех месяцев. Красные эвкалипты (Eucalyptus came edulensis)вырастают здесь до огромных размеров. На их стволах и ветвях находят приют опоссумы и другие животные, а также множество птиц. Река медленно течет через несколько лагун, богатых водоплавающими птицами. По мнению Грэхема Пиззи, это прекрасный район для национального парка, где можно было бы сохранить многие виды животных, а также редкие красные эвкалипты. Сейчас их жестоко вырубают. Вместе с деревьями исчезают кускусы, фалангеры и другие живые существа — старая история, возникающая всегда, когда нарушается равновесие в природе.
Два вида караваек — желтошейная и белая — населяют гнездовья, где живет по крайней мере тысяча птиц. Здешний запах показался мне значительно менее приятным, чем вид птиц, переходящих отмели, бродивших с важным видом по высохшим болотам и сидящих на побелевших ветвях погибших или погибающих деревьев. Они образуют живописный бордюр, где природная красота как-то странно искажена. Представлены все оттенки цветов — от серого и белого до серебряного и цвета слоновой кости с черными полосами и пятнами. Изящные изогнутые шеи, тонкие, как карандашики, паучьи ноги, длинные, устремленные вверх клювы создают странный каллиграфически выписанный рисунок на фоне чистого голубого неба.
С нами был инспектор из Отдела природы и рыбного хозяйства, спокойный, положительный, невозмутимый человек, преданный своему делу, которое в основном заключается в поимке браконьеров. Зима — сезон охоты на уток, в другое время года они находятся под охраной. Во время последней проверки инспектор конфисковал три тысячи нелегально убитых птиц. Любой охотник может разбить палатку в понравившемся ему месте государственного леса и взять с собой ружье. Поэтому для спасения птиц необходимо проявлять постоянную бдительность.
— Люди могут стереть с лица земли любого, кого увидят — крячку, лысуху, ржанку, утку, величавых черных лебедей, всех, кого угодно, — сказал инспектор.
Охотники на уток в штате Виктория, которых насчитывается тридцать пять тысяч, согласились наконец покупать ежегодно лицензии на охоту за фунт в год. Их в Австралии стали выдавать впервые. Деньги будут использованы на исследовательскую работу и на закупку участков болот для гнездовий, как это уже делают американцы. Люди, занимающиеся охраной природы, видят в этих начинаниях обнадеживающее предзнаменование.
Красные эвкалипты великолепны. Ствол одного экземпляра поднимался ввысь, как небоскреб, больше чем на девяносто футов и в вышине раскинул широкую крону, среди которой хихикала кукабарра, самодовольная, как накормленная сливками кошка, и агрессивная, как уличный торговец. Голос ее обычно принято считать немелодичным, но в нем есть некая диссонирующая мелодичная нота, как во многих современных симфониях. Кукабарры едят некоторых птиц и поэтому неприятны, но они слишком нечувствительны, чтобы понять причину своей непопулярности в этой стране.
Животных со шкурой, покрытой мехом, мы не видели. Год или два назад, по словам инспектора, лес был полон валлаби, но засуха вынудила их перебраться на земли фермеров, которые перебили валлаби всех до одного. Один скотовод уничтожил за две недели шестьсот валлаби и оставил гнить их туши. Не удивительно, что лес казался пустым и тихим. Исправит ли положение дел создание здесь национального парка? Трудно сказать, но по крайней мере это спасет деревья. В штате Виктория имеется семнадцать национальных парков, большинство из которых занимает незначительную территорию, а некоторые совсем крошечную. Один парк располагается на территории в восемьдесят четыре акра, другой — в девяносто один. Есть два более крупных, но даже они малы по австралийским стандартам. Один из них, расположенный на мысе Уилсона, находится примерно в ста двадцати милях к востоку от Мельбурна. Самый крупный — Уайперфелд — в сухой северо-западной части штата. Он покрыт малли-скребом. Это особенно важно, так как в какой-то степени позволяет сохранить одну из самых замечательных в мире птиц — сорную курицу.
Когда-то очень распространенная, она была описана доктором Гэрри Фритом как находящаяся под угрозой полного уничтожения. Основная причина — сокращение районов с низким уровнем выпадения осадков во внутренней восточной части Австралии, пригодных для существования сорной курицы. С течением времени техника освоения этих земель совершенствуется, а овцы уничтожают кустарники акаций, которыми питаются птицы. Бывают годы, когда лисы пожирают четыре из каждых снесенных пяти яиц. Грэхем Пиззи рассказал, что из одиннадцати миллионов акров земли в штатах Виктория и Южная Австралия, где произрастали малли, примерно восемь миллионов уже культивируется. Процесс этот продолжается, и птицы исчезают вместе со скребом.
Сорные куры принадлежат к семейству птиц, характерных только для Австралии и некоторых районов Юго-Восточной Азии — большеногов. Вместо того чтобы строить гнездо и высиживать яйца в нем, в процессе эволюции они пришли к способу настолько сложному и эффективному, что он кажется сверхъестественным. Птицы используют тепло, получаемое частично от солнца, а частично в процессе ферментации гниющей зеленой массы.
Многие существа, например крокодилы и черепахи, используют солнечное тепло для выведения детенышей. Создается впечатление, что этот путь выбирают наиболее ленивые животные, но жизнь сорной курицы далеко не легка. Солнечное тепло неустойчиво. Поэтому курица собирает кучи из компоста. Здесь она несет яйца, используя комбинированное тепло двух источников. В течение всего периода созревания яиц, который продолжается от шести до семи месяцев, она ночью и днем поддерживает постоянную температуру 92° (по Фаренгейту), как правило, в пределах одной сотой деления. И это в районах, где температура воздуха может колебаться от точки замерзания до более 100°!
Не прекращающийся ни на секунду труд необходим для поддержания постоянной температуры в куче, где лежат яйца. В основном, это задача самца. Осенью он выскребает в почве отверстие до трех футов глубиной и от пятнадцати до шестнадцати в диаметре. Затем в зимние месяцы, когда скапливается определенное количество влаги, он собирает в кучу все листья, веточки и другую растительную массу, которую может найти в окружающем буше. Иногда ему приходится толкать найденный предмет своими мощными ногами на расстояние до пятидесяти ярдов. В куче он вырывает яму глубиной примерно в фут и заполняет ее смесью песка и листьев, заделывает рассыпавшейся землей и разравнивает. Это — гнездо для яйца. Самка в работе участия не принимает.
Наступает весна, и в куче компоста, окружающего гнездо, начинается процесс ферментации. Как только температура поднимается до 92° (по Фаренгейту), наседка откладывает яйца величиной с гусиные, каждое из которых весит до половины фунта. Сами же птицы значительно меньше гусей, меньше даже домашней курицы. Оперение их черно-белое с коричневым в крапинку.
Открыть гнездо для яйца, для чего необходимо удалить около кубического ярда почвы, также работа самца. Наседка несет яйца и предоставляет своему супругу вновь зарыть отверстие. Процесс повторяется столько раз, сколько яиц несет наседка; по грубым подсчетам, раз в неделю. Яиц же она откладывает от двадцати до двадцати пяти штук.
Но работа самца этим не исчерпывается. Он должен поддерживать температуру на определенном уровне. В качестве термометра самец пользуется своим клювом, запуская его через короткие промежутки в кучу и вытаскивая полным песка. Может быть, он определяет температуру своим языком, который должен быть точно так же чувствителен и точен, как ртуть в термометре. В зависимости от того, как идет процесс ферментации, он может варьировать свои действия изо дня в день.
Весной компост прогревается быстро, и если бы птицы не вмешивались в природные процессы, гнездо могло бы перегреться. Поэтому каждое утро, до рассвета, самец открывает отверстие в куче, выпуская тепло, и затем заделывает его прохладным песком. При нормальных условиях это поддерживает температуру на нужном уровне, но, как мы знаем, погода редко бывает устойчивой. Может наступить холодный период, и тогда птица наскребает больше песка и почвы на кучу, утолщая изоляционный слой и сохраняя тепло. В середине же лета ее главная задача — предохранить кучу от перегревания. Поэтому рано утром она разрывает отверстие уже для того, чтобы дать почве возможность остыть в ночном прохладном воздухе, а затем засыпает его заново.
Осенью расписание работ меняется. Компост уже не выделяет такого количества тепла, солнечные лучи теряют силу, и птицы сами должны поддерживать необходимую температуру. Птицы — иногда приходит на помощь и самка — до полудня раскрывают кучу, оставляя лишь несколько дюймов покрытия над яйцом, давая возможность прогреть его полуденному солнцу. Во второй половине дня куча опять засыпается, чтобы предохранить яйца от холодного ночного воздуха. Таким образом, работа продолжается большую часть года, и к тому времени, когда вылупится последний птенец, пора приступать к работе по постройке нового гнезда или переделывать старое. Ни зимой, ни летом сорная курица не имеет каникул. Жизнь посвящена инженерным работам, и она умеет справляться каким-то таинственным путем с любыми изменениями, (Происходящими в окружающей среде, за исключением тех, которые вызывают переселившиеся в Австралию люди или животные, прирученные ими. Аборигены же не мешали птицам.
Выведение птенцов влечет за собой другое чудо. Они вылупливаются из яйца в полной темноте в трех футах под землей. За несколько часов птенцы должны выкарабкаться на поверхность, в противном случае они задохнутся, что происходит довольно часто. Инстинкт должен указать им дорогу вверх, а не вбок. Они роют проход наверх со скоростью одного фута в час. Это установил доктор Фрит. Он обнаружил столь удивительное поведение у глазчатой сорной курицы (Leipoa ocellata[70]), откладывающей пятнистые яйца. После непродолжительного отдыха на вершине кучи, птенцы быстро сбегают вниз и ныряют в буш, четко координируя свои движения. Если птенца испугать, он прячется в листьях и повисает вниз головой, как летучая мышь. Но окружающая среда сурова и, вероятно, многие из них гибнут от голода.
Птенец никогда не видит своих родителей, его не кормят, не оказывают никакой помощи. Он ничем не обязан взрослым — все, что ему необходимо знать, чтобы выжить и приступить в свое время к выполнению сложных задач по строительству гнезда, заложено в нем от рождения. А в мои студенческие годы модным было отрицать инстинкт. Нас учили, что многим повадкам, называемым инстинктивными, заложенными в механизме наследственности, в действительности обучают или же они развиваются как подражание поведению родителей и, таким образом, являются продуктом окружающей среды. Вряд ли это можно отнести к сорной курице. Все ее повадки берут начало в генах.
Птенцу еще нет и дня, а он уже умеет летать. Первые две недели жизни его пищу составляют насекомые, затем он начинает питаться семенами малли-скреба. Но так же поступают и овцы. Отсюда уменьшение количества птиц. Я очень сожалела, что не могла наблюдать сорную курицу в природных условиях, хотя и видела их холмики. Видела я и множество кустарниковых индеек, которые тоже относятся к семейству большеногое (три вида в Австралии, пять — в мире). Группа фермеров подарила штату Виктория участок малли-скреба, чтобы он был сохранен как заповедник. Комиссия по охране животных штата Новый Южный Уэльс закупила два небольших участка для той же цели. Размер спасательных операций небольшой, но все же это лучше чем ничего. Ведь сорная курица Австралии — это действительно нечто уникальное.
Мы ехали на юг по холмистой, коричневой равнине, разделенной изгородями на участки. Встречалось много ветряных мельниц и мало деревьев, за исключением небольших рощ около жилых поселений. Грэхем Пиззи рассказал мне, как обстоит дело с кроликами. Заражение миксоматозом, успешно примененное в 1950 г., дало стране передышку лет на десять. Но теперь передышка кончилась. Болезнь, хотя и носит эпидемический характер и выпускать ее из-под контроля нельзя, утратила до определенной степени свою силу. Слишком много кроликов получило иммунитет, унаследованный от выживших родителей. Сейчас возлагают надежды на отравление животных «составом 1080», состоящим из уксуснокислого фтористого натрия.
Это случилось в штате Виктория, в районе города Джилонг, где кролики впервые набрали силу, с тех пор как в 1859 г. скотовод Томас Остин выпустил их на волю с целью создать базу для спортивной охоты и обеспечить пропитанием бедняков. Кролики распространились как пожар, захватывая ежегодно до семидесяти милей новой площади, пока не захватили большую часть Австралии. Они обладали таким зверским аппетитом, что наполовину сократили количество овец в западной части Нового Южного Уэльса. По массе поедаемой травы пять кроликов равняются одной овце. Никто никогда не узнает, сколько их было в Австралии в начале века. Скотоводы строили заградительные барьеры, стреляли, ставили западни, травили — все тщетно. Как сопутствующее явление развилась торговля шкурками и мясом, выросшая в определенную отрасль промышленности, которая в наши дни мешает ликвидировать кроликов раз и навсегда.
Эксперты утверждают, что такое мероприятие возможно, и приводят в пример опыт Новой Зеландии, проводящей политику полного уничтожения вредителей, где торговля шкурами и мясом кроликов поставлена вне закона. В Австралии много охотников на кроликов, а также торговцев продуктами этой охоты, которые, естественно, заинтересованы сохранить животных. До начала распространения миксоматоза в некоторые годы на экспорт шло более десяти миллионов тушек кроликов. Даже через пять лет после начала эпидемии до сорока пяти миллионов животных ежегодно убивали на шкуры и мясо. Охота на кроликов фактически способствует их размножению путем отбраковки, а также в связи с тем что гибнет больше мужских особей, чем женских. Происходит непроизвольное перенаселение в местах распространения животных. Большинство специалистов видят выход в применении успешного опыта Новой Зеландии, то есть запрещении попользовать кроликов для коммерческих целей. Но это противоречит природе австралийцев. Охотник на кроликов — традиционная фигура. Да и охота — неплохой способ добывать средства к существованию. Идея отказа от использования этих животных в коммерческих целях имеет мало сторонников, и кролик находит своего лучшего друга в воинствующем индивидуализме общества. По мнению специалистов, два фермера из трех не проводят на своих участках необходимых мер борьбы с кроликами.
Их уничтожают с помощью приманок. Это, как правило, нарезанная морковь, которую разбрасывают по распаханной земле. Для привлечения кроликов часть моркови совершенно доброкачественная, а часть замешивается с ядохимикатами. Если это мероприятие проводить в соответствии с правилами, то таким путем уничтожается до девяноста процентов, а то и больше, кроликов на ферме. Владельцы крупных ферм используют авиацию для разбрасывания приманок. Ядохимикаты против кроликов стали такой же неотъемлемой частью современного ведения хозяйства, как применение удобрений или опрыскивание посевов от сорняков. Но государственные органы не могут ни заставить земледельцев травить кроликов на принадлежащей им территории, ни проводить эту работу своими силами, как это делается в Новой Зеландии. В их силах только увещевать и советовать.
В результате нерадивые фермеры срывают усилия честных тружеников. Поэтому кролики продолжают размножаться, а в некоторых районах даже в больших количествах, и опасность увеличения их поголовья до угрожающих размеров не может быть сброшена со счета. В любом случае они объедают овец, пожирая лучшие травы, давая возможность развиваться худшим, препятствуя возрождению кустарников и деревьев.
Может быть, будет получен другой вирус, как в свое время миксоматоз. Открытие его принадлежит бразильцу — доктору X. Б. Араго; вирус был обнаружен в Южной Америке. Затем его получил сэр Чарльз Мартин, проводивший эксперимент в Кембридже. Окончательно работа была завершена мадам Джип Макнамара, которая сумела доставить вирус в Австралию. Однако заразить им диких кроликов сразу не удалось. Успех был достигнут в районе верхнего течения реки Муррей бригадой сотрудников КСИРО под руководством Фрэнсиса Ратклидфа, который в то время стоял во главе Отдела по охране природы. Вирус, переносимый москитами, распространился по всему континенту.
В 1889 г. правительство Нового Южного Уэльса установило премию в размере пятидесяти тысяч долларов за эффективное решение проблемы борьбы с кроликами. Поступило тысяча четыреста заявок, включая предложение Луи Пастера распространять куриную холеру. После длительных дебатов эта мера не была принята, так как существовала опасность заражения других животных. Позже опыты показали, что куриная холера не убивает кроликов, поэтому Пастер так и пе получил премии. Кстати, никто ее не получил. Распространение миксоматоза было квалифицировано как «биологическое чудо». А второе чудо вряд ли вероятно.
На обратном пути в Мельбурн мы проехали через город Бендиго, представляющий собой исключение из правил, гласящих, что большинство городов золотоискателей, особенно тех, дни славы которых прошли, — мрачные, тоскливые и бедные. Мне же запомнились покрашенные белой краской дома; широкая главная улица; зеленые лужайки с деревьями и цветочными клумбами; прочные, украшенные лепкой викторианские дома, как, например, школа механиков, и несколько прелестных квадратных опоясанных балконами зданий с колоннадами, среди которых был отель (я надеюсь, что Робин Бойд преувеличивал, когда описывал такого типа отель, как «двухэтажную железную веранду, вьющуюся вокруг плохого обслуживания, раздражительности и примитивной канализации»).
Городу, названному Бендиго в честь английского боксера, удалось избежать участи многих других городов, возникших во время золотой лихорадки 1851 г. и покинутых позже.
В наши дни Бендиго — торговый центр процветающих ферм, расположенных в округе. В городе имеется несколько небольших промышленных предприятий. Большую часть состоятельного населения составляют пенсионеры. У Бендиго ухоженный вид, который говорит о постоянном населении, гордящемся своим городом. Тем не менее теперь это призрак, если вспомнить о его былой славе. В начале 60-х годов XIX в. в Бендиго было тридцать методических церквей. Несколько лет спустя он превратился в город шумных кафе, немецких оркестров, ярко освещенных отелей и биржи, где спекулянты из Мельбурна за одну ночь делали состояние. На улицах расстилались красные ковры, в подвалах рекой лилось шампанское для приезжающей погостить знати. Владельцами шахт было более тысячи различных компаний. Бендиго вырос в крупнейший город золотоискателей страны.
В эти дни «золотого бума» в Австралию хлынули иммигранты, у которых инстинкт искателей счастья подавлял страх перед неизведанным. Но затем приток иммигрантов сократился. Когда недостаток в рабочей силе вызвал китайскую иммиграцию, вспыхнуло движение за «белую Австралию»[71]. В то же время дни золотой лихорадки укрепили традиции равноправия. «Действительно, ничто не оказывает столь уравновешивающего влияния на общество, как желание найти золото, — писал один англичанин, посетивший Австралию. — Грязь, мухи, лопаты, мозоли и золотая лихорадка в крови уравнивают лорда и бродягу. Золотоискатель становится символом здорового независимого австралийца, который никого не называет господином и идет своей собственной дорогой».
Мы остановились купить конфет в маленькой деревне Каслмейн, раскинувшейся к югу от Бендиго, — место рождения разбойника Джека Донахью, неистового героя баллад, популярных в колониальные времена. Мы купили не просто конфеты, а фирменную карамель Каслмейн, изготовляемую в корыте по рецепту, передаваемому из поколения в поколение уже до третьего колена, в кухне старого коттеджа с крышей из рифленого железа. Семья, занимающаяся изготовлением карамели, решительно отклонила предложения нескольких магнатов-кондитеров откупить производство. Так что легенда имеет свое продолжение.
На самой дальней оконечности острова Филлипа расположился небольшой заповедник карликового пингвина (Eudyptula minor), представителя одного из самых крошечных в мире видов пингвинов, единственного из этого семейства, проживающего в Австралии. Пингвины живут среди дюн, в норах. Когда мы задолго до рассвета брели к берегу океана, из таинственной и печальной темноты до нас донеслись жалобные причитания на высокой ноте, напоминающие свист одинокого невидимого путника, идущего где-то далеко по черной и огромной равнине Среднего Запада. Это были крики пингвинов, собирающихся небольшими группами, редко больше чем по шесть особей, которые направляются из своих жилищ к морю на рыбную ловлю. Они вернутся лишь поздно вечером, чтобы отрыгнуть рыбу и планктон в глотки толстых пушистых голодных птенцов, ожидающих их в норах.
«Парад пингвинов» — так называется это шествие, привлекающее многочисленных туристов. Когда мы подошли к берегу, зажглись прожекторы и осветили мокрый песок, ласкающие берег волны и похожую на проволоку траву на дюнах. Под лучами прожекторов все вокруг стало контрастно белым и черным, как цвета оперения пингвинов. Зрелище возвращения пингвинов вечером, естественно, пользуется большей популярностью у туристов, чем их выход на работу на рассвете. Стоянки на берегу заполняют автобусы, а по субботам и воскресеньям тысячи туристов выстраиваются вдоль заграждений, сдерживающих эту человеческую волну, которая, хлынув на берег, поглотила бы всех пингвинов.
В три часа утра автобусная стоянка была пуста, но Берт Уэст, главный распорядитель парада, любезно включил прожектора. В их лучах мьт наблюдали группки пингвинов. Они то наклоняли головы вперед, то качали ими, словно участвуя в серьезной дискуссии. Когда группки окончательно подобрались, пингвины целеустремленно заковыляли к воде. Наклон туловища и короткие ласты делали их похожими на увлеченных разговором сплетниц в судейских мантиях. Нельзя не отметить карикатурность их облика, копирующего помпезных представителей человеческого рода. Казалось, все они страшно торопятся.
— Когда пингвины возвращаются, они гораздо больше преисполнены чувства собственного достоинства, — сказал Берт Уэст.
Добытый улов замедляет шаги. А сейчас птицы были сами голодны и торопились накормить своих еще более голодных птенцов. Когда я наклонилась, чтобы погладить их блестящие спинки, они совершенно не обратили на меня внимания, хотя, казалось, даже маленький толчок может сбить их с ног — ведь ростом они менее фута.
Некоторое время спустя, наше внимание переключилось на гигантских буревестников, появляющихся из своих нор. Они двигались не к морю, а к гребню дюн. Спотыкаясь о пучки трав в песке, мы шли по тропкам, которые кишели птицами, спешившими вверх и не обращавшими на нас никакого внимания. Месяц, на который набежало рваное облако, стоял над морем. Мы вдыхали запах моря, слышали его шум, но рассмотреть могли только огромную черную массу, вспыхивавшую кое-где серебряными точками. К этому времени ночная темь начала таять, чувствовалось приближение рассвета, смягчающего сверкание звезд.
Мы напрягали зрение, чтобы рассмотреть переваливающиеся с боку на бок существа, черные как сажа, которые появлялись из-под земли, как скопище чертенят.
— Вполне вероятно, что целый миллион буревестников гнездится только на этом отрезке побережья острова Филлипа, — сказал Грэхем Пиззи. — И ведь это только аванпост, а не основное место их распространения.
Каждая птица оставила в норе птенца. Только одного — ни один буревестник не откладывает больше одного яйца за сезон. Если оно погибло, то потеря невозместима, так как к тому времени, когда самка сносит яйца, самец уже не может ее оплодотворить.
Размах крыльев этих птиц, которые на земле выглядят не больше маленькой чайки, настолько велик по отношению к размеру туловища, что на суше они неловки, неповоротливы и плохо координируют свои движения. При наклонах их тянет вниз, передвигаются они небольшими шагами, словно начинающие ходить малыши или двигающиеся ощупью при дневном свете ночные животные. Их не раздражал свет наших фонарей, и они давали себя потрогать. У этих птиц черное блестящее оперение и серый воротник. Они продолжали подниматься вверх, одна птица за другой. Мы подсчитали, что каждые десять секунд мимо нас проходила птица. Продолжалось это около двух часов. На протяжении многих миль дюны были испещрены тропками. Сколько же было здесь буревестников в этот предрассветный час? Ума не приложу.
Как только птица подходила к высоким дюнам, происходило чудо. Расправляя крылья, буревестник взлетал, демонстрируя необычную грацию, красоту, координацию движений. Крылья буревестника, приспособленные к полетам на тысячи миль, достигли совершенства. В воздухе птица без малейшего напряжения мчится ввысь, теряясь в просторах неба, которое внезапно заполняется черными точками, кружащими, ныряющими, устремляющимися вниз, вновь взвивающимися над океаном в волшебном рисунке постоянного движения. Восторгаешься, с какой точностью движется в воздухе птица, столь неуклюжая на земле. Ни одна не задевает другую. Каждая из них совершает несколько кругов и улетает в открытое море. Когда небо краснеет над линией горизонта, как бы очерченной остро отточенным карандашом, птиц появляется все больше. Сотни тысяч их, как трепещущие черные листья на абрикосовом фоне неба, совершают стремительный полет к далеким мысам, вдающимся в море. К ночи они вернутся обратно кормить птенцов. Я счастлива, что мне удалось увидеть это зрелище.
Моряки раньше называли этих птиц — тонкоклювых буревестников — духами, потому что издаваемые ими по временам сиротливые, демонические крики напоминают стенания мифических духов, согласно сказаниям, предвещавшими смерть. Название Mutton-bird[72] происходит от слова баран, так как мясо этих птиц похоже на баранину. Наиболее серьезный специалист по буревестникам доктор Доминик Севенти обнаружил первое письменное упоминание об употреблении этой птицы в пищу, имеющееся в Британском музее, в записях военного хирурга Джона Уайта, которые относятся к 1788 и 1794 гг.
Основное место гнездовий буревестников — острова Фэйрфакс в Бассовом проливе, особенно остров Флиндерс. На островах птиц промышляют потомки суровых моряков, китобоев и охотников на тюленей, привлеченные в эти места описанием островов Бассового пролива, опубликованным в 1802 г. Мэттью Флиндерсом. Здесь они поселились, вступая в смешанные браки с аборигенами. Островитяне очищали гнезда буревестников; свертывали шеи птенцам; выжимали из тушек ценное масло, которое шло на изготовление лосьона для загара; ощипывали, засаливали мясо для экспорта на материк — в Новую Зеландию и Соединенные Штаты. В течение многих лет эта отрасль «промышленности» (не знаю, годится ли здесь слово «промышленность») была бесконтрольной, пока не возникли опасения за судьбу буревестника. Берт Уэст рассказывал мне, что в дни его юности существовали специалисты по сбору яиц, которые продавали их в Мельбурне, где яйца особенно ценились среди кондитеров, готовящих рождественские торты.
Сейчас сбор яиц запрещен законом, так же как и все виды охоты на буревестника на континенте. Сезон охоты на группе островов Фэйрфакс ограничен пятью неделями — с конца марта до начала мая. В эти дни охотники на буревестников с семьями заполняют острова, разбивают лагеря и все — мужчины, женщины, дети — приступают к работе. Они убивают и ощипывают птенцов, которых удается поймать. Охотники хорошо зарабатывают, но это ремесло уже идет на спад. Десять лет назад их добыча составляла от полумиллиона до трех четвертей миллиона птенцов, в прошлом же году — только сто пятьдесят тысяч. По мнению специалистов, буревестники могут справиться с подобной охотой, но им угрожает другая, более серьезная опасность, например привычка островитян поджигать траву, чтобы избавиться от змей и выявить гнезда. Такие пожары обнажают почву, которую затем уносят зимние ветры. Остается лишь гравий и камень, непригодный для устройства гнезд. Из-за этого птицы уже покинули ряд островов. Еще более серьезная угроза создается вторжением овец и крупного рогатого скота.
В начале мая птицы пускаются в удивительное путешествие, длящееся почти пять месяцев, и покрывают за это время двадцать тысяч миль. Сначала они летят по направлению к Новой Зеландии, затем поворачивают на север к западным границам Тихого океана, к Берингову проливу, Аляске и Камчатке — полет, чуть ли не пересекающий весь земной шар от Антарктиды до Южного полярного круга. Он продолжается над восточной частью Тихого океана, вдоль берегов Северной Америки. Затем птицы возвращаются на юго-восток и летят не только к земле, где родились, но и к месту своего рождения, в старое гнездо.
Птицы, которые выдерживают столь изнурительные перелеты, живут долго. Буревестники размножаются только в возрасте шести-семи лет. Когда птенцы начинают летать, они предпочитают не опускаться на землю, пока им не исполнится три или четыре года. В то время как взрослые птицы гнездятся на суше, птенцы пребывают в открытом море. Земля нужна им только как «инкубаторская станция». Что потрясает, так это точность размеренного порядка их жизни. Из своего кругосветного путешествия по Тихому океану они пунктуально возвращаются в течение последней недели сентября. Октябрь птицы проводят в работе по устройству и оборудованию жилищ. В начале ноября они спариваются и улетают в открытое море, бросая гнезда. В этот период одно яйцо, довольно большое, зреет в самке. Затем 20 или 21 ноября — колебания в ту или другую сторону не более двух дней — они возвращаются откладывать яйца. Наибольшее количество яиц сносится 25–26 ноября, и заканчивается кладка 1 или 2 декабря.
Год за годом буревестники придерживаются этого расписания. Судя по всему, ни климатические, ни температурные колебания, ни наличие пищи не изменяют его ни на один день. Время его практически не затрагивает. Периодичность в наши дни та же, как и столетие назад, когда начали вести первые записи наблюдений за этими птицами. Еще более поражает постоянство поведения отдельных птиц. Доктор Сервенти и его помощники метили тысячи особей. Номер 12 378 откладывала яйцо 24 ноября четыре года подряд, номер 12 532 сносила яйцо в один и тот же день три сезона.
Чем можно объяснить подобное постоянство? Только так называемым «астрономическим фактором». Какой-то еще не понятый механизм в тот момент, когда продолжительность дневных часов достигает определенной точки (возможно, измерение доходит до секунд), приводит в движение аппарат размножения птицы, как с помощью щелчка выключателя зажигается свет. Это должно происходить задолго до того, как птицы достигают мест гнездовья. Вне сомнений, настанет день, когда постоянство поведения буревестников будет понято, так же как и механизм их перелета. Считают, что в основе последнего явления также лежит «астрономический фактор». То, что птицы при перелетах руководствуются расположением звезд, уже установлено, но как все это происходит, пока еще остается тайной.
Потери во время перелетов должны быть огромны. Особенно страдает молодняк, причем главным образом на последнем участке, где птиц встречают юго-восточные ветры. Выживают наиболее приспособленные. Но конец наступает, конечно, для любой птицы, молодой или старой, слабой или сильной, когда над ней смыкаются воды моря, ее кормящего. «У каждой птицы есть свой последний перелет», — писал австралийский поэт А. Д. Хоуп в своей поэме» «Смерть птиц».
Тасмания
В Хобарте все говорит о море. Столица Тасмании как бы объединяет в себе английский провинциальный город и современный морской порт. Раскинулась она на склоне горы Веллингтон в устье реки Деруэнт на берегу, изрезанном глубокими и узкими заливами. По удобству расположения Хобарт напоминает один из городов Эгейского моря, но только здесь боги Олимпа переселились на Веллингтон. Большая часть города состоит из зданий типа бунгало; сохранились и чистенькие с башенками викторианские дома, которым еще большее очарование придают веранды с кружевными чугунными решетками и аккуратные ухоженные сады.
О тасманийцах говорят, что они больше англичане, чем австралийцы. Вероятно, под этим подразумевается их медлительность, большая любовь к традициям, а может быть, и то, что живут они спокойнее, разумнее и менее, как считают многие, подвержены американскому влиянию. У тасманийцев есть время остановиться и задуматься или по крайней мере поехать на рыбалку. Правда, внешне им свойственна определенная неряшливость или, в лучшем случае, отсутствие шика.
Хотя население Хобарта за последнее время выросло, но не в таких темпах, как в столицах других штатов. На острове, по размерам равном двум третям Ирландии, оно составляет менее четырехсот тысяч человек. Число иммигрантов небольшое. Это ручеек по сравнению с тем потоком, который идет в Австралию. Удержать на острове молодежь — целая проблема. Как и все небольшие страны, находящиеся в тени крупных государств, Тасмания, хотя и представляет собой самостоятельный штат, страдает от притягательной силы континента. Более честолюбивые и способные ее жители уезжают в Сидней и Мельбурн. Так Соединенные Штаты притягивают канадцев, а Англия — ирландцев.
В городе Лонсестоне имеются крупнейшие в Южном полушарии ткацкие фабрики, в Хобарте — современные текстильные и пищевые предприятия. Примерно на том самом месте, где в 1803 г. высадился лейтенант королевского военно-морского флота восемнадцатилетний Джон Боуен с сорока девятью англичанами, в большинстве своем ссыльными, чтобы основать первое поселение на Земле Ван-Димена, стоит сейчас завод по выплавке цинка.
На следующий год после Боуена в Тасманию прибыл Дэвид Коллинз, подполковник морской пехоты. Он сопровождал группу заключенных, направленную губернатором Сиднея Кингом, мечтавшим избавиться от наиболее непокорных подопечных и отправить их как можно дальше от своего города. Итак, «отбросы древней цивилизации» прибыли на благословенный остров. Горные склоны были здесь покрыты лесами, реки полны рыбы, по полянам бегали кенгуру и валлаби. Местные жители особенно не беспокоили пришельцев. Культура аборигенов была на уровне каменного века, они не знали железа и других металлов, не носили одежды, за исключением украшений из раковин и цветов, а иногда костей умерших родственников, и не имели постоянных жилищ.
Тасманийцы отличались от аборигенов континента; возможно, они принадлежали к негроидному народу, пришедшему с севера еще до того, как Тасмания отделилась от основного континента по крайней мере двадцать тысяч лет тому назад. Или, что более вероятно, прибыли морем в примитивных каноэ из стволов деревьев, пройдя расстояние в две с половиной тысячи миль. Волосы у них мелко вились, как у негров, и не были шелковистыми, как у аборигенов континента. Первые белые, которых коренные тасманийцы увидели в 1772 г., были французы во главе с исследователем Мариком дю Фресне. Между ними произошло столкновение, в результате которого один из местных жителей был убит. Затем приходил Блай на знаменитом «Баунти». Его встречи с аборигенами прошли более удачно. Были установлены дружеские контакты на берегах Эдвентчер-Бей (остров Бруни), где Давид Нельсон, ботаник из команды Блая, посадил фруктовые деревья, в том числе первые яблони. Но как только на остров высадился лейтенант Боуен со своими ссыльными, началось истребление аборигенов, в результате которого в течение последующих семидесяти трех лет все коренные жители Тасмании исчезли с лица земли.
В наши дни австралийцы должны стыдиться своего прошлого. Все началось с голода, который чуть не погубил поселение Хобарта через два года после его основания. Корабли с провизией не приходили, а местная фауна не восполняла недостаток пищи. В то время как гарнизон праздновал Трафальгарскую победу[73] священник Бобби Кнопвуд записал в своем дневнике: «Ни унции мяса или пшеничной муки. Нет ничего, что можно было бы выделить гарнизону или заключенным… Колония нуждается абсолютно во всем, все требуют хлеба. Мало того — не хватает овощей, картофель еще не созрел… Умерли даже ручные голуби священника. В воскресенье он пропустил утреннюю службу, чтобы отправиться на рыбалку, но улов был скуден». Губернатор Коллинз жаловался: «Кенгуру гибнут, мясо не запасено. Стало известно, что заключенные, сбежавшие в буш, забрали собак у офицеров. Сегодня утром еще пять человек сбежали».
Заключенные уходили в буш охотиться на кенгуру, и губернатор не мог, да и не хотел их останавливать. Там они встретились с аборигенами, которых считали дикарями, соперниками в охоте на кенгуру, и решили убрать их с дороги. Большинство кенгуру они уничтожили, а заодно и вытеснили аборигенов из традиционных районов охоты в леса, принудив к жизни, к которой те не были приспособлены. Местное население гибло от пневмонии, туберкулеза; заражалось от белых заключенных, насильно похищавших их женщин.
Отпустив заключенных в буш, губернатор выпустил злого джинна из бутылки. Многие из них не пожелали возвратиться в поселение и ушли в глубь страны, как бы созданной для того, чтобы принять преступников. Это были хищники по своей природе, и свободные поселенцы, занявшие участки вдоль реки Деруэнт, стали их добычей. Так здесь появились разбойники, в течение большей части столетия омрачавшие жизнь честным гражданам и оказывавшие открытое неповиновение представителям власти.
В 1830 г. три тысячи поселенцев приняли участие в облаве, организованной губернатором Джорджем Артуром, ставившим своей целью переловить всех аборигенов и выселить их на один из глухих полуостровов. В результате дорогостоящей семинедельной кампании была схвачена лишь одна женщина с ребенком, да и то спящая. После этого губернатор Артур перепоручил эту задачу некоему Джорджу Робинсону, который верил, что сможет добиться убеждением того, что военные не смогли сделать силой.
Он решил направиться к аборигенам и уговорить их подчиниться. В 1831 г. Робинсон отправился пешком в сопровождении нескольких местных жителей без оружия в дикий и совершенно в то время неизведанный район западных горных цепей. К всеобщему удивлению, он не только вернулся живым, но и привел с собой пятьдесят четыре аборигена. Эти путешествия миссионер повторил три раза. Общее количество приведенных им аборигенов составило сто восемьдесят семь человек. В 1835 г. они с Робинсоном во главе были направлены на остров Флиндерс для обращения «в истинную веру». Однако, несмотря на все усилия Робинсона, поселение, основанное по иронии судьбы на мысе Цивилизации, не процветало. Аборигены, лишенные привычной среды, умирали. Последние шестнадцать человек были возвращены на остров Бруни, где также погибли. Последняя чистокровная представительница аборигенов, женщина по имени Траганини, умерла в 1876 г.
Вместе с каторжниками в желтых жилетах появились на острове и тюремщики в жилетах красных. В колониях офицеры делали все от них зависящее, чтобы вести жизнь, соответствующую условностям своего времени и класса. Они завели многочисленных слуг, часто напивались до бессознательного состояния, увлекались охотой, верили в дисциплину и данное свыше право одних порабощать других, страдали от грыжи и демонстрировали то сочетание равнодушия к человеческим страданиям и понимание красоты, которое делает представителя XVIII столетия такого типа совершеннейшей загадкой для людей XX в.
В Порт-Артуре среди хорошо сохранившихся остатков самого большого в Австралии поселения каторжников стоят стены сгоревшей старой тюрьмы, без крыши. Длинные ряды окон, когда-то снабженных решетками, похожи сейчас на пустые глазницы чудовища, обращенные к морю.
Тюрьма была четырехэтажным зданием, ульем из мрачных пустых камер, видевших больше страданий, чем многие подобные стены. Не менее тридцати тысяч заключенных прошло через Порт-Артур с момента его основания в 1830 г. до ликвидации в 1878 г. Несмотря на красоту окружающей природы — зеленые лужайки, содержащиеся в отличном состоянии, цветы, кустарники, великолепные деревья на фоне сверкающего моря, — тени почерневших руин омрачают настроение. Здесь наказание, жестокое и непреклонное, воплощено в камне, выложенном руками жертв, которые знали, что сами роют себе могилу.
Рядом с тюрьмой — фонтан, из которого заключенные пили воду. Рифленые стены и изящный пьедестал делают его настолько же легким и гармоничным, насколько мрачны и тяжелы стены тюрьмы. Руки анонимного заключенного придали сооружению форму запечатлевшегося, очевидно, в его памяти фонтана из какой-нибудь английской деревни.
Было время, когда даже упоминание о каторжниках считалось бестактным. Австралийцы хотели забыть эту страницу своей истории. В наши дни все изменилось. Иметь среди предков ссыльного стало делом чести, а не стыда. Стали реабилитировать и самих заключенных. Большинство ссыльных, по мнению современных историков, были виновны (что тоже еще нужно доказать) в проступках столь незначительных, что сейчас они не заслужили бы даже условного наказания.
Такая, например, «вина», как отказ раболепствовать перед сквайером, была более достойна похвалы, чем наказания. И обращение с ними, согласно той же группе историков, не было столь жестоким, как об этом пишут. Были, конечно, темные пятна, например, организация поселения для непокорных в Порт-Маккуори, где заключенные в цепях трудились от зари до зари на лесозаготовках, часто по пояс в воде, избиваемые за малейшую провинность. На острове Норфолк тюремщик записал в журнале, что заключенный Джо Мэнсбери получил «две тысячи ударов кнутом за три года и дошел до такого состояния, когда его ключицы были совершенно обнажены и похожи на отполированные рога из слоновой кости. С трудом мы могли найти место на его теле, чтобы нанести новые удары».
Большую же часть ссыльных не заковывали в цепи и не наказывали кнутом. Их распределяли между фермерами, купцами и другими жителями, многие из которых относились к узникам доброжелательно. Заключенные трудились на земле и питались лучше, чем в дни своей прежней жизни. Одни из них, кто не совершал проступков, со временем получали свободу передвижения и могли выехать в любой пункт колонии, другие — освобождались даже полностью. Они составили себе приличные состояния, или по крайней мере обеспечили безбедную жизнь. Таким образом, для части заключенных, прибывших сюда в цепях, Австралия стала страной больших возможностей, так же как и для тех, кто сам заплатил за проезд.
Эта точка зрения подтверждается исследованием жизненного пути трехсот двадцати пяти фермеров и ремесленников, в большинстве своем из Вилтшира, Хэмпшира и Глоучастершира, проделанным Джорджем Руде. Эти люди были сосланы на Землю Ван-Димена в 1831 г. за участие в войне против машин. Они ломали молотилки и сжигали стога в знак протеста против применения незнакомых орудий труда, которые должны были лишить их работы. Одни из них, согласно записям губернатора Артура, «погибли тут же от болезней, вызванных отчаянием», другие выжили и через шесть лет получили свободу.
К 1842 г. двадцать пять — тридцать бывших ссыльных стали владельцами лавок, пабов, ферм и домов, работали мясниками, пекарями, каменщиками, сапожниками и занимались другими ремеслами. Историю Роберта Блейка, сапожника из Уилшира, можно назвать типичной для этой группы ссыльных. Через три года после прибытия в Австралию он женился и стал отцом девятерых детей; еще через год его освободили. Спустя тридцать лет, в пятидесятишестилетнем возрасте, он стал владельцем приличного дома и фермы, а также семи домов в городе Ботвелл; сыновья его основали пивоваренный завод. Вне всяких сомнений, не все заключенные были столь же удачливы, но ни один из них после освобождения не вернулся на родину.
В картинной галерее Хобарта выставлены два или три очаровательных портрета, написанных одним из наиболее любопытных ссыльных, когда-либо достигших Земли Ван-Димена. Его звали Томас Уэйнрайт[74]. Написанные им критические обзоры регулярно печатались в английских литературных журналах под псевдонимами Джанус Уэтеркок и Эгомет Бонмот, а его картины экспонировались в залах Королевской Академии. В Лондоне его знали как остроумного и щедрого хозяина. После смерти личность Уэйнрайта привлекла внимание Чарльза Диккенса, Оскара Уайльда и лорда Литтона. Но его посмертная слава объясняется не литературными трудами и даже не элегантными портретами, а тем, что он отравил нескольких членов своей семьи, чтобы завладеть их деньгами.
Уэйнрайта сослали на Землю Ван-Димена в 1837 г. за подделку подписи на чеке. Его никто не обвинял в убийстве, хотя все современники в это верили. О Томасе писали, как о чудовище. В действительности же это был слабый, тяжелобольной человек. Он работал на строительстве дорог на самых тяжелых участках, где условия труда были ужасны и унизительны, в кандалах и желтой одежде, на которой было написано «преступник».
Через два года его перевели на работу в колониальный госпиталь. Будучи по существу инвалидом, Уэйнрайт ничего не получал за свою работу.
В те годы нож хирурга зачастую был и источником заразы, поэтому работать санитаром было чрезвычайно трудно. Художник, хоть и сам болел, выполнял свои обязанности так, что заслужил похвалу всех врачей, с которыми ему приходилось сталкиваться.
Портреты представителей высшего класса города Хобарта, их жен и детей, создавшие репутацию Уэйнрайту как художнику, демонстрируют тонкое изящество и чистоту линий, особенно удивительные, если вспомнить обстановку, в которой они создавались. Изображения женщин и девочек с кудряшками, длинными гибкими шеями, греческими чертами лица и несколько туповатым выражением немного напоминают картинки на конфетных коробках. Мужские портреты значительно сильнее, в них художнику удалось показать характер человека; выполнены они свободно, хорошей техникой.
Более типичным представителем тех дней был кровожадный Майкл Хоу из Йоркшира[75]. Сосланный за разбой, он грабил по дороге к Земле Ван-Димена даже своих товарищей по несчастью — заключенных. Рассказывали, что, возглавив банду в буше, Хоу приказывал отрезать уши всем, кто не подчинялся его власти. Он писал безграмотные послания губернатору Хобарта, подписывая их — «Губернатор гор». Хоу вел дневник, записи в котором делались кровью кенгуру.
Еще более любопытной фигурой был Мэттью Брэди, ирландец из Манчестера, осужденный за подделку подписи хозяина на чеке. Это был один из немногих заключенных, которым удалось бежать из тюрьмы в Порт-Маккуори на диком западном побережье Тасмании. Он и его банда нападали на фермы по всему острову. О Брэди сложили легенду как о джентльмене-разбойнике, своего рода колониальном Робин Гуде, храбром и дерзком, верном друзьям и вежливым со своими жертвами. Однажды он расклеил объявления, предлагающие двадцать пять галлонов рома за поимку сэра Джорджа Артура. Один местный автор писал о Брэди: «Он нанес много обид, но часто был и снисходительным и никогда не оскорбил женское достоинство».
В наши дни места проделок этого разбойники включены в туристские маршруты. Около Лонсестопа туристов подвозят к месту, которое называется «наблюдательный пункт Брэди». Говорят, что бандиты разбили здесь лагерь накануне своего последнего налета. Предводитель развлекал дам ограбленного поместья песнями собственного сочинения. Но тут началась стрельба, он был ранен в ногу и через несколько дней взят в плен Джоном Бэтменом, впоследствии одним из основателей Мельбурна. Представители как простонародья, так и местной знати носили разбойнику в тюрьму пироги, вино и варенье. По словам репортера, он выслушал смертный приговор с полным спокойствием и с уважением поклонился судье.
Одна из наиболее привлекательных черт Тасмании — это реки. Долина реки Хьюон к югу от Хобарта знаменита хмелем и яблоками, щедростью своей земли и отличными хозяйствами. Здесь есть семьи, обрабатывающие эту землю в течение всего последнего столетия.
Хмель убирали сезонные рабочие, которые приходили на работу на одни и те же фермы из года в год. Сейчас их место занимают машины. Две хмелеуборочные машины заменяют труд двадцати пяти семей сезонников, которые раньше во время отпуска занимались этой трудной, но хорошо оплачиваемой работой на свежем воздухе. Итак, уходит в прошлое еще одна традиция сельской жизни.
То же происходит и со сбором яблок. Раньше яблоки убирали вручную женщины; они же их сортировали и упаковывали. Сейчас машина забрасывает каждое яблоко в соответствующую ячейку навощенных коробок. Рука человека не дотрагивается до плодов до тех пор, пока домохозяйка не купит их в универсаме, расположенном в двенадцати тысячах миль от фермы. Мне сказали, что самое важное для фруктов — это размер и цвет. Вкус сейчас больше никого не интересует, но самое маленькое пятнышко на кожице вызывает целую бурю протестов со стороны покупателей. Для того чтобы получить такие безукоризненные яблоки, фермеры должны опылять сады раз шестнадцать за сезон. Деревья, очевидно, уже настолько пропитаны химикалиями, что выработали устойчивый иммунитет против вредителей. Ну, а каково влияние этих отравляющих веществ на почву, зверей, птиц, пчел, бабочек? Лишь весьма незначительная исследовательская работа проводится в этом направлении в Австралии.
По дороге мы остановились на ферме, на территории которой расположен большой фруктовый сад. Хозяин с помощью шестнадцатилетнего сына строил амбар для холодильной установки.
— Наш главный враг — это град, — сказал он.
Град в Австралии выпадает в совершенно определенных районах, которые можно обозначить на карте, так же как реки и горные хребты. Сад размещался как раз в таком районе. В прошлом году град уничтожил здесь половину урожая. Ученые изобрели ракету, которая способна развеять тучу, прежде чем град обрушится на землю. Однако мнения по поводу эффективности этого изобретения различны.
Узкая деревенская дорога, вьющаяся между холмов, живо напомнила мне Девон. Небольшие поляны, заросшие белым клевером; стада жирных белых овец; маленькие фермы, расположенные недалеко друг от друга, — ничего нет от тех огромных, пустынных просторов, которые так характерны для основного континента Австралии. На крутых склонах холмов, когда-то покрытых густыми лесами, сейчас растут редкие рощи эвкалиптов с розовато-серыми стволами. Их окружают ярко-желтые кустарники. Там и сям видны кучи опилок, оставленных дисковыми пилами, заготовлявшими доски для ящиков. Было время, когда в долине реки Хыоон росли великолепные сосны. Но их уничтожали настолько безжалостно, что сохранилось лишь несколько экземпляров, ставших музейной редкостью, такой же как и морские котики.
Большое количество эвкалиптовых лесов сохранилось в основном в западной части острова — диком, необитаемом крае, многие места которого вообще не исследованы. Пропасти там слишком обрывисты, вершины слишком остры, скалы слишком тверды, чтобы на них могли пастись даже овцы, а уж о культурных посевах и говорить не приходится. Большая часть этой территории так же неизведанна, как и в те дни, когда к этим берегам приплывал Тасман на судах «Хеемскэрк» и «Зехан».
Если в северо-западной части Тасмании широко развернулись работы по добыче полезных ископаемых, то в юго-западной не проложены даже дороги. Мало того что многие горные хребты поросли густым непроходимым лесом (ежегодное количество осадков в этом районе достигает ста дюймов), исследователь часто сталкивается здесь еще и с «горизонтальным скребом» — растительным покрытием, создавшимся из искареженных, упавших деревьев, переплетенных с кустарниками. Оно образует своеобразную платформу, подчас поднимающуюся до тридцати футов над землей, сверху поросшую мхом и вьющимися растениями и прогнившую снизу. Путешественник может идти, вернее карабкаться, по этому покрову, но рано или поздно он провалится в зеленую трясину, которая, как ловушка, сомкнется над ним. Считают, что бесследно исчезнувшие путешественники погибли именно так, словно пловцы, запутавшиеся в водорослях. Встречается там и скреб, образующий преграду из тонких ветвей высотой до двадцати футов, настолько крепкую и упругую, что ее не берет никакой топор. Перекатиться через этот скреб — единственный путь преодолеть его. Пройдя несколько сотен миль такой местности, оставив позади себя множество крутых скал, — если при этом останешься жив, — в конце концов доберешься до дикого каменистого побережья, о которое разбиваются яростные буруны. В этом богом забытом крае, где нет человеческих поселений, могли сохраниться даже тасманийские тигры — сумчатые параллели европейских волков — ростом примерно с восточноевропейскую овчарку с темными поперечными полосами на спине.
В прежние времена эти животные встречались часто, но когда они стали нападать на овец, тасманийских тигров начали преследовать. Выжили они сейчас или нет — мнения специалистов по этому поводу расходятся. Доктор Вильям Брайден, директор музея в Хобарте, отмечал все факты, которые можно было бы связать с появлением животного. За последние двенадцать лет их набралось двадцать девять, но некоторые, — а возможно и все — могли быть ошибочными.
Тасманийский тигр — животное ночное, живет в лесах, последний зарегистрированный экземпляр был убит в 1928 г. Экспедиция, направленная музеем несколько лет назад для обследования юго-западных отрогов, не обнаружила ни единого следа «тигра», несмотря на поставленные ее участниками многочисленные капканы. Старый бушмен по имени Морт Тернер, содержащий небольшой частный зоопарк и исходивший этот суровый край вдоль и поперек, говорил, что он в течение многих лет не встречал ни следов лап, ни брошенной добычи, ни помета. Так что и он выражал сомнения относительно существования «тигра». В то же время зоологи утверждают, что многие виды животных на континенте, которые считались утраченными, на деле сохранились и даже возрождаются.
На острове имеется ряд живых существ, более нигде не встречающихся, например горная креветка. Не более двух дюймов длиной, она водится в холодных озерах западных и центральных гор. Спинка у нее прямая, без горба. В озерах креветка зарывается в грязь. Считают, что она существовала еще в глубокой древности, до возникновения млекопитающих. Креветка исчезла тысячелетия назад, пока ее вновь не обнаружили в 1892 г. Это очень застенчивое существо, не то что тасманийский дьявол, напоминающий сумчатую дикую кошку. Его тоже можно встретить только в Тасмании. Согласно своей репутации, сумчатый дьявол (Sarcophilus harrisii)кровожаден, но здесь возможны и преувеличения. Натуралист Гарри Фрока описывал его как весьма робкое животное: «Если его схватишь, дьявол будет царапаться и кусаться, но стоит отпустить, как он убежит сломя голову».
Я видела, как Морт Тернер брал на руки дьявола в своем зоопарке, гладил его, и тот ластился в ответ. Мех животного густой и черный, по размеру оно представляет нечто среднее между большой кошкой и маленьким барсуком.
Четырнадцать видов тасманийских птиц также не встречаются на континенте. В это число входит четыре вида попугаев, два медососа, серовато-коричневый дрозд и лишенный оперения коростель, которого аборигены называют наседкой. Представители последнего вида встречаются редко, живут общинами по три-четы-ре взрослых птицы вместе с птенцами. Они совместно защищают свою территорию, строят гнезда, высиживают яйца и растят птенцов. Бывают случаи, когда в группе всего лишь одна самка. Тогда все самцы спариваются с ней и никогда не ссорятся, но если приближается чужак, то бросаются в бой.
Динго на остров не попали, а джентльмены старых времен, желающие потренировать своих собак на чем-то другом, кроме кенгуру, ввезли вместо лисиц оленей.
Мне показалось, что лица, занимающиеся вопросами охраны природы на острове, с большей уверенностью смотрят в будущее, чем их коллеги в любом другом штате страны. Это происходит потому, что Тасмания не перенаселена. Есть здесь еще жизненное пространство для кенгуру, валлаби и других сумчатых, а Отдел по охране зверей и птиц проводит весьма жесткую политику. Члены Совета, в число которых входят и охотники, заинтересованы в сохранении запасов дичи на будущее. Они разбили животных на три категории. В первую включены те, на которых охота разрешена; во вторую — разрешена частично и в третью — запрещена. По своему усмотрению они могут переводить отдельные виды из одной категории в другую. Таким образом, по их мнению, был спасен куриный гусь. Несмотря на разрешение охотиться на черных лебедей по субботам и воскресеньям, число их, сократившееся до каких-то жалких двух тысяч, в 1964 г. было значительно увеличено.
С согласия правительства члены Совета могут объявлять определенные участки заповедниками. В настоящее время одна двадцать пятая территории острова представляет собой заповедник.
Если удастся получить согласие правительства на выделение одного миллиона акров земель дикого юго-запада под заповедники для проведения экологического эксперимента по возрождению животных, Тасмания, по мнению доктора Гуилера, будет иметь один из лучших в мире институтов по охране природы. Но пока финансовые возможности центрального правительства весьма ограниченны, и ежегодные субсидии Тасмании — не более чем подачки.
Тасмания проводит также прогрессивную политику по отношению к национальным паркам, которые не стоит путать с заповедниками. Первые законы штата, охраняющие природу, относятся еще к 1915 г. Это произошло задолго до того, как у остальной Австралии открылись глаза. Отдел по охране природы берет под свою защиту и объекты, представляющие исторический интерес, такие, как Порт-Артур, а также ряд старых зданий. Его работу в этой области можно сравнить с деятельностью Национального фонда Великобритании. В Тасмании создан свой Национальный фонд, но он не контролируется и не финансируется государством. Имеется восемь крупных национальных парков с общей территорией, занимающей около трех с половиной процентов всей площади острова.
Эти парки действительно принадлежат нации, так как правительство имеет право устанавливать порядок и правила поведения посетителей и не допускать на территорию парков земледельцев и их скот. Однако это не всегда удается. Трудно контролировать великое множество всевозможных туристов. Поэтому пожары — постоянная угроза для национальных парков.
Особенно трудно бороться с постоянно растущими требованиями о строительстве дорог, хижин, кемпингов и других сооружений для удобства все возрастающего потока туристов. Туристские автобусы повсюду — на смотровых площадках, у дорожных кафе, на серпантинах дорог. Большинство посетителей возвращается на континент (более плоский, более коричневый, более суровый и значительно более населенный) вне себя от восторга. Диссонансом прозвучали впечатления двух пожилых вдов из Сиднея, которых я встретила в Алис-Спрингс. Мне было интересно узнать причину подобного недовольства.
— Вы не поверите, — сказали они, — в течение трех недель двадцать девять человек ни разу не спели ни одной песни.
В долине Флорентин, к северо-западу от Хобарта, вверх по реке Деруэнт растет один из прекраснейших эвкалиптовых лесов, еще сохранившихся на нашей земле. Крупнейшее из деревьев — болотный эвкалипт (Eucalyptus regnans)сохранился в этом районе в больших количествах, чем где-либо еще. Это были национальные парки, сохраняемые, казалось, на вечные времена. Но в наши дни их спиливают на древесину для газетной бумаги. Падают горные гиганты, достигавшие более чем триста футов в вышину, высокие, как купол собора Святого Павла. Их древесная масса будет в основном, без сомнения, использована на добрые дела, но в то же время часть ее превратится в странички юмора, панегирики прохладительным напиткам, найлону и коврам, плоские политические статейки, отчеты об убийствах, насилии, воровстве, извращениях и спортивных достижениях и закончит свою жизнь кучами мусора на грязных улицах. Естественно, всему этому есть экономическое объяснение, и, как утверждают, природа в конечном итоге восстановит деревья.
Концессии газетной компании занимают почти четверть миллиона акров, площадь, равную половине территории всех национальных парков Тасмании. Компания прокладывает дороги, бережет леса от пожара, платит высокую арендную плату и принимает меры, чтобы природа заменила те деревья, которые по ее указанию спиливают.
Здесь не надо высаживать саженцы, выращенные в питомниках; просто сжигают все, что осталось после работы лесорубов, разбрасывают семена в пепел и оставляют на волю природы. Вскоре склоны холмов краснеют от листвы молодых деревьев, которые ежегодно становятся выше на рост человека. Через тридцать лет дерево готово для порубки. Так что мы никогда больше не увидим столетних гигантов в этом районе, который, конечно, не охватывает — во всяком случае в настоящее время — всей области распространения данного вида.
Несколько деревьев оставлено напоказ. Самое высокое дерево в Южном полушарии, а возможно и вообще в мире, поднимается над основанием из опавших листьев на высоту в триста двадцать два фута. В окружности оно составляет 42 фута, т. е. почти в два раза длиннее вельбота, плавая на котором Джордж Басс открыл пролив, названный его именем. Семя этого эвкалипта дало ростки еще до того, как Елизавета I взошла на английский трон[76]. А всего один человек может спилить его, да и спиливает почти такие же за очень короткий срок. Все механизировано, уже не слышно стука топоров и криков, нет и лагерей лесорубов без всяких удобств. Мы проехали сквозь огромную фабрику, перерабатывающую древесину и выпускающую почти одну треть всей бумаги, необходимой для газет Австралии. Деревья для нее рубят восемнадцать человек. На каждого лесоруба приходится тринадцать-четырнадцать подсобных рабочих. Примерно пятнадцать лет назад компания нанимала их в три раза больше, а спиливали они одну треть того количества деревьев, которое валят в наши дни. Рабочие со своими семьями живут в современных домах в аккуратном поселке, где есть все, включая школу. К поселку проведены хорошие дороги. По ним можно проехать на рыбалку в воскресенье к рекам, где водится форель, или в кинотеатр в Хобарте. Во время работы водители машин удобно сидят в своих кабинах, нажимая на рычаги и кнопки. Навсегда исчез мускулистый, ведущий нелегкий образ жизни, любящий крепко выпить и ловко владеющий топором лесоруб.
На берегу реки Стикс мы вскипятили воду в походном котелке и заварили чай, соблюдая традиционный ритуал. Сначала собираешь хворост, разжигаешь огонь, подвешиваешь над ним жестяной, покрытый копотью котелок и доводишь воду до кипения. Потом снимаешь котелок с огня, добавляешь горсть чайных листьев и раскачиваешь его за ручку, давая листьям осесть. Теперь уже можно налить коричневую, пахнущую дымком жидкость в кружку. Принести термос было бы проще и быстрее, но тогда не получишь от чая никакого удовольствия. И потом приготовление чая — одна из немногих сохранившихся традиций первопроходцев. Кроме всего прочего вкус у заваренного таким образом напитка совершенно иной. Затушив костер, необходимо тщательно затоптать пепел, всегда помня о возможности пожара.
Река Стикс, торфяно-коричневая, как шотландский ручей, нежно журчит между покрытыми мхом скалами и над гладкими валунами. Дороги окаймлены желтой полосой цветов S. linearifolius, таких же высоких, как болиголов, которые местные жители называют огненным цветком, так как появляется он после пожара. Часто встречается древовидный папоротник. Имеется много эвкалиптов и несколько видов так называемой перечной мяты со сладкопахнущими листьями. Эвкалипты, в течений всего года сбрасывающие кору длинными свободно раскачивающимися полосами, похожими на старые обои, выглядят не особенно эстетично для тех, кто привык к деревьям, меняющим листву. Но когда к ним привыкнешь, то получаешь большое удовольствие от нежных теплых тонов молодой коры, появляющейся в то время, как сходит старая. Стволы эвкалиптов, подверженных периодическому сбрасыванию коры, всегда частично обновлены. Сброшенная кора образует упругий ковер вокруг основания дерева и постоянно обогащает почву перегноем. Это звено в сбалансированной экологической системе нарушается лишь пилой лесоруба.
Над берегами Стикса стоит мирная тишина. Птиц немного, возможно, они просто отдыхают, не слышно даже пронзительного крика попугая. Животные здесь ведут ночной образ жизни. Лесники относятся к ним враждебно, так как валлаби, например, объедают побеги молодых деревьев. В районе концессии около трех тысяч валлаби ежегодно попадают в ловушки. Становится меньше и бандикутов, питающихся в основном насекомыми. В этих лесах люди не живут, и, очевидно, так было всегда. Аборигены остерегались холодных, влажных, высоко расположенных мест.
К северу и западу лежит национальный парк Маунт-Филд, где можно покататься на лыжах; здесь имеется школа альпинистов. Эта часть Тасмании остается до сих пор нетронутой. Как долго так будет продолжаться? Ведь ни слова, ни надежды не смогли сдержать натиск людей, вооруженных техникой и желающих заменить дикую природу на фермы и пастбища.
Между Лонсестоном и Хобартом почти строго с севера на юг на протяжении ста двадцати трех миль пролегает шоссе, которое было открыто для проезда в 1821 г. Старая дорога с течением времени зарастает и придает местности ухоженный спокойный вид. Породистый скот пасется на пастбищах, вдоль которых высажены тополя; молодые посадки тщательно огорожены. Поражает количество прочных каменных фермерских домов позднего грегорианского стиля. Кое-где около них стоят большие амбары из желтоватого камня, построенные заключенными на земле, пожалованной офицерам или младшим сыновьям английских помещиков, имевшим возможность получить участки до двух тысяч акров. Иногда несколько семей объединялись и владели землями, примыкавшими друг к другу. В результате вырастали поместья, занимавшие до десяти-двенадцати тысяч акров. Если учесть, что фермеры могли нанимать столько заключенных, сколько им было угодно, и практически бесплатно, а также то, что цены на шерсть росли, то только карты, обычный порок тех времен, становились препятствием на пути к тому, чтобы сколотить большое состояние. Многие этого добивались.
Проезжая по шоссе, вы встречаете английские названия: Бриджуотер, Мелтон-Моубрей Отлендс, Росс, встречаются и шотландские — Пер и Кэмпбелтаун. Влияние Востока сказывается в таких наименованиях, как Бангалур и Багдад. Окруженные деревьями особняки сохраняют благородство грегорианских линий уже в течение двенадцати лет, после того как викторианский суетливый стиль прочно установился в Англии.
Хотя многие из особняков были перестроены или разрушены, сохранившиеся служат доказательством успеха строителей, стремившихся воссоздать стиль английских поместий среди эвкалиптов. Какие же мы все-таки сентиментальные, вечно оглядывающиеся назад, тоскующие по родным берегам люди! Никому и в голову не пришло строить здесь по-новому, по-австралийски. В большинстве загородных домов даже не допускалась мысль о веранде. Самым известным архитектором Тасмании остается заключенный Джеймс Блэкберн, как и Фрэнсис Гринуэй, строивший прочные церкви на солидный английский лад. И все, или почти все, особняки носили английские имена: Роуз-Маунт, Лонг-Форд, Роук-бай-Хауз. Если же названия не были англосаксонского происхождения, то по крайней мере имели европейские корни, как Киллимун, или Мона-Вейл.
Мона-Вейл — фантастическая постройка 1868 г. с тремястами шестьюдесятью пятью окнами, пятьюдесятью двумя комнатами, двенадцатью трубами и семью входами. В наши дни здание вполне можно использовать для приема коронованных особ. В некоторых домах даже есть свои привидения. Жильцы Роукбай-Хауза, расположенного между Кэмпбелтауном и Кресси, утверждают, хотя я и не могу за это поручиться, что в определенное время слышат звон разбивающегося стекла, который воскрешает память о дворецком, уронившем поднос в тот миг, когда его настиг нож убийцы. И даже этот призрак — английский. Вспоминая о нем, сразу представляешь себе сверкающее серебро в буфетной, чаепитие в комнате экономки и послеобеденный портвейн.
В Россе, к югу от Кэмпбелтауна, шоссе пересекает реку Макквери и проходит по одному из самых прелестных небольших мостов, которые я когда-либо видела. Это простая каменная арка, переброшенная через сравнительно небольшую реку, спроектированная помещиком и построенная в 1839 г. заключенными. Двое из них высекли на серовато-желтом камне, поставленном над аркой, огромное множество животных, человеческих лиц и всякого рода традиционных символов. Имена их оставались неизвестными до недавнего времени, пока архитектор Рой Смит не выяснил, что это были Джеймс Колбек, осужденный за ограбление, и Даниэль Херберт, мастер по вывескам. Кроме того, что оба они в награду за свою работу были амнистированы, ничего более узнать о них не удалось.
Заключенные работали в камне, современные же мастера избрали менее долговечный материал — кустарник. К югу от Росса в Сейнт Питер Пассе дорожный мастер создал из кустов вдоль шоссе целый зоопарк.
Вы мчитесь мимо баранов с закрученными рогами, присевших на хвост кроликов, слонов, собак, свиней, кенгуру, эму, наседки, утки, припавшей к земле. Кустарник вдоль шоссе подстрижен таким образом, что воссоздает все виды птиц и зверей. Местный муниципалитет задал хорошую взбучку художнику за пустую трату денег налогоплательщиков, но тут вмешался отдел по туризму. Дорожного мастера теперь не только поощряют в его увлечении, но ему подарили даже пару серебряных ножниц.
Это овцеводческий край — пустоватые холмистые равнины, рыжевато-коричневые и сухие, похожие на степи Африки. Земля здесь не щедрая: осадков выпадает мало, воды не хватает, стад не так уж много, но качество шерсти высокое.
Вечером мы подъехали к морю, окаймленному пеной прибоя. Оно начинается сразу за солончаками у устья реки Скамандер. Кобальт моря контрастирует с равниной цвета граната и сердолика. Во время прогулки мягкий, насыщенный мелким дождиком ветер принес запахи болота, напоминавшие мне о прячущихся в темных листьях цветах вереска, чей аромат и сладок и меланхоличен. Мы прошли мимо деревянного с проржавевшей крышей сарая, где мужчина в старой фетровой шляпе доил грязных коров, и поднялись на холм посмотреть на опаловые от вечернего тумана равнины… Овцы, эвкалипты и тишина… Даже птицы молчали. У реки сидел молчаливый человек с удочкой. Его неподвижное лицо под соломенной шляпой казалось вырезанным из дерева.
Лонсестон — еще один из типичных австралийских городков. Повсюду чувствуется викторианское влияние. Здания с перемежающимися рядами кремового и красного цвета, похожие на неаполитанское мороженое; со своенравно заостренными крышами, орнаментальными оборками и завитками; балконы, богато украшенные фигурным литьем; странные башенки, многоцветная плитка, тяжелые колоннады и двери в глубине ниш, пальмы в кадках, стоящие в темных холлах. Узкие улицы заполнены народом.
Первоначально город был построен в грегорианском стиле. Затем пришло время «золотой лихорадки» 60-х годов, потом «оловянной лихорадки» в районе горы Бишоф. Люди богатели и перестраивали города северного побережья на свой манер.
В наши дни в Лонсестоне мало что осталось от его прежней симметрии, но в пригородах сохранились грегорианские поместья, изученные и описанные одним врачом-фотографом, любителем старины, которые, кажется, вообще характерны для Австралии. Жители Лонсестона — доктор Клиффорд Крейг, видный невропатолог, и его жена Эдит не отстают от доктора Граеме Робертсона из Мельбурна. Они описали в своей отличной книге «Города Северной Тасмании раннего периода» около трехсот старых зданий, представляющих, с их точки зрения, интерес. С помощью преданных коллег супруги Крейг создали также Национальный фонд Тасмании, который пытается при наличии небольших возможностей спасти здания, гибнущие как от отсутствия заботы о них, так и от новых веяний.
Крейги показали мне Франклин-Хауз и Инталли. Первое здание находится под охраной Национального фонда, а второе — Отдела по охране природы. Франклин-Хауз был построен подрядчиком-спекулянтом, разрекламировавшим его для продажи в 1839 г. как «резиденцию для благородной семьи», расположенную на автобусном маршруте («кареты проезжают ежедневно»). Дом небольшой, в грегорианском стиле, простой, без претензий, с великолепными пропорциями. На первом этаже большая гостиная, где висят несколько отличных французских эстампов тасманийских пейзажей 1841 г. Мебель того же периода собрана супругами Крейг как в Тасмании, так и в Англии. Превосходные двери, окна, ставни изготовлены из кедра Нового Южного Уэльса, единственного представителя данного вида в Австралии, в наши дни совершенно исчезнувшего. И все это было сделано руками заключенных. Поистине Англия экспортировала в кандалах многих своих лучших художников.
Инталли более претенциозен. Начало строительству здания было положено в 1820 г. богатым поселенцем из Сиднея Томасом Рейби. История семьи Рейби напоминает сценарий приключенческого фильма и начинается с судебного приговора, поразительного даже для английского уголовного кодекса XVIII в. В 1792 г. Мэри Хейдок, дочь морского офицера в отставке из Йоркшира, в возрасте тринадцати лет приговорили к пожизненной ссылке в Австралию за кражу лошади. Девочка взяла соседского жеребенка покататься, так же как современные подростки уводят на время чужую машину, с той разницей, что машину могут просто бросить в кювете, в то время как девочка вернула жеребенка живым и здоровым. Молодой лейтенант, сопровождавший судно с каторжниками, заметил девочку и понял, что она не была ни проституткой, ни закоренелой преступницей. Он решил ей помочь и по прибытии в Сидней устроил на работу у своих друзей. Через два года лейтенант вернулся, чтобы жениться на Мэри. Это был Томас Рейби старший.
Томас и Мэри Рейби начали прибыльное дело, торгуя шкурками морского котика, китовым жиром и другими товарами. У них родилось семь детей. В 1811 г. перед смертью капитана Томаса Рейби (он умер в возрасте всего лишь тридцати шести лет), они построили в Сиднее Инталли-Холл. В 1818 г. старший сын Рейби получил участок земли вблизи Лонсестона, обосновался там и построил новый вариант Инталли на Земле Ван-Димена. Его старший сын, третий Томас, посвятил себя церкви, став архидьяконом Лонсестона. Затем в течение короткого времени он был премьер-министром штата и в конце концов стал спикером Законодательного совета. Томас жил в Инталли в роскоши, разводил скаковых лошадей, держал охотничьих собак и охотился за ручными оленями с лентами на шее. Этот последний в своем роду Рейби умер в 1912 г.
Если в моем рассказе получилось так, что люди прошлого и их дела вытеснили здесь современных, то это тоже вносит свою лепту в повествование о Тасмании. Создается впечатление, что тасманийцы в большей степени, чем жители других штатов, осознают свою историю и уважают традиции. А теперь история и традиции служат для привлечения туристов, а туризм, в свою очередь, повышает благосостояние острова.
По стандартам континента фермы небольших размеров интенсивно культивируются. Проезжая после захода солнца по благословенному, хорошо орошаемому северному побережью между Лонсестоном и Девонпортом, мы видели на склонах холмов мигающие огоньки— тракторы работают круглосуточно, убирая зеленый горошек и доставляя его на молотилки, расположенные близко к шоссе, где организована механизированная очистка и лущение. Горошек отправляется дальше для консервирования, а стебли возвращаются к фермеру, чтобы превратиться в силос для скота. Все механизировано, поставлено на конвейер, и, с моей точки зрения, люди работают квалифицированно.
Все эти небольшие портовые города выглядят процветающими. На улицах много людей, а в магазинах покупателей. Вечерами девушки в плотно облегающих фигуру джинсах прогуливаются со своими парнями; женщины с детскими колясками разглядывают витрины; в открытые двери баров видны мужские спины без пиджаков; мостовые захламлены коробками из-под сигарет и обертками от конфет. Улицы с ярко освещенными витринами магазинов постепенно переходят в сумрачный портовый район. На фоне неба резко очерчены силуэты кораблей, доносится свежий запах моря…
На следующий день самолет уже проносит меня над морем, которое сверху выглядит весьма невинным, и менее чем за полчаса пересекает пролив, где в прошлом стольких мореплавателей трепал шторм, где они терпели кораблекрушения, погибали или с трудом находили спасение. Слишком банально сравнивать быстроту, безопасность, удобства и комфорт, которыми пользуются современные авиапассажиры, с трудностями и опасностями, которые их предшественники испытывали во времена путешествий на парусниках. Но в то мгновение, когда вы, удобно устроившись в кресле, совершаете скачок через Бассов пролив, уделите минуту воспоминанию о молодом хирурге из Линкольншира, чьим именем названа эта бурная частичка моря. Джордж Басс был первым, кто понял, что Земля Ван-Димена — остров, а не соединенный с континентом мыс, как тогда утверждали. В конце 1797 г. он отправился из Сиднея с шестью членами команды на китобойной лодке длиной в двадцать восемь футов доказывать свою правоту.
Штормы пригнали лодку обратно к побережью континента в еще не исследованной его части, и они почти достигли того места, где сейчас располагается Мельбурн, но отсутствие провизии заставило путешественников вернуться в Сидней. Губернатор Хантер назвал пролив именем Басса, отдавая дань, по словам Мэттью Флиндерса, крайним опасностям и тяготам, которые путешественник претерпел, первым войдя в пролив на китобойной лодке. По пути Джордж Басс открыл мыс Вильсона, самую южную точку Австралии и Великого Водораздельного хребта, протянувшегося огромным полумесяцем на три тысячи миль от Кейп-йорка до южного полуострова.
Девять месяцев спустя на небольшом шлюпе «Норфолк» тоннажем всего в двадцать пять тонн с командой в составе восьми человек под командованием своего старого друга — Мэттью Флиндерса, Басс отправился доказывать островное происхождение Тасмании, намереваясь проплыть вокруг нее. Таким образом, Басс и Флиндерс стали первыми мореплавателями, обогнувшими Тасманию. Во время плавания они обнаружили устье реки Теймар и назвали его Порт-Далримпл. На этом месте сейчас стоит Лонсестон.
В то время Флиндерсу было только двадцать четыре года, а Бассу на три больше. Но жить ему оставалось совсем мало. Получив инвалидность с определением «не годен к дальнейшему прохождению службы», вынужденный существовать на половину оклада, Басс, однако, не успокоился. Он был слишком предприимчивым молодым человеком, чтобы позволить плохому здоровью положить конец его приключениям. В Лондоне вместе с группой товарищей он покупает бриг, нагрузив его товарами, плывет в Сидней, чтобы сделать состояние в Австралийской колонии. Они предполагали, что товары легко найдут там сбыт. Но продать их оказалось невозможно. Тогда Басс отправился в район Южных морей, закупил там свинину, засолил ее и продал гарнизону Нового Южного Уэльса.
Последнее путешествие, предпринятое Бассом, было в Южную Америку, где он собирался торговать с индейцами, привезти обратно альпака и гуанако[77], чтобы скрестить их с мериносами, уже доставленными в Сидней из Кейптауна. В феврале 1803 г. бриг «Венус» покинул Сидней. Басс направлялся в испанские колонии. Достоверно больше о нем ничего не известно. Ходили слухи, что он попал в плен к испанцам и те отправили его на перуанские серебряные прииски. Биограф же Басса считает более вероятным гибель «Венуса» со всем экипажем в море.
За свою короткую жизнь Басс совершил и другие открытия, помимо установления островного характера Тасмании. Он обнаружил уголь к югу от Сиднея, описал анатомию вомбата, так как первым анатомировал его. О существовании вомбатов узнали от моряков, потерпевших кораблекрушение у острова Презервейшн. Одного вомбата привезли в Сидней незадолго до поездки Басса на острова в 1798 г.
Басс принадлежал к людям, положившим начало Австралии и во многом определившим ход ее развития.
Такие моряки — искатели приключений, как Басс, не только открыли континент, но и первыми исследовали его, управляли им, защищали и положили начало новому государству. Первым и самым крупным из них был капитан Дж. Кук, затем капитан Артур Филлип, который стал здесь первым губернатором. За ним следовали губернаторы Хантер, Кинг, Блай — все офицеры британского военно-морского флота. Я уже не говорю о таких мореплавателях, как Флиндерс, Джон Хейс, капитан Джеймс Келли. Если они и не были офицерами военноморского флота, то принадлежали к морской пехоте, как, например, Коллинз и Артур.
Память о британском военно-морском флоте живет в Австралии в названиях островов, мысов, проливов. Капитан Кук открыл такое их количество, что ему не хватило имен даже самых младших по чину офицеров, и он назвал один из островов Большого Барьерного рифа именем своего виноторговца — Линдермана. Более того, память о флоте живет в сердцах и душах австралийцев. Поэтому так тяжело пережили они постигшее их разочарование, когда щит, защищавшей континент в течение полутора столетий, был разбит в дни падения Сингапура. И не королевский флот, а Соединенные Штаты вступили в бой с новыми силами Азии в битве в Коралловом море. Глава, начавшаяся приходом корабля Кука «Индевр» в Ботани-Бей, закончилась гибелью «Рипальса» и «Принца Уэльского» у берегов Малайи.
Перт
В большинстве городов реки — либо транспортные магистрали, либо канализационные каналы. Перт — единственный современный город, который я могу припомнить, где река — украшение города, как, очевидно, когда-то обстояло дело в Венеции. Река Суон пересекает весь город. Через нее перекинуто несколько мостов. Днем она сверкает на солнце, а ночью отражает мириады звезд. Однажды вечером я проезжала по одному из мостов и была потрясена драматическим сочетанием цветов: полосы багрового и оранжевого, пересекающие небо, отражались в водах реки ожерельем городских огней. Очарованная, я буквально задохнулась от восторга, тогда как водитель такси лишь бросил взгляд и равнодушно махнул рукой:
— А, это у нас вместо заката.
Старая часть города, где расположено много красивых зданий в викторианском стиле, отвернулась от реки. Можно пройти по шумным улицам и даже не заметить ее присутствия. Но стоит свернуть в сторону, как перед вами откроется голубая ширь с зелеными берегами, покрытыми травой и деревьями. Воздух чист, прозрачен, и вас охватывает чувство веселья и радости, столь редкое в городах. Этому способствует как средиземноморский климат, так и, частично, то обстоятельство, что все заводы тяжелой промышленности выведены в город-спутник Куинана.
Первым таким предприятием, переехавшим в город-спутник, был огромный нефтеочистительный завод, за ним последовали металлургический, цементный, завод по производству удобрений. Часть их — крупнейшие в Южном полушарии. Город-спутник производит потрясающее впечатление — огромный индустриальный комплекс, который был заложен на пустом месте всего лишь четырнадцать лет назад. С моей точки зрения, одной из наиболее привлекательных сторон этого города является то, что он оттянул из столицы дым, копоть, шум и вообще все то уродство, которое неизбежно сопутствует промышленности. Куинана дал возможность Перту стать городом-садом и сохранить воздух чистым и свежим. И как это великолепно! Белые здания остаются белыми, небеса и река голубыми, аромат цветов и деревьев не глушат испарения промышленных махин. Воздух словно звенит от счастья.
Над северным берегом реки возвышаются современные башни из стекла и бетона. Выглядят они здесь как-то очень к месту. С их вершин открывается изумительный вид на город, вьющуюся реку и ее долины. На территории в тысячу акров расположен парк, частью которого является ботанический сад. Находясь в нем, вы чувствуете себя в сотнях миль от всего городского, так как природа, животные и птицы сохранены в своем естественном виде. За время короткой прогулки среди эвкалиптов я видела зеленых, голубых и желтых попугайчиков; медососа, ныряющего в цветок; желтохвостую птицу-носорога; славок, крапивников и по крайней мере еще с десяток представителей других видов. И все это — лишь за каких-нибудь полчаса!
К югу от реки Суон простирается собственно Перт — весь в кипении цветов и зелени. Это поистине город садов, вьющихся растений и субтропических кустарников. Цвели олеандры, полыхали бугенвилии; дурманящий аромат исходил от красного жасмина. Вряд ли нашелся бы здесь хоть один дом без цветочной клумбы — циний, бегоний, астр, шалфея. Огромные клумбы голубых и розовых гортензий, неистовствующих африканских лилий, георгинов величиной с тарелку, вьющегося дурмана и вьюнка пурпурного. И повсюду розы. Разбрызгиватели крутятся день и ночь, недостатка в воде нет. Вероятно, и в этом городе есть люди, которые не любят сады или хотя бы равнодушно к ним относятся, но их давно поглотили садоводы-любители. Очевидно, бывают дни, когда идет холодный дождь и дует ветер, когда река перестает сверкать, с деревьев капает, все пребывают в плохом настроении. Но я была здесь летом, когда сияло солнце, сады стояли в цвету, все радовало глаз, а жители Перта, во всяком случае на первый взгляд, казалось, все пребывали в хорошем настроении. Без сомнения, Перт обладает всем необходимым для города. Он насчитывает более полумиллиона жителей, как раз то количество, которое дает городу возможность перерасти провинциализм, но не терять своей индивидуальности. В этом городе еще можно проехать на машине и найти место для стоянки.
В течение многих лет жители Восточной Австралии презирали своих западных соседей. Последние были отрезаны от остального материка тысячами миль пустыни, и большинство австралийцев не знало и знать не хотело о том, что происходит в Перте. Назначение в Перт воспринималось как ссылка. Огромный, малоразвитый штат мучился от недостатка капиталовложений. Что-то от этого прежнего отношения осталось еще и сейчас. Когда я отметила отличное состояние дороги, по которой мы проезжали, мой спутник сказал:
— Проклятые деньги викторианцев. — Потом рассмеялся и добавил: — Никому не нравится жить подачками.
Политическая история Западной Австралии — это серия попыток держаться подальше от федерации, выйти из ее состава и организовать самостоятельное государство внутри того, что в те дни входило в состав Британской империи.
Но это все в прошлом. Не то чтобы западные австралийцы полюбили восточных или даже стали к ним просто прилично относиться. Нет. Дело в том, что Западная Австралия заняла достойное место в стране. Для этого есть много причин, среди которых надо выделить три.
Первая — Австралия перестала быть окраиной Европы, колонией на другом конце света, а возродилась как крупная держава. Когда-то ее отделяло от цивилизованных центров две с половиной тысячи миль, сейчас же она приблизилась к ним ровно на столько же. Ближе к рынкам, в первую очередь к большим и растущим рынкам Азии. Одно это уже притягивает на запад страны капитал, промышленность и рабочие руки. На улицах Перта много лиц азиатского происхождения, часто видишь их в университете[78].
Вторая причина состоит в том, что на Западе, в этой суровой и ненаселенной земле, были открыты богатейшие залежи железной руды и бокситов. Причем богатейшие не только с точки зрения Южного полушария, но и всего мира. Открытие это совпало с развитием техники, что дало возможность их разработки с минимальными затратами. Западная Австралия вот-вот взорвется в экономическом буме и направит струю своих минеральных богатств в Азию.
Третью причину труднее выразить, но в какой-то степени она служит катализатором двух первых. В течение многих лет наиболее способных жителей Западной Австралии сманивали на восток и за границу. Теперь положение изменилось. Население выросло здесь достаточно для того, чтобы взрастить собственные технические и культурные силы и удержать своих талантливых сыновей и дочерей. Нет необходимости эмигрировать в Мельбурн или Аделаиду, Нью-Йорк или Лондон, для того чтобы создать себе имя или капитал. Чувство собственного достоинства характерно для всех австралийцев Запада, от профессоров до поваров на скотоводческих станциях.
Приезжают иммигранты, но их недостаточно. Западная Австралия нуждается в большом их числе. Для приема иммигрантов в Перте имеется два общежития. Одно принадлежит центральному правительству, другое — штату. Последнее принимает только англичан, большинство которых прибывает самолетами и находит работу в течение двух-трех дней. В общежитии может разместиться около пятисот человек. В день, когда я его посетила, было занято только семьдесят мест. Это своеобразный перевалочный пункт, где обычно останавливаются на шесть-восемь недель. В общежитии, принадлежащем центральному правительству, можно жить в течение двух лет.
В Перте не так остро, как в других городах, ощущается нехватка жилья. Я спросила одного токаря — молодого англичанина, о причинах, заставивших его переехать в Австралию.
— Англия перенаселена, — ответил он. — Живем на головах друг у друга. Кругом машины, дома, природы совсем не осталось. У нас два сына. Что будет со страной к тому времени, когда они вырастут? А здесь открыты и простор, и широкие возможности.
Я слышала, как один австралиец с Запада сказал:
— В какую бы сторону я ни повернул, могу идти тысячи миль и все равно останусь в своей стране.
Симпатичная девушка из Лиды с малышом на руках заметила:
— Англия мертва. До сорока лет там невозможно чего-либо добиться. Мой муж плотник. Он закончил вечернюю школу и хочет начать свое дело. Дома такой возможности нет, особенно если вас никто не поддерживает. А здесь у меня брат в Сиднее. Так вот он накопил много денег, работая в мастерской по ремонту радиоприемников.
Но, конечно, не все иммигранты довольны.
— Зарплата совсем не та, на которую мы рассчитывали, — заявила женщина из Бристоля. — Моему мужу не платят сверхурочные. Нам здесь хуже, чем дома, и совсем нет работы для женщин. Квартплата очень высока. И они здесь считают, что мы должны экономить. А на чем?
Австралийцы со своей стороны критикуют ту точку зрения, что какие-то мифические «они» должны предоставлять англичанам дома, субсидировать квартплату, выдавать детям бесплатные учебники, форму и питание в школах. Короче, получается, что «они» должны организовать жизнь англичан на таком же уровне, к какому те привыкли в государстве «всеобщего благосостояния». Австралийские «они» не такие уж щедрые благодетели. В Австралии «они» не предоставляют дом, его следует купить или построить самим. А это трудно понять англичанам, привыкшим к квартирам, предоставляемым муниципалитетом.
Официальные лица, занимающиеся вопросами иммиграции, утверждают, что существующие в Австралии законы разъясняются всем иммигрантам, получающим субсидию для переезда. Несмотря на это, многие иммигранты не могут отрешиться от прежнего восприятия действительности. Что бы им ни говорили, они верят, что должны быть те самые «они», которые предоставят дом в аренду.
В каждом штате имеется комиссия по жилищным вопросам. Она строит сравнительно дешевые жилые дома, часть которых сдает в аренду, а некоторые продает по себестоимости. В этом случае арендатор, а не комиссия, должен заботиться о доме. Если течет кран, ему следует самому поставить прокладку, а не звонить по этому поводу в муниципалитет.
Количество жилой площади, предоставляемой комиссиями, по сравнению с той, что построена и продана частными компаниями, недостаточно; список ожидающих велик. В результате большинство иммигрантов вынуждены платить значительно более высокую квартплату, чем та, к которой они привыкли. А это, естественно, вызывает недовольство.
Общежития, принадлежащие как штату, так и центральному правительству, подвергаются острой критике. Большинство из них — это бывшие армейские бараки малопривлекательного вида. Каждой семье выделяется квартира соответствующей площади, достаточно просторная. Все те, которые я видела, были чистые. Территория содержится в порядке. Администрация общежитий относится к работе добросовестно и с интересом, всегда готова оказать жильцам помощь. Тем не менее семейным людям, особенно женщинам, не нравится жизнь в своего рода коммунальной квартире. Жильцы должны пользоваться общими душами и питаться в столовой. Завтраки, обеды и ужины показались мне достаточно обильными и умело приготовленными, но все это все равно было каким-то казенным. Посетители сидели за маленькими столиками, а не за общим длинным столом. Администрация столовых старается сделать помещения более уютными. Стены здесь окрашены свежей краской и украшены искусственными цветами. И все же женщинам хотелось бы пожарить свой кусок рыбы на своей сковородке и сварить свою картошку по своему вкусу. Кое-кто из них покупает электрические сковороды — что запрещено — и готовит тайком. На это в большинстве случаев администрация закрывает глаза.
Но общежитие в конце концов и не предлагается как постоянное жилье. Одни семьи остаются в нем не больше чем на пару недель, другие — на более продолжительное время. Длительность пребывания в общежитии в разных штатах варьируется. Так, в Новом Южном Уэльсе в общежитиях, принадлежащих федеральному правительству, средняя продолжительность проживания около года (без трех недель). В Южной Австралии — четырнадцать недель. Западная Австралия занимает среднее место — около двадцати восьми недель.
Найти дом или закупить материалы для постройки трудно по всей стране. Если бы общежития были более комфортабельными, многие семьи устроились бы в них и не предпринимали серьезных усилий, чтобы преодолеть трудности. Есть семьи, которые так и поступают. Общежития субсидируются государством, жильцы живут на всем готовом, забот мало. Поэтому они зачастую устанавливают телевизор, ставят свою машину около барака и обосновываются здесь. Видимо, необходимо найти какую-то золотую середину между условиями, обеспечивающими уровень ниже стандартного, но считающимися вполне приличными, и теми, которые располагают к беззаботной и бездеятельной жизни.
По грубому подсчету двое из трех иммигрантов, которым оказывается помощь при переезде, даже не приближаются к общежитиям. Им помогают друзья или родственники. Что касается официальной процедуры въезда в страну, то такого рода иммигранты заполняют необходимые документы, получают причитающиеся им двадцать долларов, садятся на самолет или теплоход и растекаются по стране.
Более миллиона английских иммигрантов приехало в Австралию после второй мировой войны. Общее же их количество в два раза больше. Удельный вес англичан уверенно растет и сейчас достиг уровня семи человек на каждые десять. Из остающихся трех — один грек, итальянец, голландец или немец.
Подавляющему большинству английских иммигрантов Австралия нравится: они остаются в стране. Согласно официальным данным, только шестеро из каждой сотни иммигрантов всех национальностей возвращаются на родину, а около половины из них приезжают вновь, разочарованные вдвойне и вынужденные на этот раз оплатить свой проезд самостоятельно. Всего лишь три процента неудач говорят о том, что система иммиграции, действующая в Австралии, организована лучше, чем в других странах мира. Успех объясняется тем, что рост иммиграции совпал здесь с периодом бурного развития экономики. В большинстве случаев каждый, кто хотел найти работу, ее получал. Несколько периодов спада не были настолько тяжелыми и продолжительными, чтобы разрушить основы иммиграционной системы. А в остальном многое зависит от хорошей организации и той работы, которая проводится, чтобы помочь иммигрантам найти свое место на новой почве. Последнее в основном достигается с помощью системы, получившей название «добрые соседи».
Австралия покрыта сетью организаций «добрые соседи». В них на добровольных началах работают мужчины и женщины, задача которых — выявление иммигрантов в своем районе и оказание им помощи, создание таких условий, при которых они чувствовали бы себя как дома. Организации дают уроки английского языка или могут просто по-дружески пригласить на чай к своим членам г-жу Маззоти, г-жу Теофолус или г-жу Шмидт.
Я была в Канберре, где проходила ежегодная конференция членов организации «добрые соседи». Полные энтузиазма, онй приехали со всех концов Австралии. На повестке дня конференции стоял вопрос о том, как уговорить большинство, а если возможно, то и всех иммигрантов окончательно расстаться с родной землей и принять австралийское подданство, так как значительная их часть не расстается с паспортами своей родины. Австралийцы придают большое значение статусу гражданства, стремясь создать единую нацию.
— Мы должны принять их в братство нашей страны, — заявил бывший премьер-министр Австралийского Союза Роберт Мензис.
Со своей стороны иммигранты, по мнению министра по вопросам иммиграции, должны понять, что в Австралии нет замыкающихся в себе поселений и национальных меньшинств, не расстающихся со своими традициями. Австралийцы принимают иммигрантов безотносительно к их прежним верованиям и классовой принадлежности, в свою очередь, они должны порвать со своими предыдущими привязанностями.
От англичан не требуется никакой присяги. У них вообще много привилегий. Но платят ли англичане той же монетой? Большинство австралийцев ответило бы на этот вопрос положительно.
Изменились не только хозяева, но и сами английские иммигранты. В настоящее время большую часть англичан-иммигрантов составляет молодежь. Они инициативны и, главное, имеют квалификацию. Мастеровые, квалифицированные рабочие, инженеры, готовые рискнуть, но не бездумно. Многие из них женаты, с маленькими детьми, поэтому они глубже осознают свою ответственность. Здоровые, выше среднего уровня по своему интеллектуальному развитию, они представляют лучшую часть населения, которая привлекательна для любой страны.
Англия, в свою очередь, притягивает иммигрантов. Однако отношение числа квалифицированных рабочих к неквалифицированным здесь обратное. В то время как в Австралии это соотношение составляет три к одному, Англия получает по крайней мере трех неквалифицированных рабочих, а возможно и больше, на каждого, имеющего специальность, ремесло или профессию. Другими словами, Англия меняет механиков, плотников, водопроводчиков и специалистов, которые могут составлять программы для счетных машин, на крестьян и батраков, многие из которых не знают даже алфавита, не говоря уже о токарном станке.
Практически один австралиец из пяти родился за границей и приехал на континент после 1945 г. Что бы ни произошло с родителями, их дети, в этом нет ни малейшего сомнения, — австралийцы до мозга костей.
В Западной Австралии все огромно. Здесь самые большие пустыни, самые большие пляжи, самые дикие горы, самые богатые залежи руды, самые обширные пшеничные поля и самые высокие деревья. В Перте мне показали три дерева. В университете я увидела маленькую болотную черепаху длиной около шести дюймов. Она была не только мала, но и настолько редка, что для нее и ее родичей создали небольшой заповедник, возможно единственный в мире только для черепах.
В 1953 г. один школьник нашел такую черепаху в болоте и принес своему учителю биологии. Находка произвела фурор среди зоологов, которые посчитали, что это новый вид, и описали его в научных журналах. Но тут некий американец, зоолог по профессии, припомнил, что он видел подобную особь в Венском музее. Оказалось, что эти черепахи действительно принадлежат к одному и тому же виду, который уже получил название — короткошейная черепаха (Preudemydura umbrina). Венская особь, найденная в 1890 г., была тогда единственной известной представительницей этого вида.
Зоологи в Перте установили, что короткошейная пресноводная черепаха живет только в трех болотах, где ведет весьма замкнутый образ жизни, закапываясь для летней спячки в естественную нору или щель. Она откладывает только три или четыре яйца, обожает личинки москитов, но не брезгует и небольшим количеством мелко порубленного сырого мяса. Молодой зоолог Эндрю Бербейдж поймал восемь особей и прикрепил к их спинам крохотные передатчики, которые регулярно посылают сигналы и дают возможность проследить за движениями черепах под землей.
К панцирю черепахи с его выпуклой и полированной поверхностью совсем не просто что-либо прикрепить, и все черепахи, за исключением двух, скинули передатчики. Другая трудность заключалась в том, чтобы найти батарейку достаточно маленькую, чтобы укрепить на спине шестидюймовой черепахи, но в то же время и достаточно мощную, чтобы давать так в течение шести месяцев. Кроме того, черепахи в неволе плохо акклиматизируются. Та, которую я видела, не желала размножаться и совершенно не выросла в течение года.
— Есть два небольших заповедника для этого вида черепах, — рассказал мне зоолог. — Один на глинистой почве и один на песчаной. Обращение со стороны общественности помогло собрать шесть тысяч долларов, правительство выделило две тысячи, а владелец участков продал землю очень дешево. Таким образом будущее этого вида обеспечено.
Некоторые пресноводные австралийские черепахи, кажется, всегда смотрят через плечо. Их головки как бы наклонены в сторону и убираются в панцирь сбоку, а не двигаются вперед и назад, как у европейских видой. Они принадлежат к более примитивным черепахам, у них не развилась похожая на резиновую оболочка, в которую их более передовые родственники прячут свои плоские головы.
История короткошейных черепах подтверждает точку зрения натуралистов: если вы хотите сохранить определенный вид, то можете забыть о самом животном, но сосредоточить все усилия на сохранении обычных условий его жизни. Удивительно, какие мелочи иногда могут разрушить привычную среду. По словам заведующего Отделом охраны диких животных КСИРО в Перте доктора Доминика Сервенти, прогулка одной коровы по пастбищу может изменить его среду. Главные преступники здесь овцы. Изменяя окружающую среду, они изгоняют другие живые существа. Исчезают даже пауки, которые жили на хрупком слое лиственных останков, сбрасываемых колючими акациями. Слой этот был изрезан и уничтожен острыми копытами овец. Вряд ли кто-то будет защищать пауков, но для биологов важно сохранение любого вида.
В одиннадцати милях от материка лежит небольшой остров Ротпест, который знаменит поселениями маленьких кустарниковых валлаби (Setontx brachyurus) размером не больше кролика, которых еще называют квокка. Есть только два района, где, как это достоверно известно, они выжили: на острове Ротнест и на Болд-Айленд, у юго-западного побережья близ Олбани. В прошлом они водились и на континенте, но в 1935 г. почти совсем исчезли. Причина неизвестна. Может быть, их скосила какая-то эпидемия, а возможно, и лисицы сыграли здесь свою роль. На острове же Ротнест жарким сухим летом 1953–1954 гг. валлаби гибли от недостатка протеина в пище.
Остров Ротнест — своеобразная лаборатория на открытом воздухе факультета зоологии Университета в Перте. Ее возглавляет профессор Гарри Уоринг. Его чаще всего можно увидеть в шортах и рубашке, расстегнутой до пояса, среди сумчатых, по которым он считается ведущим специалистом. Словно резвый валлаби, взбирается профессор на самые высокие холмы острова. Все зовут его просто Гарри.
Территория Ротнеста составляет пять тысяч акров, и число валлаби, проживающих на ней, примерно то же. С 1917 г. остров стал заповедником, где охраняются все звери и птицы. На Ротнесте достигнуто равновесие между различными видами, а также между ними и окружающей средой без вмешательства человека. Здесь нет пресной воды, и валлаби приспособились пить солоноватую, которую находят у края соляных озер, и сумели сократить потребление жидкости до поразительно низкого уровня. Кажется, им удается существовать в течение месяцев почти без воды, которую они извлекают из высушенных засухой растений. Из сухой и жесткой листвы валлаби производят протеин значительно более эффективно, чем это удается овцам или другим жвачным животным. Так же как их родственники кенгуру, они могут задержать развитие оплодотворенного яйца в матке до того момента, когда сумка освобождается и оказывается в состоянии принять очередной эмбрион. В сущности это врожденный механизм, регулируемый эндокринными железами, устанавливающий равновесие между количественным ростом вида и наличием пищи в природе. Этот факт был установлен при изучении валлаби именно здесь, на острове Ротнест, профессором Г. Б. Шарманом, работавшим с профессором Уорингом в Университете Западной Австралии.
Фрэнсис Рэтклифф рассказал мне историю этого выдающегося исследования, которая еще раз говорит о том, как трудно бывает установить, кто именно и когда совершил то или иное научное открытие. Доктору Шарману, без сомнения, принадлежит честь полной разработки проблемы торможения развития яйца. Однако пятнадцать или двадцать лет назад С. Ф. X. Дженкинс, работавшая тогда в музее в Перте, наблюдала за поссумом-пигмеем, найденным с детенышами в сумке. Они погибли. Некоторое время спустя без какой-либо помощи со стороны мужской особи самка поссума произвела на свет новое потомство. Госпожа Дженкинс опубликовала короткую статью по этому поводу. Идея была подхвачена доктором Карлом Хартманом, американским физиологом, который высказал предположение о торможении развития как возможном объяснении этого явления. Разработки идеи не последовало. Доктор Шарман не знал об этих публикациях, пока совершенно самостоятельно не пришел к тому же выводу и не доказал его правильность на примере валлаби острова Ротнест.
Хотя остров и изобилует валлаби, увидеть их днем невозможно. Каким-то образом они ухитряются прятаться в низкой, растущей кучками траве на открытой степной поверхности, почти целиком заменившей буш и лес, которые в прошлом описывали как непроходимые. Леса были уничтожены пожарами, а валлаби помешали их возрождению, поедая молодые побеги. Комиссия по развитию острова Ротнест пытается возродить исконную растительность, огораживая небольшие посадки когда-то доминирующего здесь эвкалипта местной породы Leptaspermumи сосны Ротнест. Главный враг — ветер, который проносится над островом с удивительной силой. Нас буквально сбивало с ног. Слова профессора Уоринга и доктора Давида Райда из музея в Перте, просвещавших меня по вопросам биологии, доносились до меня урывками, большинство их уносил ветер.
Все животные, а также птицы находятся в Западной Австралии под охраной до тех пор, пока их не заносят в так называемый открытый лист. Это не так уж хорошо, как кажется, потому что лист большой и длинный, и любое животное, попавшее в него, не только не получает никакой защиты, но и может быть классифицировано как вредитель. Некоторые из них, например лисы и динго, вне всяких сомнений, вредители. Занесены в список и ряд домашних в прошлом животных (верблюды, ослы, свиньи и козлы), которые одичали и расселились в диких районах горных хребтов. Разрешена охота на рыжих гигантских и горных кенгуру или валлару. Многие птицы также числятся в открытом листе, в том числе несколько прелестных видов попугаев. Сюда входит и крокодил, обитающий в соленых водах, а также практически все виды змей.
Охрана животных, как это ни странно, находится в ведении министерства рыбного хозяйства, которое отвечает за более чем семь тысяч квадратных миль заповедников. Земли для них подобраны так, чтобы представить все характерные места распространения животных. Таким образом, как это по крайней мере выглядит на бумаге, каждый вид может найти для себя укромное место, где животных не будут преследовать. На практике выполнить этот принцип значительно труднее, так как, по словам одного из сотрудников министерства господина Шрагга, два штатных работника несут ответственность за территорию, в восемнадцать раз превышающую площадь Англии и Уэльса. Имеется также четыреста добровольных лесников, но их права ограничены, да и знания неодинаковы.
— Около миллиона акров расчищается каждый год для культурных посадок, — рассказал нам Шрагг, — но значительно большие районы приходят в запустение из-за овец.
В этих районах природные травы заменяются жестким запутанным колючим спинифексом. Доктор Чарльз Гардинер, в прошлом главный ботаник штата, говорил, что Австралия создает самую большую в мире пустыню в кратчайший отрезок времени.
Засоление почв — другая проблема, неспецифическая для Западной Австралии, но также создающая большие трудности. Расчистка земель поднимает уровень воды, вместе с которой поднимается соль и проступает на почве все увеличивающимися участками. Это не дает возможности развиваться деревьям с глубоко растущими корнями. Все засыхает, и местами землю приходится просто забрасывать. Вот вам еще один пример нарушения хрупкого баланса между почвой, растениями, климатом и живыми существами. Начинается с того, что с самыми лучшими намерениями расчищают землю для культивации, а заканчивается все это засолением почв, спинифексом и новой пустыней.
Один раз нарушенная экологическая система может сыграть непредвиденные шутки. Овцы не могут процветать на спинифексе, а кенгуру могут, и число их увеличивается. Наиболее опустошенный район в северо-западной части штата называется Пилбара — пустой, дикий, голый квадрат, занимающий около пятидесяти тысяч квадратных миль — без малого в два раза больше Тасмании. Он сохранился почти в первозданном виде, скотоводы построили лишь несколько водных резервуаров и нагнали овец, которые должны были выиграть соревнование за жизнь с кенгуру, дикими ослами и динго. Среднее количество овец в Пилбара — одна на пятьдесят или более акров.
Когда ряд усадеб был целиком заброшен из-за наступления спинифекса и кенгуру, КСИРО, чтобы выяснить причины, начал исследовательскую работу. Удалось установить, что кенгуру прекрасно приспособились к этим сухим знойным районам. Группа кенгуру, вынужденная жить в районе сплошного спинифекса без тени и воды, благополучно просуществовала все три самых жарких месяца года. Они сократили потребность в жидкости, в середине дня лежали на земле и потребляли так мало пищи, что лишь минимальное количество мочи потребовалось для вывода отходов из организма. Ученые полагают, что у них развился еще неизвестный науке механизм физиологической адаптации, помогающий им выжить без воды столь продолжительное время.
Когда кенгуру находят воду, они, естественно, пьют. Скотоводы, в свою очередь, отравляют резервуары. На скотоводческой станции Талга Талга, где на двух тысячах трехстах акрах паслось две тысячи триста овец, отравление половины водных резервуаров уничтожило около одиннадцати с половиной тысяч кенгуру. Это означало, что владелец земли имел на ней по крайней мере по пять кенгуру на каждую овцу. Отравлять армии кенгуру таким образом еще более расточительно, чем использовать их мясо в качестве консервов для комнатных животных. Отравленные туши попросту оставляют гнить. Исследования показывают, что кенгуру не мигрируют на большие расстояния, многие из них проводят жизнь на площади, отстоящей всего лишь на несколько сотен ярдов от места рождения. Так что они не придут издалека на возрожденное пастбище. Работы по восстановлению почвы района Пилбара идут полным ходом. Прием, известный под термином «замедленный чередующийся выпас скота», если применять его регулярно, должен обновить травы. Для ускорения процесса периодически отравляют кенгуру.
Рыжие гигантские кенгуру также находятся в опасности. Сезон охоты на них открыт круглый год. Бригады профессиональных охотников имеют в своем распоряжении, так же как и в Новом Южном Уэльсе, передвижные холодильные установки. В связи с отсутствием статистических данных невозможно определить, сколько кенгуру истребляется ежегодно, должно быть сотни тысяч. На одной скотоводческой станции в восьмистах милях к северу от Перта бригада охотников недавно «добыла» двадцать семь тысяч кенгуру, примерно сто двадцать за ночь. Хотя по словам сотрудника, занимающегося вопросами контроля за уничтожением вредителей, количество кенгуру в штате значительно уменьшилось, ко, согласно официальной точке зрения, критический уровень еще не достигнут. Существует, однако, возможность внезапного падежа кенгуру, подобного тому, который стер с лица континента маленьких валлаби, и, как мы видим, территория их распространения сокращается с каждым годом.
Жизни двум небольшим видам сумчатых уже угрожает опасность. Это намбат, или сумчатый муравьед, небольшое полосатое существо с пушистым хвостом и длинной мордой, чей язык приспособлен к добыче термитов из древесины; и очень маленькая медовая мышь. Та же участь, возможно, ожидает кустарниковых валлаби или тамнаров, почти исчезнувших на континенте, но еще встречающихся недалеко от Джералдтона. Доктор Сервенти отмечает несколько видов птиц — ночной и земляной попугай и другие.
Легко восхищаться пернатыми друзьями, когда живешь в пригороде Англии или другой европейской страны, подкармливать зимой дроздов и синиц, но вряд ли многие из нас испытали бы подобное же чувство, если бы дрозды возвышались над нами, скажем, как эму, а орлы с семифутовыми крыльями спускались бы к кормушке, требуя туши овец. Даже если не принимать во внимание других факторов, только расходы на питание этих пернатых гигантов разорили бы нас. Многие фермеры и скотоводы Западной Австралии считают, что они находятся примерно в такой же ситуации. Поэтому великолепный клинохвостый орел подвергается гонению, за его клюв назначена премия в пятьдесят центов. Сто пятьдесят тысяч этих птиц уже уничтожены. Назначена и выплачена премия за триста семьдесят тысяч истребленных эму. Несколько лет назад возмущение против эму со стороны фермеров, разводящих зерновые, достигло таких размеров, что правительство штата запросило военную помощь. Прибыли части автоматчиков и две небольшие пушки, которые открыли боевые действия против двадцати тысяч птиц.
Согласно плану, следовало загнать птиц к заборам и там расстрелять. Но эму, так же как и аборигены Австралии и Тасмании, не подчинились. Рассредоточившись на небольшие группки, они разбежались в разных направлениях, потерпев лишь небольшие потери. Правительственные чиновники в Канберре были в ярости: части отозвали.
В наши дни эму охраняют в юго-западной части штата, но по всей другой территории они считаются вредителями. Несмотря на большие потери — двадцать тысяч в 1965 г., — эму тем не менее не угрожает полное уничтожение.
Даже заповедники, созданные для сохранения животных, не всегда находятся в безопасности. Борющаяся за охрану природы общественность была потрясена, когда правительство штата выдало концессию на добычу соли на небольшом острове-заповеднике, единственном месте распространения определенного подвида буревестников. Заповедники могут получить этот статут и лишиться его по воле законодателей.
— Слишком многие, — сказал доктор Сервенти, — смотрят на заповедники просто как на потенциально свободную землю, сохраняемую до того момента, когда ей будет найдено лучшее применение.
Предложение построить бассейны и развлекательные центры в Кинг-Парке Перта, целью которого является сохранение девственного буша в его естественном состоянии, вносилось в парламент штата три раза, но, к счастью, все три раза пока отклонялось.
Жители Перта говорят, что они живут спокойно, и ничто их особенно не раздражает.
Они действительно удивительно гостеприимны. Пожалуй, впервые в жизни, через несколько часов после приезда, меня перевезли из отеля на квартиру совершенно чужого человека. Сам он перебрался к родным, оставив в моем распоряжении все, что было в доме, начиная с забитого продуктами холодильника и кончая радиолой и гладильной доской. Книги, пластинки, картины и рукопись наполовину законченной пьесы валялись где придется. Дом стоял окруженный цветущими кустарниками, ползучими растениями, деревьями. Трехминутная прогулка — и вы на берегу реки, где не слышно почти никакого шума машин. На углу — небольшой деревенского типа магазин (его содержат итальянцы), где можно повидать знакомых и посплетничать.
В квартиру постоянно заходили люди и кошка, для которой было специально проделано отверстие внизу двери. Заглянула соседка с прихворнувшим попугаем в клетке. Очевидно, мой хозяин Томас Хангерфорд[79] разбирался в птицах.
— Когда я потеряла мужа, Том пришел и помог мне, ухаживал за садом, — сказала она. — Он посадил все розы.
Соседка — англичанка, оставшаяся после смерти мужа в Австралии, где и преподает теперь в техническом колледже.
— Они другие, — сказала она мне о своих студентах, сравнивая их с теми, которых обучала в Ливерпуле. — Эти девушки более независимы. Они хотят дойти до истины сами. В Англии вы преподносите студентам все на тарелочке, здесь же отдаете им тарелку, и они должны сами найти, что на нее положить. Тогда вы чувствуете ответную реакцию. Если им скучно, они складывают руки и впадают в прескверное настроение. Что они абсолютно не переносят, так это малейший намек на превосходство.
Среди знаменитостей Перта известны сестры Мэри и Элизабет Дюрак. Одна — писательница, вторая — художница. По имени их отца, героя одной из удивительных саг о людях, которые перегоняли свои стада через континент в поисках пастбищ на северо-западе, в Австралии названы река и горная цепь.
В своей книге «Короли травяных замков» Мэри Дюрак изложила прекрасную историю босоногого мальчишки, который эмигрировал в шестнадцать лет на континент и стал владельцем нескольких миллионов акров австралийской земли. Когда умер отец, оставив на руках Пэтси Дюрака мать и семерых детей, он ушел на золотые прииски и вернулся с парой тысяч долларов, суммой достаточной, чтобы арендовать небольшой участок в Новом Южном Уэльсе.
Многие ирландцы арендовали землю вокруг. Вскоре здесь появились поселения Дюрак, Костелло, Килфойлес, Скеханс и Сканланс. Они построили себе двухкомнатные домишки с земляным полом и стали обзаводиться стадами скота местных пород.
Когда в 1860 г. специальный закон дал возможность скупать за бесценок огромные практически неисследованные земли в новом штате Квинсленд, Дюрак отправился в неизвестность с четырьмя или пятью родными и двоюродными братьями, сотней лошадей и четырьмя сотнями голов породистого скота. Чем дальше они продвигались на северо-запад, тем суше была земля; почва растрескалась от суховеев, скот мучился от жажды, и когда наконец почуял воду и бросился к ней, то многие овцы и лошади были затоптаны насмерть. Те же, что выжили, увязли в болоте, большинство их пришлось застрелить. Но люди не сдавались. Они продолжали тащиться вперед в надежде найти воду. Падали лошади, истощился запас воды; в конце концов была убита последняя лошадь и выпита ее кровь. Люди, без сомнения, погибли бы, не появись аборигены, которые вывели их к воде и показали дорогу назад к дому.
И все же Пэтси Дюрак вернулся в эту ужасную страну и, что еще более удивительно, взял с собой жену и двух детей. Он занял денег на покупку лошадей, фургонов, упряжи, провизии, шести свиней, шести молочных коз, четырнадцати кур-несушек, двенадцати уток и борова. Три месяца они провели в пути, направляясь к Берку. У источника Уир на границе Квинсленда родился еще один сын, Костелло. Пройдя примерно триста миль на северо-запад, они вышли к речушке, протекавшей в тени эвкалиптов и диких апельсинов — идеальное место для диких гусей и уток. Здесь, в Киабара, в районе русла реки Купер в 1868 Дюрак нашел наконец воду, которую все время искал. На берегу реки был построен дом, простоявший семьдесят лет. Вскоре здесь поселились другие члены семьи. Мало-помалу создались фермы, и скотоводы стали клеймить первых телят.
Спустя десять лет с того дня, как они вышли к реке, Пэтси и его братья перегнали две тысячи голов скота на дальние рынки и вместе с семьей Костелло арендовали одиннадцать миллионов акров, что составляло почти две трети площади их родной Ирландии. Но и этого им было мало. В пивных западного Квинсленда скотоводы говорили теперь о «Центре» и «Территории», под которой подразумевались районы девственных пастбищ и неисследованных горных цепей с многочисленными реками. Их все еще манил призрак огромного внутреннего моря.
В 1870 г. был открыт порт Палмерстон, который в дальнейшем стал называться Дарвин. Через два года австралийские ковбои соединили Дарвин с Порт-Огаста в Южной Австралии. Они перегоняли стада на север и запад из Квинсленда, а спекулянты землей сдавали в аренду белые пятна на карте.
Дальше на запад, за районом Галф, за Территорией лежали земли, сулившие еще большие перспективы — огромные непересыхающие реки, богатые пастбища — протяни руку и возьми. Это была Западная Австралия.
В 1879 г. исследователь Александр Форрест прошел от западного побережья, преодолев плато, впоследствии названное Кимберли, через все еще не обозначенные на карте пустыни. Пэтси Дюрак прочитал подготовленное Форрестом сообщение о своем путешествии и послал своих сыновей на поиски второй империи пастбищ.
Когда Элизабет Дюрак начала рисовать аборигенов, живущих на ферме отца, семье это не понравилось.
— Зачем рисовать этого старого, уродливого туземца? Почему бы тебе не изобразить что-нибудь хорошенькое, например этот цветок? — говорили ей родные.
Трудно найти слово, менее подходящее для описания этого района Западной Австралии, чем «хорошенькое». Грандиозная и величественная австралийская нация начала свой путь с трагедии. Кое-что Элизабет Дюрак удалось передать в своих рисунках, обманчиво простых и технически совершенных.
Мрачная буря опускается на Брум. Она застигла долговязого скотовода с лицом, закрытым как у араба. Всадники скачут по высохшей земле среди спиралеобразных термитников. Седой сезонный рабочий сидит с устало опущенными руками на железной кровати в хижине, один среди ворон. Таковы сюжеты картин Элизабет Дюрак.
Ее портреты аборигенов реалистичны. Они схватывают выражение беспредельного покоя, терпения и достоинства, отражают трагизм людей, которые знали, как жить на этой дикой земле.
Хотя Австралийский континент имеет густую сеть авиалиний и охвачен национальной системой радиовещания, его Запад остается до какой-то степени островом внутри страны, и в области искусства эти островитяне начинают создавать собственную школу. Близость пустыни, преобладание сельского населения, аборигены, жара и сухость — вот, что формирует культуру Западной Австралии.
Влияние культуры аборигенов видно здесь повсюду — это и примитивные рисунки на скатертях, и бумеранги, создаваемые на потребу туристов. Может статься, что именно художники Западной Австралии внесут в национальную культуру континента элементы искусства коренного населения страны.
Все сказанное распространяется и на литературу. В романах Рандольфа Стоу, молодого западного австралийца, образы аборигенов исключительно человечны. Это не символы, не комические или злодейские персонажи, и в то же время они окутаны своеобразной тайной.
Как в живописи, так и в литературе это влияние представляется мне в высшей степени романтичным, и образ неумолимой природы, проходящий красной нитью по всем произведениям местного искусства, только усиливает это впечатление.
В прошлом столетии один из авторов писал, что в характере австралийцев есть какой-то «налет жестокости». Эта жестокость рождена скалами, песком и солнцем.
Без сомнения, когда узнаешь о наследстве, полученном Австралией, то кровь стынет в жилах. По своей наивности я считала капитана Филиппа и его ссыльных первыми поселенцами континента. Но Западная Австралия имеет более древнюю историю контактов с Европой и значительно более жестоких предвестников христианской цивилизации. Еще одна писательница из Перта Генриэтта Дрейк-Брокмен[80] в книге «На пути к несчастью» рассказала историю, чтение которой и сейчас вызывает ужас.
В двухстах пятидесяти милях к северу от Перта у побережья Хералдтона лежат острова Алброльюс. Около них затоплены остатки голландских судов, которые в XVII в. потерпели здесь крушение, потеряв ориентировку где-то между Мысом Доброй Надежды и Явой. Погибло шесть судов. Останки четырех были установлены, включая «Батавию», которая пропала в 1629 г. Старшим офицером на ее борту, представителем Восточно-Индийской компании, был Франческо Пелсарт. Вместе со своим штурманом он спасся на маленькой лодке, достиг Явы и вернулся на яхте «Сардам», чтобы выручить остальных членов экипажа, выброшенных на два небольших каменистых острова группы Алброльюс.
Пока Пелсарт плыл на острова, власть там захватил некий маньяк по имени Иеронимус Корнелиц. Он назначил «совеу» из головорезов и приступил к физическому уничтожению остатков команды. Его целью стал захват судна, которое должно было прийти на помощь потерпевшим. После чего Корнелиц предполагал перерезать команду и начать жизнь пиратов. На островках господствовал террор. По ночам хватали и топили мужчин, душили детей, в то время как их родителей приглашали на ужин к Корнелицу. Его бандиты перерезали горло всем заболевшим. В одну из ночей были истреблены восемнадцать мужчин и мальчиков, в течение другой — пятнадцать женщин и мальчиков. Детей травили, мужчин, пытавшихся спастись бегством, ловили и обезглавливали. В день кораблекрушения на борту «Батавии» было двести шестьдесят восемь человек, но только семьдесят четыре из них вернулись на Яву на «Сардаме». Бунтовщики убили сто двадцать пять человек; от сорока до пятидесяти утонули при попытке бежать с острова.
В конце концов Иеронимус Корнелиц был схвачен и передан Пелсарту, который после допроса и пыток повесил его и шесть других главарей.
Очевидно, у Пелсарта был мягкий характер, хотя происшедшее страшно потрясло его. Он не решался определить судьбу остальных участников бунта. Пелсарт не мог понять, почему эти люди, понимая, что власть захвачена душевнобольным человеком, принимали участие в его преступлениях, хотя и под угрозой. Как можно было определить вину Яна из Беммеля, стюарда, которому исполнилось всего восемнадцать лет? Корнелиц сказал ему:
— Вот моя сабля, иди и убей Корнелиуса Андерсена, отсеки ему голову, чтобы посмотреть, насколько остра сабля.
Приняв во внимание молодость Яна, Пелсарт помиловал юношу, тем более что его никак нельзя было сравнить с Уотером Лис из Маастрехта, солдатом двадцати четырех лет, который в соответствии со свойственной его характеру низостью по своей воле пошел в сообщники к «безбожнику и негодяю Иеронимусу Корнелицу и вместе с ним убивал людей».
Пелсарт проявил милосердие, но в то же время он был и деловым человеком. Двое молодых преступников, заслуживших смерть, были помилованы и оставлены на острове, чтобы заручиться дружбой местных жителей и вообще разведать обстановку. Они смогли бы оказать помощь Компании, если голландские корабли решат вернуться в этот район. С этой целью молодых людей снабдили ножами, бисером, колокольчиками и маленькими зеркалами для раздачи аборигенам. Им велели установить дружеские отношения с вождями. Пелсарт надеялся, что тогда их отведут в деревни, где ссыльные смогут «разведать, не находят ли в тех местах золото, или серебро, или еще какие-либо камни, считающиеся у туземцев дорогими». Если случится голландским судам зайти в эти места, то местных жителей можно будет «снабдить изделиями из железа или меди, образцы которых будут оставлены у ссыльных».
Итак, первые белые христиане попали в Австралию: двое убийц, признавшихся в своих преступлениях. «Более всего помните о Всевышнем, — поучал их Пелсарт, — никогда не забывайте о Нем, и Он всегда поможет вам».
Каков был конец этой истории, плохой или хороший? Приняли ли Уотера Лиса из Маастрехта, «капитана команды убийц», и Яна Релгром из Беммеля, который сидел на ногах женщины, удушенной ее собственными волосами, аборигены или нет или, что более вероятно, они погибли на этой, по словам Пелсарта, «сухой, проклятой земле» Южной Австралии? Мы этого никогда не узнаем. Но возможность выжить им, первым белым австралийцам, поставившим на карту свою жизнь, была предоставлена.
В то время как Пелсарт занимался поисками сокровищ для Компании на разбитых судах, он заметил присутствие «множества кошек удивительной формы, таких же больших, как кролики. Они брали пищу передними лапами, как обезьяны или белки, и производили потомство удивительным, достойным описания способом: под брюхом самки имеют сумку, в которой можно поместить человеческую руку, а в сумке имеются соски. Там были обнаружены детеныши, державшие сосок во рту, размером не больше фасоли, но конечности их были развиты пропорционально…» Это первое, ставшее известным описание валлаби.
Остатки судов Компании можно еще найти. По субботам и воскресеньям любители подводного плаванья ищут золотые слитки, на которые моряки намеревались купить специи, драгоценные камни и индиго. Однажды такой любитель взорвал одно из погибших судов, уничтожив таким образом компасы, мушкеты и другие предметы, представляющие огромную музейную ценность. Это вызвало такое возмущение среди общественности, что правительство штата приняло закон, разрешающий оплату находки из драгоценного металла в сумме, эквивалентной ее нынешней цене, при условии, если поиски ведутся при соблюдении всех необходимых правил.
Северо-запад
Северо-запад — это странное смешение древнего и нового. Возраст скал здесь не поддается определению. Миллионы столетий разрушали их, сделав похожими на корни гнилых зубов, эрозия разъела поверхность, и они стоят непоколебимые и оголенные, скрывая в своих недрах неизмеримые богатства. Они терпеливо дожидались, пока понадобятся миру, и это время наконец наступило. Северо-запад скоро обрастет целым комплексом шахт, шестьюстами милями железных дорог, семью новыми городами и гаванями, призванными обслуживать суда водоизмещением в шестьдесят пять тысяч тонн.
Большая часть капиталовложений была сделана американцами, британцам принадлежала лишь небольшая доля. Господин Чарльз Корт, министр по развитию Северо-Запада, объяснил:
— Почему Лондон не проявляет интереса? Британский капитал способствовал развитию Австралии раньше, теперь эту задачу взяли на себя американцы. Британцы же боятся рисковать.
Все началось с Маунт-Том-Прайс. В 1961 г. это было никому не известное гористое место, в дикой местности Пилбара, примерно в сотне миль западнее голубых асбестовых шахт Виттенума. На следующий год ассоциация, образованная Конзинком Риотинто и компанией «Кайзер Стил оф Калифорния», обнаружила там залежи руды красного железняка, количество и качество которого они едва ли могли оценить.
На конференции горных инженеров, проведенной в 1964 г., было установлено, что провинция Хамерслей содержит богатейшие запасы железной руды в мире. Общее количество руды лимонитного красного железняка с пятидесяти- и шестидесятипроцентным содержанием железа составляет шесть миллиардов тонн. Однако еще в 1960 г. правительство накладывало эмбарго на экспорт железной руды на основании того, что Австралии едва хватает ее для собственных нужд. Уже проложена железная дорога из Маунт-Том-Прайс (названного в честь экс-вице-президента компании «Кайзер Стил оф Калифорния») к заливу Бей в Дампирском архипелаге, где предполагается строительство порта, способного принимать корабли водоизмещением в сто тысяч тонн, а также города, который сможет обслуживать порт. Планируется строительство второго города — спутника Маунт-Том-Прайс. Поначалу это будут маленькие города, ведь современная горная промышленность не требует большого числа технических специалистов. Сюда приедут люди с дипломами, носящие рубашки с галстуками, любящие послушать симфоническую музыку вечерами в своих современных коттеджах, а отнюдь не труженики с мозолистыми руками, как это бывало прежде[81].
Другой город, такой же как Дампир, растянулся в шестидесяти милях восточнее Порт-Хедленда, на северозападном побережье, в сторону Брума.
Низкий хребет Маунт-Голдсворти возвышается не более чем на двести или триста футов над бесплодной равниной, кое-где покрытой зарослями. Мой гид из Америки показал множество образцов пород, найденных здесь во время бурения при разработке алмазов. Все они говорили о наличии богатых месторождений железных руд. Скоро появятся штольни, дробильные заводы, дома и бассейны, клубы и кинотеатры, а сейчас нет ничего, кроме песка и камней. Мрачное место. Но все здесь изменится, жителям будут предоставлены все удобства. Зарплата тоже, вероятно, достигнет в среднем двухсот фунтов в неделю. Так же как и в Маунт-Том-Прайс, основной капитал на местное строительство вкладывают США. Поступают доллары, появляются и американцы, в основном весьма деловые люди. Те, с кем мне пришлось беседовать, считают, что австралийцы хорошие ребята в компании, но отнюдь не лучшие коллеги по работе. Несколько бесцеремонное и небрежное отношение к делу многих австралийцев раздражает этих высококвалифицированных инженеров, привыкших к тому, что надо всего себя отдавать работе и всю свою энергию направлять к намеченной цели.
Порт-Хедленд — это довольно маленький, непритязательный морской порт с единственной улочкой и ветхим молом, задыхающийся от зноя в песчаных дюнах, куда свозят кучи отбросов. Вдалеке от Сан-Франциско и Лос-Анджелеса американцы чувствуют себя словно на другом конце света.
— Сможете ли вы достать в Перте хотя бы самую простую деталь? Нет, не сможете, — пожаловался мне один американец. — Вы пошлете в Сидней, но в Сиднее ее тоже не найдешь. Или же вам вышлют совсем не то что надо. Кого это интересует? И эта сойдет.
Существует и иная точка зрения, которую разделяют некоторые австралийцы. Другой мой попутчик, тоже американец, сказал:
— Кто мешает австралийцам вкладывать сюда свой капитал? Почему они сами не едут на Север и не занимаются собственным развитием? Это их страна. Они сидят себе в Сиднее и Мельбурне и жалуются на американский капитал и специалистов. Но это же их кровное дело! — И он с сожалением добавил: — Добродушные, щедрые, компанейские ребята, с которыми можно вместе выпить, они вступятся за вас в драке. Но конкуренция австралийцев погубит. А их пресловутые стейки?
Я удивилась. Ведь большинство американцев обожают бифштексы, а Австралия — страна бифштексов, или, как их здесь называют, стейков.
— Но это не бифштекс, — сказал мой шокированный попутчик, — они губят мясо. Не понимают, что подают сплошной жир и кости. К тому же мясо не дешево. Здесь почти все дороже, чем в Соединенных Штатах Америки. Разве что постричь волосы… Да еще здесь дешевое прекрасное пиво, особенно когда оно холодное.
Мы наслаждались пивом в отеле, который неожиданно оказался заполненным постояльцами совершенно нового типа, принесшими международные стандарты в тоскливую жизнь маленького порта, до сих пор обслуживавшего скотоводов небольших хозяйств, нескольких проезжающих транзитом скотопромышленников, старателей и команды небольших торговых судов, заходящих сюда время от времени, чтобы погрузить сало.
Температура доходила до 90° (по Фаренгейту), досаждали назойливые мухи, воздух был тяжел и неподвижен. Один из постояльцев-старожилов, напевая хриплым голосом, счастливо улыбаясь и раскачиваясь, изображал танец между столиками.
Среди песчаных дюн бульдозеры выравнивали площадку для строительного лагеря. Его будут собирать из готовых конструкций, напоминающих клетки для кроликов, и всю работу закончат за несколько часов. Маунт-Голдсворти должен ежегодно выбрасывать миллион тонн нефти, наращивая темп из года в год. Консорциум двух калифорнийских и одной сиднейской угольных компаний продаст продукцию первых семи лет группе японских фирм.
Глядя на Индийский океан, волны которого доходят здесь до высоты тридцати футов и более, трудно себе представить, что в этих глухих местах раскинутся механизированные и автоматизированные гигантские предприятия. Конечно, приливы, жара, циклоны, песок и мухи останутся. Воздушные кондиционеры, может быть, и оградят нашествие мух с залива, но скорее всего при малейшей возможности они быстро преодолеют любой барьер.
Именно эти маленькие мушки, от которых мороз пробегает по коже, больше всего поразили первого европейца, представившего отчет об этой части Австралии. Вильям Дампир писал: «Они делали аборигенов несчастнейшими людьми в мире. Из-за этих насекомых им приходилось держать глаза постоянно полузакрытыми. Мухи настолько назойливы, что отогнать их от лица практически было невозможно, и, если аборигены защищались двумя руками, мушки заползали в ноздри, даже в полуоткрытый рот. У аборигенов были большие бутылкообразные носы, отсутствовали передние зубы. Они не носили одежды, не имели жилья и вели полную опасностей жизнь, питаясь мелкой рыбешкой, которую выбрасывали приливы; у них не было железа для изготовления орудий и оружия, без которого невозможно охотиться на дичь и зверей, земля не давала им плодов».
Современное развитие общества, естественно, вызывает необходимость в обученных инженерах и разнообразной квалифицированной рабочей силе. Австралия должна искать иммигрантов для восполнения нехватки в специалистах. Однако нужда в них превышает предложения и во всем мире. Есть лишь один выход — привлечь японцев. Но на этот счет в Австралии существуют разные мнения. Одни говорят: большая часть нашей нефти идет в Японию. Японские суда приходят сюда для загрузки. Они забирают нашу шерсть. Невозможно торговать с людьми и не считать их равными себе, хотя это и может подорвать наш престиж «белой Австралии».
Другие придерживаются более откровенной дискриминационной политики. «Мы ничего не имеем против японцев или азиатов, — говорят они. — Напротив, это хорошие работники, отличные парни, с которыми можно иметь дело. Но их сто двадцать четыре миллиона в одной только Индонезии. Чего доброго, мы сами станем азиатами. Лучше уж перебиться без рабочей силы, чем пойти на такое».
В прошлом подобная ситуация все же приводила к притоку рабочей силы из Азии. В 1850 г. китайцы пришли на золотые прииски Виктории и Нового Южного Уэльса, а в 60–70-х годах XIX в. в Квинсленд были завезены канаки с островов Южного моря для обработки сахарного тростника. Но почти все мужчины обеих групп были репатриированы сразу же по истечении контракта. Эти события положили начало дискриминационной политике «белой Австралии». Хотя в наши дни никто не оперирует официально этим термином, подобная политика проводится с 1901 г., со времени возникновения «Содружества». Она официально не препятствует приезду иммигрантов из Азии, хотя бы тех, кто сумел получить или получил уже разрешение на работу или учебу. Однако такие случаи все же единичны. Любой человек, белый или цветной, проживший в Австралии пять лет подряд и не судившийся, может стать гражданином страны, так же как и любые мужчина или женщина, вступающие в брак с австралийскими гражданами. Эти условия открывают лазейки, которые искусно используются, например, заключаются фиктивные браки. Но все это не повлияло серьезно на проведение общей дискриминационной политики.
Иммиграционные законы официально не оговаривают расу или цвет кожи. Но в период с 1901 по 1958 г. они вменяли властям в обязанность отказывать во въезде всем, кто не сможет написать проверочный диктант из пятидесяти слов на любом «предписанном языке», который мог быть эскимосским или тибетским, если бы того пожелали проверяющие. Закон об иммиграции, принятый в 1958 г., заменил эту процедуру, оговорив получение специального разрешения на въезд для предполагаемого иммигранта. Последнее целиком зависит от решения министра по иммиграции и его чиновников. И его редко выдают африканцам или азиатам. Британские граждане в разрешении на въезд в Австралию не нуждаются. Однако, поскольку все большее число приезжающих британцев — негры, японцы или китайцы, иммиграционным властям приходится изобретать новые лазейки. Интересно будет посмотреть, что произойдет, когда британские граждане, рожденные от родителей пакистанского или ямайского происхождения, предстанут перед «белыми дверьми» Австралии.
Реки Маргарет и Фицрой казались полосками белого песка между двумя узкими ленточками деревьев, а земля, испещренная кустарниками, твердой как железо.
Пролетая над этим краем, я удивлялась, как могло здесь выжить хоть какое-нибудь животное, особенно если учесть, что за последние пятнадцать месяцев над Северо-западной территорией выпало только пять дюймов осадков.
Но животные не только живут, но и процветают, пока имеется хоть какая-нибудь растительность, пусть высохшая и колючая. Здесь, в Кимберли, районе значительно большем, чем площадь Британских островов, находится одно из прекраснейших скотоводческих ранчо (кстати, это слово в Австралии не употребляется, так как оно звучит слишком по-американски).
Долго ли еще будет продолжаться подобная эксплуатация земли? Старый образ жизни может быть и романтичен, но он уже принадлежит прошлому. Если придерживаться древней системы ухода за пастбищами, мясо так и останется плохого качества. Оно идет главным образом на котлеты и пироги, но спрос на него на мировом рынке падает. Старая система истощает землю, почти не изменяя методов производства мяса в течение ста лет.
«Нигде я не видел такого богатства и разнообразия природы, как в этих местах», — вспоминал Дюрак, который завез первую партию скота в восточный Кимберли.
Я была здесь во время засухи. Но вот проходят дожди, зеленые потоки вновь разливаются по этой волшебной тропической стране, и дикие цветы волнами поднимаются над равниной. Роскошная растительность возрождается. Но может быть, это всего лишь заблуждение. Баланс уже нарушен, плодородные травы уступили место более бедным видам, и реки, поражавшие первооткрывателей своими размерами и постоянством потоков, высохли, обнажив песчаное дно, хотя после дождей и гроз все еще превращаются п безумный стремительный поток. Зевье Герберт[82] писал тридцать лет назад: «В засушливый сезон здесь пустыня, в дождливое время — озеро».
Фоссил-Даун занимает территорию в один миллион акров. Это не так уж много, если учесть, что соседнее хозяйство Того имеет четыре миллиона акров земли. В центре участка находится дом хозяина с его конторой, в которой звучит батарейный радиоприемник. По краю расположены дом управляющего, жилые помещения для рабочих, сараи для инструмента, комната для седел, удил и аккуратно смотанных веревок, механические мастерские и кухня, которую колокольчик приглашает посетить пять раз в день.
Повар в этом хозяйстве основная фигура. Кое-кто утверждал, что его влияние и положение выше, чем у управляющего, вне зависимости даже от кулинарного искусства. Повар с копной белых волос, голубыми глазами и обожженным солнцем лицом, сразу же внушал доверие и симпатию. Он рассказал нам немного о своей прошлой трудной жизни. Родители его эмигрировали из Саррея. Потом владели маленьким участком в одном из поселений на юго-западе Австралии, где годами боролись с нищетой. Дети росли в бедности, зачастую слишком голодные и усталые, чтобы ходить в школу, которую они в любом случае бросали в тринадцать лет. Уже в детстве его искалечил полиомиелит. Теперь повар выглядел жизнерадостным и счастливым.
— Здесь мой дом, — сказал он. — У меня есть коттедж и сад, а кухня у нас лучшая в Кимберли.
За последние годы на всех таких больших станциях рабочая сила белых используется все реже и реже, и ныне большинство скотоводов — аборигены. Мужчины, главным образом полукровки, худощавые, сильные наездники расхаживают в широкополых шляпах со спущенными полями, ковбойских сапогах на каблуках и узких джинсах с низко повязанными поясами. Сигарета обычно свободно свисает у них с нижней губы.
Управляющий раз в неделю раздает сухой паек бесплатно. Рабочие получают муку, наряду с хлебом, сахар, соль, чай, фасоль или картофель, по куску мыла, банке фруктовых консервов и пачке жевательного табака. Женщины работают на кухне, в огороде и дома, а также в прачечной под открытым небом, где стирают вручную. Все здесь напоминает еще феодальные времена.
Ближайшие соседи живут в тридцати шести милях отсюда в Того, которое принадлежит потомкам Самуэля Эммануила из Нового Южного Уэльса, у которого Пэтси Дюрак одолжил деньги для покупки первой повозки. Эммануилы отправляли свой скот во вновь открытый порт Дерби, далее он шел морским путем. Дюраки же погнали его по суше, проявив при этом необыкновенное искусство и ловкость. Они отправились из Западного Квинсленда четырьмя партиями с общим количеством скота в семь тысяч пятьсот двадцать голов, шестьюдесятью рабочими волами и двумястами лошадей. Во главе каждой партии стоял кто-нибудь из Дюраков: Биг Джонни, Галвей Джерри, Лонг Майкл или Блэк Пэт. Это происходило в июне 1883 г. Переход составил около трех тысяч миль и обошелся в сто пятьдесят тысяч фунтов стерлингов, при этом выжило меньше половины скота.
Путешественников преследовали неудачи. Засуха задержала их на несколько месяцев. Люди, страдая от цинги, болели и умирали, погибал скот, пока не удалось установить, что вода, которой они пользовались, была отравлена щелочью. Много скота утонуло в трясине.
Сочные зеленые болота и равнины Северной Территории, с большими стаями диких птиц, тропической растительностью и реками, где обитали крокодилы, показались Дюракам раем после засушливого Квинсленда, но опасности подстерегали их и здесь. На реке Ропер, изнемогая от комаров и москитов, в горячечном малярийном бреду двое мужчин застрелились. Скот продолжал гибнуть от воды, зараженной клещом, завезенным с Явы.
Они преодолели реку Виктория, но здесь запасы пищи истощились и им пришлось выкапывать клубни и, подобно аборигенам, искать мед. Наконец они подошли к дереву баобаб, на реке Орд, где сделал во время разведки отметку три года назад кузен Дюрака — Стампи Майкл. Миллион акров земли, которые они заняли, получили название Аргай. Эта известная станция в настоящее время не принадлежит больше Дюракам, хотя частью ее первоначальной территории — Аувергн (в северном районе) еще и теперь владеет его внук.
Однажды ночью у реки Виктория Лонг Майкл прицелился из ружья в тень, возникшую в темноте недалеко от костра. Его вовремя окликнули. Оказалось, у костра бродил босой полуголодный Вилли Мак Дональд, один из трех братьев, перегоняющих скот вслед за Дюраками. Им еще больше не повезло. За день до того как предстояло отправиться в путь, отца сбросила лошадь, и он разбился насмерть. В Квинсленде весь скот погиб от засухи. В 1883 г. братья нанялись скотоводами, одолжили сколько могли денег, собрали еще раз небольшое стадо и двинулись на запад. На реке Ропер один из братьев серьезно заболел, и другому пришлось везти его морем домой. Вилли продолжал путь на двух лошадях в сопровождении повара-китайца. Они гнали оставшийся скот, пока не кончилось продовольствие. Путники были на грани истощений, когда их обнаружили Дюраки на берегу Виктории.
Подобно Дюракам, Вилли Мак Дональд направлялся к дереву, которое находилось еще дальше, у слияния двух рек — Фицрой и Маргарет в западной части Кимберли. На дереве была отметка Александра Форреста, экспедиция которого в 1879 г. обнаружила следы золотоносного песка среди эти хорошо орошаемых хребтов и долин. Вилли Мак Дональд нашел это дерево. На нем была вырезана буква «Ф» (сокращенно Форрест) и цифра «37» (37-й лагерь). Он захватил здесь около миллиона акров земли. Теперь эта местность носит название Фоссил Даун.
Дерева с надписью «Ф-37» уже не существует, вместо него в пень воткнута ось фургона, который тащился через весь континент, и прикреплена дощечка с фамилией. Мы отправились посмотреть это место, но нам удалось проехать не больше трех-четырех миль, так как песчаная, еще вчера сверкающая кварцем пустыня превратилась в огромное болото.
Мы устроились ночевать на лужайке под открытым небом, ясным и усыпанным звездами. Дождь начался около девяти. Мы передвинули наши походные кровати на веранду, но вскоре и ее стало заливать. Все были в приподнятом настроении — Брюс, управляющий; Аннет, дочь хозяина, и ее жених Джон, который приехал на уик-энд со станции за сто миль отсюда. Все они ожидали этого события в течение долгого времени и теперь внимательно прислушивались, как жадно впитывает влагу земля.
На следующее утро все было свежо. Призывно кричали голуби на скалах, белые какаду устремлялись вниз с деревьев и пронзительно кричали, кружась над скотобойней. На наших лицах светились улыбки. Утреннее радио сообщало сводку погоды. Она везде была плохая, и кто-то сказал жалобно: «Ну и ну! Везде шторм, кроме наших мест».
Почтальон в Фицрой-Кроссинг приняла телеграмму: «Тете Мэри в Перте. Дороти остается у Анны. Вода стоит на глубине двух дюймов. Это замечательно, не правда ли?» Затем пошли другие подобного типа. Радио передавало непрерывный ноток распоряжений и приказов. Требовали аккумуляторные батареи для грузовиков, запасные части для тракторов, винты, маховые колеса, картофельные семена, запасы продовольствия. Какой-то голос передавал заказ на бакалейные товары, в том числе две большие бутыли ванильной эссенции, что показалось мне странным. И тут я впервые узнала, что ванильная эссенция опьяняюще действует па здоровый организм. Повара на станциях ответственны за заказы на продовольствие, а не за спиртные напитки. Несомненно, тут намечалось какое-то празднование.
Вода после грозы заполнила обмелевшие озера Фоссил-Дауна. Лошади купались. Сотни их сгоняли сюда для отбора на предстоящем ежегодном смотре, который длится около шести месяцев. Дождь, конечно, затруднит дело, но это никого не беспокоит — радн него можно перетерпеть все.
Жизнь объездчиков не легка. Они спят под открытым небом; в любую погоду, даже в ненастье, в четыре часа уже в седле и остаются в нем до темноты. Питаются пресными лепешками и соленым мясом, которое носят в мешках; пьют крепкий, пахнущий дымом очень сладкий чай, приготовленный в жестяных походных котелках. Они не бывают дома от пяти до шести недель кряду, пока не пригонят свое ревущее, месящее грязь стадо на пункт, где его сортируют и отбирают: качественные экземпляры на мясокомбинат Брума; только что отлученных от матери телят — для клеймения; телок — к быкам для спаривания. Затем объездчики выезжают снова. Как правило, в каждом отряде имеется одни белый наездник, остальные аборигены. Настоящий скотовод должен всегда быть готов к тому, чтобы выпрыгнуть из седла, схватить дикого буйвола за хвост, умелым движением повалить животное весом более чем в полтонны, затем связать его ноги, сесть на спину и с чьей-нибудь помощью поставить клеймо, кастрировать прямо на месте и отпилить рога.
Некоторые животные убегают, поэтому в этих районах бродит много диких буйволов, но в конце концов и их ожидает общая участь. Скотоводство ведется довольно кустарно, и ничего, по-видимому, здесь в ближайшее время не изменится. Одна изгородь на станции стоит шестьсот фунтов за милю и даже дороже. При этом надо учитывать, что на Фосснл-Даун, например, самая дальняя граница участка находится в восьмидесяти милях от усадьбы. Вот почему владениям нужен большой капитал в масштабе, который может быть обеспечен лишь компаниями с безграничными ресурсами. Если вычесть стоимость перевозки, три или четыре годовалые коровы приносят сорок фунтов дохода каждая. Но жизнь животных целиком зависит от состояния пастбищ, и во время засухи они не всегда выживают.
В Фоссил-Дауне скотоводы загоняли стада лошадей во двор. Крепкие, тонконогие, с худыми боками животные. Выведенные от чистокровных производителей, они были быстрыми на коротких дистанциях и выносливыми на длинных. Умные и сильные лошади переносили многое. В Фоссил-Дауне их насчитывается около пятисот. Более точного числа никто не знает до тех пор, пока всех животных не сгонят для клеймения. Падежи очень большие. У многих поломаны ноги и повреждены спины, но самые большие потери идут от потравы травой, которая губительно действует на печень. Научное ее название Crotalia relusa.Ошеломленная лошадь не может остановиться на полном скаку, не может свернуть в сторону. Если она встречает на пути какое-нибудь препятствие, будь то стена или дерево, то натыкается на него головой, вместо того чтобы отойти, и в конце концов падает и умирает. Лечения пет никакого. Ученые нашли лекарство для иммунизации животных, но оно еще не введено в практику.
Каждый скотовод держит своих лошадей и пополняет на ежегодном смотре скота. В сапогах со шпорами и широкополых ковбойских шляпах, завязанных на подбородке, со свисающими изо рта сигаретами они сидят на деревянных перилах, подогнув ноги, их широкие опаленные солнцем лица неподвижны; они смотрят, прищурив глаза, на стадо лошадей, которые, опасаясь докучливых мух, вскидывают гривы и обмахиваются хвостами, поднимая копытами пыль во дворе. Но вот кто-либо из них высмотрел лошадь. Он поднимает руку или кивает головой, и лошадь на этот сезон будет принадлежать ему. Если два человека выбирают одну и ту же лошадь, они в конце концов договариваются по-хорошему, иногда бросая в качестве жребия монетку. Затем каждый скотовод укрощает новую лошадь и ухаживает за ней.
В ту ночь мы снова выставили наши кровати на лужайку, но в полночь проснулись от дождя, выбивавшего барабанную дробь по железной крыше. Днем Джон все время нервничал, так как боялся, что не сможет вернуться к своим овцам. Он должен был пересечь пересохшую реку Маргарет. Но если воды реки наполнят русло, он будет вынужден слоняться без дела несколько дней или недель, а если Маргарет выйдет из берегов, то его вынужденное бездействие может продлиться и месяц. Брюс повез Джона в «джипе» по дну реки, которое уже было на шесть дюймов покрыто водой. Наступило утро, а Брюс все еще не возвращался. Вокруг нас вся равнина оказалась затопленной, за завтраком (бифштекс, жареные яйца и картофель) все чуть ли не пели от радости. В нескольких сотнях ярдов от имения дорогу пересекал обмелевший ручей; накануне я его даже не заметила, а сейчас он превратился в стремительный поток.
— Мы перейдем его вброд, — сказала Аннет.
Вскоре, однако, пришлось плыть. Вода была довольно холодной, вся коричневого цвета, как тянучка из сахара. Каждый ручеек на холмах каскадом устремлялся вниз, смывая, на пути мелкий песок от скал и валунов. Никто никогда не строил здесь среди хребтов Кинг-Леопольд плотин, барьеров, трасс, защитных сооружений от эрозии почвы. Мы плыли, шли вброд, снова плыли, хлюпали по колено в грязи, в теплой конфетной жижице, пока не достигли плоского берега реки Маргарет. Она действительно стала теперь рекой — около сотни ярдов ширины, пятнадцати или двадцати футов глубины — и несла с собой бревна и стволы деревьев. На другой стороне была отмель, где виднелась маленькая фигурка. Мы узнали Брюса.
У нашего берега реки была привязана небольшая шлюпка. Однако мотор ее упорно отказывался работать. Более часа два парня тянули его на веревках через болота к механику. Брюс сидел, терпеливо ожидая; несомненно, он был голоден, так как опоздал к завтраку. Парни вернулись, но мотор продолжал капризничать. Прошел еще час, и Аннет предложила грести. Эта идея была подхвачена с энтузиазмом. Ребята забрались в шлюпку, но тут один из них уронил весло, которое сразу пошло ко дну. Брюс поднялся на ноги, но потом сел снова. Он опять остался без еды.
Решили, что мотор не заводится из-за отсутствия горючего. Одного из парней направили за ним с канистрой, и через час он вернулся. Мотор заправили, включили, но он дал всего лишь пару оборотов и снова заглох. Брюс пересел подальше, так как вода все прибывала.
Мы попытались сделать самодельное весло, но и эта попытка окончилась неудачей. К этому времени Брюс пропустил уже и обед. Все вернулись снова к мотору, подвергнув его тщательной проверке, но так ничего и не смогли обнаружить. Мы помахали Брюсу, стоявшему на том берегу. Все по очереди дергали за веревку, чтобы включить мотор, но безрезультатно. Мы старались изо всех сил, пока не пришло время полдника. Брюсу оставалось только посочувствовать.
Время шло, солнце стало красным, потом оранжевым и наконец опустилось за плоский горизонт. Стало темно. Тут парням удалось наконец переправить лодку на тот берег с помощью одного весла и шеста. Брюс был доставлен насквозь промокшим и голодным, но целым и невредимым и отнюдь не в плохом расположении духа.
— Уже воскресенье, — сказал он. — Я мечтаю о чае.
В тот день не было произнесено ни одного сердитого слова.
На следующее утро радио опять уделило много времени сводке погоды, в которой вновь сообщалось о дожде. И это прекрасно, так как влага здесь — великое благо. Земля станет пористой, как губка. Но вот такие гости, как я, будут теперь прикованы на несколько недель. И как бы ни было нам приятно в этом гостеприимном доме с лучшей кухней в Кимберли, дальнейшее пребывание в нем расстраивало наши планы. Поэтому мы вызвали такси по радио из Дерби.
«Джип», который доставил нас к полевому аэродрому станции, оставлял глубокую колею на земле, тут же заполнявшуюся водой. Воздух был насыщен влагой и теплом, птицы устремлялись вниз и пронзительно кричали. Все живое чувствовало прилив сил и энергии. Казалось, гидросамолет был бы более подходящим в данных условиях, но взлетно-посадочная площадка оказалась удачно расположена, во всяком случае ее край находился выше уровня воды. Мы отогнали стадо лошадей и прикрепили колышками простыню. Несмотря на то что с запада гроза приближалась, самолет приземлился. Вода струей била из-под его колес, и машина тишь чудом не погрузилась в воду.
— Все в порядке, — сказал пилот.
Вскоре простыня, быстро удирающие лошади и блестящая амальгама земли и воды оказались под нами, а одинокая группа построек скрылась из поля зрения.
Через несколько месяцев Аннет выйдет замуж. Брюс и его друзья по-прежнему будут пасти скот в горах. Большой дом опустеет, станет безмолвным, и только повар останется на месте ухаживать за огородом.
Мы подлетали к Фицрой-Кроссингу одновременно с грозой. Яростная буря бросала на машину потоки дождя. Это был шторм, который, казалось, хотел все разрушить. Дождь яростно барабанил в окна, и мы с трудом пробивались в сплошной тьме. Наконец пилот кое-как посадил самолет, хлюпнувшись в грязь. В двадцати ярдах от нас стояла хижина, но я промокла до нитки, пока добежала до нее, в то время как пилот крепил машину к столбикам. Прибыл грузовик, и мы на большой скорости промчались по образовавшемуся озеру, которое затопило группу зданий, включая отель на высоких сваях. Несколько печальных аборигенов столпились на веранде, двое из них молча сидели в баре. Москиты гудели, комары кусали непрерывно. Стук дождя и бушевавший с прежней силой шторм не давали говорить.
Через час буря стала утихать, подобно затихающим звукам оркестра. Завеса поднялась, и открылось яркое голубое небо. Позади длинных полос радуги сначала нерешительно, затем с окрепшей уверенностью показалось солнце, стало заметно теплее и тише, и лишь радио, подобно заблудившейся овце, блеяло в пустом баре.
«Орд» — это проект ирригации. Пока он еще только значится на бумаге, но на месте вера в него непоколебима. Если у вас есть вера, вы верите со страстью и обращаетесь в эту веру с жаром. Если вы неверующий, вам лучше держаться подальше. Таким неверующим стал человек, которого считают в какой-то степени антихристом. Это — экономист, доктор Брюс Дэвидсон. Бывший научный сотрудник университета в Перте, он уехал на расстояние в две тысячи миль до Кунунарры (штаб «Орд»), перейдя в Сиднейский университет. Почти с фанатической страстью доктор Дэвидсон отрицает проект «Орд». Он написал книгу, полную статистических выкладок в подтверждение своих взглядов.
— Он побоится приехать в Кунунарру, — говорит один из «верующих», скрежеща зубами. — Мы пригласили его для открытой дискуссии, но он увертывается. Знает, что от него не останется мокрого места.
Проект ирригации земель на базе реки Орд грандиознее проекта строительства плотины. В период засухи здесь должен будет расходоваться запас воды из целой цепи бассейнов, а во время дождей она устремится со скоростью один кубический фут в секунду и станет орошать большие пространства окружающих полей. Проект — символ развития севера, и вера в него в крови у местных жителей.
Одна треть континента лежит севернее южного тропика. Здесь расположены последние оставшиеся незаселенными земли, которые ждут своего освоения и развития, но пока они в основном безлюдны, и деятельность человека их не коснулась. Заселить эти районы и начать там трудиться — значит возродить север. Австралийцы боятся, что если они сами не сделают этого, то осуществят проект другие. Дело в том, что любая неиспользованная и еще не населенная часть страны — вызов для англосаксов. Большинство людей, воспитанных в других традициях, не чувствуют подобных побуждений, а некоторые имеют даже склонность остерегаться пустых пространств, но для жителей Северо-Западной Европы пустые территории представляются своего рода упущениями, с которыми надо бороться. Не является ли тут главной причиной желание утвердить свое господство? Во всяком случае «антихрист» Дэвидсон, который пишет книгу под названием «Северный миф», чтобы доказать, что на севере нельзя получить урожаи дешевле, чем в областях, лежащих южнее тропика Козерога, может рассчитывать лишь на то, что его «забросают камнями». По мнению Дэвидсона, на севере стоит производить только мясо. Его оппоненты утверждают, однако, что скотоводство истощило землю, оставив пустые земли, и задерживает развитие всего района.
Дэвидсон внушает австралийцам, что они выбросят свои деньги на ветер, если будут вкладывать их в проекты, подобные «Орду». Хлопок можно, конечно, здесь вырастить, но урожаи будут ниже и себестоимость выше, чем в орошенном уже районе Муррумбиджи в Новом Южном Уэльсе, который способен обеспечить хлопком всю Австралию, и не одну ее. Дэвидсон даже обвинил западных австралийцев в том, что они в корыстных целях используют проект «Орд», чтобы выкачать деньги у Центрального правительства. Не удивительно, что в Кунунарре есть немало людей, которые жаждут его крови. Они утверждают, что единственный бог доктора — это экономика. «Если проект не оправдывает себя, от него следует отказаться. Это вопрос не денег, а ресурсов. Если вы выращиваете хлопок на субсидии, то просто зря тратите свое мастерство, энергию и эксплуатируете машины, которые могут и должны быть с большей пользой использованы на юге», — утверждает Брюс Дэвидсон.
Спор продолжается. И Дэвидсон, находясь в безопасном отдалении, пускает свои стрелы, отравленные статистикой, на проекты, парящие на крыльях надежды.
«Орду» и без того мешает отводная плотина Бандикут Бар, строительство которой закончилось в 1963 г. Урожай первых орошенных земель уже реализован. Орошено около тридцати тысяч акров. Выбрано место в тридцати милях вверх по реке для основной дамбы, которая, по подсчетам, должна стоить сорок миллионов фунтов и оросить двести тысяч акров — в основном район Арджайн-Даунс, первую станцию Дюраков.
Почти любое растение может вырасти при условии проведения ирригации на этой черной глине, которая превращается в липкий и вязкий клей, когда она влажная, и запекается в неподатливый ломающийся пласт, когда сухая. С 1946 г. здесь расположилась исследовательская станция. Ее открыл Ким Дюрак, внук Пэтси. После опытов с рисом, сахарным тростником, земляным орехом и хлопком агрономы остановились на хлопке, преследуя двойную цель: во-первых, текстильным фабрикам нужна своя отечественная корпия, которую пока ввозят из Америки, и, во-вторых, отходы от хлопкового семени с высоким содержанием белка являются хорошим кормом для скота. Так что хлопок стали культивировать на орошенных полях, где всего три года назад росла жесткая сорняковая или бамбуковая трава.
Орошенную землю поделили на участки по шестьсот акров. В настоящее время поселенцы живут не здесь, а в Кунунарре, где имеется школа, клуб и их женам предоставляются кое-какие бытовые услуги. Дома из готовых конструкций хорошо оснащены, но они дороги. Две тысячи фунтов — стоит только привезти их из Перта. Мужчины должны преодолевать не менее двадцати миль, чтобы добраться до своего хлопка. Все те, с кем я встречалась, предпочитали ездить, а не жить рядом с полями. Многие остаются, правда, на ночлег в сарае для инструмента, который каждый поселенец обязан построить на своем участке, согласно договору об аренде. Сама земля очень дешева (каждый участок сдается в аренду на тридцать лет по два фунта за акр), но стоимость обработки велика. Любая уборочная машина стоит двадцать тысяч фунтов, а тяжелый трактор, совершенно необходимый здесь, около шести тысяч. Каждого поселенца предупреждают, что он должен затратить по крайней мере сорок четыре тысячи фунтов на технику и, кроме того, приобрести удобрения, разбрызгиватели, семена, возвести ограду и оплатить стоимость корчевки и посадки. Бедному человеку тут не место.
Одного из пионеров, г-на Арбакла, мы нашли. Он ночует здесь с двумя сыновьями. Все трое — рослые, сильные, с густой растительностью на груди. Они медленно говорят, но чувствуется, что знают свое дело, и, прокопченные солнцем, как бы олицетворяют силы природы. До переезда на реку Орд Арбакли имели хозяйство в окрестностях Перта, но, не выдержав конкуренции с итальянцами, все бросили. Здесь, на Орде, за два сезона они засадили хлопком четыреста тридцать акров земли и собираются посеять еще больше. Я спросила, какие здесь есть проблемы. Последовал короткий ответ: «Насекомые».
В местном бюллетене говорится, что хлопок наиболее привлекательная пища для вредителей; имеется двадцать видов, нападающих на растения. Шесть из них считаются наиболее серьезными. Самая страшная личинка Prodenia.Ее знали еще в древнем Египте, где относили к одному из семи несчастий, но и в Австралии она хорошо прижилась. Одна самка этой маленькой ночной мошки может вывести до двух тысяч прожорливых личинок; она откладывает яички через каждые двадцать восемь дней. Гусеницы поедают листья хлопка, превращая их в кружева. Другой вид, отдаленно относящийся к совкам (Heliothis), — также приносит огромный вред.
Что бы ни думали о вреде современного химического опрыскивания, без него вряд ли удалось бы получить хоть один фунт хлопка на Орде. Каждый сезон необходимо опрыскивать участки с вертолета, и не один, а не менее шестнадцати раз. Каждый вылет обходится в пятьсот фунтов и более. Один фермер говорил мне, что ему эта операция стоила тысячи три фунтов. Фермеры хотят засадить хлопком от трехсот до четырехсот акров земли, и борьба с насекомыми будет стоить им от восьми до десяти тысяч фунтов в год.
Растения и земли вокруг них на поле Арбакла покрыты личинками Prodenia,которые погибают на следующий день после обработки новейшими химикатами, причем последние проникают в сок, не причиняя вреда растениям. Кого еще они убивают, не совсем ясно, может быть, птиц или пресмыкающихся. Ученые пытаются все время сузить область распространения яда, так, чтобы он убивал только один тип насекомых. Но и этому есть предел. То, что мы называем загрязнением среды, — плата за урожаи на том уровне, который необходим сейчас для того, чтобы кормить, одевать и обеспечить жилищем человечество. Ведь оно умножается с такой же быстротой, как и плодовитые мушки, уничтожаемые химикалиями.
Насыщенная влагой атмосфера Орда не только благотворно сказывается на росте хлопка, но также подгоняет и рост других растений. Один хлопковод говорил мне, что двадцать шесть акров его хлопка поражены ползучим пыреем, и он проводит шесть ночей в поле на тракторе, пытаясь справиться с ним, а шесть дней в неделю работает по восемнадцати часов в сутки. Этот хлопковод не был коренным земледельцем. Раньше он работал в одной лаборатории Мельбурна и был вынужден каждое утро совершать поездку за пятнадцать миль от дома и лишь вечером возвращаться в свою семью к шести маленьким детям. Ученый подал заявление о приобретении фермы на Орде. Когда оно было удовлетворено, семья погрузила все имущество в две машины с прицепами и, преодолев расстояние в две тысячи миль, обосновалась на новом месте. Здесь их ожидали четыреста акров земли, густо заросшей кустарником, и еще двести акров, подготовленных к посадке, расчищенных правительством Западной Австралии. С помощью одного аборигена ученый посадил хлопок и выкорчевал еще сотню акров.
Каковы бы ни были потери хлопка из-за большого количества вредителей, производство его на душу населения на Орде самое высокое в Австралии.
Брюс Дэвидсон подсчитал, что на тропическом севере один работник производит продукции стоимостью в восемь тысяч восемьсот фунтов по сравнению с четырьмя тысячами четырьмястами фунтами на одного рабочего в зоне разведения овец и посевов пшеницы штата Виктория, что тоже достаточно высокая цифра по мировым стандартам.
Единственными поселенцами на Орде, имеющими опыт бывалых хлопководов, являются несколько американцев, которые выращивали хлопок в Аризоне до тех пор, пока засоленность почвы не стала угрожать их бизнесу. Им нравится Орд, и они не боятся вредителей. «Мы справимся с ними, — говорят американцы, — да и ученые придут нам на помощь; нынешний урожай будет качественней и богаче в четыре, пять раз». Около сорока ферм уже готовы работать на условиях аренды по экспериментальному проекту «Орд», а в дальнейшем все будет зависеть от строительства большой плотины, если оно когда-нибудь осуществится.
Река Орд не единственная в районе Северо-Запада, которую можно использовать для орошения. Еще большие территории могут быть освоены на реках Фицрой и Маргарет. Имеется земля и вода, но отсутствуют рынок и энергия. Впрочем, последняя (и довольно дешевая) может быть получена при производстве ирригационных работ.
Кимберли — одна из самых малонаселенных областей в мире. Но с ее развитием все должно измениться. В 1918 г. центральное графство в Англии имело лишь шестьдесят семь избирателей, а в настоящее время их уже около четырех тысяч пятисот. А ведь район Кимберли значительно больше, чем вся Великобритания.
Однако здесь надо преодолеть значительные технические трудности. Прежде всего избавиться от ила, засоряющего дамбы. Государственный департамент сельского хозяйства пытается возродить около двух тысяч квадратных миль областей Орда, предоставляя скотопромышленникам возможность выращивать на правах аренды различные травы, способствующие борьбе с эрозией почвы. Но мало что можно сделать без ограждений, а кто будет платить за них? Это тот орешек, о который многие сломали себе зубы. Вообще же хорошие хозяева должны кормить свой скот, особенно оставленный на приплод, и в сухой сезон, а ведь жмыхи хлопковых семян — в это время отличная пища.
Как мне сказали на исследовательской станции, в настоящее время половина производителей в Кимберли и около трех четвертей телят умирают от недоедания и слабости. Практически не существует консервации корма, не высаживаются кормовые культуры, отсутствует сено и силос, не используется севооборот, не говоря уже о подкормке белковыми продуктами. Все это свидетельствует о примитивной форме использования земли.
Некоторые женщины из Кунунарры покупают мясо в Айвенго, на землях, раскинувшихся на другом берегу реки. Большая их часть уже используется и еще больше будет использовано по ирригационному проекту. Интересно, что именно в Айвенго родился Ким Дюрак, впервые вырастивший урожай в Кимберли. Новый проект пробудит, вероятно, воспоминания об этом уже забытом пионере с Орда. За зданиями ныне заброшенной, чтобы возродиться заново, станции Айвенго тянутся равнины Ниггерхеда до самого хребта Десепшн, откуда двигались, по всей вероятности, Дюраки, Костелло, Каилфойлзы и многие другие пионеры.
Именно в Арджайл на Орде отправились Пэтси и его жена Мэри, когда их поразил финансовый крах.
Пэтси возлагал большие надежды на золотые прииски вокруг Холс-Крика и приобрел собственность в Квинсленде, но общее падение цен сделало свое дело. Банки лишили его кредита, а кредиторы прекратили платежи. Пэтси, клан которого владел одиннадцатью миллионами акров Квинсленда, потерял все. «У меня остались только молескиновые брюки, — писал он своему сыну. — Мое седло, рюкзак и жизненный опыт в твоем распоряжении».
Удрученные, но не сломленные бедой, он и его Мэри работали в своем саду, нисколько не сомневаясь, что к ним вернется удача. Но Мэри умерла от малярии, и Пэтси опротивело в Кимберли. Он все больше и больше привязывался к своему преданному и умному слуге Памкину, который пришел с ним от Куперс-Крика. Сыновья Пэтси держали свои конюшни в Айвенго, распространяя владения до окружающих хребтов, пока не заняли территорию от Орда до реки Виктория. «Люди, уже пустившие корни в стране, — писала Мэри Дюрак, — предпочитали не сидеть на месте и рассуждать, как удвоить возможности земли, которой они уже владели, а двигаться дальше и удваивать размеры своих владений». Так поступили и молодые Дюраки, пока не овладели семью миллионами акров в восточном Кимберли.
Пэтси потерял интерес ко всему. Он провел с Памкином последние дни в Айвенго. Умер Пэтси в Фримантле, а Памкин в соседнем Арджайле, где поставлена дощечка в его память. Дюраки следующего поколения были сражены отсутствием рынков, мировым кризисом 30-х годов, и все, что осталось от их империи, перешло в руки земледельческих компаний. Это навевает какую-то печаль, которой и до сих пор наполнена атмосфера Айвенго.
Когда мы достигли Кунунарры, разразилась буря, которая в тропической ярости затопила все вокруг. Орд превратилась в стремительный шоколадный поток. В Айвенго вода за ночь поднялась на пятьдесят футов, и ворота плотины пришлось частично приоткрыть.
— Подняв ворота на один фут, можно пропустить за час достаточно воды, чтобы оросить один акр земли на целый год, — сказал один из верящих в проект «Орд», но грохот шоколадной воды заглушил его слова.
Северная Территория
На станции Виктория-Ривер-Даунс начался отлов и клеймение скота. Мужчины покинули огороженные участки и выехали на пастбища, на расстояние до ста миль от дома. Участки вокруг усадьбы выглядят культурными и какими-то домашними по сравнению с холмами и криками за их пределами. Однако, проехав по одному из участков, я поразилась, как лошади ухитряются удерживаться на ногах даже на спокойном галопе. Я выдержала эту езду с трудом. Поверхность земли представляет собой груды остроконечных осколков кварца и железняка. Такое впечатление, что вы скачете по опрокинутому оврагу. Подковы звенят о камни, и приходится постоянно увертываться от стволов деревьев и низко растущих веток.
Я видела этот край с воздуха. Земля усыпана странными, мелкими кратерами с отвесными краями, которые выглядят (если это не слишком большая игра воображения) как огромные окаменевшие горшки; повсюду возвышаются холмы со срезанными верхушками, словно их сбрили бритвой. Травы нет, только кустарниковая поросль, базальт и спинифекс. Конечно же, нет ни дорог, ни крыш, ни заборов. Земля эта как бы выброшена за бесполезностью во времена сотворения мира. Именно сюда приезжают скотоводы, чтобы на полном скаку сгонять диких быков. И не удивительно, что каждому из них требуется не менее пяти-шести лошадей, которых они должны подковывать ежедневно, а то и по нескольку раз в день. Все скотоводы имеют при себе напильник для подпиливания копыт. Это — самые лучшие наездники в мире, хотя я могу вас заверить, что на выездке в Бадминтоне они не завоевали бы никаких призов.
В ближайший лагерь Пиджен Хоул, куда сгоняют скот, можно добраться на «джипе». Там я встретила одного из старейших скотоводов, Джима. Суровый, худощавый, гибкий, жилистый и загорелый, он носит обычную одежду скотовода: плотно облегающие джинсы и бутсы по щиколотку из кожи кенгуру, выцветшую хлопчатобумажную рубашку-апаш, из-под которой видна волосатая грудь, и шляпу с широкими опущенными полями. С небритого, изрытого, как грецкий орех, лица смотрят голубые глаза, к нижней губе прилип окурок самокрутки. У него ирландская фамилия, но, когда я, обращаясь к нему, назвала ее, он шагнул ко мне, взглянул свирепо и проворчал:
— Для вас просто Джим.
Я почувствовала себя еще одной проклятой англичанкой, пытающейся преподать урок хороших манер австралийцу. Если бы я была мужчиной, он сшиб бы меня с ног.
— Мы здесь все охотники за скотом, а не скотоводы, — сказал управляющий Боб Миллер.
С четырех утра Джим охотился за дикими быками. Он и его помощники, двое белых и четверо аборигенов, только что закончили связывать, кастрировать и клеймить быков, а также спиливать у них рога.
— Мы потеряли около двадцати голов, — сказал он. — Скот рвется в горы, а мы еще не подобрали своих вожаков.
Вожаки — это надежные животные, которые успокаивающе действуют на дикий молодняк. Джим и его работники стараются согнать молодняк поближе к вожакам, которые, если все пойдет хорошо, спокойно приведут его к лагерю и даже в один из загонов. Старых быков отстреливают, поскольку затраты труда на их укрощение себя не оправдывают. По дороге в Пиджен Хоул мы проехали мимо разложившихся туш животных, которых бросили там, где они упали.
Джим был скотоводом всю свою жизнь и не сменил бы свою профессию ни на какую другую.
— Я терпеть не мог воротники и галстуки, — сказал он.
Джиму около пятидесяти, он женат; жена его живет на одной из отдаленных станций. Не тяготит ли ее одиночество?
— О, нет. Ей нравится жить в буше. Однажды, когда она рожала, я отсутствовал семь недель. И она не жаловалась.
В лагерь только что прибыл новый повар. До этого в течение долгого времени они готовили сами.
— Я готов расцеловать его, — заметил мой собеседник.
Кроме повара в каждую бригаду по отлову скота входят два подсобных работника, которые ухаживают за лошадьми. В полдень они приводят отдохнувших животных в заранее условленное место и забирают от скотоводов измученных лошадей в лагерь, где лечат им растяжение связок и глубокие раны, затем стреноживают и дают отдохнуть несколько дней. Бывает, что лошадь ломает ногу или позвоночник, тогда ее пристреливают. На станции Виктория-Ривер-Даунс — две тысячи лошадей. Поголовье их иногда пополняется за счет диких особей, но на Ривер-Даунс на племя используют только чистокровных жеребцов.
Виктория-Ривер-Даунс — одно из старейших хозяйств Северной Территории. Граничащая с ней станция Александрия-Даунс превосходит ее более чем на пять миллионов акров. Виктория-Ривер-Даунс стоит на втором месте, но поголовье скота здесь, видимо, такое же. Никто точно не подсчитывал животных, но по последним примерным данным их около семидесяти тысяч голов. Повторяю, цифра приблизительная, так как в загонах находится менее половины всего скота, за их же пределами он живет и размножается бесконтрольно. Владелец станции Хумберт-Ривер, расположенной на противоположном берегу реки, сказал мне, что он клеймит только шестьдесят — шестьдесят пять процентов своего молодняка и для Северной Территории это высокий процент. Остальные животные живут на свободе, при этом самцы постепенно дичают.
Пока такое положение существует, не может быть и речи о значительном улучшении продуктивности скота, а следовательно, и повышении качества мяса. Отсюда невозможно рассчитывать на лучшие рынки и повышение цен. Нельзя говорить и об улучшении пастбищ без контроля за числом и передвижением пасущихся животных. Они питаются в основном теми видами растений, которые любят. Скот выедает их и вытаптывает, поэтому лучшие и наиболее питательные травы погибают; на этом месте вырастают более грубые и менее качественные. Таким образом, решение проблемы заключается в огораживании земель и водоснабжении, причем эти два процесса должны осуществляться параллельно.
На станции Виктория-Ривер-Даунс огораживание земель производится субподрядчиками по пятисот австралийских долларов за милю. Сюда входит только оплата рабочей силы; проволока и столбы обеспечиваются станцией. Следовательно, общая цена за милю возрастает (свыше шестисот австралийских долларов).
За последние два-три года поставлено свыше четырехсот миль ограждений, но нужно сделать еще столько же. Даже пограничные заборы еще не возведены. Пробурили сорок пять — пятьдесят скважин, стоимость которых в среднем превысила шесть тысяч долларов за каждую. А ведь нужно еще содержать две тысячи миль дорог на владениях, охватывающих сейчас три с половиной миллиона акров, что примерно равно территории Девона, Сомерсета и Корнуолла, вместе взятых. В 1907 г. пастбища на Северной Территории составляли площадь в пять миллионов акров. А когда двое мельбурнцев, Фишер и Лайонс, в 80-х годах XIX в. вступили во владение землями, их было более восьми миллионов акров — площадь, почти равная территории Голландии. С той поры владения прошли через многие руки, теряя акры в результате засухи, лихорадки, падения цен и удаленности от рынков. Было время, когда каждый третий работник станции погибал от несчастного случая или болезни. Зачастую премия за убитых динго в размере четырех долларов за голову приносила доход больший, чем стоимость быка-пятилетки, доставленного в Уиндхем.
Сейчас эта земля принадлежит компании Л. Дж. Хукера, земельного магната с юга. Со времени приобретения станции капиталовложения составили около двух миллионов долларов. И потребуются еще миллионы. Здесь решили разводить скот брахманской породы, выведенной в тропиках и считающейся более приспособленной для тропического севера, чем скот, разведенный на пастбищах холодных, влажных островов Северного моря. Более ста лет скотоводы импортировали и выращивали шортгорнов и херфордов, чьи предки происходят с Британских островов. И надо сказать, что эти породы выстояли, перенесли засухи и наводнения, переходы в тысячи миль но пустыням и тучнели на незнакомых им травах. Шортгорны и херфорды хороши, но такая порода зебу, как брахман, обладает определенными преимуществами. Их меньше беспокоит жара и мухи, они спокойного нрава, на их короткой шерсти и коже не разводятся клещи, и они с большей эффективностью перерабатывают в протеин местные сухие, волокнистые травы и кусты. Таким образом, на станции Виктория-Ривер-Даунс должны произойти перемены. Прежде всего — это война против одичавших быков. С того времени как земли перешли во владение компании Хукер, было отстреляно или кастрировано более десяти тысяч таких быков. Но пройдет еще много времени, прежде чем последний бык будет вытеснен с суровых, усеянных камнями пастбищ и установится такой контроль за телятами, при котором они, будучи клейменными, лишатся возможности жить на свободе в устьях криков.
Руководить такой станцией, как Виктория-Ривер-Даунс, все равно что управлять большим городом. Ее население состоит примерно из двухсот аборигенов и пятидесяти-шестидесяти белых; на станции есть своя почта, небольшая лечебница с постоянной медицинской сестрой; универмаг, где продается все — от гаечного ключа до губной помады и от покрышек для тракторов до детских игрушек. Продовольствие доставляется раз в год из Брисбена, расположенного в двух тысячах двухстах пятидесяти милях от станции, и в таких же масштабах, как для войсковых соединений, например тридцать пять тонн муки и двадцать две тонны сахара за один завоз.
Ближайший город — Катерин с населением в семьсот шестнадцать человек расположен в двухстах восьмидесяти милях от станции. Так что здесь не сбегаешь за угол за пачкой сигарет. В Катерине есть мясокомбинат, и откормленный скот с Виктория-Ривер-Даунс грузится здесь в автопоезда, вместо того чтобы брести по дорогам, как это было ранее, до Уиндхема, ближайшего морского порта, или за полторы тысячи миль до железнодорожной станции Маунт-Айза. До городка же Катерин скот добирается за один день, но потери могут быть значительней, чем в былые времена, когда его перегоняли на рынки: гибнет от разных причин около пятнадцати животных на сотню. Хороший же погонщик, если удача ему сопутствовала, иногда сдавал больше скота, чем у него было в начале пути, благодаря естественному приросту в дороге.
Лагерь аборигенов, расположенный вблизи усадьбы и полный собак, выглядит весьма убого. Грязные, маленькие хижины, кажется, готовы рухнуть от любого толчка. Кроватями служат листы старого рифленого железа, положенные на пустые бочки из-под мазута. На веревках, натянутых между гвоздями, вбитыми в стену, висят лохмотья; куски мешковины заменяют двери.
Аборигены, работающие на станции, живут в несколько лучших условиях; их одевают, кормят и платят наличными в пределах десяти австралийских долларов в неделю. Это составляет лишь пятую часть того, что получают белые.
С 1968 г. на Северной Территории вступил в силу закон, согласно которому аборигены должны получать равную плату с белыми за равный труд. Однако один из его пунктов гласит, что оплата труда человеку, не способному заработать минимум зарплаты («медленно работающему»), может быть снижена.
Арбитражная комиссия Австралийского Союза, юридический орган, определяющий минимальную зарплату по всей стране для всех отраслей промышленности, приняла постановление в поддержку точки зрения скотопромышленников Северной Территории о том, что большинство их работников-аборигенов в настоящее время не работают в полную силу или с полной отдачей и им не следует платить столько же, сколько белым.
В результате наниматель теперь сам решает, кого отнести к категории «медленно работающих». Дискриминация, таким образом, остается…
Возможно, впрочем, что через несколько лет неравная оплата труда исчезнет наряду с многими отрицательными традициями скотоводства, которое сейчас стоит на пороге радикальных перемен.
Виктория — широкая, затененная деревьями река, впадающая иногда лениво, а иногда бурным потоком в залив Джозефа Бонапарта между Уиндхемом и Дарвином. На ее берега слетается много птиц. Перед рассветом их голоса сливаются в сплошной хор. Я сама не в состоянии была определить, какие именно птицы создают хор. Но это сделал Майкл Шарленд в своей книге «Территория птиц». «Хор начинается робкими, неуверенными нотками медососа, — пишет он, — за ним следуют мелодичные звуки, похожие на звонок колокольчика — это пестрый серый сорокопут. Позже в хор вступают мирные очаровательные голуби, черноголовые лесные ласточки, кукабарры и, наконец, попугаи, голоса которых заглушают все».
Некоторые виды попугаев быстро надоедают. Сначала они производят потрясающее впечатление, но по прошествии некоторого времени проявляют себя как вульгарные и агрессивные птицы. Конечно, я не имею в виду ярких великолепных попугайчиков, я говорю о кореллах, летающих стаями и производящих ужасно много шума, а также белых с желтой грудкой какаду, которые, как и прочие птицы этого вида, неприятно скрипят своими хриплыми голосами.
Самая чудесная птица, из всех, что я видела на Северной Территории, свила гнездо на веранде станции Хумберт-Ривер. Это был один из ткачиков. Самец — алого цвета, за исключением голубого пятна на загривке. У самки голова красная, а спина желто-серая. Семья из пяти птичек расположилась в уютном гнездышке среди листьев папоротника, который рос в подвешенной корзинке. Самец часто усаживался на ручку моего кресла.
Большая гоанна (самая крупная ящерица Австралии) длиной в три фута, завидев меня, бросилась бежать по берегу реки и, наконец, скрылась в воде. Я удивилась, как сохранились здесь эти гигантские ящерицы, ведь за ними постоянно охотились аборигены. Мне объяснили, что теперь местные жители уже не питаются мясом гоанн. Тридцать или сорок валлаби весело прыгали по скалам между кустарниками, оставляя длинные тени.
— Вредители, к сожалению, — сказал г-н Миллер. — Люди охотятся на них из спортивного интереса.
Самые опасные сельскохозяйственные вредители — это динго. Их травят и убивают. По мнению Миллера, в горах водится также не менее тридцати-сорока тысяч диких ослов. Был год, когда станция Виктория-Ривер-Даунс выплатила премии за пятнадцать тысяч ослиных ушей. Но это ровно ничего не дало, так как туши оставляли гнить в зарослях, а ими стали кормиться вороны и те же динго.
Я провела День ветерана в городке Катерин. От Брума до Брисбейна, от Кейп-Йорка до Олбани в этот день десятки тысяч медалей достаются из шкафов и комодов и прикалываются на рубашки и пиджаки. Их владельцы выходят на улицы и шествуют за духовым оркестром. Сухой закон в этот день не соблюдается, каждый может напиться, и сотни людей именно таки поступают. Полиция ни во что не вмешивается, хотя готова погасить любой скандал. Большинство женщин остаются дома. День ветерана теперь отмечается как праздник нации и день памяти павшим в двух мировых войнах.
Свыше двадцати жителей Катерина рано утром, когда было еще темно, отправились к заутренней службе. Хотя термометр на веранде неизменно показывал свыше 100° (по Фаренгейту), было прохладно, и все одели свитера. Традиционным местом встреч в День ветерана являются мемориальные памятники, одинаковые во всех городах и деревнях — фигура солдата из белого гипса, который стоит, расставив ноги и склонив голову над винтовкой, перевернутой штыком вниз. Катерин слишком мал даже для такого алебастрового солдата, поэтому центром здесь служит расположенный недалеко от школы небольшой открытый с боков павильон, памятник капралу, погибшему в авиационной катастрофе. Когда небо на востоке начало светлеть, подъехал католический священник, и мы все собрались вокруг павильона послушать его короткое обращение, после чего трубач Армии Спасения проиграл побудку. Затем мы разошлись, чтобы выпить горячего чая.
После завтрака состоялось главное событие дня — парад бывших военнослужащих — людей среднего возраста. Колонну возглавляли два толстых человека в круглых шляпах и очках, за ними шла разношерстная группа; у всех на груди сверкали медали. Затем прошли три бойскаута с барабанами, нестройная группа их младших товарищей и девочек-скаутов. Зрителей почти не было. К этому времени уже стало жарко; ярко светило солнце, воздух насытился влагой. Больно кусались мухи и мошкара.
Парад закончился у школы, где был приспущен флаг, а по углам памятника капралу стояли летчики с винтовками. Еще одно короткое обращение священника, и затем — гимн. Директор школы вышел вперед; ему был вручен чек на двести долларов, предназначенных для строительства мемориальной арки (сумма оказалась недостаточной, и ее использовали на приобретение книг для школьной библиотеки). Немного поговорив, все разъехались, женщины по своим кухням, а мужчины по пабам. Жалок тот, кто хоть немного не выпил в День ветерана!
До того как в Топ Энде появился асфальт и взлетно-посадочные полосы, в период муссонных дождей все чувствовали себя как на необитаемом острове. Ни одна повозка с продовольствием не могла проехать, ни одна лошадь не была в состоянии переплыть разлившиеся реки. Если у вас кончился чай, вы обходились без него, если происходил несчастный случай — либо выздоравливали, либо умирали. Местная легенда рассказывает о ковбое Коллинзе, которому бык распорол живот. Он зашил себе рану иглой для мешковины, в которую вдел конский волос, сел на лошадь и поехал в Катерин, но шов лопнул и внутренности вывалились. Тогда он зашил себя еще раз и продолжал путь. Коллинз выжил и живет до сих пор. Я должна была встретиться с ним, но ковбой в это время лежал сраженный слепотой. Это обычный и чрезвычайно болезненный недуг во время засухи.
«Яркая личность», — говорят о нем люди. Жители Территории считают, что и «личности» такая же их принадлежность, как говядина и буйволы. Подобно высоким деревьям, «личности» для своего развития нуждаются в свободном пространстве. Люди же, зажатые на небольшом участке земли, становятся однообразными, как кустарник и малли. На Северной Территории места достаточно, и если разбросать по ней людей, то получится одиннадцать человек на квадратную милю. Фактически же население сгрудилось в основном в Дарвине — с одного конца шоссейной дороги — и за тысячу миль от него в Алис-Спринге — с другого. Совеем немного людей живет вдоль шоссе в таких городках, как Катерин, Теннат-Крик и Ньюкасл-Уотерс. В Англии же плотность населения составляет пятьсот семьдесят человек на квадратную милю и около ярда на человека, если все население расположить вдоль морского побережья.
Некоторые семьи как бы отбились от общего стада, обосновавшегося вдоль шоссе, и поселились в таких местах, как Борролула, заброшенном маленьком поселке на извилистой реке, впадающей в залив Карпентария. Именно здесь начал свою удивительную карьеру человек по имени Уильям Харни[83], взятый под стражу за мошенничество — клеймение молодняка, пасущегося на свободе. Его посадили на сутки в тюрьму. Но в ту ночь начался сезон дождей и Харни задержался там на шесть месяцев. В маленьком здании суда находилось шесть ящиков с книгами, непонятно почему подаренными фондом Карнеги несуществующим гражданам Борролулы. Харни долго пасся среди томов, выдержавших атаки термитов и не погибших от плесени, и к концу сезона дождей такие писатели, как Геродот и Плутарх, Ч. Диккенс, О. Бальзак и Ф. Достоевский, стали его близкими друзьями. У него родилась даже идея самому взяться за перо.
Сам Уильям Харни в своей книге «Печаль, радость и аборигены» по-иному рассказывает эту историю. Бывший полицейский Борролулы Пауэр получил, по его словам, библиотеку от попечителей фонда Карнеги. Харни узнал о ее существовании по листкам из «Биографии» Плутарха, которые он нашел в отхожем месте местного паба. Проезжая через Борролулу по делу, отнюдь не противоречащему закону, он порылся в забытых ящиках, хотя и нет уверенности в том, что остался изучать их содержимое. Харни был бродягой, путешественником, охотником за трепангами и жемчугом, продавцом скота, прядильщиком и трубадуром малообжитых районов. Он женился на девушке-метиске и после ее смерти от туберкулеза поселился с двумя детьми в хижине на окраине Катерин среди отбросов общества, разорившихся, потерпевших жизненное крушение людей, метисов и отверженных. У них не было имен, а только такие клички, как Погонщик молодых быков, Эксперт (видимо, по заточке ножниц для стрижки овец), Ассенизатор, Студент. Последний жил в цистерне ёмкостью в две тысячи галлонов, прибитой к могучему дереву. Здесь Харни воспитывал своих детей, получая пособие по безработице, и брался за любую работу, которую только мог найти и выполнить, используя древний грузовик, названный им «Мускулом». Лучше всех к нему относились аборигены, чьим родственником он стал, не потому, что женился на метиске, а потому что был отцом детей, принадлежавших племени его жены; это давало ему возможность предъявлять права на свою принадлежность племени. Правда, его сосед Руби (из племени его жены) не питал особого уважения к Уильяму. Во-первых, последний нанес обиду некоторым родственникам, не послав им пучки волос умершей жены, и, во-вторых, предпочитал держать вещи и деньги у себя, вместо того чтобы разделить их с другими. Что же касается отношения к нему белых, то Харни язвительно замечает, что хотя они сами и не брезгали сожительством с местными девушками, даже горделиво хвастались количеством любовниц, но отвернулись от него, стоило ему жениться на метиске.
Это трагическая история. Любимая дочь Уильяма умерла, когда ей было девять или десять лет, сын утонул в пруду в Алис-Спрингс в пятнадцать лет, спасая жизнь товарища. «Печаль, радость и аборигены» и другие книги Харни, по-моему, дают самую правдивую и честную картину жизни человека из буша и жизни племени аборигенов, куда чужаки обычно не допускаются. Тот факт, что организаторы американо-австралийской научной экспедиции в Арнхемленд в 1948 г. выбрали Харни своим гидом, свидетельствует о многом. И читатели популярных журналов, и ученые относятся к нему с глубоким уважением за отличное знание малообжитых районов и местного населения.
Другая яркая фигура — Тимоти О’Ши — содержал кабачок, который после смерти хозяина перешел по наследству двум из его семи дочерей. Семья О’Ши приехала в Топ Энд в фургоне в сопровождении коз и кур. Они направлялись в золотоносные районы Западной Австралии, но к тому времени, когда добрались до Пайн-Крика (к северу от Катерин), там тоже началась золотая лихорадка. О’Ши с семьей остались здесь, устроив себе кров из ветвей и мешковины. Тут же был установлен кузнечный горн.
— До сих пор я помню яркий огонь горна, — сказала мне госпожа Керней, одна из дочерей О’Ши. — Ни у кого не было более счастливого детства, чем у нас. Частенько двадцать-тридцать детей отправлялись вместе с аборигенами на телегах, запряженных волами, на прогулку. Аборигены показывали, как выкапывать съедобные корни, ловить ящериц и охотиться за яйцами черепах на берегах рек. Они инстинктивно чувствуют, где следует копать песок, чтобы отыскать гнездо с яйцами, спрятанными на глубине до двух футов. Причем яйца всегда были холодны как лед.
Госпожа Керней помнит также, как ночью в буше загорались огоньки, мерцавшие вокруг, словно светлячки. Это китайцы работали в своих садах по ночам при свете ламп после тяжелого рабочего дня под палящим солнцем на железной дороге, которую вели из Дарвина. Она помнит еще глиняные печи в зарослях, на которых поселенцы зажаривали целые туши свиней.
На железной дороге Дарвин — Барранди работали тысячи людей. Платили им всего тридцать пять центов в день, и многие умерли от лихорадки, цинги и болезней, особенно в сезон дождей. Некоторые рабочие по истечении контракта все же оставались здесь, чтобы, как отмечалось в официальном докладе, «скальпировать силурийскую породу самым безжалостным образом» и «незаконно добывать золото». Кое-кто открыл свои собственные магазины, а многие китайцы вернулись на родину, особенно после того, как был принят закон о иммиграции 1888 г., по которому разрешался выезд из Китая одного иммигранта на каждые пятьсот тонн груза, что означало фактическое прекращение иммиграции.
Дикая поросль поглотила сады, где раньше мерцали фонарики, и похоронила печи. Кое-кого из потомков золотоискателей можно и сейчас встретить в Дарвине.
А в Пайн-Крике живет китаец Джимми А Той — владелец процветающего магазина. Его сын окончил экономический факультет университета в Аделаиде.
Сезон дождей начинается тяжелыми штормами. Реки приходят в ярость, все покрывается водой; передвигаться на колесах можно только по шоссе. Растения вытягиваются прямо на глазах. Обычно это продолжается четыре месяца — с декабря по март. Потом начинается сухой сезон. За четыре зимних месяца — с июня по сентябрь — выпадает очень мало осадков.
Экономика района базируется на травосеянии и скотоводстве. Почвы бедны, травы тощи, природа забыла забросить сюда бобовые, которые помогли бы восполнить недостаток азота. Поэтому выгуливание скота на местных пастбищах дело трудное и длительное. Должно пройти пять, а то и более лет, чтобы животные достигли забойного веса, а их состояние в большой степени зависит от сезона. Когда начинаются дожди и все вокруг расцветает, скот набирает вес сначала быстро, затем медленнее. С наступлением засухи вес начинает падать и возвращается к исходной точке. Подопытный скот терял в среднем одну пятую веса в период с мая по ноябрь, а прирост живого веса в среднем составлял одну сотню на общий вес в год. На этих пастбищах забивают не более четырех-шести животных на квадратную милю. В таких условиях для повышения производства говядины в Топ Энде мало что можно сделать.
КСИРО создал в Катерин научно-исследовательскую станцию, где работает молодежь, чей энтузиазм и вера в свое дело заражают посетителей. Сотрудники станции утверждают, что двадцать миллионов акров буша только в районе Катерин, на площади, в четыре раза превышающей Уэльс, имеют высокий сельскохозяйственный потенциал. Здесь можно было бы выращивать культуры, либо потребительские, например земляной орех, рис, сорго, сахарный тростник, либо на корм скоту, который, в свою очередь, дает мясо людям. Основная проблема сводится к выращиванию кормов для скота в сухой сезон, к перестройке пастбищ, чтобы на них можно было пасти большее поголовье, которое будет набирать вес быстрее и в течение всего года.
Ученые, правда, относятся к проводимому эксперименту скептически. Надежды здесь возлагаются на три экзотических растения: таунсвилльскую люцерну, которая на деле совсем не люцерна и не произрастает в районе Таунсвилла (Квинсленд), а происходит из Центральной Америки (ее латинское название Stylosanthes humilia), многолетнюю траву Cenchrus setigerusи тростниковые (Pennisetum typhoideum)растения. Эти травы способны поддерживать вес скота, быстро набранный в сезон дождей, и поднимать его в сухой сезон.
Боюсь, что здесь не обойтись без статистических данных. Обычно количество поголовья на природных пастбищах в этих районах составляет, в лучшем случае, одно животное на сто двадцать акров, в то время как на тростниковых травах можно пасти одну голову на каждой половине акра — то есть в двести сорок раз больше. В первые шесть недель сезона дождей животные ежедневно дают привес в среднем более трех фунтов вместо четырех с половиной унций. Они не только не теряют в весе в сухой сезон, но сохраняют его и даже немного набирают. На природных пастбищах животные обычно используют менее пяти процентов сухого вещества в растениях; на тростниковых — до шестидесяти. И наконец, продуктивность пастбищ, засеянных вышеуказанными травами, при проведении одного из экспериментов в сопоставлении с увеличением живого веса рогатого скота возросла в сорок пять раз.
Что это могло бы дать миру, страдающему от недостатка протеина? Его на той же площади можно увеличить в сорок пять раз. Некоторые специалисты считают, что продуктивность могла бы возрасти в шестьдесят раз — просто нужно сеять другие травы и хорошо ухаживать за ними. Если бы удалось поставить все это на коммерческую основу, то протеин получили бы все те, кто так в нем нуждается. Но мы сейчас еще очень далеки от такой перспективы. Опыты только начаты, возможно, что надежды, возлагаемые на них, слишком оптимистичны. Они могут лишь наметить путь развития длинный, трудный, который нужно пройти прежде, чем все новшества будут внедрены в жизнь в необходимом масштабе.
Почти все тропические почвы страдают недостатком азота и фосфатов. Если использовать природный организм корней таунсвилльской люцерны как средство для улучшения почвы, то нельзя забывать, что ее придется импортировать. Всем нужны фосфаты, но они дороги и их недостаточно. Но никто не может сказать, как упомянутые экзотические растения поведут себя в новых условиях. Для выяснения всех проблем путем наблюдений в естественных условиях потребовались бы годы. Поэтому ученые применяют сложную и тонкую аппаратуру, имитирующую природные условия. Проводятся опыты по сокращению часов дневного света, увеличению его интенсивности, созданию специальных штормовых условий. Опыты ведутся и с травоядными морскими свинками, помещенными в хитроумное сооружение под названием СЕРЕС (или фитотрон), гордость отдела растениеводства КСИРО.
СЕРЕС — это научно-исследовательская лаборатория по управлению окружающей средой. В мире есть только четыре такие лаборатории: в Канберре, Калифорнии, Москве и Париже. Она состоит из большого числа изолированных стеклянных клеток, где свет, температура, влажность и воздушный поток регулируется с очень высокой точностью при помощи термостатических аппаратов с автоматическим управлением. Ученый может дать свет степени интенсивности «χ» в течение «у» часов (или минут, или секунд), создать условия приближающейся грозы, резко понизить температуру, имитировать сильный ветер, суховей, ураган, затмение солнца. Все его требования здесь исполнятся. Растения в горшках — любые, выбранные по желанию исследователя, — соответственно прореагируют на создавшиеся условия, а их реакция будет автоматически занесена на карты и графики. Растут растения или нет, поддаются болезням или сопротивляются им, передают или не передают определенные свойства своему потомству, цветут, плодоносят или умирают — все эти тайны впервые раскрываются одна за другой в фитотроне.
Один из отчетов КСИРО начинается словами: «Муссонная Северная Австралия имеет долгую историю неудач со времени первых попыток производства земледельческих работ европейцами в их поселениях сто двадцать лет назад». Однако нельзя винить только почву и климат. Ведь выращивали здесь китайцы отличные овощи, а в Дарвине изобретательные ботаники, доктор Морис Хольц и его сын Николас, успешно внедряли почти все известные виды полезных тропических растений. Расти-то они растут. Но все дело в том, чтобы выращивать их экономично и продавать созревшими. Топ Энд слишком удален от потребителей, живущих на другом конце пустыни, а расходы на транспорт слишком велики. Поэтому проекты создания небольших смешанных хозяйств на этой земле потонули в массе несбывшихся надежд и разочарований, а разрекламированные в прессе крупные плантации потерпели крах.
Одним из таких хозяйств было Хампти Ду[84], недалеко от Дарвина, от которого сохранились покинутые рисовые поля и плотима, облюбованная птицами. Здесь были построены плотины, вырыты ирригационные каналы, применялись удобрения и выращивался рис при помощи новейшей американской техники. Рис принялся, хотя и не так хорошо, как ожидалось. Затем возникли никем не предвиденные трудности: себестоимость риса оказалась значительно выше, чем у азиатского крестьянина с его быками и большой семьей, работающей без оплаты. Предприятие прогорело. Сейчас Хампти Ду представляет собой еще один надгробный камень на кладбище надежд муссонной Северной Австралии.
И все же призраки двадцати миллионов акров земли с «высоким сельскохозяйственным потенциалом» в районе Катерин и миллионов неиспользованных акров в других районах то и дело возникают на кладбище. Разве можно забыть эти пустые пространства и принять поражение, когда не менее трети человечества страдает от голода? Разве нельзя преодолеть препятствия, связанные с удаленностью рынков и высокой себестоимостью продукции?
Многие австралийцы считают, что, несмотря на все возражения, экономические теории и утверждения доктора Дэвидсона о ненужности незанятых земель, джунглей и пустынь жителям Азии и о большей возможности роста тропических растений в других местах мира, следует лишь привезти несколько сотен тысяч китайских крестьян в муссонный Топ Энд, и через пять лет он станет производить значительно больше, чем сейчас. Пока что здесь (ие считая добычи минералов) фактически не производится ничего, кроме посредственной говядины, да и то в ограниченном количестве.
Может быть, разделить лучшие участки на фермы небольших размеров и использовать их для откорма скота, выращиваемого на крупных скотоводческих станциях? Или создать какие-нибудь смешанные фермы? Не следует забывать прошлые неудачи, но еще глупее оставить за ними последнее слово. «Для чего же тогда техника, если с ее помощью нельзя преодолеть препятствия и прийти к победе?»
Неудачи начались с первого поселения европейцев, основанного на острове Мелвилл в 1824 г. (Форт Дандас) и покинутого ими в 1829 г. Основанный в 1827 г. поселок Раффлс-Бей был заброшен в 1829 г., а поселок, созданный в 1838 г. в Порт-Эссингтоне, — в 1849 г. Здесь повсюду выращивались овощи и импортировался скот. Когда люди покинули поселения, скот одичал. В 1863 г. в этот район переселились южноавстралийцы. Был издан закон о земле, предусматривавший продажу двухсот пятидесяти акров участками по сто шестьдесят акров — мечта мелких фермеров. Половину участков приобрела созданная в Лондоне Североавстралийская компания, которая, так и не приступив к культивации земли, потребовала деньги обратно. К 1872 г. даже политическим деятелям в Аделаиде стало ясно, что фермы в сто шестьдесят акров в районе Палмерстоуна не имеют будущего, и размеры предлагаемых участков увеличили до тысячи двухсот восьмидесяти. В Сингапур отправился агент для вербовки китайских кули, правительство пыталось также привлечь поселенцев с Маврикия, Реюньона и Индии.
В 1876 г. японскому миссионеру поручили пригласить японских поселенцев, но это предложение решительно отвергло правительство Японии. В 1879 г. мельбурнская компания отобрала сто тысяч акров на Дейли-Ривер для выращивания сахарного тростника. Почва оказалась неподходящей — весь урожай составил пять тонн, — и в 1884 г. участок забросили. В разные времена и в разных районах пробовали выращивать кофе, каучук, кокосы, сизаль, табак, кукурузу, индиго и рис; ни одна из попыток не увенчалась успехом. В 1890 г. южноавстралийское правительство приняло новый закон о земле, рассчитывая заинтересовать мелкие смешанные фермы, а в 1908 г. решило предоставлять ссуды. Но к 1909 г. было арендовано менее девяти тысяч пятисот акров, да и то вокруг Дарвина. Каждое начинание терпело крах из-за недостатка рабочей силы, удаленности от рынков и плохой организации. Так, например, на государственной опытной ферме в Рам Джангл в 1918 г. не получили никакого урожая, потому что управляющий ушел в отпуск и ничего не посеял, а когда спохватился, то было уже поздно. В 1911 г. земли перешли во владение правительства Австралийского Союза. К этому времени здесь было двадцать семь арендованных хозяйств с общей площадью семь тысяч тридцать семь акров и имелось одно разрешение на смешанное хозяйство, а также тридцать шесть акров по специальной лицензии оказалось занятыми под огородами. С 1911 по 1940 г. было заключено всего четыреста девятнадцать договоров на аренду, а в 1957 г. функционировало только пятьдесят девять, причем лишь девять хозяйств продолжали арендовать первые арендаторы или их потомки.
«Женщины либо влюбляются в Дарвин, либо ненавидят его». Мы сидели в пивном баре в парке. В Дарвине стояла настоящая жара. Нет никаких сомнений, что это тропический город; самая низкая температура, когда-либо здесь зарегистрированная, была 50° (по Фаренгейту). В честь этого исторического события имеется мемориальная доска, которая гласит: «Здесь нужно носить только рубашки». В баре рубашки не обязательны. Темнокожие мужчины ходят в шортах и сандалиях; в Дарвине не знают ни пальто, ни пиджаков, да и вообще все одеваются и ведут себя так, как кому нравится. Вас обволакивает мягкая неподвижность, потому что слишком жарко. Все как бы оцепенело, нет сил двигаться…
По своему национальному составу Дарвин, должно быть, самый пестрый город в Австралии (с ним, пожалуй, может сравниться лишь Брум — еще одно из мест, которое я безумно хотела посмотреть, но так и не смогла). Здесь много китайцев, традиционная профессия которых — владельцы кафе, ресторанов, антикварных магазинов. Они работают также барменами и официантами. Внешне выглядят физически здоровыми и преуспевающими. За последнее время значительную долю в ресторанном бизнесе получили греки, которые образуют крепко спаянную и многочисленную общину с собственными церквами и бородатыми патриархами. Для греков семья — это все. Они поддерживают связи с родственниками в Греции, главным образом посылая им свои фотографии. Члены преуспевающей семьи — а похоже, преуспевает большинство — не менее шести раз в году посещают фотостудию, для того чтобы отметить какое-нибудь торжественное событие. Используется любой повод: обручение, свадьба, крещение, первое причастие, день рождения, годовщина свадьбы, первый зуб ребенка, новая беременность. Особенно подходящим событием для фотографирования считается беременность. Жены гордо становятся в профиль перед фотографом, предостазляя возможность родственникам непосредственно следить за развитием счастливого события.
Веками приносил Индийский океан к этому изрезанному берегу представителей самых разных рас и народов: малайцев — собирателей трепангов; японцев — искателей и производителей жемчуга; островитян Южных морей; рыбаков из Западного Ириана; папуасов, приплывших по узкому проливу Торрес; моряков, сбежавших с кораблей. Никто не задавал им вопросов, никто не вмешивался в их дела.
Результат такого смешения населения особенно ярко виден при посещении начальной школы. Цвет кожи представлен тут в диапазоне от черного как сажа и всех оттенков шоколадного до светлого меда. Есть и китайцы с цветом кожи слоновой кости, и более темные малайцы с раскосыми глазами, а также греки и итальянцы, светловолосые с голубыми глазами блондины саксонского типа — настоящее вавилонское столпотворение. «Они все общаются между собой и не чувствуют никакого расового антагонизма», — таково мнение учителей.
— А после школы, дома, они ведут себя дружно? — спросила я.
Молодая учительница улыбнулась.
— У них нет иного выбора. Мой отец, например, англичанин, мать — метиска из Брума. У меня есть братья и сестры светлее, чем я, есть темнее, а один совсем белый. Так и у всех здесь.
Главная особенность Дарвина в том, что вам никто не диктует правил поведения и не интересуется вашим мнением о других людях. Город не велик, но по одну сторону от него простирается вся Австралия, а по другую— Азия (всего в четырехстах милях). До Канберры же — две тысячи миль.
Свыше половины населения Дарвина появилось в городе после второй мировой войны. Дарвин растет более высокими темпами, чем любой другой город Австралии, за исключением Канберры. Учительница-мулатка рассказала мне за молочным коктейлем, приготовленным китайцем и поданным греком (в Дарвине молочный коктейль готовят огромными порциями в больших кружках), о своих планах посетить Новую Зеландию, Северную Америку и Европу в компании четырех или пяти девушек, а затем по прошествии двух лет встретиться в Лондоне с другой группой, намеревающейся отправиться в Южную Америку. В Лондоне она надеется побывать на международном матче женских хоккейных команд. Она играет в хоккей за Территорию и сейчас спешила на вечернюю тренировку, что не помешало ей, однако, выпить огромную порцию шоколадно-молочного коктейля. Я преклоняюсь перед людьми, способными бегать по такой жаре!
Кажется, что существует два Дарвина. Один начал свою жизнь как Палмерстон в 1869 г. и прозябал на берегу своей великолепной гавани до конца второй мировой войны. Это был, вероятно, такой городок, о которых Дж. Конрад[85] писал: «небольшая заброшенная колониальная столица, где представители местной администрации всегда одеты если не во все белое, то по крайней мере в белых рубашках, обмахиваются опахалами, пьют коктейли с джином, опускают и поднимают флаг над зданием, где заседает правительство. Город, где потные мужчины в складках жира с небритым подбородками напиваются до оцепенения в барах, содержат или, во всяком случае, часто посещают проституток, где много разорившихся неудачников, торговцев жемчугом и торговых моряков». До появления асфальта единственной дорогой в течение пяти месяцев в году оставался океан. А отсюда и соответствующее умонастроение людей, живущих на краю света, изолированных от всего мира, до которых никому нет дела. Все попытки начинать какое-либо дело (мясокомбинаты, фермы, плантации, золотые прииски, возделывание риса и производство сахара) потерпели неудачу. Аборигены были обречены на вымирание.
Мало что сейчас сохранилось и от внешнего вида старого Дарвина (повсюду растут новые дома), и в умонастроениях людей, но традиции здесь еще живучи и надолго сохраняют свою силу и влияние.
Другой Дарвин — новехонький туристский курорт с отелями на берегу моря, снабженными кондиционерами; пальмами, высаженными в ящики; стюардами в белых пиджаках; коктейль-барами в виде пещер с ярко освещенными двориками — точь-в-точь как во всех дорогих отелях от Пасадены до Гавай, от Майорки до Мадеры. Те же напитки со льдом, те же мороженые продукты, те же мелодии и те же люди, все пожилые, потому что мало кто из молодежи может позволить себе такую роскошь. В сухой сезон Дарвин идеальное место для туристов: климат никогда не подведет, всегда светит солнце.
Один или даже два из этих великолепных отелей принадлежат Золушке мужского пола, который приехал в Дарвин с нищего острова в Эгейском море, где люди питаются козьим молоком. Трудолюбивый, обстоятельный и честолюбивый, он превратился, говорят, в крупнейшего налогоплательщика Австралии. В Дарвине ходит масса анекдотов о Майкле Паспалисе. В одном из них рассказывается о его молодых годах. Начинается анекдот с того, что экономка как-то спросила хозяина, что он хотел бы сегодня получить на обед.
— В холодильнике лежит баран, — ответил Майкл.
— Я думаю, вам следует самому разрубить его, мистер Паспалис.
— Ничего, разрубите сами.
Экономка, однако, настаивала на своем. Когда Паспалис разрубил барана, из него посыпались пачки банкнот. Накануне он сам надежно спрятал все наличные деньги в баране и совершенно забыл об этом.
Мнение жителей Дарвина относительно того, счастлив ли мистер Паспалис или нет, разделилось. Одни считают его несчастным, так как богатство ссорит его со своим народом и заставляет с подозрением относиться к любому претенденту на руку дочерей; другие утверждают, что он наслаждается своим богатством, той сенсацией, которую вызывает в Сиднее его приглашение на ужин на королевскую яхту или на обед в Букингемском дворце. Я не имела возможности выяснить, кто же из них прав.
Северная Территория стала управляться непосредственно из Канберры с 1911 г.; до этого ею управляла (или делала это только формально) Аделаида. Схема управления полностью отражает старую британскую колониальную систему и сегодня выглядит удивительно архаичной. Действительно, от администрации Северной Территории веет глубокой древностью. Во главе стоит администратор, статус которого мало чем отличается от статуса прежнего колониального губернатора; правда, у него нет шляпы с плюмажем — в Дарвине просто невозможно носить шляпу с плюмажем — но есть Дом Правительства, Флаг и Книга.
В управлении администратора находится территория по площади больше, чем Франция, Испания и Италия, вместе взятые, с общим населением пятьдесят тысяч человек. Он отвечает за проведение в жизнь политики Австралийского Союза в отношении аборигенов, за предприятия коммунальных услуг, разбросанные по огромной территории, со штатом, отнюдь не отвечающим потребностям. Он председательствует в Законодательном совете, состоящем на сегодня из восьми выборных членов и девяти, назначенных генерал-губернатором. Возможности совета ограниченны; он не имеет финансовой власти — это еще одна бескрылая птица Австралии. Власть прочно осела в Канберре. Если Северной Территории нужно потратить двести австралийских долларов, скажем, на уличное освещение в Дарвине, она должна получить одобрение и средства от федерального правительства. У Территории нет даже собственного бюджета. Не удивительно поэтому, что, с точки зрения жителей Дарвина, осуществление прогрессивных мероприятий идет медленно, а вся система выглядит безнадежно устаревшей.
В мае 1962 г. аборигены получили право участвовать в выборах по всей Австралии. Голосование обязательно, и поэтому их могут привлекать к ответственности за неявку на избирательный участок. Практически же очень немногие аборигены еще понимают, что такое голосование, выборы, советы[86]. Вся система местного управления, которая в других странах представляет собой фундамент демократического здания и воспитывает людей в духе демократии, здесь отсутствует. До сих пор еще ни один абориген не выдвигался кандидатом в Законодательный совет, потому что считается, что они еще недостаточно для этого «ассимилированы». В Дарвине есть один представитель аборигенов, который может стать кандидатом на следующих выборах: мистер Филипп Робертс, представитель неофициального органа Совета по правам аборигенов Северной Территории, созданного в конце 1961 г.
Мистер Робертс тихий человек средних лет с седеющей головой и медленной, довольно неуверенной манерой говорить; работает он в Управлении медицинского обслуживания. Он приехал из миссии Ропер-Ривер, где директор Управления медицинского обслуживания Территории доктор Лангсфорд сделал его своим личным помощником. По его словам, у Робертса «умелые руки». Главный помощник Робертса — мистер Дэвид Даниэльс, его коллега по работе в Управлении и секретарь Совета по правам аборигенов. Организация эта находится еще в зародышевом состоянии, она не действует, а скорее бредет ощупью, почти не имея финансовых средств.
До сих пор образование аборигенов находилось в руках миссий и остро нуждалось в фондах и квалифицированных учителях. Оно было чрезвычайно фрагментарным и основывалось в основном на катехизисе. Люди типа Филиппа Робертса и Дэвиса Даниэльса — продукт такого образования — надеются, что правительство улучшит положение их народа.
Многие годы расстояние и безразличие способствовали изоляции Территории, аборигены же в этой изоляции, в свою очередь, оказались еще больше изолированными. Они соприкасаются с обществом, в котором живут, лишь в миссиях. А большинство миссий удалены даже от тех крошечных ячеек общества, которые единицами разбросаны на огромных просторах Севера. Даже на расстоянии тысячи миль от Дарвина вы все еще находитесь на Территории. До миссий в заливе Карпентария от Дарвина пятьсот миль, и туда можно добраться только морем. В 1966 г. по всей Территории только трое аборигенов учились в средней школе.
Но наступают перемены. Мистер Робертс и мистер Даниэльс, когда я разговаривала с ними в Дарвине, только что вернулись из Канберры с совещания организации, называемой Федеральный совет прогресса аборигенов и островов Торресова пролива. Совещание приняло ряд резолюций, включающих требование немедленной выплаты трехсот миллионов австралийских долларов в качестве компенсации за землю, занятую белыми. Времена попечительства прошли, и всем теперь уже ясно, что политика спаивания аборигенов и совращения их женщин, господствовавшая почти в течение века, обречена на неудачу.
Алис-Спрингс
Когда захлопывается одна дверь, распахивается другая… В Алис-Спрингс дверь с табличкой «Мясо» захлопнулась в результате восьмилетней, почти непрекращающейся засухи — а засуха здесь действительно засуха, — в то время как дверь с надписью «Туристы» с каждым годом раскрывается все шире.
Что же привлекает сюда туристов? Пустыня, огромное, сухое сердце страны; необычная природа, волнующая своей строгой и грубоватой красотой; австралийские легенды, навевающие воспоминания о далеком прошлом и рассказывающие о сильных, умеющих за себя постоять, бесстрашных людях; сочетание жаркого солнца и прохладных ночей в современных отелях и туристских лагерях и мотелях; великое множество людей; масса сувениров; разнообразие организованных экскурсий.
Алис-Спрингс лежит у подножия гор Макдоннелл, которые возвышаются над красной песчано-каменистой равниной, тянутся на расстояние в четыреста миль с востока на запад и имеют вершины, достигающие более четырех тысяч футов. Горы с отвесными скалами и ущельями, дикие и пустынные, красные и разъеденные эрозией, покрыты пятнами оливково-зеленой акации, которая еще каким-то чудом уцелела. И огромное количество мух. Чем они кормятся? Весь скот отсюда ушел, не осталось ничего живого; я не видела даже ни одного кролика. Но мухи живут.
В Лав-Крик — пятьдесят миль восточнее Алис-Спрингс — находится скотоводческая станция, через Которую тянется пятисотмильная цепь гор Макдоннелл. И течение сорока лет владельцы станции выращивали лошадей для индийской армии, которые жили среди скал и спинифекса. Закаленные и выносливые, они не боялись тяжелых условий. Затем торговля лошадьми с Индией прекратилась, и Лу Блумфилд, хозяин станции, начал разводить скот на мясо; лошади же его постепенно одичали. С течением времени нужда в них вновь возникла, но на этот раз уже для внутреннего рынка. Тогда Генри Блумфилд, сын Лу, поймал и приручил небольшое число диких лошадей.
В наше время засуха окончательно погубила и диких лошадей, и другой скот. В Лав-Крик содержалось когда-то от семи до восьми тысяч голов скота, теперь от него ничего не осталось. Тот скот, который Блумфилды смогли собрать, они перегнали в Южную Австралию, где арендовали станцию. Старую ферму заняли два брата, Гил и Дуг Грин, которые своими руками отремонтировали ее на австралийский манер, построили несколько деревянных домиков и купили старенький, но крепкий маленький автобус, в котором они вывозят туристов каждое утро на экскурсию по горам, вытряхивая из них душу, поскольку дороги в этих местах не имеют ничего общего с тем, что мы понимаем под этим словом.
То, что делает пребывание в Лав-Крик незабываемым, — это не только величественная природа, но и необыкновенный энтузиазм братьев Грин. Они приехали с юга как подрядчики по закупкам леса, и здесь им понравилось. По натуре они романтики и видят в каждом обросшем щетиной, свертывающем сигарету скотоводе отважного ковбоя с его инстинктивным знанием законов природы и окрашенным стоицизмом чувством юмора. «Их дома — это их шляпы», — говорят Грины и рассказывают нам истории, иллюстрирующие характер этих бродяг. Когда завывающий шторм прогнал перед собой стену песка через огороженное хозяйство, гость выразил сочувствие разоренному скотоводу, а тот ответил:
— Что ж тут плохого? Хорошая погода для ветряной мельницы.
Они известны своими меткими характеристиками. Когда у одного мужчины вскочил фурункул на шее и он вынужден был склонить голову на одну сторону, скотоводы сравнили его со старой вороной, засунувшей голову в горлышко бутылки из-под соуса. В женщинах они видят мало толка. Когда какая-то дама, сбившаяся с пути, спросила, как проехать к Алис-Спрингс, ковбой молча показал ей дорогу в направлении, противоположном тому, куда она ехала.
— Вы уверены, что это правильно? — спросила дама.
— Если хотите, продолжайте ехать так, как считаете нужным, мадам, но проверьте, хватит ли вам бензина на двадцать три тысячи девятьсот и еще пятьдесят миль.
Они в большой дружбе с лошадьми. В лучшие времена в Лав-Крик лошадей не объезжали, а лаской привлекали на свою сторону. Необъезженного жеребенка оставляли в загоне вместе со старой мудрой лошадью и несколько дней не обращали на него внимания. Тем временем старую лошадь ласкали, то и дело надевали и снимали с нее уздечку и седло. Жеребенок проявлял любопытство, затем начинал ревновать и терся поблизости. Через несколько дней ему протягивали руку и жеребенок обнюхивал пальцы. «Когда он дотрагивался до вас, чтобы привлечь внимание, он ваш». Но первый сигнал должен подать жеребец, а не человек. Грин передал мне рассказ старого ковбоя: «Лошадь должна доверять вам, и вы должны помогать лошади — никогда не расслабляйтесь в седле. Ваша задача не заставлять лошадь делать больше, чем она уже сделала, и помогать ей на каждом дюйме пути. После этого она поможет вам. Может статься, что однажды ваша жизнь будет зависеть от нее». Прирученные лошади помогают потом сгонять других лошадей, которые намного быстрее, умнее, хотя и более дикие, чем представители других пород скота.
Когда Лу Блумфилд привез свою невесту в Лав-Крик, он построил дом с толстыми глиняными стенами, однокомнатный, с большим камином, но, очевидно, без окон. Сейчас это гостиница для туристов, где по вечерам Гил Грин показывает куски горных пород и беседует о геологии. Здесь, в Центре, говорит он, земная кора, возможно, наиболее древняя. Миллионы лет назад слои осадочного известняка легли на кварцевую кору, которая, в свою очередь, наверное, старше его на тысячу миллионов лет. Породы содержат окаменелости обитателей морей, которые погибли несколько геологических эр назад. Ряд гигантских, удлиненных, сместившихся пластов или серия смещений сжали все эти слои и поставили их в перпендикулярное положение вместо горизонтального. Если вам удастся забраться на крутые, остроконечные горы над криком, открывающийся вид сразу же напомнит о море, — яростном море, коричневые и темно-оливковые волны которого, кружась в водовороте, испещренном белыми пятнами, готовы были когда-то взорваться, а вместо этого остались навсегда замороженными в вечной неподвижности. Чувствуется, что целые слои скал опрокинуты какой-то фантастической силой. Это потрясающий и сказочный ландшафт, абстрактный, безжизненный, пустынный, молчаливый; древнее неистовство, застывшее в монументальном спокойствии. Ничто не шелохнется на вершинах гор.
Внизу, на песчаном дне этой некогда буйствующей реки, рос куст, вокруг которого оживленно летали маленькие, только что вылупившиеся из гусениц чернобелые бабочки и бегали голуби с бронзовыми крылышками. Листва мульги приобрела здесь из-за засухи оранжево-коричневый цвет, но корни высоких белоствольных эвкалиптов, обрамляющих крик, проникали достаточно глубоко в почву, чтобы найти влагу. На поверхности же земли птицы, как и люди, зависят от резервуаров с водой, поступающей из глубоких колодцев. Три диких верблюда, черные при лунном свете, пришли сюда ночью, чтобы напиться из водоема, расположенного близ фермы. А динго тоскливо выли с черных и молчаливых гор…
Вдова Лу Блумфилда, которой уже больше восьмидесяти лет, живет в Алис-Спрингс. Когда, будучи невестой, она подъезжала к Лав-Крик, здесь не было ничего, кроме телеграфной станции и нескольких хижин. Раз в году запасы различных товаров привозили на верблюдах из Удпадатты, железнодорожной станции, расположенной в трехстах милях к югу. Зачастую канистры оказывались пустыми, так как верблюды в пути били их о скалы и керосин вытекал. Тогда она вынуждена была мастерить лампы, используя старые банки из-под бобов. Заполнив их песком, она вставляла туда фланелевый фитиль и поливала расплавленным бараньим жиром. Лампа коптила безбожно. Рядом лежала ложка, которой она добавляла жир.
Все здесь было домашнего изготовления. Госпожа Блумфилд сама варила дрожжи из сухого хмеля, но ей никак не удавалось спасти муку от долгоносика. Мясо она солила и подвешивала в мешках. Иногда из буша приходили местные незамужние девушки. Она давала каждой кусок мыла, учила, как надо мыться, доить корову, носить платье. Никто из них до этого не видел домов с четырьмя стенами, тарелок, чашек, стульев, но они относились к хозяйке по-дружески и всячески старались услужить.
Ближайший врач жил в Удпадатте. Когда еще до женитьбы Лу Блумфилда забодал бык, он послал записку своему ближайшему соседу за тридцать миль: «Буду рад, если ты приедешь и немного поможешь мне». Сосед приехал с женой. Она промыла рану раствором меди и наложила сто восемьдесят швов конским волосом. Рана зажила.
Раз в год супруги закладывали коляску и отправлялись в Алис-Спрингс на скачки. Это были хорошие скачки, в которых, по словам госпожи Блумфилд, участвовали лошади чистокровных пород. Вечерами они танцевали при свете фонарей «молния» в Стюарт Армз.
В те времена люди не пили так много, как сейчас. «Мы были слишком заняты, — рассказывала госпожа Блумфилд. — Иногда Лу отсутствовал со стадами по два-три месяца подряд. Я никогда не скучала и не боялась аборигенов. Мы хорошо ладили с ними».
Когда она вышла замуж, брат посоветовал: «Никогда не перечь Лу. Делай все, что он хочет, что считает нужным, и тогда вы будете счастливы». Госпожа Блумфилд последовала этому совету.
— И мой брат оказался прав, — сказала мне она.
Ее сын Гарри, получив наследство, построил другую усадьбу, в тридцати милях от старой, — приземистый белый дом, окруженный газоном, цветущим кустарником, папоротником. С задней стороны дома находилась детская площадка для игр, скотобойня, прачечная, птичник. Все было сделано с большим вкусом и любовью. Но потом хозяйство пришло в упадок. Блумфилды переселились на юг вслед за своим уцелевшим скотом, мало что оставив после себя, разве что сарай да седла. Каждое седло блестит от жира, удила вычищены до блеска; подковы, железо для клеймения, тяжелые вьючные седла лежат в строгом порядке. Все готово для использования. Но никому это больше не надо.
— Блумфилды еще вернутся, — уверенно сказал Дуг Грин. — Засухи бывали и раньше, часто даже более сильные. Этой стране уже миллионы лет, и ее никогда не сломить. Все вернется назад, вы увидите. Трава станет такой густой, что вы в ней потеряете собаку, восстановится мульга, наполнятся водой крики. Никогда нельзя недооценивать силу природы. Сейчас она просто отдыхает.
К сожалению, от ученых мне приходилось слышать другое мнение.
Один из Блумфилдов начал работать в туристском лагере, где он ухаживает за лошадьми. Итак, одна дверь раскрывается, в то время как другая захлопывается. Ведь туристы приносят гораздо больше прибыли, чем скот. Они не нуждаются ни в опрыскивателях, ни в прививках, их легче собрать вместе, и к тому же они оплачивают свое содержание.
Весь день мы тряслись по восточным склонам гор Макдоннелл в старом автобусе, не заметив вокруг ни былинки, ни травинки, ни пучка какой-либо зелени, только скалы да камни — все светло-желтого цвета наждачной бумаги и такие же шершавые. Увядшая рыжеватая мульга, чахлые деревья — эвкалипты, кизил, пробковое — все мрачного серого и черного цветов. Жизнь скота в этих пустынных районах зависит от деревьев и кустарников, их листьев, веток и стручков с семенами, а не от травы. Поэтому часть молодых деревьев поедена скотом, а часть погибла из-за того, что у них пообрубали ветки на подкормку животных. Естественный цикл регенерации нарушен, но мнению некоторых специалистов, навсегда.
Местом нашего назначения был город-призрак Арлтунга, где перед первой мировой войной завершилась «золотая лихорадка», начавшаяся в 1897 г. Наш автобус отважно преодолел Гэп Томми, обрывистое, забитое валунами ущелье.
Сюда упряжка золотоискателей в пятьдесят лошадей, запряженных по три в ряд, втащила как-то двенадцатитонный бойлер. Дорога эта настолько крута, что в некоторых местах приходилось выдалбливать ступеньки для копыт лошадей. Бойлер волокли около четырехсот миль. Он так и остался лежать в песке, подобно огромному черному самородку, среди развалившихся стен, пустых рам и кирпичных труб, сохранившихся над разрушенными домами. Несколько камней обозначают место, где стояла гостиница Гленко Армз, принадлежавшая некогда Сэнди Макдонеллду, который спрятал мешок с золотым песком в укромном месте. Пожар в буше уничтожил метку, и сколько Сэнди ни копал, так и не смог найти свой клад. Но в наши дни есть желающие его отыскать. В пригороде устраивались скачки, которые посещали до тысячи человек. Сохранилась старая спортивная площадка, разрушенная тюрьма и несколько могил; памятники, надписи на которых, если они когда и были, исчезли.
Мы осмотрели хижины старателей. Куски ржавых железных листов поддерживают кривые столбы, а наполовину сгнившая мешковина висит вместо стен. Некоторые крыши покрыты ветвями. Внутри — пара грубо сбитых стульев, старая железная кровать, куча рваных газет, пустые банки и бутылки, ржавые ведра и потрепанные метлы. Дуг Грин указал на грубое приспособление из дерева и кожи — самодельную воздуходувку; в пустыне невозможно промывать руду водой, поэтому вместо нее используют воздух, выдувающий мусор.
Одному из старателей восемьдесят пять лет. Целый день бродит он по заброшенным разработкам, а когда наступает темнота, заворачивается в одеяло на холодной железной кровати. Во время туристского сезона автобус из Лав-Крик привозит сюда немного съестного, иногда Грины дарят ему бутылку брэнди, а старик, в свою очередь, демонстрирует туристам работу воздуходувки и развлекает своими рассказами. По виду он настоящий оборванец: в рваных лохмотьях, шляпе, которая, наверняка, одного с ним возраста, заросший щетиной. У него ничего нет за душой, кроме небольшого узелка с пожитками. Придет день, когда Арлтунга умрет окончательно, пустыня поглотит ее и не останется никаких следов деятельности человека в этих местах.
По дороге домой мы проехали мимо туши мертвой лошади и, подъехав к ущелью, усеянному пучками спинифекса, похожими на огромные сделанные из зеленых игл дикобраза морские гвоздики, остановились, чтобы поджечь один из них. Господин Грин хотел показать, как он «взорвется». В сгущающейся темноте вспыхивали оранжевые блики костра, пламя сверкало, потом утихало, неожиданно раздавался взрыв, потом еще и еще. Огонь усиливался. В воздухе чувствовался едкий запах скипидара. Мы затушили остатки костра и отправились пить чай в пристройке к старому дому, где госпожа Блумфилд когда-то делала свои жировые лампы, взбивала масло, боролась с мухами, отгоняя их от мяса, и уничтожала долгоносика в муке.
Скала Айерс-Рок, пожалуй, наиболее популярна среди фотографов мира. Это «король» всех туристических достопримечательностей. Известность скале принесли цветная фотография и авиация. Ярко-красный цвет песчаника придает ей драматичность, а самолет «Чесна» доставляет вас сюда, за двести-триста миль к западу от Алис-Спрингс, без особенной тряски.
Ландшафт вокруг также драматичен. Растительный покров был с годами как бы срезан, и скелет земли оголился. И какой же дикий вид он имеет! С самолета вы с удивлением наблюдаете горы, подобно решетке аккуратно уложенные в ряд одна за другой; боковая поверхность каждого хребта — рифленая, и все они изрезаны ущельями. Затем появляются горы, испещренные эрозией, сделавшей их похожими на горбатых ящериц с лапами, распростертыми в обе стороны, правда, с гораздо большим количеством ног, чем у настоящего пресмыкающегося — по восемь-десять с каждой стороны. Эти горы кажутся коренастыми, что-то придает им почти самодовольный вид, и их округленная поверхность создает впечатление какой-то пресыщенности.
Затем мы пролетаем как бы над рядами огромных нефтяных цистерн, удивительно симметрично расположенных одна около другой. И это тоже сделала эрозия, многообразная и остроумная в своих трюках. Она может быть настоящим насмешником. Тени резко, как острым ножом, очерчены и четко выделяются в исключительно прозрачном воздухе. Эта земля не знает компромиссов.
Наконец под крылом самолета показалась река Финк. Европеец всегда удивляется, когда узнает, что река, которая на карте выглядит такой же значительной, как Рона или Дунай, в действительности оказывается полоской песка, окаймленной эвкалиптами. Финк тянется на тысячу миль, но по крайней мере на девять месяцев в году река пересыхает.
На ее берегу находится старейшая на севере миссия Хермансберг, основанная лютеранами в 1877 г. Наиболее известный ее питомец Альберт Наматжира, происходивший из племени аранда и рожденный близ реки Финк, был обучен миссионерами выжиганию по дереву. Рекс Бэттерби, художник, показывал в миссии свои работы, которые настолько потрясли молодого Наматжира, что он стал своего рода гидом у Бэттерби, за что последний обучал его искусству акварельной живописи.
Наматжира писал много. За один день он мог написать две или три картины и продать каждую за десять австралийских долларов, что по понятиям его племени делало художника чрезвычайно богатым человеком. Многочисленные родственники, следуя обычаям племени, считали, что он должен поделиться с ними своим богатством. Живя недалеко от Алис-Спрингс среди толпы прихлебателей, Наматжира быстро пристрастился к бутылке. Последние годы его жизни были печальными, с бесконечными судебными исками и ссорами. Умер он в 1959 г. в возрасте пятидесяти семи лет, оставив пять сыновей, которые тоже стали художниками. Наматжира был родоначальником так называемой школы аранда, которая следует его манере резких, сильных контрастных цветов при изображении несколько угловатых ландшафтов. Однако в работе сыновей отсутствует простота и свежесть, свойственная Наматжире. Стоимость картин, которые он продавал по десять долларов, позднее возросла до двух тысяч. Его работы репродуцировались на карточках меню австралийской авиакомпании Квантас Эйр, что равносильно чуть ли не посвящению в рыцари в среде австралийских художников.
Продолжая лететь к западу, мы оставили позади сморщенные хребты и достигли озера Амадивс — непрозрачного полотна воды, инкрустированного кусочками соли и сверкающего десятком переливающихся оттенков: голубым, пурпурным, розовато-лиловым, серовато-стальным, болотно-зеленым. Вода мерцала в лучах солнца или светилась молочным отливом. Затем мы увидели на розоватом известняке очертания рыб, плоских, как камбала, лежащая на плите. Причем рыбы эти поразительно напоминали те, что мы видели на рисунках аборигенов. Наш самолет бросал тень, словно от двигающегося креста.
Я держала в руках веточки, чтобы отгонять мух, которые сорвала с дерева на летном поле, так как район Айерс-Рок — заповедник, где можно получить большие неприятности, сорвав хотя бы листочек с куста. Если бы не существовало таких правил, то туристы давно оставили бы без листвы те деревья, которые здесь еще сохранились. Две мои спутницы носили шляпы с полями и вуалью от мух. Обе они были из Сиднея, вдовы в пожилом возрасте, оставшиеся без мужей, но с приличным состоянием. Они настолько походили друг на друга, что я сначала приняла их за сестер, даже близнецов, а на деле они не были и родственницами. Может ли одинаковый образ жизни и окружение привести к тому, что люди не только думают, но и выглядят одинаково?
В. Б. Гросс, открывший Айерс-Рок, назвал ее «колоссальным булыжником». То обстоятельство, что гора поднимается на высоту в тысячу футов с совершенно плоской равнины, придает ей какой-то драматический колорит. Но склоны горы не отвесны и даже не круты; на вершину можно легко взобраться за два часа. Айерс-Рок— красного цвета, около пяти миль по основанию. Любоваться ее видом лучше всего на рассвете, проведя ночь в одной из туристских гостиниц или мотелей, наблюдая, как лучи восходящего солнца ударяют о гору, зажигая на ней пламя.
До того как стать туристской достопримечательностью, Айерс-Рок служила местом религиозного поклонения. Аборигены из местного племени питджанджара приходили в пещеры, расположенные у основания горы, молились и раскрашивали рисунками стены. Эти рисунки более грубы и примитивны, чем открытые в Арнхемленде. Аборигены этих засушливых районов вели более тяжелую борьбу за существование в условиях суровой окружающей среды и не смогли развить свое искусство и мастерство до такой степени, как в Арнхемленде. Здесь не встречается росписей на коже, надгробных памятников или резных статуэток.
В течение нескольких лет Билл Харней Борролула исполнял обязанности своего рода смотрителя пещер. Он изучал живопись, легенды и обычаи племени питджанджара. Он умер в 1963 г., но успел передать своему преемнику Ленс Расту кое-какие познания, которые сумел накопить. Господин Раст, в свою очередь, делится своими знаниями об аборигенах с туристами. Сначала он повел нас в пещеру, внутренняя стена которой была грубо расписана белыми кругами, расположенными внутри других кругов (что символизировало вечность) и рядами точек (что могло означать лагерь или женщину). В некоторых местах стены заштрихованы красными линиями, что, возможно, символизировало листья и соответственно деревья, фрукты, плодородие. В этих пещерах, по словам Ленс Раста, происходил обряд инициации девочек.
В других пещерах инициации подвергали мальчиков. Под страхом смерти запрещалось представителям одного пола приближаться к местам, священным для другого. Всего несколько лет назад поплатилась жизнью девочка, срывавшая фиги с дерева, растущего вблизи пещеры мальчиков.
Теперь туристы свободно осматривают пещеры. На стене пещеры мальчиков можно увидеть очертания белого шеста, окруженного кольцом, от которого в разные стороны отходят радиальные линии. Этот рисунок изображал мальчика до начала обряда. На его голове убор из спинифекса и перьев какаду. Пустой круг символизировал пустую голову, готовую к тому, чтобы ее наполнили познаниями племени во время обряда обрезания. Росписи выцветают. Когда же гора служила храмом, они подновлялись перед каждой церемонией из поколения в поколение.
Нельзя, конечно, сравнивать обычаи и религиозные верования австралийских аборигенов и африканских племен на основании всего лишь обрывочных сведений, полученных туристом, но все же меня поразило большое число сходных черт. Перечислю хотя бы некоторые из них: необыкновенная вера в волшебство; различные ритуалы, подобные инициации, с их строго охраняемыми тайнами; передача законов одного поколения следующему; тяжелые испытания мужества; поклонение вождям, которые управляли племенем и вершили правосудие; изображения человеческого тела; песни, танцы, барабанный бой; вера в существование и силу духов предков и постоянная потребность задабривать их жертвоприношениями; использование колдовства в борьбе с врагом; убеждение в том, что плохая или хорошая судьба, болезнь, несчастный случай — месть оскорбленных духов или чары, насланные врагом; вера в шаманов; система кровного родства, связывающая всех членов племени узами по крови, и предписанное до мельчайших подробностей место каждого мужчины и женщины в общине.
У аборигенов существовали, например, определенные правила отношений между мужем и тещей: он должен отводить в сторону глаза, когда она приближалась. Существовал обычай выбивать передние зубы, наносить рубцы на руки и грудь.
Объяснение сходства обычаев и верований в Африке и Австралии, как я полагаю, кроется в том, что во всех частях света человеческое общество одинаково реагирует в социальном смысле на задачи, поставленные перед ним окружающей природой. Несмотря на очевидную разницу в географии и климате, среда, в которой жил первобытный человек до появления цивилизации, была схожа на разных континентах, и люди следовали по одному и тому же пути.
Таким же образом (если не считать этот вывод слишком уж фантастичным) окружающая среда, сопутствующая представителям среднего класса в Сиднее в середине XX в., сделала двух моих попутчиц, не связанных родственными узами, одинаково мыслящими, верующими, следующими одинаковым правилам поведения и, более того, даже похожими друг на друга как две капли воды.
Конечно, между австралийским и африканским образом жизни, наряду с общими признаками, имеются и различия. У народа, который не разводил скота и не возделывал землю, не могло, например, существовать обычая выплаты выкупа за невесту, что так широко распространено у африканских племен, или введения наказания за совершенное преступление, убийство, прелюбодеяние. Смерть или увечье — вот единственные практические меры расплаты у аборигенов Австралии. Лене Раст рассказал нам историю о Флоппи, старике, который пристал к лагерю аборигенов в Айерс-Рок. Он ходил переваливающейся походкой, словно на ноги у него были надеты ласты. Когда другие ели, он всегда садился поодаль. У Флоппи не было ни друзей, ни товарищей. Как рассказал Раст, его обвинили в молодости в прелюбодеянии и подрезали сухожилия на ногах, чтобы Флоппи не мог больше гоняться за женщинами.
Аборигены полагали, что ребенок зарождается, когда дух проникает в чрево будущей матери. В этот момент ее муж может быть занят каким-нибудь определенным делом, например охотиться с копьем за кенгуру, убивать змея или выкапывать корень. Как только женщина убеждается, что она беременна, старейшины или семейный совет собираются, чтобы решить, в каком месте и когда дух ребенка вошел в мать. Это определяло тотем младенца. Каждый человек имел свой тотем, зачастую несколько тотемов, но они передавались по наследству, их получали из мира духов во время зачатия.
В этом веровании заключалась связь между аборигеном и территорией, где жило его племя и где обитал его дух, до того как стать плотью. Здесь же дожидались своей очереди духи его будущих детей, чтобы проникнуть в женщину, которая придаст им человеческие черты. У мужчины или женщины могло появиться желание посетить место своего зарождения и обиталище духов, которые еще не приняли человеческий облик, или же выразить почтение духам предков, связь которых с видимым миром осуществлялась на священных местах поклонения или на таких предметах, как чуринга. Это — куски дерева или каменные плиты, покрытые символами с описанием различных легенд тотема. Чуринга считались настолько священными, что, если женщина или ребенок нечаянно бросали на них взгляд, их немедленно убивали. Охрана чуринги доверялась посвященным в тайны старейшинам, которые скрывали их в пещерах или па деревьях. К чарам чуринги обращаются и в наши дни, чтобы победить болезнь или же достигнуть успеха во время охоты. Аборигены могут бросить все и отправиться в буш в поисках чуринги, оставив лошадь неподкованной, огород наполовину вскопанным, заказ на изготовление бумерангов для туристов не выполненным.
Каждая пещера, каждый желобок или необычная ячейка, образованные в толще горы Айерс-Рок ветром или дождем, имели свою историю и значение для людей племени. Глубокая впадина, в которой постоянно держалась вода, была, по их мнению, образована кровью человека с тотемом зайца, который боролся насмерть с другим человеком-зайцем во Времена Снов (период сотворения мира). Здесь может забить родник, если произнести нужные магические слова. Каменная плитл над впадиной олицетворяла нос воина, обрубленный в ярости матерью человека, которого он победил. Пещера— это широко раскрытый рот матери, оплакивающей своего сына, а пятна на камнях — следы яда, который она разбрызгала, чтобы отогнать врагов. Почерневший камень — тело человека-ящерицы, которого сожгли за то, что он был слишком жаден и не захотел поделиться с людьми тотема змеи тушей эму, убитого им. И так далее.
Для нас Айерс-Рок — просто монолит, для аборигенов же — живое свидетельство деятельности их героев далекого прошлого. Мутитджилда была наполнена не водой, а трансформированной кровью умирающего человека-змеи; серое пятно на южном утесе Улуру — не участок, поросший лишайником, а копоть от костра, на котором сжигали жадного человека-ящерицу; громадная полуотделившаяся скала на северо-западной стороне горы — не просто отслоение породы, а ритуальный шест, который некогда стоял в центре круга во время посвящения в тайны людей-зайцев-валлаби.
Чарльз Маунтфорд[87] писал, что люди племени пит-джанджаро «жили в мире друг с другом и со своим окружением». Они приспособились к безжалостной среде, губительной для европейца, с помощью всего лишь четырех орудий: копья, копьеметалки, землекопалки, шлифовального камня. Основной целью рисунков в пещерах, так же как песен и танцев, было воспроизведение легенды сотворения мира. Таким образом устанавливалась связь между живущими людьми и их будущими детьми с духами Времени Снов. Для аборигенов живые люди были сосудами, с помощью которых передается последующим поколениям жизнь и единство племени, созданного героями. Себя при этом они не считают созидателями. Созидание принадлежит прошлому, а священным долгом жизни является передача законов и легенд.
Интересной достопримечательностью для туристов на окраине Алис-Спрингс является трансавстралийская телеграфная станция, каменное бунгало, построенное в 1871 г. Строительство трансконтинентальной линии явилось значительным событием в жизни Австралии. Аделаида была тогда резиденцией правительства всей территории, которая сейчас называется Северной. Связь между Порт-Огаста в заливе Спенсер, к северу от Аделаиды, с маленьким поселком Дарвин осуществляли в то время запряженные лошадьми фургоны. Дорога шла через пустыню, по пути, установленному шотландским путешественником Джоном Мак Дауэл Стюартом. Поэтому необходимо было удлинить телеграфную линию до Дарвина примерно на тысячу восемьсот миль. Британо-австралийская телеграфная компания согласилась проложить кабель между Дарвином и Явой при условии, если Южная Австралия закончит трансконтинентальную секцию линии к январю 1872 г. то есть менее чем за восемнадцать месяцев. Через шесть недель после принятия решения, в августе 1870 г., караван лошадей и буйволов отправился из Аделаиды, чтобы начать работу. Пятьсот человек устанавливали линию, пятеро из них погибли от несчастных случаев. Партии строителей, начавшие работы с двух сторон, встретились в Орюз-Понд около Ньюкасл-Уотерс. В августе 1872 г. первые весточки полетели в Лондон. Их продолжали передавать, пока линия между Явой и Дарвином не была нарушена во время второй мировой войны.
Большая часть кабеля шла вдоль пути Стюарта, который, в свою очередь, был определен водой. Трудности, которые встретил на своем пути этот человек, сейчас невозможно даже оценить. Педантичный, придерживающийся только фактов, с полным отсутствием юмора, он был прекрасным руководителем, который заботился о людях во время путешествия и никогда не терял чувства самообладания. Он страстно желал первым пересечь континент с юга на север. Стюарт совершил три подобные экспедиции, которые были субсидированы частными лицами, двумя скотопромышленниками — Вильямом Финком и Джоном Чамберзом. В 1860 г. всего лишь с двумя попутчиками он открыл горы Макдоннелл и дал им название, а также определил географический центр континента — Центральный Маунт Стюарт. Здесь путешественник водрузил флаг и оставил следующую записку в бутылке: «Мы три раза от всего сердца прокричали «ура» нашему флагу — эмблеме гражданской и религиозной свободы». Затем Стюарт продолжал двигаться на север к Теннант-Крик. Оттуда ему и двум спутникам на восьми лошадях пришлось вернуться к лагерю в Чэмберс-Крик, где Стюарт пополнил партию и вновь отправился в путь в сопровождении уже двенадцати товарищей, но они вновь потерпели поражение, так как не смогли найти воду.
Шестая экспедиция Стюарта была успешной. С партией в девять человек на сорока лошадях он прошел через пустыню в Ньюкасл-Уотерс и далее, вдоль Ропер-Ривер, вниз до залива Ван-Димен. Один из его спутников, опередивший отряд, радостно закричал: «Море!», и Стюарт не удержался, чтобы не ополоснуть в океане руки и ноги. Была проведена обычная церемония поднятия флага, его помощник Вильям Кеквик произнес речь, и все они трижды прокричали «ура!».
На обратном пути, который продолжался пять месяцев, этот неугомонный человек почувствовал себя плохо. Наступила засуха. Высыхали колодец за колодцем. Путники копали русла пересохших ручьев, тщетно пытаясь найти хоть немного воды, все страдали от цинги и куриной слепоты. Лошади гибли от жажды. Стюарта пришлось привязать к седлу. Где-то на широте Алис-Спрингс он записал в журнале: «Боюсь, что моей карьере приходит конец. Ночи все в агонии, а дни тянутся очень долго…» Он практически ослеп. Его товарищи сделали носилки, привязали их между двумя лошадьми и так везли около пятисот миль до Чэмберс-Крик. Здесь Стюарт настолько поправился, что смог пройти во главе шести членов своей экспедиции по улицам Аделаиды. Правительство Южной Австралии вознаградило его суммой в четыре тысячи фунтов и выделило участок земли в две тысячи квадратных миль. Но все это было уже слишком поздно. Здоровье Стюарта было окончательно подорвано, и он вернулся в Лондон, где через три года скончался. Но свою заветную мечту путешественник осуществил.
Стюарт сообщил, что по его пути может быть проложен прямой телеграфный кабель. Так и было сделано. Станции на линии расположены как раз на пути экспедиции. Источники воды в Алис-Спрингс были обнаружены одним из топографов, который назвал их в честь своей жены. Питание для строительной партии доставляли на лошадях, верблюдах и на себе через громадные безводные пространства пустыни.
Известный гуртовщик Артур Гилз прогнал пять тысяч голов овец с хребтов Флиндерс в Южной Австралии к лагерям строителей практически без потерь, но около шестисот голов из второй партии погибли в Девилз Марблз от ядовитых растений.
Вслед за телеграфной линией были построены большие скотоводческие станции. Некоторые из них сейчас функционируют.
Джинни Ганн[88] в своем сентиментальном произведении так описывает работу этой межконтинентальной линии: «Мы стояли одетые во все белое в расчищенном месте под дрожащими проводами среди шелестящей листвы кустарника, внимательно разглядывая оператора, который стоял перед нами на коленях со своим маленьким передатчиком и выстукивал наше послание. Лошади пощипывали свежую траву, ярко расцвеченная бабочка села ненадолго отдохнуть на ключ передатчика, изящно помахивая пурпурными крылышками. Мы ясно ощущали свою связь с большим миром, люди которого, живущие среди шума и пыли, даже не подозревали о том, что маленькая группа простых людей так поэтично воспринимает незабываемый момент отправки телеграммы».
Это происходило в Элси на станции, расположенной южнее Катерин, куда Гилзы в течение четырнадцати месяцев перегнали много тысяч голов скота на расстояние в тысячу восемьсот миль из Муррея, двигаясь по ночам через безводные пространства. Рекорд был побит в 1861 г. Нэтом Бухананом, который перегнал двадцать тысяч голов из Восточного Квинсленда за; пять месяцев. После этого появилась целая система проезжих дорог, нанесенных на карту, контролируемых и оснащенных примерно через каждые шестнадцать миль колодцами. По этим дорогам основная масса овец и скота до недавнего времени перегонялась на рынки. Некоторые из них существуют и до сих пор, но в основном сейчас для перевозки скота используются специальные поезда.
Международная телеграфная станция, известная как Бунгало, — теперь находится на территории Национального парка. Размеры таких парков Территории разнообразны— от маленького, который окружает могилу Джона Флина, основателя авиационной скорой помощи, до огромного, площадью в триста тысяч акров, окружающего Айерс-Рок. Все они в распоряжении туристов и сильно отличаются от заповедников, которые занимают территорию в четырнадцать тысяч двести квадратных миль. Это ничего не говорящая цифра, поскольку только один заповедник, который расположен в пустыне Тапами к северу от озера Макка и почти не имеет никакого животного мира, — занимает одиннадцать тысяч квадратных миль.
В Алис-Спрингс любой разговор всегда заканчивается темой о засухе. «Когда это наконец кончится? Сможет ли страна оправиться?» Большинство скотоводов считают, что засухе все же придет конец. «Засухи были всегда, засухи будут снова, — говорят они, — но между ними пройдут дожди, появятся деревья и кустарники. Мы не должны недооценивать силы природы. Страна всегда обновляется после засухи». За пределами Алис-Спрингс на исследовательской станции я слышала другое мнение. До сих пор действительно были засухи, которые кончались регенерацией; но сейчас наступил новый период, в котором, пожалуй, решающий фактор — копытные животные.
Между Брокен-Хилл и Порт-Огаста лежит район в пятьсот квадратных миль, который был оставлен нетронутым в 1925 г., после того как в течение многих лет его бездумно эксплуатировали под пастбища. Решили посмотреть, что произойдет, если все копытные животные и — по возможности — кролики будут удалены из этих мест. Средний уровень влаги здесь составляет семь дюймов. Сможет ли растительность регенерировать, если ее не трогать? Если да, то как быстро и в каком порядке? Такого рода вопросы ботаники поставили себе при создании заповедника Кунамор.
Итак, в течение сорока лет сюда не допускались овцы и было очень мало кроликов — исключить всех оказалось невозможным. В 1964 г. ботаники опубликовали свой приговор: «В большинстве случаев не наблюдалось почти никакой регенерации». Овцы окончательно уничтожили растительность, и пути к возврату нет. Многие семена оказались уничтоженными еще до созревания. Так что теперь — это район погибшей растительности. Только низкорослые, непритязательные солончаки в какой-то мере восполнили уничтоженную когда-то растительность. Овцы и кролики за полвека сумели, оказывается, сделать то, чего не смогли засухи, подъемы и падения предыдущих тысячелетий: разрушить, возможно навсегда, экологическую систему, которая поддерживала в вечном равновесии растительный мир, землю и животных.
Существует здесь и проблема воды. Со времен колонизации люди пользовались резервами подземных вод, будучи уверенными, что они неисчерпаемы. Но бесконечного ничего нет, не говоря уже о воде. За последние годы уровень ее упал, и многие колодцы высохли. Люди и их скот еще и теперь живут за счет капитала, накопленного во время дождевых циклонов, который иссяк не менее десяти тысяч лет назад. С тех пор «внесено в банк» очень мало, если вообще внесено. В западной части Нового Южного Уэльса скорость потока подземных вод составляет всего лишь двадцать миль за двадцать тысяч лет. Потребуется еще много лет, пока вода достигнет пустыни при такой скорости и на таком далеком расстоянии от водных бассейнов.
Реки, такие, как Финк, Тодд, Купер и Диамантина, которые круглый год остаются сухими, в настоящее время только уносят воды дождей, вместо того чтобы удерживать их.
Вода же глубоких скважин зачастую бывает солоноватой, в некоторых случаях даже более соленой, чем в море. Несмотря на то что овцы и скот на Территории привыкли к минеральным солям, и этому есть предел. Техническое опреснение воды в наши дни — вопрос несложный, будь то влага из скважин или океана. На практике уже используют удобные «солнечные дистилляторы», которые работают без сложных механизмов и больших расходов на базе ничего не стоящей солнечной энергии. Дорога их установка. Но все расходы относительны, то есть зависят от того, насколько заинтересованы люди. В средние века небольшая община бедных голодавших крестьян тратила свою творческую энергию на строительство соборов, монастырей и церквей, что отнимало у них, пожалуй, одну треть экономических ресурсов. Сегодня народы отдают не меньшее число своих резервов совершенствованию ядерного оружия, в то время как сравнительно небольшие расходы могли бы обеспечить множество голодных людей.
Алис-Спрингс — место свиданий гуртовщиков, скотоводов и старателей в далеком прошлом. Сейчас же сюда стекаются любопытные туристы на самолетах и автобусах. В окрестностях города проживает последний оставшийся в живых афганский погонщик верблюдов, и тут же выстроены новейшие мотели, оборудованные по последнему слову техники, с кондиционерами, кафетериями, барами. На главной улице в магазинах вам предлагают чайные скатерти, раскрашенные в стиле живописи аборигенов; отшлифованные драгоценные камни, найденные в пустынях; комнатные туфли; бумажники; сумочки из кожи кенгуру; картины, подражающие Наматжире и его школе, и бумеранги — тысячи и тысячи бумерангов. Мне сказали, что некоторые имеющиеся в продаже товары были сделаны в Швейцарии, но у меня не было возможности убедиться в этом.
В Алис-Спрингс, как и в Топ Энде, много интересных характеров — это крепкие старики, которым перевалило за семьдесят. Здесь в маленьком бунгало живет, например, госпожа Дженкинс. Она любит демонстрировать свою коллекцию опалов, которую считает самой прекрасной в мире. Они были найдены в горах Лайтнинг (Новый Южный Уэльс), куда Дженкинс приехала в поисках счастья со своим мужем, владельцем ювелирного магазина в Хобарте. Фортуна улыбнулась им, и теперь госпожа Дженкинс тратит часть своих накоплений на рысистых лошадей. Стены ее кухни украшены фотографиями скакунов, иногда с самой Дженкинс в седле — в свое время она была знаменитой наездницей. На столе или у нее на коленях всегда лежит лоснящийся кот по кличке Хорас, который всем своим поведением показывает, что оказывает хозяйке большую честь, поселившись в ее доме.
Коллекция опалов, выставленная в открытом алькове, может сравниться с кладом Аладдина. Она поражает богатством, блеском и сказочностью. Словно языки голубого пламени захвачены этими кусками самородков или летающие бабочки с крыльями, переливающимися всеми оттенками голубого, какие только может создать природа, окаменели внутри их. И есть что-то театральное во всей атмосфере этого приземистого, маленького деревянного бунгало (одну комнату которого украшают картины Наматжира, а другие — фотографии лошадей) с драгоценностями из клада Аладдина и прямолинейной, откровенной, скромной старушкой с ее монстром-котом, которого она балует лакомыми кусочками. Я спросила госпожу Дженкинз, наверное, не первая, не опасно ли ей жить одной со всей этой коллекцией опалов.
— У меня есть ружье, — ответила хозяйка, посмотрев на предмет в углу, который казался частью арсенала капитана Филиппа, — а также Хорас.
Впрочем, пожалуй, сама госпожа Дженкинз выглядела наиболее внушительно из всех троих.
Последний день в Алис-Спрингс я провела на «женском» вечере. Это было нечто новое, как для меня, так и для пятидесяти моих новых знакомых. Новое не потому, что они должны были обедать без мужей, а потому, что этот обед проходил вне дома и в компании.
— Это первый мой выход со дня свадьбы, — сообщила одна из дам с таким видом, как будто сама была удивлена своей смелостью.
— И я ушла из дома, оставив детей.
Я спросила, остался ли с ними муж.
— О нет, — ответила она и показала в сторону бара, где ряд белых рубашек обычно восседал спиной к миру, в котором находились женщины. — Он здесь.
Насколько я успела заметить, эта пара за весь вечер не перемолвилась ни словом, они даже не помахали друг другу рукой — и в этом нет ничего необычного.
— В нашу брачную ночь мы остановились в гостинице, — продолжала женщина. — Иди с подругами, сказал мне муж, а я останусь с мужчинами. И появился только под утро, пьяный. Теперь у нас четверо детей.
Она засмеялась и выпила еще виски. Казалось, что все это ее не волнует.
И действительно, почему она должна волноваться. Ее муж платит по счетам, хорошо к ней относится, производит детей — хотя может показаться, что такое произведение потомства происходит несколько механически — и не бегает за другими женщинами.
Искусство обольщать мужчин заключается больше в том, чтобы скрывать свои чувства и не подчеркивать их. Диане, сошедшей с Олимпа, чтобы принять человеческий облик, лучше было бы посоветовать надеть шорты, стать заядлым курильщиком, коротко постричься и постараться быть хорошим партнером в австралийском, а не сексуальном смысле слова. Пожалуй, за это и борются здесь марширующие девушки, проходя военную муштровку и физическую тренировку на игровых площадках после рабочего дня. Достигнув зрелого возраста, они устраивают увеселительные вечера, на которые надевают простые белые юбки, белые блузку, белые чулки, гимнастические тапочки и белую соломенную или полотняную шапочку, с полями или ленточкой — защитный цвет, который позволяет им почти незаметно смешаться с мужчинами. Их форма в точности такая же, только у мужчин брюки вместо юбок.
Этот присущий мужчинам пуританизм, которые во всем остальном такие отважные, так любят приключения и не сдерживают себя в своих желаниях, кажется довольно странным. Викторианский взгляд на секс сохранился и господствует здесь. И большинство женщин смиряются со своей судьбой, благословляют ее и не желают ничего лучшего.
Тропический Квинсленд
«Кленси погнал стадо в Квинсленд, и мы не знаем, где он», — говорится в известной балладе «Банджо» Патерсона. И нам легко понять, почему никто ничего не знает о Кленси. Квинсленд — очень большая страна, огромные пространства которой покрыты солончаком и спинифексом, пылью и хребтами, высохшими реками и разлившимися руслами. Кейп-Йорк на севере подходит почти к Новой Гвинее, а в тысяче пятистах милях южнее белые пляжи Золотого Берега привлекают отдыхающих из Сиднея и Ньюкасла. Так что Кленси мог находиться где угодно — от Берктауна на заливе до Куперс-Крика, или еще южнее, около Бердсвилла на границе Южной Австралии.
Может быть, он пасет свой скот еще и сегодня или гонит его от Баркли 'Гейбл-Ленд на Топ Энд (южнее Борролулы) до Маунт-Айза. Никакой железной дороги на этом пути нет. Во всяком случае, Кленси не допустит ошибки, совершенной некогда англичанином, который, перегоняя скот где-то в районе залива Карпентария, остановился у сельского кабачка, чтобы утолить жажду. Хозяин поставил ему бутылку пива, ловко вытащив пробку зубами. Англичанин попросил стакан. С удивлением оглядев его с ног до головы, хозяин спросил:
— Интересно, из какой сказки ты явился, дружище?
Маунт-Айза — это такая же сказочная страна, как и Брокен-Хилл, а может быть, и еще сказочнее. В самом центре Маунт-Айза, на скалах которого могут мгновенно поджариться яйца, живет около восемнадцати тысяч человек в домах, снабженных кондиционерами, получим стерильное питание, прибывающее сюда из всех уголков мира. Молоко привозят за тысячи миль в машинах-холодильниках, свежая рыба ежедневно вылавливается в заливе Карпентария, пиво поступает за две тысячи миль из Мельбурна. Дождь может не выпадать целый год, но газоны остаются такими же зелеными, как и ирландские пастбища, а любимый вид спорта здесь водные лыжи.
Бассейны, кинотеатры под открытым небом, магазины, ипподромы, два корта для крокета, стадион, где состязаются ковбои, огромное количество кабаков и церквей — короче говоря, Маунт-Айза имеет все, что необходимо мужчинам и женщинам сорока различных национальностей. И все это только потому, что здесь находятся одни из богатейших в мире залежи меди, олова, цинка и серебра.
Человек, который положил начало Маунт-Айза, — сын наборщика из Лондона. Он приехал в Квинсленд на велосипеде, спицы которого были забиты травой, и мотался по берегам залива в течение пятнадцати лет, работая на станциях и охотясь за дикими кабанами. В 1923 г. его лошадь учуяла однажды запах воды на высохшем дне реки Лайкхарт. Это был небольшой водоем, где хозяин и лошадь расположились на ночь. На следующее утро старатель отколол кусочек камня молоточком. Ему показалось, что камень содержит сульфид свинца. Химик в Клонкарри подтвердил это, а также нашел следы серебра. Тогда Джон Кэмпбел Майлз (так звали старателя) со своим товарищем отметили колышками участок в сорок акров. Началась «свинцовая лихорадка». Воду нужно было подвозить сюда на лошадях, а руду для плавки отправлять за две тысячи миль в Порт-Кембла (Новый Южный Уэльс). Каждая разработка получила своеобразное название: «Последняя надежда», «Черная герцогиня», «Лучший из бриллиантов», «Ангел Дюрбан», «Отвороты и карманы», «На краю Вселенной». Это был город хижин, покрытых рифленым железом и корчившийся в муках. Первая миссия доброй воли, предпринятая «летающим доктором», была осуществлена здесь в связи с перевозкой шахтера с поврежденной ногой из Маунт-Айза в Клонкарри, где медицинская служба существовала с 1927 г.
Маунт-Айза лихорадило от невероятного процветания до полного разорения в 30-е годы, когда шахты пришлось закрыть полностью, и город сразу же опустел. Однако, когда в результате второй мировой войны резко возросла потребность в меди, Маунт-Айза начал процветать опять, пока из-за резкого падения цен на медь в послевоенный период ее добыча сократилась, и снова возродился, благодаря начавшемуся буму на свинец. Теперь в Маунт-Айза находятся крупнейшие металлорудные предприятия Австралии. Однако из-за постоянно растущих цен здесь часто вспыхивают забастовки. Одна из них началась в день моего приезда и продолжалась несколько месяцев.
С самолета Маунт-Айза, расположенный в чаще между утесом и ущельем, кажется миниатюрным, очень красивым. Современные дома стоят в ряд, как вагоны поезда, под углом к дороге, так что их задние стены повернуты к палящим лучам солнца и несущим пыль ветрам; все они только что покрашены, аккуратны и выглядят щегольски, словно одетые с иголочки. Внизу — овальное поле крикета, просторный новый торговый проспект; похожий на парус, поднимается белый экран открытого кинотеатра. Все дороги асфальтированы, вдоль них высажены деревья, каждое огорожено железной клеткой.
Все здесь кажется необычным. Не идет дым из труб, бассейн пуст, в парках никто не гуляет, никакого транспорта на дорогах. Город оставляет впечатление незаселенного, до жути пустого и заброшенного. Кажется, если заглянуть в одну из раскрашенных пастельными красками опрятных и маленьких квартирок, то обнаружишь на столе наполовину съеденный завтрак, воду, кипящую в электрическом чайнике, и детские игрушки, разбросанные по полу.
Планировка и строительство этого района осуществлена Мэри Катлин в течение двух лет. В 1954 г. группа из восьми человек во главе с водителем такси открыла залежи урановой руды в горах и продала участок за полмиллиона долларов, но в тот же самый год цены на уран упали. Владелец шахты Риотино законсервировал ее в надежде, что наступит день, когда урановая руда снова будет давать большую прибыль. Но этот день еще не наступил.
К северу от Клонкарри в сторону залива Карпентария расположена станция, которая по стандартам Квинсленда сравнительно невелика, всего сто двадцать тысяч акров. Однако хозяйство это довольно развито и, следовательно, его можно сравнить, скажем, с Виктория-Ривер-Даунс. Пожалуй, оно олицетворяет промежуточную ступень в политике «невмешательства» в дела природы, проводимой в прошлом методам», которые основаны на науке и направлены на постоянное улучшение земли, а не только на ее эксплуатацию.
Я остановилась на этой станции. По всему отрезку дороги расположены огороженные участки, и через каждые восемь или десять миль — водоемы, семьдесят процентов всех телят заклеймены, в устьях рек и на хребтах не осталось малорослых быков или необъезженных лошадей. В стаде выращивается триста пятьдесят быков ежегодно. Если раньше здесь разводили быков с короткими рогами, то теперь, как и на ряде других северных станций, они будут заменены более качественной брэхменской породой.
Сгон стада все еще производится на лошадях. Один из постоянных лагерей оснащен холодильными установками. Гуртовщики получают мороженое и чай. На уикэнд они зачастую возвращаются в усадьбу, где хозяйка заменяет повара и кормит пять раз в день пятнадцать-двадцать голодных людей, включая супружескую пару аборигенов, работающих в доме и саду. Старые феодальные черты здесь еще не изжиты: на станции кормят каждого, кто приходит к столу. Через четыре-пять дней управляющий Роб забивает вола, поднимает туловище при помощи лебедки, сдирает кожу, потрошит и режет мясо, поделив его между всеми работниками на ферме, оставив при этом кое-что для собственного стола. Эту работу он никому не доверяет.
— Я люблю мясо, — сказал он мне, — и с удовольствием готовлю его.
Ближайший магазин находится на расстоянии пятидесяти миль от станции южнее Клонкарри, так что лучшая часть мяса всегда лежит про запас в холодильнике. Двести пятьдесят миль отделяет станцию от крупного центра Берктаун в заливе Карпентария.
Время от времени директор компании, или один из ее представителей, прибывают из Лондона с визитом в личном самолете. Директор привозит не только свое вино, но и бокалы. «Оно не имеет должного вкуса, если его пить из бокалов не той формы», — объясняет он на станции. Нет сомнения, что у него не появится даже желания перебраться в Австралию. Но он всегда присылает красиво оформленные рождественские поздравления, которые подписывает: «бывший лорд-мэр Лондона».
Рае и Роб очень хорошо усвоили великий австралийский секрет, как не утруждать себя работой, но в то же время исправно выполнять ее. Никто, кажется, особенно не спешит, не волнуется, не шумит, не приказывает. Люди и двигаются, и разговаривают как-то вяло, как обычно в стране, изнывающей от зноя. Они пьют чай, лениво развалившись в плетеных креслах, небрежно раскинув ноги. Крутят ручки транзисторов и бьют мух, которые налетают миллионами. Вам всегда приходится огораживать себя клеткой и стоит выставить хотя бы ногу, как они набрасываются целыми тучами. Собаки лежат, растянувшись плашмя и часто дыша, высунув языки и ударяя хвостами по земле; несколько кур бродят вокруг кухни; мальчик абориген передвигает поливалку, почесывая в голове под сдвинутой шляпой; лошади, сбившись под деревом, обмахиваются хвостами.
Раздается звук мотора — это, поднимая клубы дыма, приезжает такси. Входит Роб, руки его испачканы смазкой. Он принимает душ, съедает сэндвич с мясом, что-то рассказывает об индюшачьем гнезде и исчезает снова.
Индюшки нашли себе приют в круглом резервуаре, в котором содержится артезианская вода. Ее накачивает ветряная мельница и подает затем в поилки для скота.
На станции нет реки; вся вода поступает или с плотин, или вот из таких скважин, которые имеют глубину до тысячи футов. Скважина обходится в двенадцать тысяч австралийских долларов, причем половина скважин оказывается негодной.
Большую часть времени управляющий наблюдает за системой подачи воды. Каждая ветряная мельница, каждый насос и резервуар должны быть осмотрены по крайней мере раз в неделю, предпочтительней два раза, и в случае необходимости немедленно исправлены. Длина всей системы у Роба довольно коротка — до мили; на больших же станциях она достигает нескольких сот миль. Механика здесь не вызовешь, все приходится исправлять на месте, и пока система не начнет функционировать, скот будет мучаться от жажды, так как поят его два раза в день.
Чтобы управлять станцией, нужно быть мастером на все руки. Когда мы проезжали по плоской равнине, Роб заметил покосившийся столб на заборе, достал инструмент, выпрямил его и натянул проволоку. Затем он поправил самодельные ворота. Глаза его всегда устремлены на пастбище.
Дожди практически выпадают только в январе, феврале и марте, то есть в конце лета. После этого начинается бурный рост растительности, равнины покрываются ковром травы, которая сохраняется на корма как нескошенное сено и кормит скот круглый год. Я приехала в апреле, и никакого дождя до Рождества не ожидалось. Растения выглядели хрупкими и вялыми, трава была чахлой и редкой, кругом стояла пыль. Во всем чувствовалась какая-то скрытая раздражительность.
Пока мы кипятили чай и расправлялись с мухами, Роб разглагольствовал о положении животноводческих хозяйств в Северном Квинсленде. По сути дела для них характерны те же проблемы, что и для любого коммерческого предприятия: как повысить производительность и качество, не поднимая себестоимость. В этом случае можно получить больше мяса на акр земли, что, в свою очередь, побуждает увеличивать число голов скота на каждый акр. Чем больше держат животных, тем больше органических удобрений получает почва. Нужно выращивать много травы хорошего качества. В свою очередь, лучшая обработка пастбища требует больших капиталовложений. Необходимо также справиться с проблемой нехватки протеина во время долгих, сухих зим, когда нет свежих кормов. Здесь могут помочь только ученые, которые должны вывести засухоустойчивые бобовые растения. Они стараются вовсю и кое-что уже обещают.
Роб обучился профессии скотовода на станции Элен и, подобно Кленси, попал в Квинсленд, перегоняя скот из Топ Энда на рынки Южной Австралии. Он рассказал мне, как с двумя другими скотоводами гнал скот в тысячу двести голов из Элси тысячу четыреста миль, проходя примерно девять миль в день; на это ушло шесть месяцев. Роб сказал, что скотоводы обычно пели, свистели и разговаривали с животными почти все время, пока гнали скот. Животные в стаде очень нервные, и какой-нибудь неожиданный звук может обратить их в паническое бегство, после чего иногда требуется половина дня, чтобы повернуть их назад. Когда они слышат пение и свист, то чувствуют, что вы здесь, и успокаиваются. Еще старые австралийские баллады говорили об этом, и скотоводы знают, как вести себя в пути.
Их рабочий день начинался на рассвете, когда они спокойно пасли скот первые мили, не подгоняя его, затем животных надо было сбить в гурт и гнать до воды. Обычно стадо достигало ее в полдень. Животные пили, а люди отдыхали до последних лучей солнца, затем собирали стадо и возвращались обратно. За милю или две от лагеря скот разбредался по пастбищу. Роб считал, что скот обязательно должен поесть на ветру, иначе он станет своенравным и упрямым. Иногда они обходили лагерь и возвращались в него с другой стороны. Надо было, чтобы животные всегда оставались сытыми и довольными.
Ночи проходили тревожно. В это время скот чаще всего подвергался панике и было очень трудно уследить, чтобы он не обратился в бегство. Да и динго всегда бродят ночью в поисках добычи. Гуртовщики держали для ночной работы лучших лошадей. Повар обязан всю ночь поддерживать огонь и иметь кипяток в котелке. Петь и свистеть в тревожное ночное время особенно необходимо. Если начиналась паника, все что можно было сделать, — это успокаивать животных, пока они сами не остановятся, и тогда вернуть их назад.
— В стаде надо знать каждого быка, — объяснил Роб. Некоторые ведут себя важно и требуют пищи строго в свою очередь. Те, кто подходят к воде последними, довольствуются остатками. Если скотоводы хорошо знали свое дело и сезон был удачным, скот не терял формы, а, наоборот, его состояние улучшалось. Роб потерял только двух животных между Элси и Бердсвиллем. И лишь в последние три дня двадцать четыре головы погибли в сыпучих песках. Когда скот был сдан, Роб и его товарищи, забрав своих лошадей, повернули назад, проезжая в день в среднем тридцать миль, всего верхом они преодолевали до трех тысяч миль.
Я наблюдала, как теперь отправляют скот. Его грузят в огромные грузовики, которые доставляют животных на рынок за двадцать четыре часа. Никто не поет и не свистит, когда скот погружают в грузовики и прицепы для короткого путешествия на мясозаводы. Никаких костров с кипящими котелками при свете звезд, никаких динго, разгуливающих в поисках добычи по ночам, никакого галопа в темноте, никакой борьбы с усталыми животными, когда скотоводы не знали, куда прятать глаза от яркого света и пыли. Все теперь делается проще, быстрее и эффективнее. Скоро гуртовщиков можно будет показывать в музее вместе с беглыми каторжниками, скрывающимися в зарослях, и землекопами.
В функции управляющего входит рассортировка скота на отборочных дворах. Скот проходит рысцой со скоростью три-четыре животных в минуту, и тут принимается определенное решение в отношении каждого животного. Босс, сидящий на возвышении и наблюдающий за скотом, кажется безразличным, беспристрастным, не очень внимательным, но его глаза все время следят за спинами проходящего стада. Никто не свистит, не выкрикивает команд, не делает никаких громких указаний, однако все знают, что делать. Хотя я не заметила, чтобы Роб что-либо говорил или подавал какой-либо знак, но скотовод, стоявший на выходе, казалось, инстинктивно понимал, в какой двор какое животное направлять.
Я полагаю, что существуют условные знаки, которые незнакомец не может сразу уловить, как это бывает на аукционе. Весь шум идет только от животных, мужчины молчат. Этот процесс, как и любой, требующий быстроты суждения и точности, захватывает и кажется фантастичным. Сколько еще пройдет времени до того, как выбраковку будут осуществлять с помощью счетных машин? Пожалуй, немного.
Команд не подается, но тут вдруг без очевидных причин наступает какая-то перемена. Пожалуй, босс, взглянув на свои часы, дал сигнал. Мужчины уходят со своих мест, зажигают сигареты и перепрыгивают через перила; босс спускается с возвышения, вытирает лицо и шею; скот прекращает свое прохождение. Наступает жаркое время. Пикап отвозит нас в лагерь. Чай уже готов в открытом сарае под навесом из рифленого железа, повар подает гору свежеиспеченных ячменных лепешек. Все отдыхают, сухие глотки промыты от пыли. Говорить никому не хочется.
Босс встает, выпрямляется, моет позади сарая свою кружку под краном из бака с дождевой водой и направляется к пикапу. Один за другим мужчины не спеша следуют за ним. Во дворах еще жарче и больше пыли, чем раньше, так как солнце стоит над головой. Прогонка скота продолжается. Перерыв на обед, состоящий из жареного картофеля, консервированных фруктов и снова чая; затем опять прогонка. Двор накален, как домашняя печь, пыль застилает все, словно золотой туман. Полуденный зной, снова прогонка. Жара ослабевает. Воздух пропитан острым, вяжущим, пряным запахом скота. Грузовик с двумя прицепами, забитый животными, которые стоят голова к хвосту, отошел от двора; группа молодняка прогуливается, затем скрывается в тени у ручья. Снова незримый приказ. Мужчины отходят от перил, а Роб наблюдает со своего возвышения за последними животными, которые все еще проходят перед его глазами. Возвращаемся в лагерь, чтобы съесть толстый бифштекс с яйцом, мороженое и выпить чая. Затем мы наблюдаем за звездами, глазеющими на нас с неба, словно звери, сверкающие глазами из своих нор. В это время кто-нибудь бренчит на гитаре. А сейчас, наверное, будет песня, но не для успокоения пасущегося скота. Баллад больше нет, теперь предпочитают слушать музыку Битлз.
«У сельских жителей много радостей, о которых не знают горожане», — писал «Банджо» Патерсон.
Каждый горожанин время от времени восхищается сельской жизнью, но только некоторые из них идут дальше простого восхищения. Да и скотоводы все чаще переезжают в города. Австралия занимает второе место в мире по количеству городских жителей, уступая место только Англии. Шестьдесят пять жителей из каждой сотни живут в городах с населением не менее двадцати тысяч человек.
И прежде всего говорят свое слово женщины. Для многих из них «прекрасное зрелище» из бидонвилля, установленного на пыльной равнине, осаждаемого мухами, раскаленного жаром, в котором постоянно живут дети, не доставляет большого удовольствия. Электичество, холодильники, радио и автомобили облегчили их жизнь, но не особенно изменили судьбу. Их пугают не трудности жизни, а ее монотонность и отсутствие общества. Ни повседневная работа, ни тяжелый труд не угнетают человека так, как скука. Это знают психологи, но не политические деятели, которые поэтому постоянно совершают ошибки. Знают и женщины. Вот почему многие из них оставляют свои места. Но есть исключения. Некоторые женщины привязаны к своему прошлому, как, например, одна моя знакомая, которая в пятнадцать лет вместе с овдовевшей матерью управляла большой овцеводческой станцией. Это было во время войны. Мужчин не было, и мать с дочерью делали все: сгоняли скот, отбирали, кормили, принимали ягнят и т. д. Когда пришло время, девушка вышла замуж. Она по неделям жила в лачуге одна, чаще всего беременная, в то время как ее муж постоянно находился на пастбище.
— Я не лезла на стенку от жалости к себе. Но любила эту жизнь и никогда не хотела иной, а сейчас у нас все идет по-другому.
По-другому потому, что они имеют хороший, достаточно комфортабельный дом и друзей. Моя знакомая живо откликается на все заботы станции, хорошо знает техническую сторону дела, которая малопонятна для городской женщины. Ей известен каждый колодец, каждый ручей, каждый участок. Муж советуется с ней, они хорошие друзья. Возможно, жизнь вдалеке от культурных центров вызывает у некоторых людей тоску. Но, может быть, мне это только кажется. Ведь для того, чтобы хорошо познать страну, надо пожить в ней!
Имеется три Квинсленда: длинный тропический берег, который обращен к Коралловому морю и тянется на тысячу шестьсот миль с юга от Брисбена до полуострова Кейп-Йорк, где проживает почти все население; полоса гор, леса и плоскогорье позади них, с озерами и и реками, образующими часть Большого Барьерного рифа, и, наконец, те равнины, поросшие чахлыми кустарниками, которые становятся более засушливыми и все меньше покрыты порослью. В конце концов они, видимо, сольются с центральной пустыней.
Квинсленд — самый молодой штат. Он наиболее многообразен и полон чудес, начиная от полипов, анемон и таинственных морских существ Большого Барьерного рифа до гигантских летучих мышей с размахом крыльев в пять футов. Вполне понятно, почему они были приняты капитаном Дж. Куком за чертей: ведь в лесах их тысячи, питаются они нектаром эвкалиптов и дикими финиками и научились мигрировать, подобно птицам.
Здесь же можно встретиться с казуаром, который хотя и не летает, но делает прыжки в восемь футов высотой; гигантскими пауками; безногими ящерицами, похожими на маленьких змей; бородатыми ящерицами[89]; двоякодышащими рыбами-амфибиями, весьма уникальными, так как они могут передвигаться по поверхности и оставаться под водой в течение получаса.
Большинство жителей Квинсленда — пришельцы из других мест; они полны энтузиазма. На берегу Квинсленда, как они говорят, есть все — и мягкая зима, и яркое солнце, и теплое море, и пальмовые аллеи на пляжах, свежая рыба и сладкие фрукты, большой простор. Короче говоря, можно наслаждаться жизнью. Развивающаяся экономика и туристский потенциал здесь практически не ограничены. Но чего-то все же недостает. Все-таки должно же что-то быть. Вы можете сказать, что в Квинсленде отсутствует культурная жизнь, а путешествие в Сидней или Мельбурн ради культурных развлечений обходится недешево.
Я встретила английскую супружескую пару, которая прилетела сюда, за сотню, если не за тысячу миль, чтобы посмотреть «Бикет», длинный фильм, во время которого все зрители без конца что-то ели. Многие семьи принесли с собой чай, аккуратно завернутый и целлофановый мешочек, и газеты. Кто-то рядом с ними уничтожал большого цыпленка и запивал чаем из термоса.
Поэтому я вовсе не уверена, что отсутствие культурной жизни является минусом для Квинсленда. Миллионы людей, проживающих в больших индустриальных городах, не знакомы с произведениями искусства, и их окружает много безобразного и уродливого. Здесь вам не удастся попасть на балет, но зато вас окружает красота природы; во время уик-энда вы можете бродить по холмам, где полно полудрагоценных камней, и наталкиваться повсюду на прогнившие руины кабачка, фермы или заброшенной шахты.
Я упомянула места, которые так никогда и не видела, но куда всегда хотела попасть. Одно из них — Куктаун, где в 1770 г. высадился капитан Дж. Кук, чтобы отремонтировать «Индевр», после того как его судно налетело на риф. Это дало возможность Куку узнать о существовании самой длинной в мире полосе коралловых островов. Члены экипажа «Индевр», в их числе Джозеф Бэнкс, обнаружили, что кенгуру и летучие мыши едят без всяких последствий дикие фрукты в лесу, и убедились в том, что аборигены, которые не разрешали своим женам приближаться к морякам, выглядели более счастливыми, чем европейцы, так как были незнакомы не только с излишествами, но и с элементарными удобствами. Земля и море заменяли им все необходимое в жизни, им не нужны были дворцы и слуги; они жили в теплом и прекрасном климате и радовались воздуху. Короче говоря, они не проявляли интереса к вещам, которые им предоставили. Им казалось, что они обеспечены всем необходимым в жизни…
Жизнь резчиков тростника из Квинсленда стала известна всему миру благодаря пьесе Рэя Лоулера «Лето семнадцатой куклы»[90]. Вряд ли существует более тяжелая работа, чем валка в течение всего дня под палящим тропическим солнцем твердых ротангов и погрузка их па тачки. Лесорубы чернеют от солнца, а иногда и от пепла, так как обычно тростник перед резкой предварительно обжигают, чтобы уничтожить под ним густую растительность, а также отогнать змей и крыс. Хороший лесоруб может заработать триста долларов за две недели; самый низкий заработок — шестьдесят долларов в неделю, а самый высокий — двести долларов. Но для этого надо начинать работу при свете луны, а заканчивать после наступления темноты. Их дневная норма составляет что-то около восемнадцати тонн тростника. Это очень большая цифра, если учесть температуру солнца в 100° (по Фаренгейту).
Мы посетили господина Джона Смарта, специалиста по выращиванию тростника. Он показал нам бараки, где проживают лесорубы. Одни и те же бригады, в основном состоящие из итальянцев, обычно приходили сюда из года в год, но теперь больше не приходят. Многие из этих людей, ранее кочевавших по всей стране, осели и купили землю. Кроме того, труд человека был в основном заменен машинами — чудовищами, стоящими, по крайней мере восемь тысяч долларов; каждая из них выполняет работу десяти лесорубов.
У Смарта дне машины и десять тракторов, и он больше не нанимает временных рабочих; все механизировано, на участке сохранилась лишь одна одинокая, отработавшая свой век лошадь. Как и большинство построек Квинсленда, бунгало Смарта возвышается на сваях на высоте восьми-десяти футов над землей, но и это не спасает от армии маленьких зеленых лягушек, прыгающих по ступенькам; по утрам госпожа Смарт выметает их веником.
Кроме Смартов, которые являются костяком штата, Северный Квинсленд имеет своих битников и бродяг. Живут они на пособие по безработице и не особенно от этого страдают. Мне рассказывали, что когда один из таких типов встречает другого на почте, то они вместо приветствия спрашивают друг друга: «Как дела с книгой?». Эти парни постоянно разглагольствуют о книгах, которые собираются написать, но никогда не пишут, или о картинах, которые собираются рисовать, но никогда не нарисуют. Чаще всего они играют на пляже на гитарах за семь фунтов в неделю. Покупать бритвы им нет необходимости, а пара шортов — вся их одежда.
Битники сооружают на берегу из стоек и старой мешковины хижины. Местные законы запрещают такое строительство, администрация заставляет разбирать лачуги. Однако через несколько дней они вырастают вновь. Однажды городской совет распорядился сжечь лачуги, но они вновь появились несколько подальше вдоль берега. Когда наступает декабрь с ливневыми дождями и испепеляющей жарой, хижины пустеют, как гнезда. Как только лето кончается, бездельники возвращаются вновь.
В свое время в Йоркис-Ноба, в нескольких милях севернее Кернса, располагалась колония художников. Но вскоре она распалась. Правда, некоторые ее представители остались. Это Рон Эдвардс, который любит рисовать патриархальные города и опустевшие кабачки вокруг Куктауна, бренчать на гитаре, бродить по песчаному берегу и нежиться в ленивом, тропическом, спокойном море. Он постоянно экспериментирует своими кулинарными рецептами, собранными им на островах у самых различных народов — полинезийцев, меланезийцев, японцев, самоа, малайцев, китайцев. У каждого народа свои кулинарные традиции.
Немного выше по побережью молодая пара гончаров из Мельбурна получила акр земли, заросшей кустарником. Они восстановили заброшенное бунгало, сами построили печь для обжига и живут, воспитывая детей, обжигая горшки, рисуя картины. Гончары доят козу и выращивают в основном все овощи, необходимые им для соблюдения вегетарианской диеты.
В порту Дуглас, по дороге в Куктаун, я встретила английскую пару Макса и Диану Бауденов, которая переехала сюда после второй мировой войны. Они выращивали ананасы. Фрукты росли хорошо, но цены все время падали. Тогда они занялись бананами. Однако циклон сровнял их плантацию. После этого англичане открыли ресторанчик под тентом и готовили экзотические блюда на старой дровяной плите при свете фонаря «молния». Их как бы вдохновили слова Р. Эмерсона[91], который писал: «Если человек сделает лучшую мышеловку, чем его сосед, хотя и соорудит ее в лесу, мир найдет проторенную дорожку к его дверям». Через некоторое время Макс и Диана Баудены накопили достаточно денег и начали небольшое дело — производство украшений из морских ракушек, которые можно было собирать в большом количестве и разнообразии на берегу. Сначала они сами изобретали сувениры, делали их своими руками и продавали. Теперь у них есть фабрика. Они организуют выставки своей продукции на международных ярмарках, их деятельность приобрела широкий размах — и все это из бесплатного сырья.
Квинсленд — край, где люди любят жить в свое удовольствие. «Люди здесь терпеливые и добродушновеселые, — рассказывали мне местные жители. — Вас принимают таким, как вы есть, а не за то, что вы сделали или не сделали, или кто были ваши родители, или какого рода школу вы окончили».
Мне рассказывали о человеке, который купил причал на одной из дремлющих маленьких гаваней, расположенных вдоль берега. Его постоянно окружали гончары, ходящие в шортах, и рыбаки, с которыми он любил поболтать. Этот человек был лучшим специалистом по счетным машинам, но отказался от всего и обосновался здесь. В Кейризе я познакомилась с господином Джорджем Уэлшем, который оставил должность управляющего больницей в Мельбурнском госпитале и построил здесь ресторан. Я пожаловалась ему на отсутствие в меню сыра.
Джордж Уэлш с сожалением покачал головой:
— У нас нет никакого интереса к сырам. Никто их не спрашивает. Дело в том, что клиенты не хотят ничего нового, если это касается пищи. Они не любопытны.
В Австралии не проявляется никакой творческой мысли в гастрономических вопросах. Насколько я знаю, австралийских традиционных блюд вообще нет, не считая супа из хвостов кенгуру. Еще мне назвали пирог Павловой, но я не думаю, чтобы он был изобретен в Австралии.
Самый крупный австралийский город в тропиках — Таунсвилл. Это свидетельствует о большой концентрации населения в умеренной зоне.
В Таунсвилле есть университетский колледж, открытый в 1961 г., который быстро разрастется и вскоре получит статус университета, первого в тропиках[92]. Здесь открыта также исследовательская станция для испытания различных технических средств на тропических пастбищах.
Четыре континента из пяти имеют тропические пояса, и в трех из них земли в основном плодородные; обильные дожди дают возможность использовать их потенциальные возможности. Только в тропической Австралии, за редким исключением, земли бедны, осадков здесь обычно меньше и они плохо распределяются. Я слышала, что девяносто пять процентов всех почв в Северном Квинсленде бедны фосфором. Отсюда очень низкая производительность скота, в отличие от средней тропической Австралии.
Из этой ситуации можно было найти выход. Среди местных растений на пастбищах следовало отобрать наиболее оптимальные сорта и затем из этих экземпляров вывести селекционным путем растения. Такой способ нашел широкое распространение и имел успех. Не было особых причин сомневаться, что его используют и в тропической Австралии. И он действительно в какой-то степени применяется успешно. И все же здесь обратились к новому, совершенно противоположному методу, который раньше считали бесполезным.
Он заключается в том, чтобы вместо местных растений сконцентрировать внимание на привозных, которые отбирают из богатого растительного мира более плодородных земель тропиков; они должны быть акклиматизированы, а затем адаптированы к новым условиям. Ведутся поиски бобовых, которые не будут погибать от недостатка влаги, от долгих сухих сезонов и даже от мороза. Если такой образец удастся вывести, то только в одном Квинсленде, не считая остальной части Северной Австралии, на территории в двести пятьдесят тысяч квадратных миль производительность может быть увеличена в десять раз. А это только начало. Ведь если в природе не существует нужного растения, биологи готовы изобрести его. Скрестив две породы бобовых, найденных в Мексике, они создали новую под названием Сиратро. В смеси с травой родез — тоже привозное растение — получается корм, который значительно увеличивает вес животных. На таких пастбищах двум буйволам достаточно одного акра травы, при этом каждый из них имеет такой же прирост в весе, как один буйвол, который пасется на десяти акрах старого пастбища. Это увеличивает эксплуатацию пастбищ не в десять, а в двадцать раз.
Из мира растений я двинулась в мир птиц. В Таунсвилле имеется большое болото — предмет спора между теми, кто хочет осушить его, и теми, кто хочет оставить его таким как есть, то есть убежищем для птиц.
Один из двух инспекторов на службе у правительства Квинсленда, господин Лэвери, отвечает за работу с водоплавающими птицами. В основном это серый чирок и свистящая утка. Он подсчитал, что около десяти тысяч птиц часто навещают болото. В сухой сезон здесь бывает до трех тысяч птиц только одного вида.
Около одной трети болота уже осушено для расширения аэродрома. Это, в свою очередь, сократило число птиц на одну треть. Авиаторы и отцы города считают необходимым покончить с болотом. Нужна земля для аэродромных служб, птицы опасны для авиации, болота — источник вредных для здоровья москитов.
Любители природы, в свою очередь, утверждают, что осушение болот приведет к уничтожению водоплавающей птицы. Это происходит уже по всему Квинсленду, где, по словам господина Лэвери, практически нет болот и болотистых мест, которые контролировались бы или как-то использовались человеком. Следовательно, водоплавающая птица вырождается, включая бролгу, самого красивого из журавлей.
Имеет ли какое-нибудь значение уход водоплавающей птицы? Большинство спортсменов считает, что имеет; обычно те, кто убивают птиц, являются и самыми яростными их защитниками. Теперь поклонники туризма тоже перешли на их сторону. Тысяча журавлей, танцующих в пределах города, — их козырная карта. Так что спор продолжается, ведь в живых осталось еще две трети птиц.
Послесловие
Книга английской писательницы Э. Хаксли рассказывает нам об Австралии — этом удивительном и во многом уникальном, отдаленном от нас континенте.
Автор стремится донести до читателя яркость красок неповторимых ландшафтов «Таинственной Южной Земли», до сих пор остающейся еще недостаточно изученной.
Много внимания Э. Хаксли уделяет австралийской природе, но автор не проходит и мимо общественной жизни пятого континента, истории и сегодняшнего дня австралийского народа. Немало страниц книги посвящено эпизодам, относящимся к раннему периоду европейского «освоения» Австралии, созданию британских колоний на континенте. Поскольку Э. Хаксли здесь не всегда точна и ее интерпретация событий, характеристика отдельных лиц не всегда правильны, необходимо сделать некоторые дополнения.
Рассказывая о первых десятилетиях существования колонии Новый Южный Уэльс, автор сообщает ряд печальных фактов. Но они не передают всей трагичности первоначального существования этой, как ее долго называли на Британских островах, «Колонии бесчестия».
Многие годы основное население колонии составляли каторжники, высылавшиеся из переполненных тюрем Великобритании в Австралию. В подавляющем большинстве ссыльные были не закоренелые преступники, а люди, которых голод и нищета толкнули на нарушение, часто незначительное, британских законов, отличавшихся в то время чрезвычайной жестокостью. Смертная казнь, например, предусматривалась за сто пятьдесят видов преступлений— от убийства до кражи из кармана носового платка. Разрешалось вешать детей, достигших семилетнего возраста. Среди высылаемых в Австралию были люди, осужденные за кражу буханки хлеба, куска ткани, кролика, нескольких шиллингов и т. п.
Тяжелое положение ссыльных особенно ухудшилось после того, как власть в Новом Южном Уэльсе сосредоточилась в руках офицеров охранного полка или, как ею называли, «ромового корпуса». Полк этот в значительной степени комплектовался из солдат и офицеров, либо скомпрометировавших себя на прежних местах службы воровством и пьянством, либо выпущенных из военных тюрем, где они отбывали наказания за различные уголовные преступления.
Офицеры полка захватили в свои руки все торговые операции колонии, прежде всего торговлю спиртными напитками. Они заставляли заключенных гнать для них спирт и продавали его по баснословным ценам. Доход от продажи спирта достигал пятисот процентов. Изготовлением спирта занялись также отбывшие наказание и получившие земельные участки заключенные, а также солдаты полка. Зерно шло не для производства хлеба, а для приготовления спирта, что было значительно выгоднее.
Ром стал единственной действительной валютой в колонии, ради его приобретения шли на любые преступления. «В этом новом маленьком земном аду, которым являлся ранний Сидней, люди превыше всего жаждали рома. Ради рома наиболее жестокие из заключенных крались по ночам, чтобы убить и ограбить тех, кто его имел. Ромом они платили публичным женщинам… Ради рома они шпионили друг за другом и предавали друг друга солдатам и палачам…»[93].
Офицеры вскладчину скупали все товары, привозимые в колонию британскими судами, и перепродавали их населению, получая от этих операций до трехсот процентов прибыли.
Довольно скоро почти все заключенные стали обрабатывать принадлежавшие офицерам полка земельные владения. Это был по существу рабский труд, с той разницей, что рабовладельцы обязаны были кормить рабов из своих запасов, а офицеры полка кормили работавших у них заключенных из запасов правительственных магазинов.
Марк Твен, посетивший Австралию в 90-х годах XIX в., когда в памяти населения были еще очень свежи воспоминания об этом периоде в истории британского «освоения» пятого континента, оставил яркие страницы своих впечатлений в книге «По экватору». В частности, он писал: «Офицеры взялись за торговлю и притом самым беззаконным способом… Они стали ввозить ром, а также изготовлять его на собственных заводах… Они объединились и подчинили себе рынок… Они создали замкнутую монополию и крепко держали ее в руках… Они сделали ром валютой страны, — ведь там почти не было денег, — и сохранили свою пагубную власть, держа колонию под каблуком лет восемнадцать-двадцать… Они приучили к пьянству всю колонию. Они спаивали поселенцев, прибирали к рукам их фермы одну за другой и богатели, как крезы. Когда фермер вконец спивался, они сдирали с него семь шкур за глоток рома. Известен случай, когда за галлон рома стоимостью в два доллара фермер отдал участок земли, который через несколько лет был продан за сто тысяч долларов»[94]. Следует сказать, что в позорных делах «ромового корпуса» самое активное участие принимал Д. Маккартур, которого Э. Хаксли ошибочно наделяет положительными чертами.
«Отец австралийского овцеводства», Джон Маккартур, занимая пост инспектора общественных работ в колонии, являлся неограниченным хозяином рабочей силы, распределял заключенных дли работы на фермах и вершил над ними суд по своему усмотрению. Понятно, что при этом он не забывал и свои собственные интересы, широко используя труд заключенных на принадлежавших ему землях. Немудрено, что Д. Маккартур очень быстро стал богатейшим человеком Нового Южного Уэльса. «Капитан Маккартур имел 500 ф. ст. долга, когда покинул Англию, но к 1801 г. он, говорят, имеет собственность 20 000 ф. ст.»[95].
В период разгульного владычества «ромового корпуса» Д. Маккартур стал даже секретарем колонии и в упоении писал своему брату в Англию: «Изменения, которые мы осуществили со времени отъезда губернатора Филиппа, так велики и необычайны, что рассказы о них могут вызвать подозрения в их правдивости»[96].
Первые годы существования колонии на Земле Ван-Димена ознаменовались такими трудностями, которые не переживали и колонисты Нового Южного Уэльса. Английское правительство считало, что все снабжение колонии должно осуществляться из Сиднея. Губернатор же Нового Южного Уэльса полагал, что ему достаточно хлопот в своей колонии, и содержание новой колонии на Земле Ван-Димена должно быть делом британского правительства. Связь между Сиднеем и Хобартом была лишь эпизодической и осуществлялась на небольших судах, принадлежавших колонии Нового Южного Уэльса. Колонисты в Хобарте были предоставлены, по существу, самим себе, и если бы не мясо эму и кенгуру, имевшееся на острове в большом количестве, население этой британской колонии скоро бы вымерло. Мешало управлению колонии и то обстоятельство, что британское правительство вело политику быстрого заселения Земли Ван-Димена заключенными и свободными колонистами. Население увеличивалось без соответствующего роста материальной базы.
В декабре 1825 г. Земля Ван-Димена официально отделилась от Нового Южного Уэльса.
Власть губернатора острова над населением была фактически безграничной. «Деспотизм главы администрации, — писал в то время британский историк X. Мелвил, — превышал власть любого государя в христианском мире. Едва ли существует хоть один колонист на острове, который не зависит от воли его превосходительства…»[97].
Условия содержания заключенных здесь были хуже, чем в других британских колониях в Австралии. «Нормальный уровень жизни заключенных был ниже и предпринимаемые против них средства более жестоки»[98].
Марк Твен в упоминавшейся уже книге «По экватору» делает замечание по поводу тогдашнего существования колонистов, которое может послужить яркой иллюстрацией к этим бесстрастным словам современного австралийского историка: «В Тасмании жизнь каторжника была столь невыносимой, а самоубийство столь трудно осуществимо, что бывали случаи, когда отчаявшиеся люди собирались и тянули жребий, кому из них убить своего же товарища, — убийство обеспечивало преступнику и свидетелям преступления смерть от руки палача! Приведенные примеры, — заключает Марк Твен, — лишь смутный намек; они только наводят на мысль о том, какой была жизнь ссыльных, — всего лишь несколько мелочей, всплывших на поверхность безбрежного моря им подобных, или же, пользуясь другим образом, — всего лишь две-три колокольни, сфотографированные с такого места, откуда не виден охваченный пламенем город у их подножия»[99]. Не удивительно поэтому, что при первой возможности заключенные пытались бежать с мест поселений. Они образовывали отряды «бушренгеров», которые наводили ужас на всю колонию Земли Ван-Димена. Потребовались многочисленные и кровавые карательные экспедиции, чтобы изловить и уничтожить отряды бежавших каторжников.
Некоторые замечания и пояснения необходимо сделать также к тому, что рассказывает Э. Хаксли о создании колонии Южная Австралия и ее «духовном отце» — Э. Уэйкфилде.
Если Новый Южный Уэльс и Тасмания возникли сразу как колонии ссыльных, то Южная Австралия была колонией свободных поселенцев, практически воплощая идеи одного из виднейших идеологов британского колониализма первой половины XIX в. Эдварда Уэйкфилда. В связи с этим необходимо сказать несколько слов о личности Э. Уэйкфилда и сущности его теории колонизации, разбору которой К. Маркс уделил специальный раздел в первом томе «Капитала». Э. Уэйкфилд явился создателем теории «систематической колонизации» и «достаточной цены» на землю в колониях. Свои идеи в этом плане он развивал в книге «Письма из Сиднея», которая вышла в свет в 1829 г.
Уэйкфилд доказывал, что надо колонизовать заокеанские территории не путем высылки туда каторжников, а систематически привлекая «вполне добропорядочных» людей. Цены же на землю в колониях должны быть установлены не минимальные, а достаточно высокие, во всяком случае такие, чтобы колонисты не были в состоянии приобретать их сразу по приезде, а лишь проработав ряд лет. «Достаточная» цена воспрепятствует колонистам сразу по приезде превращаться в независимых крестьян, до тех пор, пока не появятся другие, готовые занять их место на рынке наемного труда[100].
Деньги, полученные от продажи земли, должны направляться главным образом на привлечение новых колонистов, а частично — на нужды самой колонии.
В результате в колониях постепенно будет укрепляться и расти слой мелких колонистов, которые составят твердую основу для форпостов Британии в различных частях земного шара. Таким образом, та часть английского общества, которая в результате промышленного развития страны, быстрой машинизации, оставалась без работы и представляла реальную угрозу существующему порядку, превращалась, по мысли Уэйкфилда, в среду, цементирующую Британскую империю. Организацию колонии взяла на себя созданная в 1934 г. в Англии Южно-Австралийская земельная компания.
Первые годы существования колонии характеризовались гигантскими земельными спекуляциями. Собственно, главной целью как самой Южно-Австралийской компании, так и колонистов было стремление к быстрому обогащению путем спекулятивных перепродаж приобретенных ими земельных участков. Поэтому широкое распространение получила система, дававшая право требовать пятнадцать тысяч акров земли лицу, которое купило из этого количества по крайней мере четыре тысячи акров по одному фунту стерлингов за акр. Оставшаяся часть земли выкупалась им же постепенно по цене уже пять шиллингов четыре пенса за акр. Очень скоро это привело к тому, что все плодородные земли попали в руки не трудолюбивых землевладельцев-колонистов, которые, как предполагалось по идее Э. Уэйкфилда, должны были своим упорным трудом создавать богатства колонии, а к спекулянтам землей, находившимся к тому же в большинстве своем не в Австралии, а в Англии. Эти люди, ничего не вкладывая в землю, жили на доходы, полученные от спекуляции заочно приобретенными и перепродаваемыми участками.
Прошло четыре года со времени основания колонии, но ничего не было сделано для развития земледелия и скотоводства. Колония почти ничего не производила.
В 1837 г. из проданных трех тысяч семисот акров обрабатывалось лишь четыре акра; в 1839 г. было продано 170,5 тысячи акров, а обрабатывалось 443. Импорт колонии в 1839 г. вырос до 346,6 тысячи ф. ст., тогда как экспорт составил только 22,5 тысячи ф. ст. Манипуляции с землей давали барыши лишь немногим спекулянтам. Администрация не имела средств для освоения территории колонии, строительства портов, дорог и т. п. и потому вынуждена была обратиться за помощью к правительству. Как только об этом стало известно в Лондоне, среди держателей акций и кредиторов Южно-Австралийской земельной компании началась настоящая паника. Они стали спешно избавляться от акций, предъявлять векселя к оплате. Компания оказалась банкротом, колония переживала полный финансовый крах. За несколько месяцев население ее уменьшилось наполовину. Там остались только те, кто просто не имел возможности уехать. Цены на продукты питания катастрофически росли. Земельные участки было невозможно продать. Большинство землевладельцев и вместе с ними губернатор колонии Гоулер полностью разорились. Так бесславно закончилась деятельность Южно-Австралийской компании.
Э. Хаксли останавливает внимание читателя и на процессе создания еще одной британской колонии — Западной Австралии.
Подобно Южной, Западная Австралия первоначально возникла как колония свободных поселенцев.
В ноябре 1828 г. группа деловых людей из Лондона, возглавляемая Томасом Пилем, передала британскому правительству записку, в которой предлагала осуществить доставку в колонию десяти тысяч человек в обмен на предоставление четырех миллионов акров земли. Правительство согласилось передать лишь один миллион акров. Было установлено, что каждый колонист получит право на земельный участок размером в сорок акров при уплате трех фунтов стерлингов за акр сразу и обязательстве в течение первых трех лет пользования землей израсходовать на ее обработку еще не менее трех фунтов.
В июне 1829 г. первая партия — пятьдесят колонистов — прибыла к берегам Западной Австралии. Следует сказать, что среди них почти не было людей, которые намеревались бы «в поте лица своего» обрабатывать девственные земли пятого континента. Их влекла в далекую Австралию жажда быстрого и легкого обогащения, ибо компания по колонизации Западной Австралии всячески расхваливала плодородие новых земель, их большую перспективность. Колонисты, приобретая участки в районе реки Суон, рассчитывали, что в самом скором времени получат доходы, не уступающие тем, которые имеют землевладельцы в английских графствах. Приобретали же они западноавстралийские земли почти даром.
Надеясь на безоблачную, богатую жизнь, колонисты забрали с собой из Англии всевозможные вещи домашнего обихода, предметы роскоши. Они взяли рояли, изящные коляски, чистокровных рысаков, дорогих охотничьих собак и т. п. Вскоре по прибытии были заложены первые два города колонии: Перт и Фримантл.
Жестокая действительность очень скоро не оставила и следа от мечтаний колонистов. Земля оказалась неплодородной. Из-за острой нехватки продовольствия скот пришлось забить, а мясо раздать колонистам.
Привезенные из Англии овцы не могли приспособиться к местным пастбищам и гибли. К тому же большую и лучшую часть полученной от правительства земли компания очень быстро продала весьма ограниченному кругу колонистов. Так, за восемнадцать месяцев после создания колонии семьдесят колонистов приобрели право на полмиллиона акров земли в районе Перта. Другим же иммигрантам земля предоставлялась все дальше и дальше от берега, что при отсутствии дорог, в условиях дремучих лесных зарослей делало не только обработку, но и доступ к ней очень затруднительным.
Поскольку колония ничего не производила, не вела торговых операций, то денежные средства у нее отсутствовали. Единственной формой вознаграждения была раздача земельных участков. Даже губернатор колонии Стирлинг получал жалованье землей. Ему было предоставлено сто тысяч акров.
К 1832 г. были проданы права на земельные участки общей площадью в миллион акров. Но они не обрабатывались. Колонисты начали покидать негостеприимные берега. Население Западной Австралии с 1830 по 1832 г. уменьшилось с четырех тысяч до полутора тысяч человек.
Слухи о положении в колонии достигли берегов Англии и повлекли резкое снижение числа желающих отправиться в Западную Австралию. В 1832 г. только четырнадцать колонистов прибыли в Перт, да и в последующие годы их число оставалось очень небольшим, несмотря на широкую рекламу, проводившуюся в Англии Западно-Австралийской ассоциацией, основанной в Лондоне в 1835 г. Дошел до разорения и организатор колонии Т. Пиль. Семья его вернулась в Англию, но сам он продолжал жить в Австралии. Посетивший его в 1842 г. священник Уолластон так описывает жилище Пиля: «Он живет в убогом домике из камня, с крышей из камыша. Все вокруг него свидетельствует о том, что он сломленный человек…»[101].
В конце 30-х — начале 40-х годов была сделана попытки усилить колонизацию Западной Австралии. Ее осуществила соединили в то время в Лондоне Западно-Австралийская компания. Она выбрала для колонизации район в ста милях к югу от Перта. Предполагалось заложить там город, центр колонии, и вокруг него селить колонистов, продавая им участки в сто акров ценой по фунту стерлингов за акр. Первая партия колонистов прибыла в намеченный район в марте 184l г. Деятельность компании привела к некоторому увеличению числа колонистов, прибывающих в Западную Австралию. Так, если в 1841 г. их было четыреста четырнадцать человек, то в 1842 г. — шестьсот семьдесят три. Но сагитированные компанией колонисты вскоре разочаровались в своей новой родине и начали разбегаться. В 1845 г., например, из колонии уехало на сто двадцать девять человек больше, чем приехало.
В 1848 г. в Западной Австралии была проведена первая официальная перепись, согласно которой численность населения колонии спустя двадцать лет после ее создания составляла всего 4622 человека.
Стало очевидным, что идея организации свободных поселенцев провалилась. Тогда власти решили закончить неудавшийся эксперимент и обратились в 1849 г. к британскому правительству с просьбой организовать доставку в Западную Австралию заключенных, используя труд которых они надеялись приступить наконец к обработке земель и освоению колонии. Просьба эта встретила поддержку, и транспортировка заключенных в Западную Австралию началась. В течение восемнадцати лет туда было послано десять тысяч человек.
Отправку заключенных в колонию британское правительство прекратило в 1868 г. из-за резких протестов соседних колоний, власти которых указывали на то, что Западная Австралия стала «трубопроводом, через который моральные нечистоты Великобритании выливаются в австралийские колонии»[102].
Своеобразно создавалась и еще одна британская колония в Австралии — Виктория, о чем кратко упоминает Э. Хаксли. Если все колонии, о которых говорилось выше, появлялись с благословения британского правительства, то Виктория возникла вопреки намерениям правительства, но, как это часто случается с «незаконными» детьми, проявила большую жизнеспособность и вскоре сделалась одной из богатейших британских колоний в Австралии.
Майор Митчелл в 1836 г., исследуя бассейн реки Муррей, вышел к южному побережью Австралии и обнаружил там селения британских колонистов. Они пришли сюда с Земли Ван-Димена, действуя на свой страх и риск.
Первой в декабре 1834 г. прибыла в район Порт-Филлип семья Эдварда Генри. В конце мая 1835 г. за ними последовала маленькая группа во главе с Джоном Бэтменом. В ее состав входило четырнадцать человек. Тем не менее группа имела своего юриста Геллибранда, который оформил договор с аборигенами па «покупку» земли. Этот акт можно было бы назвать комическим, если бы он не носил столь издевательского в отношении аборигенов характера. За несколько одеял, ножей, кос и небольшое количество муки группа Бэтмена «приобрела» права на шестьсот тысяч акров плодородной земли. «Договор» был составлен на английском языке, и аборигены, ставя под ним свои знаки, понятия не имели о его содержании.
Конечно, англичане могли бы не утруждать себя и этим. Документ о купле-продаже земли был создан не для удовлетворения аборигенов, а для того чтобы доказать властям Нового Южного Уэльса «законность» своего приобретения и избавиться от уплаты денег за это британскому правительству.
Но ни губернатор Нового Южного Уэльса, ни британское правительство, узнав через некоторое время об образовании поселения в районе Порт-Филлипа, не признали действительным договор, подписанный с аборигенами Д. Бэтменом. Они исходили из того, что после открытия Дж. Кука все австралийские земли являются собственностью не аборигенов, а британской короны. «Я считаю своей обязанностью, — заявил губернатор Нового Южного Уэльса Гурк, — протестовать против любого умаления прав британской короны, которое может быть следствием подписанного договора».
Однако колонисты, пользуясь своей отдаленностью от «властей», не только не испугались начальственного гнева, но создали свою собственную администрацию колонии и выработали законы. Согласно этим законам, никто из колонистов не имел права продажи своего участка в течение по крайней мере пяти лет. Допуск в колонию заключенных запрещался. Не разрешался ввоз спиртных напитков. В целях уничтожения мешавших развитию скотоводства диких собак динго администрация колонии выплачивала пять шиллингов за каждую убитую собаку. Был создан суд в составе трех человек.
Колония в Порт-Филлипе укреплялась, и губернатору Нового Южного Уэльса ничего не оставалось, как официально признать ее существование, что и было сделано в сентябре 1836 г.
Еще одна британская колония в Австралии — Квинсленд также имеет «каторжное прошлое». В сентябре 1884 г. первая партия из тридцати ссыльных была доставлена в Мортон-бей. Для поселения было выбрано место там, где сейчас находится столица Квинсленда — город Брисбен.
В инструкции, которую губернатор Нового Южного Уэльса дал коменданту колонии лейтенанту Миллеру, говорилось, что «ссыльных следует использовать для очистки в первую очередь мест для поселений, и когда это будет сделано, они должны перейти к подготовке их для свободных поселенцев»[103].
Но колония еще долго оставалась лишь местом ссылки, несмотря на то, что в 1827 г. Аллен Каннингхем обнаружил весьма удобные для скотоводства земли в Дарлинг-Даунс. В 1830 г. в колонии находилась тысяча заключенных и сто охранявших их солдат. Описывая Брисбен конца 30-х годов, очевидец подчеркивал, что он «существовал только номинально. Не было улиц и ничего такого, что производило бы впечатление города»[104].
Лишь в 1840 г. Патрик Лесли привел первое стадо в район Дарлинг-Даунс. К 1851 г. Дарлинг-Даунс имел две тысячи жителей. Осваивались и другие земли, находящиеся к западу и северу от этого района.
Акт 1850 г., которым Виктория была признана самоуправляющейся колонией, уполномачивал королеву, «учитывая обращение жителей», произвести отделение от Нового Южного Уэльса всей территории севернее 30° южной широты для создания там самоуправляющейся колонии.
Однако лишь в 1859 г. специальным актом северная часть Нового Южного Уэльса была провозглашена отдельной колонией и получила название Квинсленд.
С конца прошлого столетия в буржуазной социально-политической литературе стало популярным пропагандировать Австралию, как образец «государства всеобщего благоденствия», «страны классового мира». В действительности ничего подобного не было ни в прошлом, ни в настоящем пятого континента. Напротив, как мы видим, история Австралии по-настоящему драматична, ее народ добивался и отстаивал свои права и интересы в долгой, тяжкой и упорной борьбе.
До второй мировой войны о жизни Австралии мир знал немного. Это объяснялось тем, что Австралия не играла сколько-нибудь активной роли на международной арене, находясь в тени, отбрасываемой Британской империей.
В ходе второй мировой войны определился процесс политической эмансипации Австралии, получивший в послевоенные годы свое развитие. В наши дни Австралия является активным участником межгосударственных отношений, особенно в бассейне Тихого океана. Обладая огромной территорией, богатейшими запасами природных ресурсов, развитой промышленностью и сельским хозяйством, она занимает важное место в международном экономическом сотрудничестве. Поэтому так заметно повысился интерес к изучению пятого континента, вызвавший к жизни обширную литературу об Австралии, своего рода «Австралиану», одним из томов которой является книга Э. Хаксли «Сияющее Эльдорадо», которую мы и рекомендуем читателю.
Перевод книги дан с сокращениями текста, не представляющего интереса для советского читателя.
К. В. МалаховскийПеревод упоминаемых в книге англо-американских мер в метрические
Меры длины
1 ярд — 91,44 см
1 миля (сухопутная) — 1609 м
1 фут — 304,8 мм
1 акр — 4047 кв. м.
1 дюйм — 25,4 мм
Меры жидких тел
1 галлон США — 3,785 л
Меры сыпучих тел
1 бушель США — 35,24 л
Меры веса
1 фунт — 453,6 г
Примечания
1
Роман австралийского писателя Патрика Уайта (род. в 1912 г.). Прототипом героя послужил путешественник Людвиг Лейхардт (1813–1848), пропавший без вести вместе с другими членами экспедиции, пытавшейся в 1848 г. пересечь австралийский континент с востока на запад. — Здесь и далее прим. ред.
(обратно)2
Филипп Артур (1738–1814) — первый губернатор Нового Южного Уэльса.
(обратно)3
Речь идет о книге австралийского архитектора Робина Бонда (1919–1971) «Австралийское уродство», Сидней, 1960.
(обратно)4
Челси — район Лондона, в котором жили многие прославленные писатели и художники, в том числе Т. Мор, Р. Стиль, Д. Свифт, Т. Карлейль, Дж. Тернер, Дж. Уистлер и др.
(обратно)5
Гринвич Виледж — район Нью-Йорка, облюбованный американской богемой — писателями, художниками, актерами, студентами.
(обратно)6
Уоппинг — один из районов Лондона.
(обратно)7
«Террас-хаус» — перенесенный на австралийскую почву тип домов, характерный для Англии XIX в., точнее, ряд однотипных секций (каждая с отдельным входом, с помещениями на двухтрех уровнях и верандами на первых двух этажах), объединенных под одной крышей или поднимающихся уступами вдоль улиц.
(обратно)8
Бэтмен Джон (1801–1839) — основатель Мельбурна.
(обратно)9
«Георгианский стиль» в ранней австралийской архитектуре — продолжение традиций, господствовавших в Англии на протяжении XVIII в. в царствование Георга I и Георга II.
(обратно)10
Здесь и далее Э. Хаксли называет имена современных австралийских художников. Добелл Уильям (1899–1970) и Драйсдейл Расселл (род. в 1917 г.) — выдающиеся мастера реалистической живописи; Нолан Сидней (род. в 1917 г.), Бойд Артур (род. в 1920 г.), Фэрвезер Иэн (1891–1974) — представители модернистских течений. В работах Пью Клифтона (род. в 1924 г.), изображающих буш и его животных, акцентируется жестокость.
(обратно)11
Френч Леонард (род. в 1928 г.) — австралийский художник. Известен стенными росписями.
(обратно)12
Смит Бернард (род. в 1916 г.) — автор трудов по истории австралийского искусства. Цит. по работе «Australian Painting», Melbourne, 1962.
(обратно)13
Фейрфаксы — династия газетных магнатов. Группе Дж. Фейрфакса принадлежат основные газеты Сиднея и Канберры.
(обратно)14
Слессор Кеннет (1901–1971) — австралийский поэт.
(обратно)15
Сиднейский еженедельник «Буллетин» (основан в 1880 г.) — влиятельное общественно-политическое издание консервативного направления. В конце XIX в. занимал демократические позиций и сыграл видную роль в становлении национальной литературы.
(обратно)16
Мердок Руперт — один из монополистов австралийской прессы. Его группа, включающая компанию «Ньюз», контролирует общеавстралийскую газету «Острэйлиен», а также ряд газет Аделаиды, Сиднея, Брисбена, Перта и Дарвина.
(обратно)17
Лоусон Генри (1867–1922) — поэт и новеллист, классик австралийской литературы.
(обратно)18
Мэй Фил (1864–1903) — английский карикатурист; в 80-х годах прошлого века жил в Австралии и сотрудничал в «Буллетине». Лоу Дэвид (1891–1963) — австралийский журналист.
(обратно)19
Линдсей Норман (1879–1969) — австралийский художник и писатель. Саутер Дэвид Генри (1862–1935) — австралийский художник и журналист.
(обратно)20
Лоуренс Д. Г. (1885–1930) — английский писатель, автор романа «Кенгуру» (1923), действие которого происходит в Австралии.
(обратно)21
Маколи Джеймс (род. в 1917 г.) — австралийский поэт, редактор журнала «Квадрант», занимающего реакционно-консервативные позиции.
(обратно)22
Таронга-Парк в Сиднее, один из крупнейших зоопарков мира, был открыт в 1912 году. В зоопарке содержится около пяти тысяч животных, большинство из которых очень редкие. В год зоопарк посещают более трех миллионов посетителей. Площадь около тридцати га.
(обратно)23
Коала, или сумчатые медведи (Phascolarctos cinerous), — малоподвижные древесные сумчатые животные весом до 16 кг, сохранившиеся в узкой части на востоке страны. Беременность самки длится до тридцати дней, детеныш при рождении весит 5,5 грамма и пребывает у матери в сумке до шести месяцев. Из трехсот пятидесяти видов эвкалиптов, произрастающих в Австралии, коала предпочитают лишь пять.
(обратно)24
По-видимому, речь идет о летающем фалангере, действительно похожем на белку (Petaurus norfolcensis), широко распространенном в лесах Виктории, Южного Нового Уэльса и Южного Квинсленда, Восточной Австралии. Чаще его называют малой сумчатой летягой.
(обратно)25
Среди ста пятидесяти видов австралийских дождевых червей в штате Виктория встречается один — Megascolides australies, достигающий 2,75 м длины.
(обратно)26
В настоящее время строительство Оперного театра уже закончено, и 28 сентября 1973 г. открылся первый оперный сезон.
(обратно)27
Стерт Чарльз (1795–1896) — путешественник, исследователь Австралии; возглавил ряд экспедиций в глубь материка, открыл реки Дарлинг и Муррей.
(обратно)28
Из 12 тысяч растений, насчитываемых в Австралии, 9 тысяч (или 75 процентов) относятся к австралийским видам, преимущественно эвкалиптовым, причем наиболее характерными из них являются представители семейства миртовых (около 350 видов).
(обратно)29
Текст сноски отсутствует
(обратно)30
Здесь автор не точен. Зоопарки есть не во всех столицах мира, однако их уже более тысячи и число это продолжает расти, вытесняя по своей популярности в ряде стран бейсбол и другие спортивные и неспортивные зрелища. В настоящее время строительство зоопарка в Канберре уже закончено.
(обратно)31
КСИРО — Организация научных и промышленных исследований Австралийского Союза.
(обратно)32
Текст сноски отсутствует
(обратно)33
Шалашник (Ptilorhynchidae) принадлежит к отряду воробьиных птиц и знаменит тем, что умеет строить из самых непостижимых материалов причудливые гнезда-беседки. Этим занимаются только самцы в брачный период, причем строят сразу несколько сооружений, а правом выбора будущего места жительства обладает только самка.
(обратно)34
Грей Джордж (1812–1898) в 1841–1845 гг. был губернатором Южной Австралии. Участвовал в небольших экспедициях в районы западного побережья и опубликовал дневники своих путешествий.
(обратно)35
Валлаби — обширная группа мелких и средних кенгуру, включающая несколько родов и более двух десятков видов, обитающих в Австралии и Новой Гвинее.
(обратно)36
Радость жизни (франц.).
(обратно)37
Кукабарра или кукабурра — Dacelo gigas — самый крупный зимородок земного шара, обитает в Восточной и Южной Австралии в лесистых или кустарниковых районах и в отличие от большинства других зимородков с водоемами не связан. Питается ящерицами, насекомыми, разоряет гнезда малых птиц, поедает яйца или птенцов.
(обратно)38
В Австралии более трехсот национальных парков и парков-штатов (1,7 млн. га) и 651 заповедник (300 тыс. га). Национальный парк Маунт-Косцюшко открыт в 1944 г., занимает площадь 535,410 га и представляет собой участок австралийских Альп с горой Косцюшко (2230 м). В парке с разнообразной горной долинной растительностью и густыми лесами широко представлен животный мир.
(обратно)39
«Человек со Снежной реки» — популярнейшая баллада австралийского поэта Патерсона.
(обратно)40
Строительство комплекса гидроэлектростанций на Сноуи-Ривер по плану должно быть закончено в 1975 г.
(обратно)41
Крик — пересыхающая река в Австралии.
(обратно)42
Маккартур Джон (1767–1834) — «отец австралийского овцеводства», богатый землевладелец.
(обратно)43
Бердж Джон (1782–1861) — австралийский архитектор. Наиболее известная его работа — Кэмден-Парк (1831), усадьба Дж. Маккартура близ Сиднея.
(обратно)44
В 90-х годах XIX в. офицеры полка Нового Южного Уэльса, прибывшие из Англии, свергли губернатора Ф. Гроуза и взяли власть в свои руки. Они израсходовали все предназначенное на хлеб зерно на производство рома и стали нм спекулировать. Отсюда офицеров этого полка прозвали «ромовым корпусом».
(обратно)45
Бэнкс Джозеф (1743–1820) — английский естествоиспытатель; сопровождал Дж. Кука в плавании на «Индевре» в 1768 г.
(обратно)46
В исторической литературе сейчас принята точка зрения, характеризующая У. Блая как опытного и исполнительного офицера. См.: Б. Даниельссон. «На «Баунти» в Южные моря», М., 1966.
(обратно)47
Сципион Публий Корнелии Африканский Старший — древнеримский полководец, одержавший в 202 г. до н. э. победу над карфагенской армией, возглавляемой Ганнибалом.
(обратно)48
Гринуэй Фрэнсис (1777–1837) — австралийский архитектор, которому принадлежат лучшие образцы ранней колониальной архитектуры.
(обратно)49
Нэш Джон (1752–1835) — английский архитектор.
(обратно)50
Кенгуру впервые открыл в 1620 г. голландский мореплаватель Франс Пелсарт, которого судьба забросила на Западный берег Австралии. Он видел дерби-кенгуру (Wallabia cugenii). И только через 140 лет, в 1770 году английский мореплаватель Джемс Кук, пользуясь не совсем точными сведениями местных аборигенов, дал удивительным животным название кенгуру (Kangaroo)
(обратно)51
Малли-скреб заросли низкорослых эвкалиптовых деревьев; мульга-скреб — заросли колючих акаций до четырех метров высоты.
(обратно)52
Тасманийский тигр впервые был описан натуралистом Гаррисом в 1808 г. под названием Thylacinus cunocephalus, что означает «сумчатая собака с волчьей головой». Сумка открывается у него не вперед, как у кенгуру, а назад.
(обратно)53
Клинохвостый орел (Aquila audah) — самый крупный из орлов (размах крыльев свыше двух метров), пищу орла составляют одичавшие кролики и мелкие сумчатые, в то время как фермеры считают его одним из злейших врагов овцеводства.
(обратно)54
Спинифекс (Triodia spinifex) — жесткий колючевидный злак.
(обратно)55
Бандикуты (Peramelidae) — представители семейства мелких сумчатых животных, внешне несколько напоминающих землероек, но значительно крупнее их (до 1,5 кг). Питаются насекомыми, моллюсками, червями, реже — мелкими позвоночными животными. Находятся под охраной закона, но численность их катастрофически падает.
(обратно)56
Энгес Джордж Файф (1789–1879) — английский коммерсант и судовладелец, один из основателей колонии Южная Австралия.
(обратно)57
Хик Джеклин (род. в 1920 г.) южноавстралнйская художница.
(обратно)58
Д’Урбан Бенджамен (1777–1849) — австралийский военный и политический деятель. Занимал важные посты в различных колониях.
(обратно)59
Уэкфильд Эдвард — виднейший идеолог британского колониализма первой половины XIX в.
(обратно)60
Feature — «черта» (англ.).
(обратно)61
Филдс Бэррон (1786–1846) — член Верховного суда Нового Южного Уэльса, автор первой австралийской книги стихов.
(обратно)62
Кларк Маркус (1846–1881) — австралийский писатель, автор широко известного романа об английской каторге в Австралии «Осужден пожизненно» (1870–1874).
(обратно)63
«Банджо» Патерсон (1864–1941) — поэт, классик австралийской литературы.
(обратно)64
Джекиль и Хайд — персонажи повести английского писателя Р. Л. Стивенсона (1850–1894) «Странная история доктора Джекиля и мистера Хайда» (1886), их имена стали синонимом раздвоения личности.
(обратно)65
Адамс Фрэнсис (1862–1893) — английский поэт-социалист, живший во второй половине 80-х годов XIX в. в Австралии. Автор книги очерков «Австралийцы» (1893).
(обратно)66
На 1970 г. — 2 780 000 человек.
(обратно)67
В настоящее время в Мельбурне и в Сиднее — по три университета.
(обратно)68
Куриный гусь по образу жизни скорее наземная, чем водная птица, так как большую часть времени проводит на суше.
(обратно)69
Флиндерс Мэтью (1774–1814) — английский мореплаватель, один из первооткрывателей австралийского континента.
(обратно)70
«Оставляющие пятнистые яйца» (лат.).
(обратно)71
Политическая доктрина «белой Австралии», основанная на расистских и шовинистических принципах, возникла как противодействие иммиграции из стран Азии.
(обратно)72
Mutton — баранина (англ.).
(обратно)73
Трафальгарская битва — морское сражение у мыса Трафальгар на атлантическом побережье Испании 21 октября 1805 г. между английской и франко-испанской эскадрами, в котором англичане нанесли поражение противнику.
(обратно)74
Томас Уэйнрайт (1794–1847) — австралийский художник, один из лучших портретистов колониального периода.
(обратно)75
Хоу Майкл (1787–18:18) — австралийский разбойник, «буш-рейнджер». Его личность и гибель окружены легендами.
(обратно)76
Елизавета I (1533–1603) — королева Великобритании с 1558 г.
(обратно)77
Альпака и гуанако — животные из отряда мозоленогих, рода лам, живущие в Южной Америке.
(обратно)78
В 1974 г. в австралийских университетах училось около 250 тыс. студентов.
(обратно)79
Хангерфорд Томас (род. в 1915 г.) — австралийский прозаик.
(обратно)80
Дрейк-Брокмен Генриэтта (1901–1968) — австралийская писательница.
(обратно)81
В настоящее время строительство всего комплекса уже закончено.
(обратно)82
Зевье Герберт (род. в 1901 г.) — австралийский писатель, автор романа «Каприкорния» (1938), направленного против расовой дискриминации аборигенов.
(обратно)83
Харни Уильям (1895–1962) — австралийский писатель, собиратель фольклора аборигенов.
(обратно)84
в Топ Энде имеется несколько мест, носящих такие любопытные названия: Хампти Ду (Коротышка Ду), Рам Джангл (Ромовые джунгли), Блю Мад Бей (Залив голубого ила), Рэд Лили Лагун (Лагуна красных лилий)
(обратно)85
Конрад Джозеф (псевдоним, настоящее имя и фамилия Юзеф Конрад Коженёвский) (1857–1924) — английский писатель, автор романов «Каприз Олмейера», «Изгнанник островов», «Негр с «Нарцисса» и др.
(обратно)86
На выборах в Законодательный совет в декабре 1962 г. зарегистрировались и отдали свои голоса 1181 абориген. Всего на Северной Территории проживал тогда 18 621 абориген.
(обратно)87
Маунтфорд Чарльз (род. в 1890 г.) — австралийский ученый-этнограф, автор книг об австралийских аборигенах.
(обратно)88
Ганн Джинни (1870–1961) — австралийская писательница; в ее автобиографических книгах значительное место уделено описанию аборигенов.
(обратно)89
Бородатая ящерица (Amphiboliirus barbatus) — живет в пустыне в Австралии, в случае опасности топорщит свои «колючки», расположенные на голове и шее.
(обратно)90
Пьеса австралийского драматурга Рэя Лоулера (род. в 1921 г.) «Лето семнадцатой куклы» (1957) с успехом шла на местной и зарубежной сцене и стала событием в театральной жизни страны.
(обратно)91
Эмерсон Ралф Уолдо (1803–1882) — американский поэт, философ-идеалист и публицист.
(обратно)92
В 1970 г. колледж в Таунсвилле преобразован в университет, которому присвоено имя капитана Дж. Кука.
(обратно)93
А. Е. Мandеr,The Making of the Australians, Melbourne, 1958, стр. 14.
(обратно)94
Марк Твен, Собр. соч., т. 9, М., 1961, стр. 90–91.
(обратно)95
«Historical Records of Australia», Series 1, vol. ii, Sydney, стр. i3l2ik
(обратно)96
M. Barnard, A History of Australia, Sydney, 1962, стр. 7211.
(обратно)97
H. Melville, History of the Island of Van Diemen’s, London, 1835, стр. 212.
(обратно)98
M. Barnard, A History of Australia, стр. 183.
(обратно)99
Марк Твен, Собр. соч., т. 9, стр. 89.
(обратно)100
См.: К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., изд. 5, т. 23, стр. 782,
(обратно)101
М. Barnard, A History of Australia, стр. 199’.
(обратно)102
Е. W. Danlор, W. Рikе, Australia: Colony to Nation, London, 1960, стр. 79.
(обратно)103
E. W. Danlop, W. Pike, Australia: Colony to Nation, стр. 85.
(обратно)104
W. Сооtе, History of the Colony of Queensland, London, 1882, стр. 29.
(обратно)
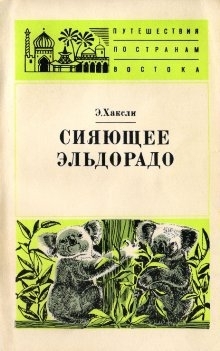


Комментарии к книге «Сияющее Эльдорадо», Элизабет Хаксли
Всего 0 комментариев