ЛЕВ ГУМИЛЕВСКИЙ ЧЕТЫРЕ ВЕЧЕРА НА МЕРТВОМ КОРАБЛЕ
Иллюстрации и обложка худож. К. и. Фридберга-Арнанд
ПРОЛОГ или РАССКАЗ О ТОМ, КАК МЫ СОШЛИСЬ НА МЕРТВОМ КОРАБЛЕ
Особой сессией Трибунала по морским делам слушалось дело о гибели парохода „Победитель Бурь“
Дело мне показалось несложным.
„Победитель Бурь“, плавая по Мурманской линии, вышел из строя в конце навигации и с незначительными повреждениями стал в Екатерининской гавани, не то в ожидании ремонта, не то в ожидании дальнейших распоряжений. По невыясненным причинам пароход остался в гавани и на следующую весну в том же положении. Он простоял так всю навигацию. Команда была распределена между другими судами. На пароходе были оставлены для охраны четыре матроса и младший помощник командира. Только в середине следующего лета команде было приказано доставить. Победителя Бурь“ в Архангельск к судоремонтным мастерским. Буксир своевременно взял пароход и, благополучно выведя его из гавани, направился к месту назначения.
Совершенно неожиданно у Кильдиша „Победитель Бурь“ затонул. Буксир дал задний ход и подоспел к гибнущему судну как-раз вовремя для того, чтобы снять с него команду, которую и доставил в Архангельск вместе с рапортом о происшедшем.
Внимание суда было направлено к выяснению причин гибели парохода. Установить их однако не удалось. Собравшиеся в зале зрители, судя по внешнему их виду и оживленным догадкам, делаемым на особом морском языке, уснащенным множеством специальных терминов, принадлежали к морякам. Они оживленно обсуждали каждую реплику свидетелей и обвиняемых, высказывали дельные предположения, правда, не доходившие до слуха судей, но не могли разгадать загадку.
Я находился в группе моряков, из коротких замечаний которых мог заключить, что они не только были знатоками дела, но и сами побывали в передрягах, когда гибли не худые калоши, как „Победитель Бурь “, а настоящие корабли, при чем редко удавалось установить причину катастрофы.
— Люди умирают не только от старости или явных болезней, но иногда и кончают самоубийством, не открывая причин этого даже близким, — говорил один из них. — Корабль, а это знает каждый моряк, такое же живое существо… Он мог тонуть, не спрашивая разрешения своей команды, чёрт побери… Поднимите его, разрежьте, распотрошите его, может быть, и откроется причина… Чёрт побери! При чем тут команда?
Человека, произнесшего эти слова, спутники почтительно величали капитаном, но соглашались они с ним во всяком случае не в порядке судовой дисциплины. Они, несомненно, верили в справедливость его суждений, и, хотя я слышал не раз о том, что и все моряки суеверны, я не удержался, чтобы не заметить с насмешкой:
— Вы думаете?
— Чёрт побери, думаю ли я? Этого не думает только тот, кто никогда не бывал за порогом своей счетной конторы, — рассмеялся он мне в лицо, — или видел корабли только на картинках в учебнике географии…
Я смутился и замолчал. Как-раз в этот момент перед красным столом суда появилась новая фигура. Это был один из обвиняемых, матрос с погибшего парохода, носивший очень веселую фамилию Наливайкииа, но по внешнему своему виду человек угрюмый, неуклюжий и крайне склонный ко сну. По крайней мере того перерыва в судебной процедуре, который был потрачен судьями и публикой на то, чтобы разбудить его. поднять со скамьи и доставить к столу, хватило с излишком мне — ознакомиться у моих соседей с вопросом о способности кораблей гибнуть по своей охоте.
Откинув с глаз спутанную гриву волос, а может быть, просто пользуясь этим жестом, как случаем дернуть себя за волосы, чтобы окончательно проснуться, обвиняемый лениво ответил на обычные вопросы об имени, летах, занятии.
— Ну, что вы скажите по этому делу? — начал судья.
Тот молчал.
— Вы ведь были на пароходе в момент его гибели, — продолжал судья, вызывая его на свободный рассказ, — значит, можете нам что-нибудь сообщить об этом. Что вы скажете?
— Пароход затонул. Это верно!
Он беспомощно покосился на засмеявшихся, ко, широко зевнув, тотчас же спохватившись, обернулся к суду.
— Это мы все знаем, — сурово заметил судья. — Вы нам о подробностях расскажите.
— Подробностей не было, — лаконично сообщил он.
На этот раз рассмеялись и судьи. Матрос же, борясь с мучительной зевотою, на смех не обратил внимания, но, воспользовавшись тем, что в допросе наступил перерыв, зевнул широко и открыто.
— Тогда отвечайте на вопросы, — предложил не сдавшийся на его лаконизм судья. — Где вы были, когда пароход выходил из гавани?
— Спал в каюте, как обыкновенно…
Судья нахмурился.
— Нельзя сказать, чтобы выход парохода на буксире после двухлетней стоянки был делом обыкновенным, — заметил он под смех публики, — но ладно. Сильно утомленный двухлетним отдыхом, естественно, что вы заснули, когда пароход вышел в море… Что же вас могло разбудить от такого необыкновенного сна?
— Вода! — коротко ответил матрос.
— Как вода?
— Вода, значит, в каюту набралась. Я на нижней койке лежал, подмочило. Я и проснулся.
— Ага! — облегченно вздохнул судья, и зал насторожился. — Ну что же вы тогда сделали?
— Перелез на верхнюю койку.
— И опять заснули?
— Уснул.
Хохот пришлось прекратить длительным звонком. Когда зал утих, судья покачал головой.
— Как же вы не утонули вместе с пароходом?
— Разбудил товарищ.
— Как же вас удалось ему разбудить?
— Стащил за ногу, говорит: тонет пароход, пойдем на буксир пересаживаться.
— Ну, и вы пересели?
— Пересели, — оживляясь наконец, объяснил тот, — выбрался на палубу, гляжу: действительно, пароход того… А буксир кормой к нашему носу… Рукой достать. Я и перешел…
— Ну а там что вы сделали?
— Да ведь что ж было делать? Прилег немножко…
— И заснули?
— Действительно, заснул.
Сопровождаемый общим хохотом, матрос добрался до своей скамейки и, смущенный всеобщим вниманием, стыдливо прикрыл зевающий рот широкой ладонью. Когда его оставили в покое, он тотчас же уснул.
Следующий по делу очень важный свидетель не явился, и дело слушанием было отложено. Судебное заседание было закрыто, но развеселившаяся публика покидала зал неохотно. Заинтересовавшие меня соседи мои продолжали обмениваться по адресу матроса замечаниями, не очень лестными. Я остался возле них, держась наготове вступить с ними в разговор, чтобы снова вернуться к вопросу о корабельных самоубийствах.
— Этого олуха держать на пароходе! — сердито ворчал капитан. — Я бы не дал ему в руки весла на баркасе!
А вы говорили еще, что команда может быть непричастна к гибели парохода, — вмешался я. — Дело ясно, как день…
— Или темно, как ночь, — нахмурился он. — А слышали ли вы о том, что ни один корабль не погиб, не давши о том знать команде?
— Не слышал…
— Да, вижу, что вы многого не знаете!
— Охотно желал бы знать и был бы вам очень благодарен, если б вы рассказали что-нибудь подобное… Вы, как я вижу, старые моряки… — очень уважительно добавил я. — Вероятно, случалось вам быть свидетелями не одного такого случая!
Капитан, по совести говоря, человек еще не старый, видимо, польщенный моим замечанием, быстро расположился
— Да, мы таки поплавали в свое время, — сказал он и обернулся к своему соседу, низенькому, крепкому пареньку в кожаной, видевшей виды куртке. — Ну, штурман, расскажи-ка нам историю старого красавца „Баяна*!
— Что тут рассказывать! — отозвался штурман, но тотчас же и с явной охотой. — История короче воробьиного носа. Мы шли под всеми парами в Гамбург и уже чистили куртки, собираясь вечером погулять в городе… И вдруг — тревожный свисток. Мы все — наверх. Я выскочил первым. Пароход ревет, никто не понимает, в чем дело. Никакой команды нет. Бегу узнать, кто дал сигнал. И что же? У свистка никого нет, свистка никто не давал, а пароход ревет… Все на месте, все нетронуто, а он ревет… Можно было с ума сойти! Капитан перерезал проволоку, не понимая, в чем дело!
Признаюсь, мне стало жутко. Мы смотрели в рот рассказчика, дожидаясь объяснений непонятного происшествия. Он вздохнул и заключил коротко:
— Через четверть часа пароход пошел ко дну, как камень!
— Да, но что же случилось? — воскликнул я.
Они переглянулись, пожав плечами. Я переводил взгляд с одного на другого. Ни капитан, ни штурман не снисходили до объяснений. Третий из них, с которым я не успел еще перемолвиться ни одним словом, глядел на меня с жалостью. Как я мог заключить из предшествующего разговора приятелей, он был старшим помощником капитана. Круглое, хорошо упитанное лицо его сияло неизменным добродушием. Я остановил на нем дольше вопрошающий взгляд. Он, видимо, колебался. Я настаивал:
— Да объясните мне, что за чертовщина такая?
При всей своей доброте, он сам не мог снизойти до меня и потому небрежно кивнул четвертому приятелю.
— Лоцман, объясни гражданину штатскому, в чем дело!
Я награжден с детства водобоязнью: даже на наших волжских теплоходах я не засну иначе, как напялив на себя в уютной каюте (предварительно погасив свет) пробковый нагрудник, но язвительное обращение старшего помощника меня обидело. Я хотел возразить, но лоцман, самый младший и самый веселый из всех их, тотчас же, как по команде, обернулся ко мне:
— Дело в том, что „Баян" переломился надвое.
Я продолжал не понимать.
— Ну, ясное дело, не вдруг, — раздраженно пояснил тот, — пароход, перегибаясь, прежде всего натянул проволоку, идущую от свистка к капитанским мосткам. Получился тревожный сигнал…
Я невольно расхохотался.
— Дьявол вам на борт! — вскричал старший помощник с нескрываемым гневом. — Что вы гогочете, как старая негритянка, которая впервые видит настоящих офицеров в мундире? Что вы тут нашли веселого?
— Чтоб вам растолстеть, что я сказал смешного? — с недоумением оглянулся и лоцман на приятелей. — Разве не так было дело, штурман?
— Съешь меня ржавчина, если это было не так!
— Чёрт побери, объясните в самом деле, что тут смешного? — вступился капитан за команду и не без угрозы пододвинулся ко мне.
Я опешил.
— Простите мою несдержанность, — учтиво начал я оправдываться, — но ведь уважаемый лоцман говорил о явном совпадении, о явной случайности. Ну, разумеется, пароход дал свисток в силу того, что он перегибался…
— Дьявол вам на борт, дальше! — прервал старший помощник.
— Это все естественно и просто, — заторопился я. — Но ведь мы говорили о другом. Вы изволили говорить, капитан, что корабль, как живое существо, может сам, по своей охоте погибая, дать знак… По своей воле, разумеется!
— Чёрт побери, вам же говорят, что человеческая рука не касалась свистка!
— Да, — рассердился я, — но если бы пароход погибал от других причин, не дал бы он вам сигнала!
— А вы почему знаете?
— Я не знаю, ко вижу, что в данном случае свисток явился естественным следствием того, как корабль погибал… Во всяком же другом случае…
— Корабль обязательно даст знать команде, — перебил меня капитан сурово, — о приближающейся гибели тем или другим способом… Старый моряк знает об этом очень хорошо…
— Может ли это быть? — воскликнул я.
— Это бывало, — отрезал капитан. — Мы рассказываем строго проверенные факты. Из этих фактов только отъявленный спорщик или круглый невежда не выведет того заключения, что пароход не только может погибнуть без известных команде причин, но может и предупредить ее о спасении… Чёрт побери, издает же человек предсмертный вздох!
Должен признаться, что я растерялся. Факт сам по себе был правдоподобен. Мои неожиданные знакомые, обобщая его, делали из этого факта неестественные выводы. Я, уважая чужие мнения, не решился спорить. Пожав плечами, я уклончиво заметил:
— Видите ли, я не знаком с устройством парохода и не могу судить…
— Дьявол вам на борт! — вмешался старший помощник. — Мы только-что собирались отсюда отправиться на Соломбалу. На Кузнечихе стоит дохлый, старый „Нептун", мы покажем вам его, если хотите… Тогда вы, надеюсь, поверите в это, как и любой моряк. Дьявол вам на борт! Суд кончился! На дворе вечер.
— Чёрт побери, в самом деле нам пора! — прибавил капитан.
— А, ест их ржавчина! — оглянулся штурман. — Уже все разошлись…
Зал действительно опустел, и судебный распорядитель, кажется, собирался уже направиться к нам, чтобы напомнить о том, где мы находились. Я не желал ничего лучшего, как пройтись на Соломбалу в обществе этих морских волков, и очень охотно отправился за ними.
На улице капитан поднял капюшон непромокаемого клеенчатого пальто. Ветер раздувал его полы, он шел впереди. Когда мы переходили мост над Кузнечихой, я первый раз в жизни не отвернулся от воды, чувствуя себя в безопасности за спиной отважного моряка, и шел не менее храбро, чем остальные. Правда, мой штатский костюм сильно смущал меня: среди спасительных плащей и курток моих спутников, на фоне брезента, кожи и клеёнки, в франтоватом английском пальто до колен, я выглядел общипанным петухом, если не мокрой курицей.
Осенний ветер к тому же был остр и резок. Небо, набухшее тяжелыми серыми тучами, грозило дождем. Мы вынуждены были молчать всю дорогу.
„Нептун*, когда то очень внушительное и красивое судно, теперь здесь на Кузнечихе. на мели, у берега между Первой и Второй Деревней, представлялся действительно старой и дряхлой развалиной. При всем желании моих спутников посвятить меня во все тонкости соотношения корабельных частей, едва ли и всякий более толковый человек мог составить себе представление о причинах гибели. Баяна", прогуливаясь по заплесневевшему покойнику, каким мне показалась эта черная громадина, насквозь просыревшая и прогнившая.
Все сколько-нибудь ценные части отсюда давно уже были сняты и унесены: встретивший нас хлопотливый старичок-водолив охранял не более не менее, как груду сырых дров. Если еще до них и не дошла очередь в зимние стужи, то потому только, что жители Архангельска в дровах, по причине их изобилия, как известно, никогда не нуждаются.
Правда, остатки капитанских мостков и железной трубы послужили поводом для повторения лоцманом сообщения о предсмертном свистке. Баяна", но попытку показать на примере, как все происходило, он, помахав, в воздухе руками, вынужден был ограничить ругательством по адресу мертвого корабля:
— Ах, чтоб тебе растолстеть, старый чёрт!
К тому же вскоре разразился дождь, и все мы по приглашению водолива немедленно должны были спуститься в какую-то преисподнюю, где, впрочем, очень гостеприимно горела свеча, воткнутая в бутылку. При свете ее можно было разглядеть не только деревянный стол, служивший, судя по его поверхности, не мало лет для рубки мяса на корабельной кухне, но и пустые бочонки, заменявшие стулья, и даже стены, пахнувшие смолой, гнилым старым деревом и плесенью.
Спутники мои решительно не обратили никакого внимания на довольно-таки странную обстановку, в которой мы очутились. Мне показалось, что они здесь бывали раньше. Однако вернее было бы предположить, что людям, перевидавшим на своем веку побольше моего, подобные пустяки вовсе не щекотали нервов.
Только один капитан, усаживаясь за стол и, скидывая с головы капюшон, прищурившись, оглядел странное помещение и заметил, как бы приветствуя старый корабль:
— Ну, старина „Нептун", вот и опять мы все встретились у тебя в гостях! Стар ты стал и дряхл, товарищ! — говорил он, задумчиво качая головой. — А помнишь, друг, каким красавцем ты был, когда я забрался в твой трюм и вышел на палубу лишь в открытом море, так что капитан волей-неволей взял меня юнгой? Ну, конечно, ты все помнишь, старый приятель!
Он умолк. Наступила мгновенная тишина, в которой я готов уже был без большого удивления услышать глухой голос старой развалины в ответ. Но ничего не было слышно, кроме гула дождя, так звонко колотившего по палубе, что я не был бы особенно поражен, если бы увидел ее продырявленной насквозь.
Капитан неожиданно обратился ко мне.
— Дело в том, — сказал он с улыбкой, — что мы все, — он, сидя в середине, приветливыми жестами обеих рук указал на собравшихся, — мы все старые приятели… Когда-то мы плавали вместе, потом судьба разбросала нас по всем углам Старого и Нового Света… Иногда нам случается собраться нечаянно, как сегодня… Тогда мы усаживаемся где-нибудь в укромном уголке и болтаем, вспоминая разные истории… На дворе ливень, и лучше вам остаться поскучать с нами, чем тащиться в город в вашем куцем пальтишоне… Может быть, старый водолив раздобудет нам здесь по кружке пива… А что у него найдется контрабандный английский табачок и лишняя трубка, так за это я поручусь.
Он, улыбаясь, ждал моего ответа. Я не только с восторгом принял предложение, но и пояснил, что имею особые причины интересоваться всякими историями. Это, видимо, расположило их всех ко мне еще больше, и, когда через минуту на столе появились огромные глиняные кружки и старые обкуренные трубки, мастерски набитые чудесным табаком, мы были едва ли не друзьями.
— Да, хотелось бы мне попутешествовать, — говорил я, слегка пьянея от изумительной трубки, дышавшей ароматом каких-то американских сильвас, и глядя на оплывавшую в горлышке бутылки свечу. — Да, хотел бы я попутешествовать, чёрт возьми! Скучна и однообразна наша жизнь… Утром — служба… Потом обед, потом картишки или кинематограф… Разве можно сравнить наш мещанский уют с трюмом корабля, который несет нас в далекие страны!.. Да, хорошо!
— Чёрт побери! Кто вам мешает совершить хоть разок кругосветное плавание? — сочувственно отозвался капитан.
— Или хоть отправиться куда-нибудь на север, ест его ржавчина! — предложил штурман.
— На север, чтоб вам растолстеть? — возмутился лоцман. — Я думаю, первое путешествие нужно сделать на юг!
— Дьявол вам на борт! — остановил их старший помощник. — В чем дело? Если нас спрашивают, куда надо отправиться человеку, желающему освежиться, так разве мы можем сказать что-нибудь другое, как запад!
Я не успел вставить слова, как капитан, улыбаясь мне, ласково заметил:
— Чёрт побери! Если ехать, то, конечно, на восток!
Я ничего не имел против того, чтобы эти бывалые люди (Лудили план моего будущего путешествия, и потому торопливо вступил в их спор, давая им точную директиву:
— Но, друзья, — сказал я. — мне не столько важно увидеть что-то новое, сколько важно и любопытно пережить какое-нибудь необыкновенное приключение.
Они тотчас же отозвались друг за другом, но в ином порядке, должно быть, по практике судовой дисциплины, им более привычном.
— Чёрт побери! — начал капитан. — Именно это я имел в виду, когда назвал вам восток. Вы даже не переедете русской границы, как наткнетесь на необычайную историю. Слыхали ли вы о Стране Гипербореев?
Он победоносно оглянулся кругом. Но, видимо, когда дело касалось таких близких их сердцу вещей, все забывали о дисциплине. Прежде чем я мог ответить, старший помощник заревел:
— Дьявол вам на борт! А не про то ли говорил я? Я только-что вернулся с нашего запада, с нашего русского запада. Знаете вы что-нибудь о Золотом Узле?
— Мое путешествие, — подхватил штурман, — также не вышло за пределы наших границ, но я был на севере. Так если кто хочет пережить настоящее, не сочиненное приключение, тот отправится на наш север. Ах, ржавчина вас ешь, неужели никто из вас не бывал на Кладбище Мамонтов?
Лоцман расхохотался мне в лицо, видя, как я оглядываюсь то на одного, то на другого, не зная, на чьем предложении остановиться. От одних только названий, выкликнутых ими, меня бросало в дрожь.
Я посмотрел в рот лоцмана, ожидая названия еще более завлекательного. И не ошибся. Лоцман отрезал:
— Чтоб вам растолстеть, отправляйтесь на юг, и я ручаюсь, что Черные Пески сыграют с вами самую интересную историю. Оттуда без приключений не вернулся еще ни один человек! И я вам говорю, что нет иной страны в мире, кроме России, где бы вы встретились с Черными Песками.
Признаюсь, я решил схитрить и выпытать все эти истории от моих знакомцев, чтобы, не утруждая самого себя опасными путешествиями по всем углам нашего обширного отечества, узнать о Стране Гипербореев, Золотом Узле, Кладбище Мамонтов и Черных Песках, может быть, с большими подробностями, чем это удалось бы мне самому.
— Мне трудно выбрать, — робко сказал я, — направление первого моего путешествия, так как меня одинаково занимает все то, о чем вы упомянули! Но, дорогие друзья, вы оказали бы мне незабываемую услугу, если бы рассказали подробно о всех этих загадочных вещах. Тогда, выслушав всех по очереди, мы составили бы маршрут моего путешествия без всякого труда…
— Чёрт побери! — воскликнул капитан. — Я только-что хотел предложить то же самое!
— Дьявол вам на борт! Разве кто отказывается?
— Ржавчина меня ешь, если не я расскажу самую необычайную историю!
— Чтоб вам растолстеть, не говорите этого прежде, чем не услышите моей!
Страсти разгорались. Я ликовал.
— Предупреждаю, — заметил капитан, — рассказать мою историю не удастся в полчаса. Она займет у нас время до полуночи.
— В чем дело? Я расскажу свою завтра!
— Ешь меня ржавчина, если для моей не соберетесь вы все здесь послезавтра!
— И на четвертый вечер, чтоб мне растолстеть, вы не откажетесь здесь выслушать мою! — заключил лоцман.
Я потирал руки от удовольствия. Капитан немедленно вышел распорядиться относительно трех украшающих каждую историю вещей: свечей, пива и трубок.
Когда все было принесено, капитан предложил нам сделать по глотку, затянуться по разку и затем уже слушать.
Сам же он, заправив новую свечу в горлышко бутылки, начал свой рассказ.
Закончил его он действительно далеко за полночь, и рассказ старшего помощника нам удалось выслушать только на другой день. На третий и четвертый вечер мы слушали повести штурмана и лоцмана.
Вот эти повести, которые услышал я в черном нутре мертвого корабля в те вечера. Я записал их начерно тогда же, но теперь, представляя их на суд читателя, я придал им вид обыкновенных рассказов: снабдил заголовками, разбил на главы и повествовал от третьего лица, не упоминая совершенно о рассказчиках, о которых я доскажу в конце настоящей повести отдельно.
Итак:
ВЕЧЕР ПЕРВЫЙ или ПОВЕСТЬ КАПИТАНА О СТРАНЕ ГИПЕРБОРЕЕВ
Этот остров лежит на севере к на-
селен гипербореями, названными так
потому, что живут они дальше дуно-
вения борея".
Диодор. II, 47[1].ГЛАВА ПЕРВАЯ ЗАГАДОЧНЫЙ СПУТНИК
Из Колы, направляясь в глубь полуострова, вышел 24 июня 1913 года топографический отряд. Отряд, состоявший из шести человек, намеревался обследовать течение реки Умбы, вытекающей, как не многим известно, из озера того же названия.
Никто из участников этой экспедиции не вернулся.
Для огромного большинства составителей карт точное местоположение реки и озера остается по-прежнему неизвестным. На всех просмотренных мной картах Кольский полуостров кажется в огромной своей части безводной пустыней, а на большинстве их загадочное озеро не означено вовсе, хотя величина его составляет не менее трети огромного Имандрского озера.
Об отряде не было получено никаких сведений. Ни обстоятельства гибели его, ни самое место трагедии не было никому известно. Однако никто из туземных жителей не сомневался в том, что топографы и их спутники погибли на пути к Острову Духов. Этот остров, о котором лопари говорят только днем, и то шепотом, находится в самой середине озера Умбы. Существует предание, в достоверности которого никто еще не решился усомниться, что всякий, пытавшийся переправиться с берега на остров, погибал в волнах Умбы.
Летом 1926 года, то есть тринадцать лет спустя, из той же Колы и совершенно по тому же направлению, имея целью своего путешествия также озеро Умбу, отправился другой отряд, хорошо снаряженный для путешествия, но состоявший всего лишь из двух человек. Одного из них, старого охотника с мурманского берега, Николая Васильевича Колгуева, в просторечии Колгуя, толпа зевак, провожавшая путешественников, знала так же хорошо, как и любого из соседей. Другой же не был известен обитателям Колы, а так как, кроме того, он лицом, манерами и поступками совершенно отличался от всех колычан, то и привлекал к себе всеобщее внимание.
Этому способствовало еще и то обстоятельство, что всего лишь за два дня до путешествия этот загадочный спутник Колгуя, искавший в городе проводника, поставил на ноги старого охотника, лежавшего две недели в постели, дав ему шесть горьких порошков неизвестного лекарства.
Местный врач за две недели перепробовал на больном все свои, правда ограниченные, средства, но не добился ни малейшего улучшения в положении Колгуя, называвшего свою болезнь просто лихорадкой. Тем большее удивление вызвал своим средством приезжий, получивший тогда же среди шептавшихся колычан почтенное наименование доктора. Впрочем, странному путешественнику, искавшему в Коле проводника до Умбы, действительно не чужды были врачебные познания. Во всяком случае, когда он от десятка обывателей услышал, что, кроме Колгуя, нет такой отпетой головы в городе, кто согласился бы идти на Умбу, приезжий не задумался отправиться к охотнику, хотя и был предупрежден о его несвоевременной болезни.
Колгуй, скрипевший зубами не столько от боли, сколько от злости на болезнь, уложившую его в постель, когда охотники бродили и дни и ночи с ружьем, добывая песцов и лисиц, посмотрел на гостя не очень приветливо.
– Проведете ли вы меня, – сказал тот на чистом русском языке, но с необычной для постоянно говорящего на этом языке старательностью выговаривая каждое слово, – до Умбы, если я вылечу вас?
Глубокие, но не старческие морщины на смуглом лице гостя и серые, почти бесцветные, но слишком глубокие и беспокоящие пристальностью взгляда глаза его и самая манера говорить с необычайной простотою, за которой чувствовалось достоинство, внушили больному доверие. Во всяком случае, необычного посетителя он не послал к черту, как это делал с другими, предлагавшими верные средства от болезни, хотя ответил не без резкости: Если вы меня поставите завтра на ноги, я послезавтра отведу вас не на Умбу, а на самый Остров Духов, если вы пожелаете. Лучше умереть у черта в лапах, чем на этих вонючих тряпках!
Он хлопнул исхудавшей ладонью по соломенному тюфяку так, как хлопал по рукам колычан, заключая какую-нибудь сделку. Колычане знали, что слово Колгуя, подкрепленное рукопожатием, вернее писаных векселей.
Может быть, гость знал это, может быть, он догадался о том по одному взгляду на охотника, но он ответил тотчас же, коротко: – Хорошо, я вас вылечу!
Он не был ни знахарем, ни фокусником, ни чародеем, потому что с внимательностью и тщательностью, свойственной далеко не каждому врачу, он, осмотрев больного, расспросил его о всех малейших проявлениях болезни. Напав на какой-то след, он сам досказал Колгую все остальное с такою точностью, что можно было подумать, будто он все две недели не отходил от постели больного, наблюдая за ним. Только после этого он ушел и вернулся с багажной сумкой, из которой извлек те шесть порошков, которые поставили Колгуя на ноги.
Обитателям древнего города Колы, как я уже сказал, все это было известно. Вот почему чужеземный доктор, к тому же избравший целью своего путешествия столь рискованное место, как Умба с его Островом Духов, привлек всеобщее внимание.
Впрочем, улицы Колы не велики, а сытые лошадки путешественников с такою охотой тронулись в путь, что маленький отряд не долго тешил своим видом зрителей.
Колгуй, еще бледный и худой, но сидевший на лошади с большей уверенностью, чем в постели, помахал шапкой на прощание приятелям, и отряд скрылся с глаз зевак.
Спутник Колгуя оказался человеком не очень разговорчивым. До вечера он только раз, когда, увязая до щиколотки в болоте, лошади шли шагом, открыл рот.
– Не рано ли пустились мы в путь? – сказал он, впрочем, сейчас же добавляя: – Хотя вы, кажется, чувствуете себя хорошо!
– Я думаю, что нагуляю себе жиру скорее в дороге, чем дома! проворчал Колгуй.
Они пробирались вересковым кустарником. Бившиеся о колена коней вечнозеленые листья багульника издавали свой горько-пряный запах, и старый охотник оживал от аромата, точно не дышал, а пил кружку за кружкой колычанское пиво, сдобренное для крепости пьянящим настоем багульника. Кисти колокольчатых цветов андромеды веселили темно-зеленый ковер болота, но лошади пугливо поднимали головы прочь от ядовитой листвы ее, торопясь выбраться из топи на твердую почву.
– Тогда будем спешить! – отозвался спутник Колгуя сурово и замолчал надолго.
Колгуй, выбравшись из болота, молча последовал его совету и погнал коней вперед.
Безлесная равнина расстилалась впереди на десяток верст. Суровые ветры здесь сжигают все, что поднимается выше слоя снега, прикрывающего землю зимою.
Низкорослый кустарник черники и брусники казался издали ровным луговым ковром.
Кони шли едва приметными и для острого глаза охотника тропинками. На сотни верст здешние дороги безлюдны, и Колгуй, привыкший, плутая в болотах и равнинах, молчать целыми днями, не очень тяготился молчаливостью своего спутника.
Однако на первом привале после полудневного пути и тряски, после сытного завтрака, запитого чашкой спирта, когда странный путешественник нетерпеливо поглядывал на щипавших траву лошадей, Колгуй не вытерпел.
– За каким, собственно говоря, дьяволом, – сказал он без всякой учтивости, законно исчезающей у людей среди диких равнин, не тронутых ногой человека, – несет нас, доктор, на Умбу?
Серые глаза доктора не оживились ни гневом, ни любопытством. Он ответил тихо и просто: – Для чего бы я стал тратить время и слова на объяснение того, что вам станет ясным и так через два дня?
– Дельно сказано, – смутившись, пробормотал Колгуй и вытянулся на траве, словно не желая продолжать так ловко оборванный разговор, но тут же добавил, как будто для себя одного: – Я не верю ни в бога, ни в черта, но без большой нужды я не потащился бы на этот остров… Я-таки отлично знал тех топографов, которые не вернулись оттуда…
– Оставаясь в постели, вы могли умереть несколько раньше, чем мы – доберемся до Острова Духов, – с едва заметной усмешкой ответил доктор.
– Что? Я разве отказываюсь идти с вами? – вскочил Колгуй.
– Я не говорил этого, – тихо заключил доктор.
Можно было подумать, что разговор утомлял его больше, чем седло. Колгуй замолчал и молча пошел к лошадям.
– Я думаю, мы отдохнули довольно? – проворчал он.
Доктор молча кивнул головой, и через минуту они снова продолжали свой путь.
Спокойный и ровный путь этот, то незаметной тропою пробиравшийся в зарослях кустарника, то шедший между каменных скал, покрытых ржавым мхом, то выходивший в степь, то опускавшийся в болотистые низины, длился до таинственных северных сумерек, незаметно сменивших летний день на белую ночь.
Колгуй уже начинал поглядывать вопросительно на своего спутника, помышляя об отдыхе, и тихонько приглядывался к укромным уголкам, когда тот вдруг придержал лошадь и обернулся к проводнику.
– Что это? – спросил он, кивая в сторону.
Белая, прозрачная ночь сияла над миром, как загадка: не было теней, не было источника света. Все казалось прозрачным, все чудилось освещенным откуда-то изнутри. И развалины каменной стены, возвышавшейся над низкою порослью карликовых берез, были видны издалека.
Колгуй весело воскликнул: – То, что нам нужно для ночлега, доктор. Мы не могли бы и желать здесь лучшего…
– Что это такое? – повторил тот, не замечая болтовни охотника. Жилище?
– Да, иногда в них живут лопари… Я думаю, что им по тысяче лет, и те, кто их строил, были посильнее нас… Лабиринты – называли их топографы.
– Хорошо, мы ночуем там! – вдруг согласился тот и, круто повернув с дороги, направился к дряхлым камням с такою поспешностью, что Колгуй с недоумением погнал за ним свою лошадь, не понимая, откуда вдруг появилась в докторе такая охота к ночлегу и отдыху.
ГЛАВА ВТОРАЯ СЛЕДЫ
Тот, кому случалось забираться в глубь Кольского полуострова, встречал, конечно, как и Колгуй, исколесивший его во всех направлениях, среди зарослей карликовой березы и стелющейся по земле ивы необычайные каменные лабиринты, где лопари, остающиеся до сих пор язычниками, приносят жертвенных животных своим сердитым богам.
Стены этих странных построек невысоки. Они сложены из огромных камней, заставляющих вспоминать о великанах, которым одним только под силу могли быть подобные сооружения. Внутренность этих построек представляет собою ряд переплетающихся между собою ходами и выходами каменных коридоров. Они, кружась, в конце концов выходят к центру лабиринта, где водружен тяжкий, как скала, каменный очаг.
Обычно вокруг этих построек ютятся в своих оленьих чумах лопари, стекающиеся сюда на суд шамана по множеству своих семейных, житейских и оленьих дел. Иногда стены лабиринта, прикрытые земляной крышей, обращаются ими в постоянные жилища. Однако, глядя на низкорослых, заеденных холодом, голодом, вшами и нуждою обитателей циклопических построек, невозможно предположить, что они сами, деды их или прадеды строили эти угрюмые дворы, заставляющие вспоминать о каменном веке земли.
Казавшийся издали бесформенной грудой камней лабиринт, привлекающий внимание доктора, был брошенный на лето храм отправившихся к морю за рыбою лопарей. Колгуй, несколько удивленный поспешностью своего спутника, с которой тот направился в сторону мелькнувшей в зарослях постройки, признал в нем, кроме того, первый храм, лежавший на пути к Умбе.
Он спокойно последовал за доктором, спрыгнул, как и тот, с лошади, но вместо того чтобы броситься, как он, с необычайным проворством и волнением к заплесневелым камням, спокойно поймал лошадь своего спутника и вместе со своею пустил их на пышную и свежую траву, а затем, с удовольствием разминая ноги после седла, вернулся к нему.
– Мы на верном пути, – сказал он, – мы идем к Умбе, как по компасу. Завтра к вечеру мы встретим еще такой лабиринт, доктор! И послезавтра будем на Умбе!
Человек, не назвавший своего имени до сих пор и откликавшийся на признательное именование его доктором, стоял неподвижно, скрестив на груди руки, возле стены.
На фоне огромных камней, ничем не скрепленных друг с другом, но тяжестью своею связанных крепче, чем цементом, он был сам похож на каменное изваяние. Высокий и крепкий, запечатанный в кожаное пальто, отсвечивавшее в ночи шлифованным мрамором, он почудился старому охотнику выходцем из другого мира.
И Колгуй вздрогнул, когда тот, не поворачивая головы, сказал со спокойной уверенностью: – Да, мы идем по верному пути!
В тот же миг, точно разбуженный от своей задумчивости собственной речью, он перебрался через стену, доходившую ему, до груди. Это движение отогнало страдный призрак статуи, почудившийся Колгую, и он, встряхнувшись и оправляясь от минутного замешательства, крикнул сердито: – Послушайте, доктор! Если вы знаете не хуже меня верный путь до Умбы, так на кой черт вы взяли с собой проводника?!
Вызывающий тон заставил странного – путешественника поднять голову. Доктор посмотрел на Колгуя, но так, точно не видел его, и пояснил тихо: – Я говорю не о том пути, о котором говорили вы.
– Что же, по-вашему, тут две дороги?
– Да, и каждый идет по своей!
Колгуй, бормоча себе под нос, посоветовал черту разобраться во всем этом деле и направился к лошадям.
Когда он вернулся в лабиринт к очагу, долго путаясь в каменных коридорах с кошмами, одеялами, ужином и кожаными мешками доктора, туго набитыми не очень легким багажом, тот уже спокойно ожидал его.
Когда же все было разложено и ночлег приготовлен, к удивлению старого охотника, его спутник сам первый открыл рот.
– Вы сказали, что завтра к вечеру будет еще одно такое же сооружение? – спросил он.
– Да, – подтвердил Колгуй, – это будет один из самых больших и самых важных храмов. Он стоит на берегу Умбы, и туда приплывают лопари, отправляясь в море, чтобы заручиться согласием своих болванов и шамана… Там, я думаю, под залог наших лошадей, которые тем временем отдохнут для обратного пути, если, конечно, нам придется возвращаться, под залог лошадей мы достанем какую-нибудь посудину, чтобы выйти на озеро…
Он замялся, потом решительно досказал: – Ну, и на Остров Духов, разумеется, если вы думаете в самом деле побывать там!
– Да, мы переправимся туда! – коротко сообщил доктор.
– Стало быть, я верно догадался, что лодку нам добывать придется.
Колгуй охотно стал бы продолжать завязавшийся не по его почину разговор, но собеседник его, устало кивнув головой вместо ответа, уже заворачивался в шерстяное одеяло.
Колгуй не без досады улегся поблизости. Он не спал ночь, слушая лошадей, готовый подняться при малейшей тревоге. Поглядывая на своего спутника, он имел возможность не раз заметить, что и тот, погруженный в забытье, не спал, но отдыхал в какой-то особенной, каменной неподвижности.
Он откликнулся ранним утром на зов Колгуя тотчас же и встал со свежим, спокойным лицом, на котором нельзя было заметить ни малейших следов сна, делающих измятыми и серыми лица всех колычан.
Во всем этом не было ничего загадочного и таинственного. Однако, приготовив лошадей и трогаясь в путь, старый охотник искоса посмотрел на своего спутника, и во взгляде этом можно было прочесть далекое и смутное подозрение.
Впрочем, за весь день пути до самого вечера не было никаких новых поводов для того, чтобы подозрение это выросло. Наоборот, уступая ли ласковой настойчивости солнца, старавшегося расплавить и смягчить каменную недвижность изваянного лица доктора, отравляясь ли пьянящим ароматом багульника, загадочный спутник Колгуя не без удовольствия оглядывался по сторонам и не раз сам заговаривал со своим проводником о посторонних вещах.
Несомненно также, что если не радость, то заметное удовлетворение скользнуло по его лицу, когда, уверенно плутая по невидимым тропам и дорогам, Колгуй выбрался на полянку к каменному лабиринту, возле которого было раскинуто с полдюжины лопарских чумов, Осматривая каменные стены издали, доктор оживленно спросил: – Долго ли плыть до озера по реке?
– Пустяки, – ответил Колгуй, – до реки два шага отсюда, а лабиринт у самого истока реки…
– А до острова?
– Не плавал, – отрезал Колгуй, – не знаю. Только с берега озера можно видеть остров, если нет тумана над водой. Я не совал своего носа в дела островных чертей, но если я сяду в весла, так доставлю туда вас не дольше, как за час работы…
– И столько же, чтоб вернуться назад? – с улыбкой спросил тот.
– Если мы выберемся обратно, я доставлю лодку назад, вероятно, за полчаса! – пробурчал Колгуй.
– Посмотрим, – просто заметил доктор, и впервые старому охотнику показалось, что все россказни об Острове Духов были по меньшей мере преувеличены.
Можно с уверенностью сказать, что Колгуй был первым из всех колычан, кто усомнился в достоверности известного предания, как верно и то, что он был первым, кто вскоре затем мог убедиться, что сказки об Острове Духов рассказывались не зря.
Впрочем, в тот момент ему некогда было думать об этом. Доктор бросил ему на руки поводья и немедленно отправился плутать по коридорам лабиринта, пробираясь к очагу. Колгуй же, устроив лошадей на попечение скалившего зубы лопаря, отправился бродить из одного чума в другой, расспрашивая о том, каковы были уловы рыбы, и осторожно осведомляясь, нельзя ли добыть к утру лодку.
Лодка нашлась, сделка после осмотра лошадей состоялась к обоюдному удовольствию. Однако старый, подмигивающий единственным глазом лопарь был заметно разочарован, когда на ехидный вопрос его – «не собирается ли охотник со своим товарищем отправиться на Остров Духов» – Колгуй сурово ответил: – Как раз наоборот. Мы хотим спуститься вниз.
– А, – вздохнул лопарь, – конечно! Вы получите своих лошадей, когда захотите.
Доктор был доволен своим проводником. Он не только поблагодарил его, но уверил с улыбкой: – Несомненно, что мы вернемся назад так же благополучно, как прибыли сюда, благодаря вашей опытности, ловкости, знанию и заботливости.
– Если бы вы были не только доктором, но и колдуном, я и тогда бы подождал до послезавтра вам верить! – проворчал Колгуй.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ОСТРОВ ДУХОВ
Жители Севера не избалованы судьбою. Упорная и тяжелая вечная борьба с угрюмой природою приучила их думать, что путь к счастью загроможден препятствиями. И, как всякий истый северянин, Колгуй видел в сцеплении удач скорее угрозу, чем благополучие. Поэтому он с большим удовольствием отчалил бы от берега в дырявом челноке, чем в просмоленной рыбацкой лодке, к тому же оказавшейся изумительно легкой на ходу.
Делать, однако, было нечего, и со вздохом он взялся за весла, которые не подавали ни малейшей надежды на то, что не разлетятся вдребезги, если он ударит ими о подводный камень.
Все шло как нельзя лучше. Солнце разогнало туман с воды прежде, чем они выбрались по реке в озеро. Скалистый остров посредине его предстал перед ними в прозрачной дали с такою четкостью и голубоватая поверхность воды была так спокойна, что и последняя надежда Колгуя на опасность плавания исчезла. Ему ничего не оставалось, как покориться. Он закрыл глаза и налег на весла.
Лодка понеслась стрелою.
Каменистый берег острова, где скалы, как маяки, не давали никакой возможности уклониться от взятого направления, вырисовывался вдали все с большей и большей четкостью. Он же и придавал острову характер дикости, необитаемости. Крутые каменные обрывы, легко принимаемые издали за искусственно сложенные крепостные стены, охраняли остров с такой неприступностью, что в самом деле начинало казаться, что остров не мог быть жилищем человека.
Загадочный спутник Колгуя, стоя на носу лодки, спокойно смотрел вдаль. Он был недвижен, он не произнес еще ни одного слова после того, как они выбрались из узкого истока реки на озеро. Колгуй, увлекаясь увеличивавшейся, скоростью лодки, работал крепкими веслами без боязни их обломать. Он мгновениями начинал забывать о своих страхах: трудно в самом деле представить себе свору чертей, нападающих на путников среди веселого утра на голубом озере, к тому же спокойном, как совесть новорожденного ребенка.
И вдруг неожиданный шелест за его спиной, движения, колебавшие лодку, заставили его, подняв весла, оглянуться назад, на своего спутника. Доктора не было.
Вместо него в лодке стоял высокий индус в шелковом шелестящем халате, отливавшем на солнце всеми цветами радуги. Белая чалма была глубоко надвинута на лоб, и, когда на крик Колгуя индус оглянулся, старый охотник не сразу признал в нем своего спутника.
Тот улыбнулся, сказал тихо: – Что вы кричите?
Тогда Колгуй оправился от испуга.
Он опустил весла, но проворчал сердито: – Если вы хотите распугать здешних чертей этим балахоном, так не мудрено испугаться и мне. Я не слыхал, как вы одевались.
– Это единственное средство быть принятым за гостя, а не за врага, заметил доктор.
– Может быть, вы и на меня напялите что-нибудь вроде этого?
– Нет. Вы останетесь у лодки и не пойдете на остров. Я не могу позволить этого…
– Что за черт, – вспыхнул Колгуй, – не собираетесь ли вы и там распоряжаться?
– Я боюсь, что вы не справитесь за час, как обещали, если мы будем продолжать наш разговор, – сказал доктор, прекращая беседу и всматриваясь в даль.
Колгуй, выругавшись про себя, принялся грести со злостью. Это придавало ему новые силы. Лодка шла ровно и мерно, вздрагивая от удара весел. Если бы Колгуй мог и имел охоту понаблюдать за своим спутником, он, вероятно, не раз бы имел повод для того, чтобы, вскинув весла, обратиться к доктору за объяснениями.
Но он не оглядывался. Доктор же, стоя на носу, вглядываясь вперед, поднял высоко руки, точно приветствовал кого-то, стоявшего на берегу. Были ли у него необычайно зорки глаза или он, не глядя даже на берег, не сомневался в том, что обитатели острова наблюдают за дерзкими путешественниками, выжидая удобной минуты, чтобы их погубить, но он не ошибался.
Когда Колгуй, отыскивая подходящее место для причала, оглянулся на берег, он также увидел бородатых, спокойных людей, стоявших на скале. Их было шестеро.
Несомненно, они были вооружены, хотя оружие их было незнакомо Колгую. То были копья, мечи и луки. Однако они не изъявляли ни малейшей готовности вступить в бой с дерзкими пришельцами. Наоборот, своим маскарадом доктор как будто расположил их к себе настолько, что, когда лодка ткнулась в береговую крошечную бухточку, образованную лощинкой между двух каменных скал, вооруженные люди немедленно двинулись навстречу прибывшему гостю.
Доктор продолжал стоять на лодке, ожидая их. Они спустились со скалы с проворством и ловкостью людей, привыкших бродить по обрывистому берегу. Тогда, снова приветствуя их поднятыми руками, обращенными ладонями к приветствуемым, точно показывая, что в руках гостя не спрятан камень или какое-нибудь оружие, доктор произнес несколько слов на неведомом старому охотнику языке.
Обитатели острова молчали. Доктор повторил то же на ином языке, и тогда странные люди закивали головами и стали ему отвечать.
Колгуй разглядывал собеседников своего странного спутника в немом изумлении. Они не были похожи ни на чертей, ни на духов. Это были упитанные, сильные люди с хорошо развитыми мускулами. Черты их лиц были резки и не очень правильны. Яркие цветные рубахи, длинные, до колен, прикрывали стройные фигуры. На одном из них, должно быть старшем в отряде, был накинут синий шерстяной плащ. Откинув его, чтобы освободить правую руку для ответного приветствия, он обратился к доктору с короткой, как показалось Колгую, почтительной речью.
Доктор ответил на нее. Когда предварительные переговоры были окончены, доктор обернулся к своему проводнику и предупредил сухо: – Вы не должны покидать лодки ни на минуту. По закону жителей острова, всякий, кто ступит ногою на их землю, становится жителем их страны и рабом и должен будет подчиняться их законам. Главнейший же закон их заключается в том, что никто, раз ступивший на остров, не может его покинуть… Вы понимаете, в чем дело?
– Если бы я даже и забыл о топографах, так мне не нужно было бы долго объяснять этого. А вы, доктор?
– Я пойду с ними и вернусь ночью.
– А закон?
– Они сделают для меня исключение. Я поручусь за вас, чтобы освободить береговую стражу от обязанности следить за вами…
– Да уж лучше, если они уберутся отсюда, чтоб не мешать мне выспаться за две ночи…
Доктор вышел из лодки. Начальник береговой стражи вновь приветствовал его, затем окружил своими воинами, очевидно для почета, и все они двинулись по лощине в глубину острова.
Старый охотник, покачивая головою, не без сожаления посмотрел им вслед. Он не сомневался в ловкости доктора, которому, конечно, удастся вырваться от этих людей, но сам предпочел бы не только не покидать лодки, но и носом ее не касаться земли, а стоять поодаль на воде.
Нельзя сказать, чтобы Колгуй не был охвачен любопытством. Еще рискуя только жизнью, он, может быть, и отправился бы на остров приглядеться поближе к его странным обитателям. Но, считая свободу свою и независимость ценностью более существенной, чем жизнь, он не стал бы рисковать этими вещами даже и в том случае, если бы обитатели острова оказались бесплотными духами. К тому же, чувствуя себя связанным с доктором обязанностями проводника, он и подумать не мог о том, чтобы оставить его без своих услуг.
Поэтому, оглядев издали угрюмые скалы, утесы и обрывы каменного берега, Колгуй спокойно подчинился своей участи. Он устроил на дне лодки постель, прикрылся, как пологом, одеялом от солнца и растянулся с удовольствием путешественника, сделавшего добрую половину своего пути. Так как никто и ничто не нуждалось теперь в его охране, он спокойно заснул в тот же миг.
Две бессонные ночи и утомительный путь в седле на покачивающихся лошадках сделали свое дело: старый охотник спал как убитый весь день. Может быть, он проспал бы и до утра, если бы привычка спать настороже не заставила его очнуться от странного покачивания лодки и шороха шагов пробиравшегося к нему человека.
Колгуй открыл глаза, но не пошевельнулся, обманывая крадущегося врага своим спокойствием. Одеяло, прикрывавшее его от солнца, тихонько приподнималось.
Прежде всего Колгуй увидел в прозрачных сумерках белой ночи руку, державшую край одеяла. Это была узкая длинная белая рука с тонкими пальцами, украшенными кольцами. Несомненно, это была женская рука, и Колгуй отказался от мысли, блеснувшей у него в первый момент, схватить эту руку и сошвырнуть человека в воду.
Наоборот, он приподнялся тихо, чтобы не испугать женщину, и даже пробормотал что-то вроде извинения, скидывая с себя полог.
В лодке в самом деле была женщина. Даже и в сумерках белой ночи можно было заметить, что она принадлежала к обитателям таинственного острова. Черты лица ее были правильны и четки. Она была не молода, но красива. Широкий плащ стеснял ее движения, но не мешал угадывать под ним ее сильную, стройную фигуру.
Колгуй приподнялся и сел на скамью, готовясь вступить в разговор с нежданной и довольно-таки приятной гостьей. Но она, смутившись на мгновение, тотчас же вынула из складок плаща какой-то сверток и, протянув его Колгую, сказала глухо: – Возьми и прочти после.
Старый охотник принял подарок, свистнув от удивления. Родной язык в устах этой женщины звучал самой странной вещью из всех виденных им до этого времени.
Он раскрыл было рот спросить, что это за штука, но женщина с кошачьим проворством и ловкостью уже выбиралась из лодки.
– Эге, погоди, красавица! В чем дело? – крикнул он, стараясь схватить ее за конец плаща в помощь не действовавшему на нее окрику.
Прежде чем он мог, однако, сделать это, женщина уже была на берегу. Крики Колгуя только подгоняли ее, и через минуту раздувавшиеся на быстром ходу полы плаща ее уже казались смутною тенью, падавшей от прибрежных скал в лощину.
Колгуй выругался, сплюнул в воду и стал рассматривать нежданный подарок. Это был свернутый в трубку тончайший пергамент, развернув который Колгуй, к окончательному своему изумлению, увидел рукопись.
Вглядевшись в строчки и мелкие корявые буковки, он был потрясен еще более: это были русские буквы и русские слова.
Ошеломленный нежданным открытием, Колгуй забыл о последнем слове женщины и немедленно принялся за чтение. И при свете дня он был не большим грамотеем, в сумерки же белой ночи рукопись пришлось разбирать, как ребус.
Тем не менее ему удалось прочесть вот это.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ГИПЕРБОРЕИ
«Кто может поверить мне и кто не сочтет эти записки бредом сошедшего с ума человека?
Я один из тех шести несчастных, кто был в топографическом отряде, вышедшем летом 1913 года на юго-восток из Колы с целью точного определения местонахождения реки и озера Умбы и обследования всей центральной части полуострова, остающегося и до сих пор никем не исследованным. Кто бы мог предположить, что никто не вернется из нас назад, и кто бы из нас поверил в тот яркий, солнечный день, что в трехстах верстах от Колы, в глуши лесных чащ, среди незамерзающего озера есть этот страшный, загадочный остров, прозванный лопарями Островом Духов?
Кто б мог поверить, что предание об этом острове ближе к правде, чем то проклятое веселье и шутки, с которыми мы переправились сюда с берега озера?
Я не сомневаюсь, что через несколько дней меня постигнет участь моих товарищей. Пять мучительных лет, каждую весну происходит одно и то же. Жрецы бросают жребий, чтобы узнать, кого требуют боги в жертву, и вот пять лет подряд жребий при помощи непостижимых их жульнических уловок неизменно падал на одного из нас. Приближается шестая весна, из шести остаюсь я один.
Разве можно ошибиться в предсказании, кого нынче пожелают избрать боги?
Это буду я. Они берегут своих людей, они дрожат над каждым человеком, потому что это вымирающие люди.
На острове насчитывают не больше двух сотен жителей.
Но у них почти нет молодежи, почти не видно детей…
Их женщины бесплодны, и я думаю, что девушка, ставшая моей женою, пришла ко мне по наущению этих седобородых жрецов, которые, кажется, живут по двести лет.
Шесть лет мы пасем с нею тонкорунных овец, и я видел, как, уча меня их языку, год за годом она сближалась со мной. Жалость к обреченному пленнику породила в ней ко мне настоящую, не то материнскую, не то женскую любовь.
Она привязалась ко мне, и только вчера я взял с нее клятву, что она отдаст мое завещание первому чужеземцу, которому удастся уйти с острова.
Я научил ее говорить по-русски: „Возьми и прочти после“. И с этими словами она передаст эту рукопись тому счастливцу, который придет и уйдет отсюда.
Кто это будет? Когда это будет? И будет ли? И не предаст ли она меня после смерти?
Нет, они соблюдают клятвы, если уж дали их. Но до чего трудно было добиться ее обещания!
Кто эти люди, населяющие остров? Их язык напоминает мне тот школьный латинский язык, за который я неизменно получал в гимназии колы и двойки. В их нравах и обычаях есть многое, заставляющее вспоминать не то римлян или греков, не то египтян… И в то время как за полтысячи верст отсюда люди летают на аэропланах, ездят на автомобилях, здесь каждое утро собираются в священную рощу потомки какого-то тысячелетнего народа славить солнце… Оно, или божество, являющееся его олицетворением, называется Апуллом, может быть, это искаженное Аполлон? Не знаю. Ему оказываются величайшие почести, и именно ему в жертву приносят ежегодно одного из обитателей острова на жертвеннике, помещающемся в таком же каменном лабиринте, которых с полдюжины мы встретили на несчастном пути сюда и в которых там живут лопари, а здесь…
А черт с ними – умереть лучше, чем чувствовать себя здесь рабом живых покойников.
В этой прекрасной роще, посвященной Апуллу, стоит тот самый шарообразный храм, который мы увидели с берега еще… И не я ли первый тогда настаивал на том, чтобы пойти посмотреть на эту штуку, когда некоторые из нас уже струсили и хотели удрать назад!
Этот храм украшен множеством приношений. Теперь там лежат и наш германский теодолит, и все инструменты. Я видел там кремневое ружье, два допотопных револьвера и старинный бульдог: очевидно, не мы первые добрались сюда и, боюсь, не мы последние не вернемся отсюда.
Тут все жители старшего возраста – жрецы божества. А большинство обитателей острова – кифаристы. Это нечто вроде наших гуслей или цитры. Они могут петь и играть целыми днями во славу своего божества… Да и нечего им больше делать.
Они выращивают на своих полях что-то похожее на пшеницу в таком количестве, что пресного хлеба им хватает на всех. Едят они к тому же не по-нашему. Кусочек сыра из овечьего молока и две лепешки, испеченные на раскаленных камнях, да кружка молока – вот все, чем они живы. По-моему, они вымирают просто от тоски и скуки. Еще летом ничего: и работа и роща – все развлечение… Но эти зимы, когда они уходят в каменные щели, живут в камне, спят на камнях… Это ужасно. Женщины ткут свои плащи и рубахи из тончайшей шерсти овец, которых я пасу… А мужчины положительно как медведи в берлоге: редко кто долбит на камне какую-нибудь надпись или трудится над шкурой, чтобы выделать вот такую тончайшую кожицу, на которой я могу писать.
Чудные люди!
Сколько раз мы умоляли главного их жреца и царя – Бореада, чтобы позволено было уйти нам. Разве они отпустят таких выгодных рабов, как мы! Бежать отсюда невозможно. До берега не доплыть никому. Озеро, как наша Екатерининская гавань на Коле, никогда не замерзает… Соорудить же хоть плотишко какой-нибудь нельзя, когда за тобой следят каждую минуту. Я пишу это только потому, что связал клятвой мою подругу… Но сколько мук принимает она, охраняя меня от чужих глаз и предупреждая о всякой опасности.
Спасибо и на том. Женщины! Нет, всегда и всюду они одинаковы.
Моя подруга, мне кажется, готова считать меня даже за самого Аварида, проживающего инкогнито среди них.
Она надеется, что жребий не упадет на меня… Недаром же до сих пор я счастливо избегал этой участи.
Дело в том, что по существующему среди гипербореев преданию какой-то гиперборей Аварид тысячи полторы лет тому назад отправился куда-то путешествовать и пообещал вернуться… До сих пор о нем нет ни слуху ни духу. Бореад, царствовавший в то время, отправил с ним десять свитков папируса, в которых изложена история этого странного народа. Предки его были выходцы из Египта, и, застряв здесь, потомки еще не теряют надежды этими папирусами списаться со своими родственниками. Только найдется ли где-нибудь человек, который разберется в их иероглифах?
Это трудновато, хотя понять их язык легче. Ведь у них, как это ни странно, есть чисто русские слова: „береза“, например, и значит – береза, а напишут такими каракульками, что не понять. Много слов, какие слышал я у лопарей. Может быть, и наши лопари им родственники, только те одичали и все забыли, а эти дрожат над своею культурой и так цепляются за свое, что и еще тысяча лет пройдет – ничего здесь не переменится.
Аварид – тот умер и исчез, конечно, но папирусы гденибудь хранятся. Один из. моих товарищей помогал старшему жрецу работать над выделкой пергамента и узнал от него, что Аварид направился через Кавказ. Мы долго думали об этом путешественнике и решили, что он направился в Индию… Где-нибудь в Лхасе во дворце далайламы лежат эти папирусы, которые могли бы нас выручить из беды, если бы пришло кому-нибудь на ум разобрать их.
Но говорят, туда европейцев не пускают даже.
Аварид же пропадает тысячу лет, и только косоглазые гипербореи могут верить в его возвращение… Во всяком случае, до сих пор он не вернулся еще, но они ждут его постоянно. Это он не велел им переступать границы острова, и они свято блюдут этот закон, в ловушку которого попали и мы. Я думаю, что они дождутся какогонибудь умного человека, который явится вместо этого Аварида и уничтожит закон…
Впрочем, едва ли кому-нибудь от этого большая радость. Если им показать автомобиль или аэроплан, они подохнут от страха… И что делать этим живым покойникам за чертой своей страны?
Меня же уже не спасти никакому Авариду.
День жребия приближается, и уверенность моей подруги едва ли поможет мне. Перехитрить жрецов невозможно. Пять лет наблюдаю я их и не могу разгадать фокуса, при помощи которого они заставляют вынимать жребий того, кто заранее для этого назначен.
Впрочем, повторяю, лучше подохнуть, чем жить в этой могиле, да еще на правах раба. Я буду рад уже и тому, что моя подруга сдержит свою клятву, и тем или иным путем эта рукопись дойдет до сведения живых, настоящих людей, которые рано или поздно превратят этот остров в музей и будут мне благодарными за то, что…»
ГЛАВА ПЯТАЯ ИНДИЙСКАЯ МУДРОСТЬ
Шум шагов, звон оружия, ропот глухих голосов заставили Колгуя торопливо спрятать недочитанную рукопись.
На фоне багрового неба силуэты доктора и окружавшей его толпы вычертились необычайно отчетливо. Они спускались к берегу неторопливо и важно, сопровождая почетного гостя.
Колгуй встал, разглядывая странных людей, о которых повествовал на пергаменте несчастный топограф.
Старый охотник, ошеломленный прочитанным, чувствовал себя, как во сне. Только спокойный вид доктора удержал его от немедленного бегства, но и это не помешало ему осторожно вытянуть со дна лодки старую, верную двустволку, опершись на которую поджидал он конца своего жуткого сна.
Доктор, облаченный все в тот же отливавший на солнце всеми цветами радуги шелковый халат, сошел первым на берег. Седобородые жрецы окружали его.
Длинные плащи, свисавшие с их плеч, придавали им величественность. За ними стояли мужчины более молодые. Среди них находилось несколько воинов. Сзади толпились женщины. Детей не было видно вовсе, хотя не было никакого сомнения, что на проводы доктора стеклось почти все население острова.
Прощальные речи гостя и провожавших были не длинны. Они были прослушаны в благоговейном молчании окружавших.
Когда доктор направился к лодке, жрецы затянули унылую песню. Может быть, это был гимн солнцу. Его немедленно подхватили все мужчины и женщины.
Доктор ступил на нос лодки и поднял руки для приветствия. Колгуй облегченно вздохнул: конец сна приближался, и сверху всякого вероятия он не мог не быть благополучным. Старый охотник оперся веслом о берег, готовый по малейшему знаку доктора оттолкнуться и погнать лодку прочь.
И вдруг в ту же минуту, прерывая стройное пение отчаянным стоном, женщина в синем плаще вырвалась из толпы и, нарушая благочиние, бросилась на колени перед седобородым жрецом. Она в безумном волнении рассказывала что-то, махая руками, о чем-то просила, чегото требовала.
Колгуй замер. Он узнал ее.
Доктор с недоумением слушал крики женщины, потом обернулся к Колгую.
– Разве вы выходили на берег?
– Нет! – буркнул он.
– Что требует от вас эта женщина?
– Не знаю.
Жрецы приблизились. Доктор перемолвился с ними и тотчас же снова оглянулся на своего проводника.
– Что вам дала эта женщина?
– Бумажку какую-то…
– Отдайте ее назад, если не хотите остаться здесь навсегда…
Колгуй вынул скомканный пергамент и передал его доктору. Тот, не взглянув на него, вручил его жрецам.
Старший из них принял его спокойно, не глядя на Колгуя, который бормотал себе под нос нелестную для него ругань.
Женщина, нарушившая порядок, вернулась в толпу подруг. Они только изумленно отстранились от нее, но продолжали петь, не смея ни одним несоответствующим жестом или словом оскорбить солнечное божество, поднимавшееся над их головами. Колгуй счел минуту подходящей и, предупредив доктора, оттолкнулся от берега с огромной силою, с которой мог сравниться разве только гнев, душивший его.
Он взялся за весла. Лодка понеслась по зеркальной поверхности озера с невероятной быстротою, и скоро уже стройный гимн доносился с берега, как далекое эхо.
Дымящийся туман, как розовая вата, легко надвигаясь на остров, скрыл и самих певцов.
Доктор опустился на скамью.
Колгуй насторожился, полагая, что тот немедленно потребует от проводника объяснений всему происшедшему. Но странный путешественник не нарушил ни словом привычного молчания. Он снял свой костюм, уложил его в кожаный мешок спокойно и аккуратно. Под халатом на ремнях оказался фотографический аппарат. Доктор снял и его, уложив в тот же мешок. Затем, отдаваясь во власть теплого утра, он блаженно закрыл глаза и поднял лицо свое так, чтобы косые лучи солнца без помехи могли жечь его.
Колгуй не выдержал этого спокойствия.
– Я думаю, доктор, вы не пойдете со мной на спор против того, что будущей весной божество потребует в жертву к себе именно эту женщину? воскликнул он, готовый насладиться изумлением своего спутника.
Но тот не открыл даже глаз, хотя счел нужным спокойно подтвердить: Вероятно, жребий падет на нее.
Колгуй со злостью налег на весла, вымещая гнев на воде, омывавшей проклятый остров, так как не имел ничего другого под руками для той же цели.
– Что же, вы так-таки и оставите все это?
– А что бы вы хотели предпринять?
Он открыл глаза и посмотрел на своего проводника не без любопытства. Это подействовало на того, как поощрение.
– Как что? – закричал он, хлеща воду веслами со страстью и злобой. Как что? Надо рассказать об этом, людей созвать… В газетах напечатать…
– Зачем? – холодно спросил тот.
– Как зачем? Чтобы все знали…
Серые глаза доктора впились в Колгуя с насмешливой ласковостью, но тут же погасли и затянулись, стали непроницаемо покойны и холодны.
– Не все ли равно, – серьезно и строго, не спрашивая и не отвечая, промолвил доктор, – не все ли равно, будут ли люди знать немножко больше или немножко меньше…
Колгуй сжал губы и замолчал. Каменное спокойствие его спутника было непреоборимо. От него веяло холодом тысячелетних лабиринтов, и в первый раз сорвалось с губ охотника резкое слово.
– Да кто вы такой, черт возьми? – крикнул он.
– Путешественник, – просто ответил тот.
– Откуда вы приехали?
– Из Индии.
– Зачем?
– Чтобы проверить, существует ли еще древний род гипербореев.
Простота и точность ответов обезоружили Колгуя. Он притих.
– Откуда вы знали, что они существуют?
– Из наших книг.
– И вы никому не объявите о том, что видели?
– Только тем, кто меня послал сюда.
– А я?
– Вы можете поступать так, как вам угодно.
Колгуй замолчал, налег на весла и больше уже не возвращался к прервавшемуся разговору.
Он не обманул своего спутника – обратный путь до реки и по реке до тропинки, по которой можно было подняться до чума лопаря, взявшего на себя заботу о лошадях, они совершили скорее, чем путь прямой – отсюда до острова.
Целодневный отдых на острове сделал свое дело. Сменив лодку на лошадей, Колгуй охотно согласился со своим спутником немедленно продолжать путь.
Этот обратный путь совершался с не меньшим благополучием, но в большем молчании. Доктор положительно не открывал рта, тем более что и проводник его на этот раз не очень тяготился молчанием.
Старый охотник чувствовал себя необычна Он был погружен в трудное и непривычное занятие: аи думал.
С тяжестью и неуклюжестью мельничных жерновов перемалывал он в молчаливой задумчивости все происшедшее. И только когда эта мучительная работа подходила к концу, он прервал молчание и тихо спросил доктора: – Так вы, может быть, из Лхасы, от самого далайламы притащились сюда, доктор?
– Нет, – спокойно ответил тот, – я из Тадж-Магала, близ Агры, из Индии…
– Это там нашли вы папирусы?
– Да, – коротко подтвердил он.
– И позвольте уже узнать, – продолжал допытываться Колгуй, вспоминая рукопись, читанную им в лодке, – какой черт помог вам разобраться в том, что там было накорежено?
– Сравнительное языковедение, – просто, точно говоря о ночлеге, ответил доктор. – Я не знал, – с улыбкой добавил он, – что вы не дремали в лодке, а успели основательно познакомиться с пергаментом, который вручила вам женщина.
– Да уж поверьте, что я знаю теперь ненамного меньше, чем вы, доктор! Есть-таки у меня много нового, о чем можно будет поболтать за кружкой пива.
– Но вы не знаете самого главного!
– Чего же это?
– Того, что ничто не ново под луной!
И снова погрузились спутники в молчание, и снова зашевелил жерновами своего мозга Колгуй, впрочем, ненадолготак как путь их уже приближался к концу.
Маленький отряд вернулся в Колу поздней ночью, и надо сказать, что только это обстоятельство спасло путешественников от шумной встречи и выражений крайнего изумления по поводу их благополучного возвращения.
Только расставаясь со своим проводником, доктор точно пришел в себя и с большою учтивостью засвидетельствовал Колгую свою признательность крепким и теплым рукопожатием. Это растрогало старого охотника настолько, что он решился было снова возобновить разговор о гипербореях.
Однако доктор и на этот раз остался последователем индийской мудрости.
Он не изменил ей и впоследствии. Именно потому-то повесть о Стране гипербореев и становится известней читателю из третьих рук.
ВЕЧЕР ВТОРОЙ или ПОВЕСТЬ СТАРШЕГО ПОМОЩНИКА О ЗОЛОТОМ УЗЛЕ
ГЛАВА ПЕРВАЯ, ОБНАРУЖИВАЮЩАЯ ИСЧЕЗНОВЕНИЕ ОДНОЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ДРЕВНОСТИ
Взъерошенный мальчишка висел на железной скобке запертой двери и выл, барабаня босыми пятками в дрожавшую стену:
— Отоприте! Товарищ Качай, отоприте! Скорее, скорее, товарищ Качай!
Спавший за дверью не был Качаем, но он привык к сокращенному имени, которым его окрестили якуты и проснулся. Он с удивлением взглянул на раннее утро, бившееся в окно и поспешил к двери, заметно уступавшей звонкому дождю ударов босых ног и крепких кулаков.
— Кто там? Аза — ты?
— Ну, конечно, Аза — я! Отворяйте, товарищ Качай!
— Что случилось? Пожар что ли?
— О, хуже! Столько же хуже, сколько ночь темнее дня!
Качай снял крючок. Мальчишка ворвался, как ураган. Он схватился за голову и сел на пол, пораженный ужасом того, что должен был сказать.
— Что случилось, Аза?
— О, что случилось! Лучше бы уже случились! Лучше бы он убил меня, а не ушел, как мышь!
— Говори толком, Аза! Откуда ты?
Качай стал сердиться. Он сел на неостывшую еще от сна свою постель, сложенную из медвежьих шкур, начал одеваться. Аза передохнул. Узкие, как таинственные щелки, якутские глазки его сверкали, обливаясь гневом и страхом.
— Ты из музея, Аза? — спокойно спросил Качай — да?
— Да!
— Что случилось?
— Не знаю!
Качай раздраженно всплеснул руками. Тогда мальчишка, словно сделав первый шаг в холодную воду, не медлил больше и погрузился в сутолку волновавших его чувств:
— Аза знает свое дело! И сегодня я встал, как всегда, убрать комнаты! И вдруг я вижу, что дверь открыта…
— Какая дверь!
— Дверь на улицу открыта! И под лавкой спит паршива собака, значит, это было ночью.
— Так ты не запер ее с вечера?
— О, я не запер! Аза не запер дверь! Товарищ Качай, разве солнце вчера не зашло, что я не запер двери?
Качай обулся, прошелся по комнате, поскрипывая расшатанным полом.
— Ну, хорошо! Может быть ты забыл это! Что-нибудь пропало, да?
— Не знаю! Я побежал сюда, мне страшно было смотреть, пойдемте скорее, товарищ Качай!
— Идем! Погоди стонать, может быть еще ничего не случилось!
Хранитель музея стал одеваться. Он был взволнован настолько, что маленький сторож его должен был помочь ему всунуть руку в рукав кожаной тужурки.
— Может быть ты слышал что-нибудь ночью?
— Нет!
— Не остался ли кто-нибудь с вечера там? Кто вчера был в музее?
Аза потер лоб, наскоро встряхивая тени забытого дня:
— Я помню, кажется, всех. Были красноармейцы. Были два русских с парохода. Потом пришли ребята из школы с учителем. И затем зашел опять этот старый тунгуз!
— Ты помнишь, что они все ушли? Никто не остался? Ты всех провожал?
Аза сказал быстро: «Ну, конечно! Аза знает свое дело!» — но тут же тронул руку Качая и широко раздвинул щелки глаз:
— О, я не помню, как ушел тунгуз!
Хранитель музея вздрогнул:
— Это все тот старый тунгуз с бороденкой, который пялил глаза на пластинку с узорами?
— Он!
Качай нахлобучил шапку с досадой:
— Кажется теперь все ясно! Наверное он стащил пластинку: это — платиновая пластинка, Аза!
— О, товарищ Качай!
— Ну, ну — погоди! Надо узнать, в чем дело!
Мальчишка не отнимал рук от головы в знак отчаяния и горя. Они шли торопливо по сонным улицам города до остатков деревянного Кремля. Хранитель музея, как всегда, и в это утро с улыбкой влюбленного оглядел ветхую церковь, теперь его силами и старанием обращенную в музей. Причудливые главки ее и почерневшие от времени дубовые стены со старческим спокойствием и детскою радостью грелись в лучах восходящего солнца. Качай вошел на резное крыльцо, опустив голову и не открывая глаз от выбитых миллионами шагов ступеней, знавших еще и твердую поступь Ивана Кольцо. На минуту он забыл о тунгузе и обо всем происшествии — он всегда терялся здесь, подавленный величием седого от плесени дуба ступеней, с выбитой посредине дорожкой от земли до двери. Тяжелая дверь, окованная железом и похожая на грудь воина в стальной кольчуге, своим горбом метнула перед ним яркую надпись: «Якутский музей древностей» — и открылась.
— О, товарищ Качай!
— Аза, будь похож на мужчину!
Мальчик шел следом за Качаем и стонал от страха за то, что могло там случиться по его вине.
В темной, рубленой, как колодезь, церкви с такими же черными, как в колодце, стенами, дышавшими плесенью пяти столетий, хранитель музея остановился. Каждый раз, когда он входил сюда, запах заплесневелых стен напоминал ему груду лет и событий от Ивана Кольцо до этого дня. Тогда собственная его двадцатитрехлетняя молодость чувствовалась с особенным торжеством и его хотелось скрыть перед лицом четырех стен твердыми шагами, преувеличенной осмотрительностью и глухим голосом.
— Кажется, здесь ничего не тронуто, Аза?
— Здесь — ничего: все, как всегда!
— А там?
— Не знаю, товарищ Качан!
Хранитель музея прошел к витринам, слабо освещенным решетчатами окнами. В крайней витрине стекло было выдавлено, и четырехугольный неровный след на выцветшей бумаге бросился ему в глаза: здесь обычно лежала платиновая пластинка с непонятными узорами.
— А, я так и думал! Аза — ты видишь?
Мальчик хлопнул ладонями по своим щекам и, схвативши так голову, стал раскачивать ее на плечах, как чужую, подвывая в такт:
— Ой! Ой! Товарищ Ка-чай! Он ук-рал ее!
Тот нетерпеливо остановил его:
— Перестань реветь, Аза! Надо найти его!
— Тунгуза?
— Того, кто украл! Это дорогая вещь, Аза! Редчайшая и неразгаданная древность — не для того она хранилась столетия, чтобы исчезнуть в лапах спекулянтов!
Мальчик покачал головою, но уже отняв руки перестал выть:
— О, легче найти камень в Лене, чем человека в тайге!
— В тайге не продают и не покупают платины! — сурово перебил его хранитель музея, — кроме, как здесь, в Якутске, он нигде не продаст ее! Надо предупредить всех скупщиков! Мы его поймаем, Аза, во время!
Мальчик безнадежно покачал головой:
— Он не продаст никому этой штучки!
— Почему?
— Он не продаст ее, не сменяет ни на что! И на сто голов оленей и на десять шкур голубых песцов не сменяет!
Хранитель музея раздраженно барабанил пальцами по разбитому стеклу витрины:
— Да за каким же чортом тогда он украл ее?
— Не знаю!
— А ты знаешь цену платины?
— С тех пор, как вы меня учите, я много знаю, но тунгуз не знает! Я не забыл и того, что знал раньше! Поверьте мне, что тунгузу все равно — платина это или свинец! Тунгузы на Алдане делают платиновые пуговицы! Я видел у них пули из платины! Платина им не дороже свинца!
— Откуда ты это знаешь?
— Я родился на Алдане и вырос там! И я ведь говорил с этим вором!
Качай подскочил к мальчику:
— Ты говорил с ним? Когда? О чем? Разве он говорил по-русски?
— Он знает по-якутски! Он смотрел на дощечку, когда пришел первый раз, очень долго. Мне нужно было запирать двери, и я велел ему уходить! Тогда мы говорили…
— О чем?
Мальчик равнодушно заложил за спину руки:
— Об этой самой штучке. Он спросил меня: «Знает ли твой начальник, что это такое?» — Я ответил смеясь: — Начальник все знает! Ему ли не знать, что это платина!.. Тогда он сам усмехнулся: «И больше ничего?» — Я стал ему говорить, что такое платина, сколько можно получить за кусочек ее оленей. Он махнул рукой только: «Я, — говорит, — отдам твоему начальнику за эту штучку десять таких, если дело только в том, сколько она весит на его руке!»
— И что ты ему сказал?
— Что? — Аза пожал плечами, — я ответил, что это музей, и отсюда нельзя уже ничего взять ни на продажу ни на обмен! На эти вещи можно только смотреть — тогда он стал приходить сюда каждый день и смотреть!
Хранитель музея опустил голову и задумался:
— Почему же ты раньше мне не рассказал об этом?
— О, разве можно все пересказывать вам из того, что болтаю я здесь с посетителями!
Качай молчал долго, потом прошелся около витрин и заметил тихо:
— Остальное все цело! Ничто не тронуто, Аза! Зачем же ему понадобилась эта вещь? Может быть это талисман?
— Не знаю, но он не продаст ее! И если бы мы встретили его, мы нашли бы пластинку у него на груди!
— Так! — Качай задумался надолго, потом кивнул ждавшему его сторожу: — Повесь на двери записку, что музей закрыт!
Аза повернулся и ушел с видимой охотой. Хранитель музея осмотрел еще раз витрину, думая о том, что произошло. Под выцветшим куском бумаги остался лежать номерок — 124. Хранитель музея вынул его и прошел с ним в темный угол, где за высокой конторкой, хранившей теперь вместо желтых свечей описи и каталоги музея, зажег свечу и стал листовать огромный каталог, машинально поглядывая на лежавший перед книгой номерок вещи.
Он искал нужную страницу с нетерпением, как будто там можно было найти об'яснение таинственному событию. Белые капли стеариновой свечи несколько раз расплывались масляными пятнами на желтых листах.
Под сто двадцать четвертым номером, наконец, хранитель музея прочел:
Глава вторая, без которой читателю невозможно перейти к следующей
«Платиновая пластинка. Найдена красноармейцами, рубившими деревянные стены кремля на дрова в 1919 году. Пластинка, очевидно, была спрятана в стене и найдена уже в золе, выброшенной из очага. По некоторым данным следует отнести находку к началу XV века, скрытую в стене гораздо позднее. Остается неразгаданным ее назначение. Пластинка сделана с какой-то целью и не является частью другого предмета. Едва ли она является предметом обихода туземцев: нельзя также отнести ее к разряду украшений. Возможнее, что в данном случае мы имеем дело с талисманом или предметом религиозного обихода. Рисунки, выцарапанные на пластинке, могут быть и обыкновенными украшениями, но могут означать событие, указание пути, условную переписку, шифр. Не исключена возможность, что находка принадлежала воинам Ивана Кольцо, условно обозначившими здесь некоторую часть неведомой им страны, в этом случае пластинка является своеобразной географической картой, заслуживающей глубокого внимания и изучения».
Товарищ Качай со вздохом перечитал страницу, прежде чем закрыть каталог. Аза подошел тихо, сказал:
— Музей закрыт!
Хранитель музея растерянно взглянул на него и вдруг оживился:
— Где коробка с фотографиями?
Аза загремел ящиками и коробками, чихая от пыли. Качай наблюдал за ним, кусая губы — он был не на шутку взволнован теперь столько же кражей, сколько и самой пластинкою.
Коробку он выхватил из рук мальчика и рассыпал на конторку скоробленные пачки снимков. Снимки пластинки вынырнули из пачек тут же. На фотографии даже и при свете свечи таинственные узоры, украшавшие пропавшую древность, были видны с совершеннейшей отчетливостью. В трех рядах таинственных знаков было что-то похожее на ступни ног, лес, рыбу. Большую часть узоров составляли круглые значки, похожие на изображения солнца неумелой рукою. Все вместе напоминало ребус, сочиненный ребенком и понятный лишь ему одному.
Хранитель музея рассматривал снимок с раздраженным любопытством. Вспоминая пластинку, он дорисовал неясные линии, едва заметные на фотографии, но и тогда не мог понять таинственной связи между знаками.
Вот что он видел при свете свечи:
И это была точная копия странных узоров на пропавшей редкости.
— Надо подумать, надо подумать! — несколько раз повторил он про себя и обернулся к мальчику:
— Ты запер музей? Пойдем!
— Куда же?
Он посмотрел на него не понимая, потом быстро сунул фотографию в карман, погасил свечу и тогда только раздраженно крикнул в ответ:
— Искать вора! Вора!
Впервые он взглянул с странным подозрением на своего маленького сторожа. Тот охотно шел за ним, громыхая ключами от кованых замков.
— Ты будешь мне нужен, Аза!
Аза ни о чем не спрашивал больше, но шел с веселой готовностью за учителем и начальником. Качай спросил его на крыльце задумчивым шопотом:
— Ты хотел бы быть богатым, Аза?
— Я хотел бы быть таким, как русские! — просто ответил он, — как вы!
Учитель оглянулся на ученика с изумлением и стал медленно сходить с древних ступенек храма. Мальчик запер наружные двери и спустился к нему.
— Почему, Аза?
— Русскому не нужно богатства, потому что он знает, как жить хорошо. Русские теперь строят тунгузам избы и зовут якутов не рыскать, как волки в тайге, по степям со своими оленями, но жить в теплых избах, есть соленую нельму и хлеб из травы, зажигать на ночь солнца на потолке и читать книгу, где все есть!
— Для того, чтобы наделать изб и провести в них солнца — нужно богатство, Аза!
Тогда мальчик раскрыл щелочки монгольских глаз и они сверкнули жадным огнем:
— О, для того, чтобы дать всем якутам русские избы и тунгузам машины, которыми делают хлеб, я хотел бы быть богатым! О, товарищ Качай! Пусть они станут немного русскими, пусть они не умирают в тайге от холода, пусть их не калечат звери, пусть они не жгут себя огненной водой, пусть не гниют они при жизни от дурных болезней… Пусть у них будут другие обычаи, другие порядки и другая жизнь!
— Ты хорошо говоришь, Аза! — ласково ответил учитель, — и я не жалею времени, что тратил на твое учение… Может быть, ты помог бы тунгузу взять пластинку, чтобы немного получше жить?
Мальчик вздрогнул, как от удара.
— Если начальник мой и учитель положил ее там, значит она и должна быть там! — сказал он с достоинством, — если бы я был русский и знал сам не меньше начальника, то и тогда бы я не тронул ее с места по своей воле!
Учитель с улыбкой положил руку на его плечо и не говорил больше ни слова. Так молча дошли они до жилища Качая, начинавшего собою длинную, грязную и пустынную улицу Якутска с избами, немногим отличавшимися от юрт. Только переступив порог дома, маленький Аза решил вопрос, который мучил его всю дорогу. Пряча слезы и гордость в щелочках своих глаз, он сказал тихо:
— Я не знаю отца — он умер в когтях тигра, зашедшего случайно на Майю. Господином в доме был мой браг, и он был мне отцом. Теперь он беден, у него нет даже ружья, чтобы добыть шкуру лисицы или соболя, и нет выкупа, который он должен дать за свою невесту! Я не люблю обычая покупать жен, но это закон моих братьев, и они повинуются ему! Если бы моя голова была достаточным выкупом за невесту брата, ставшего мне отцом, я бы отдал ее не жалея!
Учитель ласково гладил голову ученика и не перебивал его. Аза, помолчав, добавил:
— Но если бы за платиновую пластинку отдавали лучшую невесту в мире, то и тогда бы я не тронул ее с того места, где положил ее мой начальник!
Он посмотрел на начальника, и тот ответил горячо:
— Спасибо, Аза! Ты славный мальчик, и я тебе верю, как самому себе!
Они вошли в единственную комнату избы. В ней перед постелью из шкур стояла самодельная классная доска. Хранитель музея, заброшенный в Якутск, не оставлял надежды вернуться в Россию, чтобы закончить свое образование. Меловая пыль под доскою свидетельствовала, как крепка была эта надежда. Тени треугольников и въевшиеся в краску остатки тригонометрических формул доказывали это с еще большей очевидностью.
Мальчик, как всегда, остановился с уважением перед доскою, рассматривая тени научных знаков.
Тогда, как молния в безнадежно-грозовом небе, в голове Качая мелькнула мысль. Он вынул из кармана фотографию, бросил на постель шапку и куртку и, схватив кусок мела, подошел к доске.
— Смотри, Аза, — крикнул он, возбуждая мальчика своим волнением и блеском загоревшихся настойчивой мыслью глаз, — ты умен и сметлив! Ты знаешь обычаи своих братьев! Тунгуз украл пластинку только потому, что разгадал ее знаки! Давай пытаться сделать то же! Гляди, что это такое?
Он перерисовал на доску правый угол пластинки и оглянулся на мальчика. Тот не смотрел на его работу, он снова держал в ладонях свою голову и раскачивал ее взад и вперед печально. На щеках его остались следы растопыренных пальцев — так крепко сжимал он ее, — когда Качай повторил громко:
— Аза, объясни мне — что это значит? Что я хочу сказать этими знаками?
Аза подошел ближе. Равнодушно тыча пальцами, пересчитал он таинственные кружки до рыбы, их пересекавшей, и сказал просто:
— Одиннадцать дней пути до реки так, чтобы солнце грело правую щеку! Так замечают у нас дорогу!
Хранитель музея широко раскрыл глаза. Вытянутая рука его дрожала. Он приближался к разгадке таинственной древности с холодеющим сердцем.
— Ты знал, что нарисовано было на пластинке, которую украл тунгуз?
— Не помню!
— Ты никогда не старался разобрать, что значили эти рисунки?
Аза усмехнулся горько, но ласково:
— Зачем бы я пытался сделать то, чего не мог сделать и мой учитель?
— Эти кружки — солнца? Рыба — река? Читай дальше!
Он перерисовывал на доску знаки с лихорадочной быстротой и волнением, как будто бы уже совершал таинственный путь, приводивший его к открытию изумительной тайны древних. Аза просто читал смысл непонятных знаков:
— Девять дней пути после реки, так чтобы солнце грело справа. Снова река и пять дней пути по реке в лодке и четыре дня так, чтобы итти против солнца. Два дня по таежной тропинке — солнце слева, и два дня пути горами до четырех ручейков или рек… По-таежному — это узел! Под ним крест — конец пути…
Аза вздрогнул и замолчал. Он дышал тяжело и гулко, точно набирался сил окончить речь.
— Дальше, Аза!
— О, товарищ Качай! — жалобно простонал мальчик, — о, товарищ Качай! Зачем же вы не показали мне раньше этой пластинки! Все это было бы наше!
— Что это?
— Не знаю! То, зачем пошел теперь вор!
— Довольно, Аза! Вор показал нам путь, но мы настигнем его раньше, если немедленно отправимся за ним!
Он бросил мел. У него слабели ноги, и захваченный легкими воздух распирал грудь. Он подошел к своему ученику и, положив ему руки на плечи, оставил на них следы меловых пальцев.
— Ты знаешь, зачем он украл ее!
— О, если бы я видел ее прежде!
Они посмотрели друг другу в глаза. Одна и та же мысль мелькала тут и там. Аза опустился на пол и протянул руки начальнику:
— Возьмите меня! Я умею находить дорогу, мы поймаем вора и доведем этот путь до конца… Ведь мне так хочется, так хочется…
— Чего тебе так хочется, Аза?
— О, только того, чтобы у моего брата, ставшего мне отцом, была бы самая лучшая жена во всей стране якутов!
— Ты хочешь привезти ему выкуп?
— О, тунгуз не пошел бы так далеко, если бы не надеялся найти там выкуп за всех невест этого года!
Качай опустил руку на лохматую голову мальчика:
— Наше дело найти пропавшую вещь! Надо спешить. Там мы подумаем, что делать дальше, Аза! И не без тебя же мне гнаться за ним!
Аза улыбнулся. Качай вытолкал его ласково за дверь:
— Собирайся немедленно! Утром мы тронемся по следам тунгуза, которые лежат в пути так, чтобы солнце грело правую щеку!
Аза ушел. Хранитель музея вернулся к себе. Он долго не мог оправиться от волнения, и не скоро еще дрожащие руки его смогли начать чистку ружья и набивку патронов.
В этот день многие жители Якутска были удивлены не снятою с дверей музея надписью: «Закрыто».
Но еще более они были удивлены тем, что она не была снята и на другой, и на третий, и на десятый день.
Едва ли бы общее удивление уменьшилось, если бы кому-нибудь удалось проникнуть в тайну закрытого музея.
А между тем эта тайна, как клубок ниток, разматывалась с феерической быстротой. Путь хранителя музея и его маленького проводника совершался с неменьшею быстротою. Он шел через горы, леса и тундры. Не было ни дороги, ни тропы, а Аза вел крошечный караван с такою же уверенностью, как любой ямщик по столбовой дороге.
Искусство якутов распознавать путь — изумительно. Как летом, так и зимою они узнают не только число оленей и лошадей, прошедших перед ними, но определяют даже время, когда они прошли.
Качай не сомневался в своем проводнике. И он спокойно ждал, когда Аза объявит, что вор в двух шагах от них.
Глава третья, в которой, между прочим, загадывается новая загадка о Золотом Узле
Правая щека старого тунгуза давно уже стала бронзовой от припекавшего ее солнца. Маленькая сибирская лошадка под ним к вечеру одиннадцатого дня спотыкалась, как пьяная, но все-таки донесла на себе грузную тушу до берега реки.
— Вот Амга! — сказал вслух тунгуз, — еще девять солнц, и путь приведет к Алдану, но нам нужен отдых!
Таежная тропа шла вдоль берега и, казалось, вела к недалекому жилью. Тунгуз слез с лошади, выдернул у нея из хвоста волосок и повесил его на сучок корявой березки, чтобы умилостивить духов, которые должны были привести путешественника к жилью. Но жилье не приблизилось до глубокого вечера. Тунгуз, вздыхая, остановил лошадь, снял потник и, разостлав его на земле, спокойно улегся спать.
Лошадь, понурив голову, побродила возле него, отыскивая траву среди камней, потом опустилась на колена и задремала.
Ночью же тунгуз очутился в воде. Горные ручьи вышли из берегов и затопили лощину. Тунгуз не успел принести жертвы разгневанному духу, но, забравшись на дерево и спутав его ветки с соседними, успел втащить на искусственный мост пожитки еще до глубокой воды. На этом мосту он пробыл все утро и день. В полдень его лошадка сиротливо торчала на каменной скале, спасаясь от прибывавшей воды. Тогда-то из синей вышины неба упал в бурные воды реки огромный сизокрылый морской орел, и тунгуз ахнул. Он не в силах был спасти лошадь. Орел вынырнул из волн и, распластав крылья, опустился на берег, вывалялся в песке и важно поднялся вверх, подсушивая крылья на солнце.
Когда песок высох, орел поднялся над испуганной лошадкой, камнем опустился к ней и крыльями сбросил в глаза ей горсть песку. Ослепшая лошадь заметалась на скале, орел бил ее крыльями и клювом до тех пор, пока она от боли, страха и ужаса не метнулась с кручи на камни.
Орел с торжествующим криком опустился за нею. Тунгуз закрыл руками лицо — злые духи мешали продолжать ему путь.
Только к вечеру спала вода. Тунгуз взвалил на плечи свои пожитки и спустился с дерева. Темно-синие воды глубокой Амги лежали перед ним в вечернем спокойствии. Под горою ворчали мелкие хищники, обгладывавшие кости верного друга и спутника. Тунгуз стоял на берегу, качая головою. Он думал о том, как бы переправиться на другой берег, и разводил руками бессильно.
Тогда по таежной тропинке, выходившей к берегу между двумя огромными камнями, спустились два человека. Тунгуз быстро направился к ним. Он обменялся с ними жалобными приветствиями, и они оглядели друг друга.
— Coxa[2]? — спросил тунгуз.
Один кивнул головою и добавил, указывая на другого:
— Шаман[3].
Тунгуз поклонился ему с величайшей почтительностью и обернулся к якуту с вопросом:
— Какое несчастье посетило дом сохи?
— Жена больна! — коротко ответил он.
Тунгуз сделал лицо свое скорбным. Якут же спустился к воде, вытянул из-под камня затопленную в реке лодку, опрокинул ее, вылил из нее воду и причалил к берегу.
Не спрашивая разрешения хозяина, которое разумелось само собою, тунгуз прыгнул в лодку за шаманом и взял кормовое весло.
Якут греб изо всех сил. Рулевой ловко справлялся с бурным течением, усиленным горными ручьями. Шаман сидел молча и важно. В присутствии его гребцы не обмолвились ни одним словом.
На берегу, пока якут снова топил лодку, пряча ее в воде, тунгуз помог шаману вынести его сверток с одеждой. До юрты якута он почтительно шел сзади обоих спутников — недавнее событие с лошадью заставляло его с особенным почтением следовать за тем, кому повиновались все духи.
До юрты было недалеко. Хозяин, низко кланяясь, ввел гостей в свое жилище. Здесь было темно и грязно. Бычачьи пузыри, растянутые вместо стекол на окнах, едва пропускали вечерний сумрак. Погасший очаг тлел седыми углями. На куче тряпья и оленьих шкур возле очага лежала женщина. Лицо ее горело, и закрытые глаза не заметили прихода гостей.
Шаман едва взглянул на больную. Молча он снял свое платье и вынул из узла другое, сшитое из выделанной оленьей кожи, обвешанное узкими ремешками и железными бляхами всевозможных форматов. Распустив затем полосы, заплетенные у него в косы и обвитые вокруг головы, он закурил трубку, взял бубен и, сев посреди юрты, стал бить в бубен палочкой, обтянутой кожею.
Якут и тунгуз замерли в благоговейном молчании — шаман вызывал духов. С каждым ударом он оживлялся, поворачивался, подпрыгивал, затем вскочил на ноги, стал кружиться около больной, продолжая греметь бубном. Голова его с растрепанными волосами опрокидывалась вперед и назад, глаза закатывались под лоб, и белки их сверкали страшно при тусклом свете очага. Закружившись, он упал на руки якутов, набравшихся откуда-то в юрту.
Впрочем он скоро очнулся. Прыгая по земляному полу, он подскочил к очагу, схватил три раскаленных уголька и проглотил их, не поморщившись.
Собравшиеся только ахнули от удивления и восторга.
— Теперь она выздоровеет! — устало сказал шаман, — дух согласился покинуть ее, если ты принесешь ему в жертву рыжего коня, хозяин!
Якут поморщился, подумав — стоила ли жена такой жертвы: рыжий конь был лучшим в его загоне. Помолчав и подумав, он со вздохом потупил голову.
— Ступай и режь! — добавил шаман.
Якут посмотрел на больную, лежавшую неподвижно, и, втянув голову в плечи, поманил за собою молчавших гостей.
Шаман тяжело опустился на пол. Голова его дрожала, отвислые губы не покрывали желтых зубов. Он с натугой выхаркнул на пол черные угольки и, оглянувшись, заметил тунгуза, почтительно наблюдавшего за ним и, видимо, оставшегося в юрте, чтобы заговорить с ним.
— От кого ты прячешься, томуз? — спросил он.
Тот вздрогнул.
— Если томуз один, как паршивый волк, бежит по чужой земле, не зная, как переправиться через реку, что-то лежит у него за пазухой!
Тунгуз понял буквально и в ужасе положил руку на грудь.
— Ты все знаешь? — крикнул он.
— Духи знают и видят, для того, чтобы сообщить своему хозяину! Не без воли хозяина дух, вселившийся в морского орла, отнял у тебя лошадь, над которой ты плакал, когда встретил нас! Говори же! Куда идешь и откуда бежишь?
Тунгуз вынул из-за пазухи пластинку и подал ее шаману:
— Знаешь ли ты, господин духа, что это такое?
Шаман взял загадочную древность и отошел с ней к очагу. При слабом свете его он долго рассматривал таинственные письмена.
— Путь к Золотому Узлу, — сказал он, бросая пластинку тунгузу, — где нашел ты это? Из рек Темптона, Солигдара, Курнах и Онио связан узел, в песках которого духи похоронили золотую пыль. Не туда ли в степи Алдана ведет тебя твой путь, чтобы развязать узел? Тогда не без причины духи остановили твой путь, отняв у тебя лошадь!
Тунгуз гордо поднял голову, словно намеревался поспорить не только с духами, но и с их господином:
— Болезни унесли стада моих оленей, — быстро заговорил он, — но я не хочу ловить рыбу, чтобы менять ее якутам на оленьи кожи! Духи хотели воротить мне стада, дав мне в руки указание пути к кладу, который ты называешь Золотым Узлом, как все таежники! Разве духи теперь не хотят вернуть мне мои стада?
— Принеси жертву и узнаешь их волю!
— Последнюю лошадь мою они отняли, — что могу я дать в жертву?
Шаман не ответил ничего. Тунгуз отошел от него с обиженным лицом, но глубоко пряча на груди пластинку, означавшую путь.
Хозяин вернулся с окровавленным ножом. Жертва была принесена. Голова, хвост и шкура лучшей лошади висели на дереве для духа. Туловище же готовилось к пиршественному столу для шамана и набежавших гостей.
Шаман косо поглядывал на тунгуза. Он грелся у очага, оглядывал собравшихся и иногда возвращался к неясным выкрикам и бормотанию. Тунгуз подошел к нему:
— Может быть, ты беседуешь с духами о моем пути?
Шаман покачал головою, не отвечая. Тогда тунгуз предложил робко:
— Спроси твоих духов, я же принесу жертву, когда у меня будут стада!
Бормотание шамана стало более связным. Прикрыв глаза, он ответил:
— Духи не станут говорить без жертвы! Сахалара — отец всех якутов — дал им землю этой страны со всеми зверями, оленями и лошадьми. Но чужестранцы хитры, а якут гостеприимен. Иван Кольцо с русскими пришел в гости. И он попросил у якутов маленький кусочек земли, такой маленький, какой может охватить оленья шкура! Якуты смеялись и сказали: возьми столько, сколько охватит оленья шкура! Иван разрезал шкуру на тонкие, как волосы, ремешки, связал их и охватил столько земли, что построил на ней деревянный город, который русские называют кремлем! Якуты не могли выгнать их из-за стен, и они остались по всей земле. Но духи взяли золото со всей страны и, обратив его в пыль, завязали в узел, который называем мы Золотым Узлом! Это золото принадлежит якутам, и они получат его, когда будут свободны!
Якуты слушали почтительно. Тунгуз хрипло крикнул:
— Скажи, что говорят духи о моем пути?
— Принеси жертву! — тупо ответил шаман.
Тунгуз отшатнулся от него. Шаман повесил голову, не переставая шевелить отвислыми губами и глядя исподлобья на того, кто напугал тунгуза.
Это был русский. Он вышел вперед из толпы и поклонился, сказав что-то якутенку, сопровождавшему его. Этот мальчик гордо оглянул всех гостей, и глазки его сверкнули непобедимой силой:
— Мой начальник велит сказать, что ты прав! Час пришел, когда якуты развяжут Золотой Узел!
Хранитель музея положил руку на плечо переводчика, как бы свидетельствуя, что мальчик точно передает его слова. Он забыл об усталости, о разбитом теле, об онемевших от пути ногах. Тунгуз был перед ним. Тайна раскрывалась с быстротою разматывавшегося клубка, который привел его к странной легенде, рассказанной шаманом.
— Ты молодец, Аза! — сказал он, — но не упусти вора.
— О, вор не уйдет от нас!
Шаман посмотрел на них недоверчиво.
— Откуда вы, и что вас привело стать гостями в жилище якута?
— Мы гнались за вором!
Головы всех гостей опустились от стыда за другого. Шаман сказал просто:
— Если так, то я велю духам удержать его на вашем пути!
— Он здесь! — коротко ответил Аза.
Гости переглянулись. Шопот пробежал по юрте. Хозяин отошел к выходу и загородил его своею широкой спиной:
— Он не уйдет отсюда, если он вор, как и ты не уйдешь, мальчик, если ты лжешь!
Тунгуз, опустив глаза, не шевелился. Казалось, он не собирался признаваться. Аза сказал ясно:
— Вор здесь! Пусть он выдаст себя и возвратит то, что украл! Иначе я призову в помощь духов, повинующихся моему начальнику, и они покажут всем, кто вор!
Гости одобрительно переглянулись. Тунгуз схватился за сокровище, лежавшее на его груди, но тут же опустил руку и не пошевельнулся.
В эту минуту в отверстие юрты внесли тушу лошади, едва прогретую на костре. Запах мяса наполнил жилье. Якуты забыли о воре и стали нетерпеливо поглядывать на пиршественный стол, раскладывавшийся прямо на полу.
Хозяин пригласил гостей начать пиршество. Как по команде, складные ножи, отвязанные от поясов, потянулись к мясу. Шаман набросился на еду с необычайной жадностью. Аза покачал головою и позвал к пиру начальника:
— Вор не уйдет, но сейчас нельзя говорить с ними! Когда они кончат, я займусь своим колдовством, товарищ Качай!
Хранитель музея кивнул головою. За долгий и трудный путь он научился верить своему маленькому ученику, как самому себе.
Глава четвертая, заставляющая маленького якута заняться колдовством
Жертвенный пир продолжался до ночи. С сытыми животами, набитыми сырым мясом, как свинцом, гости не собирались покидать гостеприимного хозяина, но рады были бы развлечься колдовством маленького якута.
Шаман, кончив жевать, сказал глухо:
— Итак, мальчик, делай то, что можешь, чтобы найти вора или принеси жертву, чтобы я помог тебе!
— Духи моего начальника обойдутся без твоей помощи! — задорно ответил Аза и обернулся к хозяину, — дай мне ровно обрезанное полено, которое я мог бы расщепать на лучины одинаковой длины!
Хранитель музея с недоумением посмотрел на мальчика:
— Что ты придумал, Аза?
— О, не хитрая штука! Но я знаю свой народ и сумею провести вора! Не бойтесь за меня, товарищ Качай! Моя вина привела нас сюда, стало быть, мне же ее и оправдывать! Глядите, вот полено, которое мне нужно!
Якут подал ему полено. Гости одобрительно следили за маленьким колдуном. Он расщепал его на тонкие лучины, по числу всех гостей, и затем, собрав их, поставил на столе, выравнивая:
— Все лучины равны — вы видите! Я раздам их каждому на ночь. К утру мы сравним их и вы увидите, как будет отличаться лучина, пролежавшая ночь у вора, от других своею длиной!
— Что с ней будет? — угрюмо спросил тунгуз.
— Она вырастет!
Гости переглянулись и стали с почтительной осторожностью принимать из рук Азы лучины. Тунгуз схватил ту, которая показалась ему самой короткой.
Заинтересовавшиеся неизвестным колдовством, гости поторопились улечься возле очага, чтобы скорее дождаться утра и проверить свои лучинки.
Качай шепнул мальчику:
— Ты не боишься, что он уйдет?
— Он не уйдет! Ему не спрятаться тогда от якутов.
Ночью Аза спал спокойно. Сытые гости храпели и вздыхали, но спали, как мертвые. Тунгуз не засыпал долго. Он крепко держал лучину в руке и слышал, как она росла. Вынув нож, он отрезал от нея кусок, на который она, по его мнению, успела вырасти и заснул. Но к утру страх разбудил его. Лучина показалась ему выросшей более прежнего — он проворно отхватил еще кусок от нее и призвал в помощь к себе всех духов, которых мог назвать по именам.
Аза улыбнулся ему, привстав над другими. В окно сквозь тусклую пленку пузыря просачивалось багровое солнце. Хозяин поднялся первым, за ним, гремевшим огромным медным чайником у очага, стали просыпаться другие.
Скоро гудела юрта взволнованными голосами. Аза собрал всех в круг и стал спокойно отбирать лучины, составляя их с остатком полена. Тунгуз долго прятался за спинами других, наконец и его лучина очутилась в руках мальчика. Мгновенно взгляды всех от лучины обратились к тунгузу.
— Вот вор! — сказал Аза спокойно, — я не колдун, но я знал, что тот, у кого неспокойна совесть, выдаст себя тем, что попытается нас обмануть! Если он не вор, то спросите его, зачем он сделал короче свою лучину?
— Он боялся, что она вырастет! — усмехнулся шаман, — отдай то, что ты украл, этим людям и уйди отсюда!
Глаза гостей были слишком требовательны, чтобы не отдать пластинки. Она беззвучно упала на колена Качая. Тунгуз, не поднимая глаз, направился к выходу, но прежде чем уйти — остановился перед шаманом:
— Ты видел, что я отдал русскому? Твои духи могли бы спрятать от них путь к Золотому Узлу!
Шаман был смущен. Отвислые губы его бормотали неслышные угрозы. Тунгуз плюнул в очаг и вышел, не оглядываясь более.
Гости вздохнули с глубоким удовлетворением. Маленького колдуна окружили почтением. Ему подали первую чашку кирпичного чая и ради него забыли о шамане.
Хозяин был мрачен в это утро. Он гневно поглядывал на шамана, потом, обернувшись на тихий стон больной жены, крикнул ему:
— Разве я не принес в жертву твоему духу лучшего коня из моего загона, и разве ты не сказал, что дух покинул больную?
— Он покинул ее, и ты принес жертву! — подтвердил шаман.
— Он не покинул ее, потому что она снова билась ночью и горела на огне!
— Значит жертва твоя показалась слишком малой ему!
— О! — заревел якут, — рыжая лошадь — малая жертва! Не ты ли обманщик и плут? Об этом я слыхал от русских начальников!
— Так пусть помогут ей русские!
Якут обернулся к маленькому колдуну и стал вдруг почтительным и тихим:
— Аза! Спроси твоего начальника, может ли он помочь моей больной жене? Я бы не пожалел сменить ваших усталых лошадей на свежих, если вы хотите продолжать ваш путь!
Аза переговорил с Качаем. Качай сказал:
— Если у нее лихорадка, я бы помог ей. У меня есть хина. Спроси, что с ней?
Якут рассказывал долго. Аза переводил его рассказ Качаю. Хранитель музея подошел к больной, пощупал ее голову и руки и кивнул мальчику:
— Скажи, что я вылечу ее. Только пусть он погонит к чорту этого шамана!
Якут не без тайного удовольствия исполнил приказание маленького колдуна. Подобно всем дикарям, якуты с непредставимою быстротою меняют гнев на радость и почтение на презрение.
Шаман ушел из юрты с проклятием. Качай вынул из дорожной сумки три облатки с хинином и одну из них дал проглотить больной.
— Начальник будет ждать, когда больная выздоровеет! — сказал Аза, — он будет твоим гостем три дня. За это время больная будет здорова, как в тот день, когда пришла в твою юрту!
Якут радостно оскалил зубы хранителю музея. Гости готовы были вновь начать жертвенное пиршество, но маленький колдун и его начальник не требовали жертвы, и гости начали потихоньку исчезать из гостеприимного жилища.
Ночью больная лежала спокойно. Припадка не было. Утром она просила есть, а перед вечером с глубокой благодарностью проглотила третью облатку.
Вторую ночь она спала спокойно, и утром Качай сказал своему переводчику:
— Благодари хозяина за гостеприимство и скажи, что мы вернем ему на обратном пути лошадей, если он заменит наших свежими!
Аза переговорил с якутом и спросил нерешительно Качая:
— Значит, мы не вернемся домой?
Хранитель музея улыбнулся:
— А выкуп за невесту твоего брата? Разве ты не хочешь привезти ему его?
— О, товарищ Качай!
— Путь невелик впереди, а с таким проводником, как ты, он вдвое короче! Вели дать лошадей и тронемся в путь! Легенда о Золотом Узле и тайна платиновой пластинки стоит больших трудов, Аза!
Аза согласился с начальником. Он выбрал из загона якута крепких лошадок, навьючил их поклажею и вернулся в юрту.
Маленький караван немедленно отправился в дорогу. Его провожал не только хозяин. В след ему долго благодарно улыбалась измученная лихорадкой женщина, которая могла теперь стоять и греться в лучах желтого и яркого, как светло вычищенный медный котел, солнца.
Глава пятая, в которой развязывается навсегда Золотой Узел
Таинственные знаки древней карты, начертанной на платине, были не менее точны чем те приметы, по которым вел свой караван маленький проводник, не сбиваясь с пути.
Девятый день мучительной дороги через леса и горы привел их к реке.
— Алдан! — сказал Аза, сверкая глазами, — вот река, которую я видел в детстве! Узоры показывают, что нам нужно спуститься по реке вниз! Четыре солнца пути, но у нас нет дощаника или лодки! Мы пойдем берегом!
— Прежде всего дадим отдых себе и лошадям! — ответил Качай, — к тому же наши запасы приходят к концу, и нам надо заняться охотой!
Насколько хранитель музея был утомлен непривычным путем, проведенным к тому же в неудобном седле, настолько же маленький проводник был свеж и силен.
Лошади были пущены на траву. Из одеял и шкур был сооружен тут же на берегу маленький лагерь. Но отдыхом не пришлось воспользоваться. К вечеру на реке путешественники увидели необычайное явление: по воде течением несло остров. На нем росли лиственницы и березняк, лежали нарубленные деревья. Какие-то веселые птички перелетали с дерева на дерево, и в их щебетании не было беспокойства.
— Аза, что это значит? — спросил Качай.
— О, это лучший корабль, который повезет нас! — восторженно сказал Аза, — если бы я верил в духов, я бы сказал, что они помогают нам! Скорее, начальник! Островок держался на торфяной почве какого-нибудь болота, и его сорвала разлившаяся река! Он довезет нас до места, он будет кормить лошадей, а у нас будет отдых, который не остановит нашего пути!
Аза наскоро вьючил лошадей и гнал их к воде. Зеленый остров, медленно поворачиваясь, приближался к берегу. Аза переплыл небольшое пространство от берега к острову на лошади. Хранитель музея последовал за ним.
Через полчаса уже, подмокшие одеяла и шкуры сушились на солнце. Лошади свободно прогуливались по островку, имевшему в окружности не меньше семидесяти сажен. Островок несся по течению с устойчивостью хорошего парохода, и Аза не переставал улыбаться уходившим вдаль берегам реки. Иногда остров прибивало плотно к берегу, и он застревал на несколько минут. Но сильное течение в конце концов вновь несло его дальше.
На пятый день пути отдохнувшие лошади и седоки ждали только удобного момента, чтобы сойти с острова. В полдень остров прибило к берегу, и маленький караван сошел туда, как с дощаника или парома.
— Конец пути близок, — сказал Аза, поглядывая на солнце и становясь лицом против него, — теперь прямо!
Для отдохнувших путешественников три дня пути прошли легко. Но затем таежная тропа кончилась, и дорога стала тяжелой. Пришлось итти через девственные леса, продираться сквозь перепутанные ветви, перелезать через упавшие деревья, переправляться через горные ручьи, заваленные упавшими деревьями и камнями.
Ночью нужно было охранять лошадей и себя от бродивших вблизи костров медведей.
Но следующие два дня пути по лощине между, гор, отдававших выстрел и крик гулким эхом не менее двадцати раз, были веселы и легки. Лишь иногда хранитель музея задумывался и недоверчиво оглядывался кругом.
— Ты на верной дороге, Аза? — спрашивал он.
— О! — торжествуя кричал проводник, — разве может быть иной путь, кроме этой лощины, к тем рекам, о которых говорил шаман? Здесь же Томмот — незамерзающая земля! Во всей якутской стране только один Томмот, и завтра мы выйдем к нему!
— Что мы там найдем, Аза?
— Не знаю!
Они умолкали и думали каждый свое.
— Может быть, шаман говорил о золотоносном песке, Аза? Еще до войны ходили люди на Алдан и говорили, что нашли золотоносные пески.
— Тогда мы привезем выкуп за невесту моего брата, товарищ Качай!
Утро следующего дня вывело их к берегу неширокой реки.
— Теперь смотрите, — сказал Аза серьезно, — мы пришли. Если мы будем итти по берегу и смотреть на каждый искусственно сделанный знак, мы дойдем до креста, который есть на пластинке.
Лошади вязли по щиколотке в песке. Привстав в стременах, чтобы оглядеться, Качай уронил брошенный поперек седла плащ и прыгнул на песок поднять его. В песке, тронутом копытом лошади, сверкнула золотая пыль. — Хранитель музея вздрогнул:
— Аза! Смотри, что это такое?
Аза сошел с лошади и наклонился:
— Мы в Золотом Узле! — сказал он, — это то, что мы искали!
Хранитель музея пересыпал с руки на руку горсти песка. Никогда в жизни не видел, вероятно, никто еще ничего подобного: поверхностное залегание золота не глубже четверти аршина!
Сердце Качая билось тревожно. Усталость далекого путешествия упала с плеч. Он оглядывал местность, видел песчаные берега и гранитные массивы, выбивавшие из глубин своих золотые ключи, и думал о том, что происходило.
— Аза, Аза! — крикнул он взволнованно, — знаешь ли ты, что мы привезем назад?
— Выкуп моему брату за невесту?
— Не только твоему брату! Мы привезем всем твоим братьям, всем якутам выкуп! Не за невесту, а за новую жизнь, Аза! Золотой Узел даст якутам русские избы, солнца на потолке, машины, которыми делают хлеб, грамоту и книгу!
— Это было бы лучше, чем выкуп за невесту! — сказал Аза.
— И это будет!
Хранитель музея был взволнован. Он машинально пересыпал песок в пальцах и смотрел на золотые искры пустыми глазами — он видел не золотую пыль, но что-то совсем другое.
Аза смотрел на него с восторгом и гордостью. Он не думал о себе, не думал о начальнике и учителе, он торжествовал только потому, что Золотой Узел был развязан навсегда и не без помощи его маленьких, ставших черными от загара, рук.
ВЕЧЕР ТРЕТИЙ или ПОВЕСТЬ ШТУРМАНА О КЛАДБИЩЕ МАМОНТОВ
ГЛАВА ПЕРВАЯ ТИШИНА СМЕНЯЕТСЯ ВЕТРОМ
Одиннадцать дней висела и звенящем воздухе морозная тишина. Дыхание опускалось инеем, и вода, выплеснутая из ковша, падала на снег острыми кусками каменного льда.
Двенадцатою ночью неожиданно взвыл океанский ветер. Олени вернулись из тайги и стали за урасою бок-о-бок, как одно многоголовое чудовище. Собаки тихонько выли, забившись под теплые животы оленей. Ветер занес все снегом. Темнели неподвижные оленьи хребты, и стадо было похоже на костяную спину огромной черепахи, дремлющей столетиями на снегу.
Ветер выдувал из урасы тепло, крутился в плетенке, обмазанной глиною, как печь, веял в очаге снег и пепел, погасил угли и вынес их в тайгу.
Ночью Сын Гостя проснулся от холода и ветра. Он высунул черную голову из оленьих шкур, сшитых в мешок для спанья, и прислушался. Плоское, рябое лицо его обвеяло тончайшими иглами льда, метавшегося с ветром и брызгами снега, снежинки застревали в глубоких рябинах и таяли.
Тогда он проворно выпростался из мешка, прополз по земляному полу до другого мешка, где спали все остальные вместе, и всунул ноги в пролаз. Нога придавила скрюченную, как китовый ус на холоду, больную руку отца. Отец не проснулся, но простонал сквозь сон жалобнее собак, воющих на ветру:
— Разве моя жена не пришла в постель гостя, что ты ищешь ее?
Ветер заглушил его бред. Сын Гостя влез в мешок, тесня спящих. Отец выдернул неразгибавшуюся руку из-под его спины и крикнул, хрипя от боли:
— Хатун, ступай к гостю и будь ему мила!
Он проснулся от собственного крика, напоминавшего лай простуженного пса. Он узнал сына по телу и запаху и, узнавши, спросил коротко:
Почему ты не спишь, Андрей?
Андрей усмехнулся.
— Йоры подняли вой и ветер. Угли погасли. Мне стало холодно. — Он ударил локтем отца в голую грудь и спросил резко: — Не с тем ли гостем говорил ты во сне, в честь которого меня называют Сыном Гостя?
Вздохнув от боли, отец ответил покорно:
— Это был он. Йоры привели его тень, и с ним была огненная вода, которой они покупают якутов!
— И ты опять посылал к нему свою хатун, мою мать, старый волк с перешибленной лапой!
Отец отодвинулся от сына, боясь удара локтя в грудь.
— Он был мой гость.
Сын толкнул его больную руку.
— Благодари старика, что это был только сон и пустая тень гостя, дохлая собака!
Мать слышала их слова. Она перекатилась через мужа и легла между ним и сыном, грея обоих своим голым телом, раскаленным сном. Она обернулась иссохшей грудью к лицу сына, рассказывая тихо, как сказку:
— Ты сын русского гостя. У тебя лицо белее наших, и ты хитер, как русский! Но ты сын мой, и ты соха, которых русские называют якутами. Когда у тебя будет своя хатун, ты также пошлешь ее в постель своего гостя, потому что всякий гость — хозяин в жилище сохи!
— Русские смеются над вашими обычаями, — крикнул Сын Гостя и оттолкнул мать. — Те, кто не знает ваших обычаев, живут лучше, чем мы!
Мать сжалась покорно. Она положила руку на голову сына и продолжала говорить, слушая вой ветра и сливающийся с ним свой собственный голос.
— Старый Ивана, мой муж и отец твой, похожий на загнанного долгим путем оленя, не может убить сохатого, чтобы накормить нас, и ты стал господином в доме! Мы слушаемся тебя и повинуемся. Но разве ты не соха?
Она прислушалась к ветру и дыханию сына и, прислушавшись, продолжала петь тихо:
— Вот двенадцать стоянок идут по нашим следам томузы и на десятой стоянке они предлагали за сестру твою Маю две нарты лисиц, куниц, соболей и голубых песцов! Глаза Маи темнее реки, имя которой она носит, потому что на Мае я родила ее, но разве мало за нее предлагали томузы? Мы не отдадим ее томузам и за четыре нарты голубых песцов, потому что нельзя сохе родниться с томузами! Пусть Мая плачет, если он ей мил! Пусть останутся голубые песцы и куницы у томуза! Мы покорны закону, господин, так же, как ты и каждый соха!
Ветер метался в урасе, крутился над очагом, выметая пепел. Собаки, зарывшись в снег, выли под стывшими животами оленей. Мать сжалась от страха и пропела чуть слышно:
— Ветер заметает следы злых дел, которые надувают в уши людям йоры! Глаза томуза сверкают от любви, когда он смотрит на Маю! Что с ветром нашепчут в его уши в эту ночь йоры!
В закрытом мешке было душно, глаза старухи смыкались. Она погладила голову сына, сказала: — Спи, господин! — и заснула вдруг, падая в сон, как камень, опущенный в воду.
Сын Гостя положил руку под голову и другою затянул над собою меха, укрываясь от тонкой жилки холода, тянувшейся снаружи в тепло постели.
Мая слышала пение матери и молчала, но когда дыхание ее стало покойно, она с ловкостью змеи скользнула к брату и опалила его горячим телом, как пламенем очага.
— Спи, господин, спи, греясь мною, спи спокойно до солнца и не просыпайся. Я, обнимая тебя, думаю о другом.
и пусть теплота моего тела навеет на тебя сон, в котором ты обнимешь свою девушку. Ту, которая тебе будет милее, чем томузу твоя сестра.
— Девушки не любят тех, чьи лица изрыты оспой, как пастбища кабанов их клыками!
Сын Гостя погладил рукою свое лицо и скрипнул зубами так, что Мая вздрогнула.
— Жена вяжет ноги, а мой путь еще не кончен! — добавил он, сжимаясь всем телом с упрямой решительностью. — Время спать. Замолчи!
Мая смотрела в черный душный мрак и говорила тихо, не слушая брата:
— Ты господин и ты храбр! Господину всякое лицо хорошо! Потому что любовь меняет человека и сгибает его с такою же болью, с какою скрючена рука отца, чтобы никогда уже не разогнуться! Спи, господин! Скоро не будет нужды тебе уходить в свой холодный одинокий мешок, потому что сердце Маи изрыто болью, как твое лицо оспой! Спи!
Сын Гостя вздохнул глубоко, засыпая от усталости. И тепло горячего тела сестры не тревожило его больше.
Сын Гостя двигался к побережью Ледовитого океана вторую зиму. Он шел с Маи, где родилась его сестра. На Мае в камышах отец встретился с невиданным зверем, оставившим навсегда скрюченной его руку. Сын Гостя задушил своими руками желтую собаку, и тогда видевшие зверя и раны отца говорили, что Сын Гостя убил тигра.
С Маи шли по Алдану до впадения его в Лену и по Лене пошли вниз до устья, к Быкову мысу. Отсюда счастливцы добирались до Кладбища Мамонтов, а разве убивший тигра не был счастливцем?
Сын Гостя шел твердыми шагами вперед.
Он раскидывал урасу над убитой добычей, и стоянка длилась до тех пор, пока хватало мяса убитого и голод не заставлял двигаться дальше. В очаге тлели угли, вялилось мясо. Его ели и, наевшись, спали, потом просыпались, чтобы есть, и снова засыпали. Когда мясо кончалось, несколько дней пили молча кирпичный чай, лежали и с собачьей ласковостью следили глазами за господином. Голод становился нестерпимым. Сын Гостя брал ружье, приказывал брату коротко:
— Ваненок, пойдем!
И уходил с братом по следам зверя, выслеживал, караулил и убивал без промаха из кремневого ружья.
Ваненок шел назад к стоянке. Лыжи поднимали вихорьки сухого снега за его спиной. Сын Гостя оставался сторожить убитого. Огромная туша лося стыла на снегу. Сын Гостя вырезал из ляжки жирный кусок и ел.
На стоянке с приходом Ваненка поднимался шум и движение. На нарты укладывалось все имущество и стены урасы. Ваненок впрягал оленей, собаки гнали стадо, и всё вместе— люди, собаки, олени, нарты, — взметая за собой снежную пыль, мчалось длинным поездом верст за тридцать вперед к месту удачной охоты.
Здесь, возле самой добычи, разгребали снег, добираясь до земли, ставили шесты, завешивали шкурами, заваливали сне* гом, вставляли кусок льда вместо окна, зажигали огонь в очаге, ели мясо, пили чай, ждали новой охоты и уходили вперед.
Так Сын Гостя двигался вторую зиму, так шли за ним отец, мать, брат и сестра. Он приносил им пищу, и они звали его господином, не спрашивая, куда ведет оп их.
ГЛАВА ВТОРАЯ ВЕТЕР ПРИБЛИЖАЕТ ВЕСНУ
Ночью Сын Гостя слышал шум, голоса и движение. Он улыбнулся им, как сну, и не открыл глаз.
Ветер вымел очаг дочиста. Вода в чайнике давно уже «тала куском льда, когда Сын Гостя проснулся. Он протянул руки над головой и не нашёл выхода. Он вскочил на колени, ища пролаз.
Отверстие было завязано снаружи. Сын Гостя толкнул отца, ощупал костлявую спину матери, нашел голову Ваненка, но пальцы руки его нигде не почувствовали гладкой кожи сестры. Налившись огненной злобой, он крикнул, становясь на грудь застонавшего отца:
— Мая, слуга йоров! Не ты ли завязала нас тут?
Никто не ответил. Оленья шкура крепка, а ножи оставались снаружи на поясах одежд. Сын Гостя давил коленями грудь отца, рвал мешок и стонал от бессилия.
— Грызи зубами, — сказал отец, — здесь были томузы! Они украли Маю, как крадут волки задремавшего оленя!
Сын Гостя вложил складку меха в рот и стал грызть. Тугая кожа скрипела под острыми зубами. Уставши, он упал на голову матери и тогда над собой в прогрызенной коже увидел звездочку дневного света.
— Грызи, — заревел отец, — выгрызи дыру, чтобы высунуть руку, которой ты сдавишь горло томузу!
Сын Гостя грыз с остервенением. Знакомый вкус теплой крови остановил его. Он ощупал пальцами зубы и пошатал тот, который причинял боль.
Отец крикнул хрипло:
— Грызи, ленивая собака! Ветер заносит следы, и ты не найдешь следов вора! Торопись. Легче найти камень в Лене, чем человека в тайге. Грызи, потому что моими зубами не перегрызть и горла томузу, укравшему Маю!
Сын Гостя, не слушая, выгрыз в мешке дыру, Дневной сеет сделал ее похожею на маленькое солнце. Оно светило в темную пещеру, забитую съежившимися людьми. Сын Гостя просунул пальцы в белое солнце и надорвал кожу. Пальцы его опустились от боли. Отец толкнул его злобно:
— Время идет! Рви! Ты не найдешь их следов!
— Зачем мне следы их? Мая не кричала, когда ее брали, она ушла своей волей! — Сын Гостя передохнул, всунул руки и разорвал кожу, раздавшуюся с тугой неохотой под силой его освирепевших рук. — Нам незачем преследовать беглецов.
— Ступай! — крикнул отец, — ступай! Олени и ветер не ждут! Ты догонишь их!
Сын Гостя вышел в отверстие, не обращая внимания на отца. На голые плечи его осыпался со шкур мешка снег. Он выпростался из них и прыгнул к выходу, не одеваясь. У выхода лежала гора шкур, запорошенная снегом. Вход был открыт, ветер нес в урасу снежную пыль. Сын Гостя поднял голыми руками груду мехов и с восторгом перебросил их. Шкуры лисиц упали, под ними мелькнули меха голубых песцов и соболей.
— Выкуп! — он усмехнулся, любуясь мехами. — Мая, ты не даром ела мое мясо, но я не люблю обычаев старых, якутов!
Отец вылез из мешка, дрожа от холода и гнева. Он оделся с проворством собаки, встряхивающейся после сна, и бросил сыну одежду. Тот оделся и лег на разбросанные шкуры, греясь в тепле пушистого меха.
Отец снял с пояса нож, задыхаясь от злобы. Истекая слюной и проклятиями, он катался по полу и изрезал в клочья две шкуры голубого песца, прежде чем его можно было остановить.
Сын Гостя вырвал у него нож. Тогда отец, завернувшись в куклявку, выполз из урасы с хриплым воем, созвавшим из-под оленей насторожившихся собак. Он вернулся скоро. Сын Гостя посмотрел на него с усмешкой, и он ответил глухо, как затихающий от бессилья ветер в тайге:
— Ветер несет тучи снега, следы исчезли. Йоры помогают им. Они взяли лучших оленей из твоих и выпрягли своих, загнанных до смерти. Один из них дохнет, как я. Возьми нож и прирежь!
Он, забываясь, сжал голову больной рукой и завыл от боли и тоски. Сын Гостя взял нож и вышел, не глядя на отца.
Мать вылезла из мешка и крикнула назад:
— Ваненок, иди сюда! Андрей режет загнанного оленя, и мы будем сегодня есть!
Голое темнокожее тело высунулось вслед за матерью. Они встряхнулись, оделись, протерли снегом глаза и сели, глядя на выход. Сын Гостя вернулся с ободранной шкурой оленя. Он бросил шкуру в угол и втащил в урасу за собой дымящуюся груду розового мяса. Никто не прикоснулся к нему, пока Сын Гостя не вырезал лучшего куска и не съел его до остатка.
Он ел медленно. Мать и Ваненок, даже отец, переставший выть и стонать, смотрели на его губы, сочившие оленью кровь.
Сын Гостя подал нож отцу. Тот вырезал свой кусок, и остальные смотрели на его губы, на его челюсти, двигающиеся мерно и неторопливо.
Тепло наливалось в грудь Сына Гостя. Он перебирал шкуры, любуясь ими. Отец подполз к его ногам, хрипя:
— Изрежь шкуры в клочья, потому что мы не возьмем выкупа от томуза! Возьми нож и ищи оскорбителя и не приходи раньше, чем ты изрежешь в клочья, как шкуры, его грудь.
Сын Гостя оглянулся на отца и, отняв у него нож, отдал его матери:
— Пусть ест мать и Ваненок, — сказал он и посмотрел на отца с презрением. — Разве ты не слышал, дохлый пес, как вязали тебя томузы? Ты не нужен Мае, и она вязала тебя в мешке, чтобы ты не путался на ее пути. Зачем же ты лаешь, старый пес?
Мать вырезала кусок себе и Ваненку. Отец смотрел на них, и Сын Гостя толкнул его ногою:
— От тебя меньше толку, чем от этого загнанного оленя! Не мне слушать тебя! Мая ушла к тому, кто ей мил, и томуз такой же человек, как каждый якут. Иди за хворостом — вот твое дело, нам нужен огонь в очаге, а для этой работы не нужно двух рук.
Отец вырвал из рук жены кусок мяса. Он ел, давясь кусками и злобой:
— Я сам пойду добывать кровь томуза!
Он встал, потрясая руками, выпачканными в крови оленя.
— А ты не господин в доме, если не хочешь исполнить закон мести! Ты хитрее лисицы и трусливее зайца, потому что ты ублюдок оленя и бешеного пса, который был моим гостем…
Сын Гостя бросил отца на пол и выбил из руки его сверкнувший нож. Старик лежал на больной руке, воя от Соли. Он прижался лицом к земле и не мог говорить. Сын Гостя толкнул его ногою и крикнул сурово:
— Ступай за дровами, болтливый пес! Твой лай дряхл, как кости дедов, живших твоими законами.
Отец поднялся на колени:
— Ты господин в доме, исполни закон! — провыл он, качая головой. — Не заставляй меня идти по следам вора!
— Ступай за хворостом, говорю тебе! — ответил Сын Гостя, не слушая его. — Твои законы и твоя жизнь догорают, как угли в очаге, а мой путь лежит в новых просторах! Не тебе вести меня вперед, а потому ступай! Или я скручу твою другую руку не хуже желтой собаки, которую я задушил легче, чем простого пса!
Отец спустил на лоб и уши рыжие отвороты шапки, закрылся шерстью мехов и выполз покорно из урасы. Сын Гостя посмотрел ему вслед и отвернулся.
— Ветер приближает весну, — сказал он после долгого молчания, глядя на крутившийся в очаге снег, — и этой весной я приду на Кладбище Мамонтов! Русские ценят рога мамонта дороже куниц и соболей. Я выловлю их из весенних озер столько, сколько нужно, чтобы получить на Алдане русскую избу с русской печью и машину, которая режет землю и растит хлеб! Какое же мне дело до дряхлых законов, истлевших в сердце моем, как хвоя в тайге!
Мать тронула его плечо. Он оглянулся и сказал, глядя на синее небо, мелькавшее в снежном тумане в отверстие над очагом:
— Русские живут зимою так же хорошо, как летом. Они не боятся зимней ночи, потому что они сами зажигают в избах солнца! Я буду хитер, как они, и у меня будут зимой яйца птиц, молоко коров, соленая нельма и хлеб! И у меня не будет скрюченной руки, как у отца! Мне не сдерет кожу с затылка медведь, как моему деду. Я не усну в снегах, как засыпали навсегда мои деды, и меня не сгноит заживо проказа, как моих сестер и братьев, скитающихся по берегам Алдана! Я не хочу законов отцов и дедов, потому что они нехороши! Довольно!
Он обернулся к матери, покорно слушавшей его, и принял из рук ее кусок розового мяса, отороченного желтым, как янтарь, слоем жира.
Узкие щелки его глаз горели, и он двигал железными челюстями с непобедимой силой и твердостью.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ВЕСНА ВЕДЕТ К ЦЕЛИ
Ветер дул короткими днями и долгими ночами между ними. В очаге тлели угли, на углях томилось мясо. Сын Гостя лежал на мехах с свинцовым от сытости животом и думал о солнцах, горящих в русских избах.
В мешках лежал отец, мать и Ваненок. Они были сыты и ни о чем не думали. Им не хотелось говорить и двигаться. От сытости звенело в ушах, томила жажда. Они глотали лед и снова спали. Сон приходил внезапно, как пробуждение.
Утром третьего дня олень был съеден. Мать натопила в чайнике снегу, кипятила воду. Все молча смотрели на нее и затем пили горячий чай.
Ветер утих в ночь четвертого дня. Морозная тишина снова повисла в звенящем воздухе. Олени ушли в тайгу. Голод становился мучительным. Тогда Сын Гостя взял ружье и зарядил его.
Шесть пар черных блестящих глаз сквозь узкие щелочки плоских лиц следили за ружьем. Сын Гостя крикнул коротко:
— Ваненок, пойдем!
Они закутались в меха, подвязали лыжи. Выйдя из урасы, Сын Гостя прислушался. Где-то в светлой, как горный хрусталь, вышине веял ветер, и чудесный слух якута уловил его.
— Ветер идет обратно, — сказал он, — ветер будет гнать нас к морю. Горы Хараулах кончаются. Мы спустились в бадараны. Конец пути близится. Мы войдем в Быков мыс раньше, чем гуси тронутся в путь, и на Кладбище Мамонтов мы придем вместе с лебедями, чтобы есть их яйца!
Мать вынесла ковш воды. Сын Гостя оплеснул водою спину Ваненка. Ваненок облил спину брата — вода настыла мгновенно на мехах тонким стеклянным покровом, и одежды стали непроницаемыми для ветра.
Сын Гостя усмехнулся небесной тишине, звеневшей только ему одному слышным приближением бури, вскинул на плечи ружье и оперся на шесты.
— Ветер приближает весну и выдувает в бадаранах снег, как волосы с головы пьяницы! Держи путь в бадараны: там мы найдем следы сохатых, потому что они ленивы и хитры, а ветер избавил их от труда копаться под снегом, чтобы достать олений мох!
Ваненок сверкнул черными зрачками в узких отверстиях глаз, они горели охотничьей жадностью. Он шел за братом, вихря лыжами сухой снег, и слушал падавшие к нему слова:
— Теперь я буду тебя учить, Ваненок, караулить сохатого и стрелять без промаха. Мы уйдем далеко сегодня. Ленивый соха не пойдет вперед, когда он сыт, но завтра они примчатся к месту охоты быстрее оленей! Конец пути близок, и нам нужно спешить! Если я не вернусь с Кладбища Мамонтов, ты станешь господином в доме и будешь кормить отца и мать!
— Путь опасен, я знаю, — сказал гордо Ваненок, — ноты вернешься, потому что ты хитрее русского, но мать считает мне четырнадцатую весну, а в это время живущие в юртах берут себе жен. Я взрослый и умею держать ружье!
Сын Гостя засмеялся, сверкая глазами:
— Да, я научу тебя всему, что нужно знать старшему в доме! Но было бы лучше, если бы ты стал жить, как русские!
Сын Гостя пошел тише, легко касаясь по снежному простору, не тронутому ничьими следами. Ваненок догнал его и сказал, идя рядом.
— Я не хочу быть похожим на русских. Разве мало причиняли они горя якутам, сжигая старших их огненной водою? Разве мало отняли они соболей, куниц и голубых песцов у якутов — те, у кого светлые пуговицы ослепляют глаза, как жар летнего солнца?
Сын Гостя усмехнулся.
— У русских нет больше светлых пуговиц, и они убили царя, для которого собирали ясак голубыми песцами и горностаями. — Он оглянул снежное море, сливающееся на горизонте с голубым небом, и прибавил: — Русский знает, почему небо сине, отчего падает снег, как выросла земля. А разве ты не хотел бы знать путь на небо или путь вокруг земли так же хорошо, как дорогу от Маи к Пещерам Алдана?
Ваненок замолчал, подчиняясь воле, горевшей в словах брата. Лыжи скользили тихо, и слова падали, как острые куски льда. Сын Гостя говорил сурово:
— Я видел, как живут якуты, делающие русскими машинами хлеб, в их юртах тепло, и они не бродят в тайге, как голодные волки, в поисках пищи. Я вел русских воинов, настигавших солдат убитого царя, через тайгу, и я узнал многое от них!
Он вскинул шесты и пошел вперед быстрее лося. Ваненок догнал его, тяжело дыша и волнуясь.
— Ты хорошо идешь, — улыбнулся ему Сын Гостя, — но мало хорошо идти, нужно знать свой путь!
Они вышли в снежный простор, резкий до ослепительности. В белом покое тонули склоны гор, и далеко позади оставалась темная кайма последней тайги. Ветер бился в их остекляненные льдом одежды и отскакивал, не проникая до тела.
Сын Гостя прищурил глаза, отыскивая следы зверя в снегу. Сумерки медлили и надвигались без теней, как первые призраки белых ночей. Остроухие собаки, шедшие лениво сзади, стали выдвигаться вперед, сторожко шевеля ушами. Сын Гостя свистнул протяжно. Собаки вздрогнули и ушли в снежную даль, взрывая сугробы снежного пуха.
— Они найдут зверя, — шепнул Сын Гостя и шел вперед, следя за собаками и прислушиваясь.
Они ответили не скоро, но вдруг, таким же, как свист, тревожным воем. Сын Гостя весело пошел на них. Собаки лежали на следах лосей.
Сын Гостя оглядел следы.
— Сохатые близко. Идем, не торопясь. В сумерки мы подойдем так близко, что сможешь убить и ты!
Бадараны переходили в тундру. Складчатая равнина темнела полосками кустарника. Сын Гостя шел, прячась в тени его пятен, не оставляя взглядом следов. Собаки жались к охотникам.
Зверь был очень близко.
Ветер нанес влажные облака. От них веяло теплом. Стеклянная прозрачность сумерек померкла. Вечер ложился синими тенями. Солнце, палая за снеговые склоны гор, выскользнуло из-под влажных туч. По снежному простору расстлались багровые светы. Тогда на алом, как свежая кровь на снегу, четком фоне резко вычертились космы кустарника и над ним — крепкие сучья ветвистых рогов сторожащего лося.
Сын Гостя опустился молча на снег. Собаки принизили уши. Ваненок снял лыжи и принял от брата ружье. Он провалился по пояс в снег и пошел вперед, держа ружье над головою, как в воде. Собаки зарывались в снег и вздыхали.
Сын Гостя ждал спокойно. В холодном воздухе выстрел звякнул глухо. Собаки с визгом вынеслись бурею за кусты. Над кустарником по алому небу вырос вдруг лес ветвистых рогов, за ним взметнулся ураганом искрящийся снег, и стадо исчезло в снежной пыли и сумерках ночи.
Сын Гостя вышел на торжествующий крик брата. Собаки стонали над убитым. Ваненок отвязывал с пояса нож и учился снимать шкуру. Он сопел и сверкал щелочками своих глаз, ширившихся на розовом лице.
— Ты хорошо начал, — гордо сказал Сын Гостя, вырезав лучший кусок из ляжки и подавая ему, — молодой олененок с Орулганских гор! Запомни этот день и вкус мяса собственной добычи!
Ваненок ел медленно, подражая взрослым. Он смотрел на черные язвы в снегу, продырявленные теплыми каплями звериной крови, и кивал головою в знак повиновения брату.
— Но торопись, — говорил Сын Гостя, — торопись домой, чтобы вернуться сюда утром с урасою, оленями и родителями, потому что мы ушли недалеко и со вторым солнцем мы тронемся в путь. Я скормлю собакам большую половину твоей добычи, чтобы легко было идти дальше, потому что сытые не любят двигаться! Иди!
Ваненок подвязал лыжи, свистнул собак и ушел, оставив брату старого умного пса. Сын Гостя постлал на снегу шкуру зверя. Оставшийся у убитого старый остроухий пес долго выл в снежную даль вслед Ваненку и слушал ответный вой собак, пока мог слышать.
Сын Гостя лежал на свежей шкуре, глядел в мерцавшие между облаков звезды и считал по ним стоянки до конца пути. Он думал о весне, слушал в ночи, как, опускаясь на землю, гудел в вышине ветер и двигал тяжелые тучи легко, как пух.
Собака, уставши скулить, замолчала. Тогда оборвалась внешняя связанность души с миром, и, завернувшись в свежую шкуру зверя, Сын Гостя заснул.
К утру ветер согнал с туч влагу, и она падала ледяными искрами. Искры стлали тумак по снежной степи, и в тумане долго не показывался Ваненок. Сын Гостя смотрел и ждал нетерпеливо. Он послал собаку вперед. Пес долго терся волчиною мордою у его ног. не понимая, потом понял и ушел, визжа и волнуясь.
Солнце встало холодным пустым шаром. Сын Гостя следил за его движением, думал о йорах, заметавших путь брату, и посылал проклятия, похожие на рев зверя, в снежную бурю, просвеченную мертвым солнцем.
Уже после полудня из снежной мглы вынырнули собаки, за ними олени и нарты. Тогда Сын Гостя, привычным взглядом окинув мчавшийся поезд, увидел, что нарта отца была пуста, а лица матери и брата прятали глаза свои, точно боясь его гнева.
Сын Гостя одним криком остановил оленей и собак. Поезд застыл в снегу. Ваненок крикнул приветствие, не подняв глаз на брата.
— Где отец? — скрестив на груди руки, спросил Сын Гостя. — В какую ловушку заманили йоры больного оленя?
Ваненок поднял глаза.
— Он ушел по следам Маи!
Сын Гостя опустил руки на плечи брата с ловкостью и проворством звериных когтей и швырнул Ваненка в снег.
— Горе тебе, ленивый щенок! Тебе не быть никогда сторожевым в стаде сохатых, если ты не мог усторожить и дряхлого оленя с побитой ногою в собственном стаде, от которого я отлучился на один день!
— Разве отец слушает меня? — огрызнулся Ваненок, выбираясь из снега и отступая с собачьей покорностью прочь. — Ты — господин дома!
— Да, я господин, — крикнул Сын Гостя, сжимая кулаки, — и горе тому, кто ослушается меня в моем доме!
Он отвернулся от брата и посмотрел на мать.
— Где, спрашиваю я, где были следы Маи, и зачем ты отпустила взбесившегося волка?
Мать опустила голову.
— Мая принесла мне подарки ночью и оставила их у входа! Отец твой изрезал на клочья дары Маи и ушел по ее следам искать обидчика!
Сын Гостя схватил голову руками и, потрясая ее, провыл тоскуя.
— Мы идем по стране, где живут томузы! Трудно вернуться волку из поля, окруженного засадами!
Мать подошла к нему. Он встал и сказал с величавой резкостью, ударив себя в грудь.
— Мы будем ждать его до третьего солнца, пока будем есть! Но и ради жизни отца ни на одно солнце больше не задержу я своего пути, потому что это путь вперед!
Он отошел от поезда, отворачиваясь к белому солнцу, и крикнул назад:
— Делайте, что надо!
Мать отошла, кланяясь. Ваненок выпряг оленей. Собаки лапами помогали расчищать снег. Еще задолго до ночи ураса стояла на месте, в очаге крутился огонь проворными языками пламени, и мясо топило нежное сало на угли.
Сын Гостя у входа слушал вздохи затихавшего ветра и говорил, тоскливо оглядываясь на огонь:
— Йоры манят следами Маи старого якута в ловушку смерти! Он ушел умирать за свои законы, как чудовища с рогами, стоящими дороже шкур огневицы, уходили умирать на остров, который теперь мы называем Кладбище Мамонтов! Старый мамонт с перешибленной лапой — мой отец! Ты не вернешься в мою урасу! Смерть застигнет тебя на пути, потому что однорукому не сладить с паршивым волком, питающимся падалью! Ты умрешь на своем пути, как умирали те, чьи рога теперь составляют цель моего пути!
Сын Гостя опустил голову. Он слышал сзади себя спокойное чавканье и оглянулся. Мать угодливо подала ему дымящийся кусок. Он принял его и ел, наливаясь теплом пищи, огня и непобедимой воли.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ КЛАДБИЩЕ МАМОНТОВ
В тот год весна стала вдруг. Тепло, не умеряемое ветрами и тучами, согнало снег в ручьи, озера и топи. Грязно-бурая поверхность тундр обнажилась. На ней клочьями, как лишаи на шкуре оленя, выросли зеленые травы и мхи. Комары и мошки вздымались над землей, как дым потухающего очага над юртой якута.
Сын Гостя простоял шесть солнц на берегу моря, дожидаясь пути на остров. Ночами лед становился ка несколько часов, но рушился от малейшего урагана, нагонявшего воду с океана и опрокидывавшего в море ледяной путь.
Сын Гостя слушал тишину небес. Он вглядывался в звезды и держал оленей возле урасы. Собаки выли тревожно. Ночами неслись с вышины хлопоты крыльев уходивших на остров лебединых стад.
Сын Гостя стоял на берегу, скрестив руки. Он готов был пасть на землю и выть в тоске бессилия по-собачьи, но боялся показаться йорам побежденным и молчал, усмехаясь побелевшими от тоски губами:
— Йорам не обмануть меня! — шептал он. — Йоры не уведут меня раньше времени, и останется пустой их ловушка, приготовленная для меня!
Ночью пятого дня Ваненок выгнал лосиное стадо к берегу. Собаки окружили его цепью. Сторожевой смело повел стадо по льду на остров.
Сын Гостя дрогнул. Он посмотрел на звезды, но прислушался к тишине и не двинулся с места, провожая глазами ветвистое стадо.
Йоры хотят увести меня по следам сохатых, — подумал он и остановил Ваненка. отозвал собак. — Сын Гостя хитрее йоров! На остров нет пути этой ночью! Глядите!
Белая ночь стлала волнующий свет по остекленевшему морю. В белой ночи далеко видна была круглая тень от стада лосей, перебиравшихся за сторожевым через лед. Тень их бежала с быстротой тени облака по белому простору.
Сын Гостя прищурил глаза. Ваненок молчал, но беззвучные губы его были сложены в усмешку. Сын Гостя сжал его руку и крикнул.
— Гляди, слепой щенок! Я вижу лучше сохатого, и я не поведу своего стада в ловушку йоров!
Прищуренные глаза видели далеко. В черных зеркальцах глаз сверкнуло торжество, когда взорванный напором воды ледяной путь загудел, и тень стада исчезла в грудах волн и льда.
— Ты хорошо видишь, — сказал Ваненок, встряхивая руку, замлевшую от пожатия брата, — и я не спорил с тобой! Я готов следовать по твоему пути!
Сын Гостя засмеялся.
— Мы уйдем скоро. Ледяные горы, идущие с океана, запрут лед в проливе и, может быть, завтра путь будет готов!
И ночью шестого дня Сын Гостя впряг оленей, нагрузил нарты, свистнул собак, привязал мать и Ваненка к нартам и погнал оленей на лед. *
Собаки, олени и люди одинаково знали продажную непрочность ледяного моста. Белая ночь без теней и отсветов мерцала бледными звездами с таинственной, как у льда, прозрачностью и хрупким холодком. Оленей не нужно было трогать, они неслись с быстротой ветра, и собаки задыхались, идя рядом с ними.
— Барда! — покрикивал Сын Гостя, заглушая неровное биение сердца и треск под ногами оленей. — Тот, кто умеет ждать, всегда выигрывает! Барда!
Ледяной гул доносился из тумана. Но олени шли ровно, белая ночь раздвигалась от ветра их бега, ледяной путь разматывался бесконечной лентой, и впереди вырезались из ночи туманные громады острова.
Сын Гостя крикнул:
— Земля! Йоры не провели того, кто задушил руками тигра, как собаку. И Кладбище Мамонтов открывает себя счастливым! Барда! Конец пути близок!
Олени приняли крик. Ветер резче забился в лица путников. Тогда издалека, как весенний гром, докатился нежный глухой ропот. Собаки взвыли. Сын Гостя погнал оленей. Грохот катился не быстро, но настигал неотвратимо.
Мать крикнула, как чайка, в высокое небо:
— Старый Никола, помогай нам! Много богов в небе, но ты старше всех] Помоги!
Сын Гостя засмеялся в ответ. Грохот где-то рушившегося пути догонял его, но впереди выдвигались туманные громады острова, и лед крепчал возле берега от предрассветного холодка.
— Йоры не догонят нас, — крикнул он матери, — йоры не успеют сломать пути, хотя бы они лопнули, надувая воду под льдом!
Олени дышали тяжело, заглушая хрипом гул поднимавшейся груди океана. Опасность гнала их вперед. Они вынеслись на берег с быстротою ветра и остановились, не дожидаясь крика якута, точно угадывая конец пути.
Сын Гостя соскочил с нарты и испустил торжествующий крик приветствия.
Ледяные горы, вздымаясь, как волны, гудели, потрясая воздух и насыщая туманом прозрачный рассвет. Сын Гостя ждал недолго, скрестив на груди спокойные руки. Ледяной покров рухнул утром. С острова взвились стонущие чайки и опустились на плещущиеся волны среди колыхавшихся льдин.
Тогда Сын Гостя велел ставить урасу на берегу, а сам отправился в глубь острова.
Оранжевое солнце, всползая за ледяными скалами, поднялось ему навстречу и разогнало утренний туман. Остроухие собаки выпугивали стаи птиц, не боявшихся человека. Собаки искали гнезда, и он вместе с ними выбирал яйца и пил их.
С зеркальных вод озера в розоватом тумане поднялись лебеди и тяжело опустились в густую поросль. Сын Гостя созвал собак и пошел, не останавливаясь более, прямо ка солнце, ища следов жилья и человека.
В полдень он вышел снова к морю и остановился в раздумьи. Собаки, искавшие гнезда, выпугнули взволнованный выводок гусей в крошечном озерце, наглухо поросшем зеленью, и, полаяв в воздух, вдруг заметались по чьим-то следам с веселым визгом и лаем.
Сын Гостя посмотрел на них с изумлением и позвал старого пса. Пес рвал зубами его одежду и звал за собой.
— Что ты нашел, старый пес? — потрепал его волчиную морду Сын Гостя и пошел спокойно за псом. — Йоры не обманут старого пса! Я пойду за твоим чутьем!
Он поднялся за собаками и вышел к реке.
„Реки вымывают кости мамонта, — подумал он, — и не добычу ли мертвого ищут мои псы?”
Собаки метались по берегу, волнуясь, потом решительно за старым псом переплыли поток. Сын Гостя звал их назад— они звали к себе, и в ответ на его угрожающий свист только поджали хвосты, не тронувшись с места.
Обжигаясь ледяною водою, Сын Гостя переплыл реку. Собаки лизнули его продрогшее тело и, не дав одеться, повели за собой. Он согрелся быстро, едва поспевая за ними. Собаки шли вдоль берега весело, не сбиваясь с пути и не ища следов.
„Следы столько же свежи, сколько знакомы, — подумал Сын Гостя и остановился, недоумевая. — Куда они ведут? ”
Старый пес юлил возле его ног и упрашивал идти без боязни. Сын Гостя кивнул головою, сказал коротко: „Ичугей” —и пошел без раздумья: он верил собакам не меньше, чем себе самому.
В сумерки река вывела их к озеру. Сын Гостя осматривал берега наспех, думая встретиться со следом тысячелетней могилы мамонта, но псы шли своей дорогою. Впереди над ложбиной крутился синий дымок. Сын Гостя созвал собак и заставил их идти молча.
В ложбине, поросшей свежим мохом, паслись олени. Юрта струила дым. Земляные стены ее были свежи, и плетеная из прутьев труба ещё не успела вычернеть от сажи и дыма. Тропинка вниз была хорошо утоптана, собаки рвались вперед с нетерпеливым ворчанием. Тогда Сын Гостя смело спустился вниз. Никто его не встретил. Он нагнул голову и вошел в юрту.
Бычьи пузыри, заменявшие стекла окон, пропускали еще достаточно света, чтобы упасть на лицо вошедшего, чтобы выделить черты его из сумрака юрты. Но и яркие языки пламени, лизавшие стены очага, были достаточны для того, чтобы Сын Гостя легко мог узнать наклонившееся над очагом бронзовое лицо Маи.
Она увидела брата и закрыла руками лицо.
— Кого ты боишься? — подошел к ней Сын Гостя и отнял с нежным упреком руки ее от лица. — Разве ты спишь, считая меня тенью твоего сна, а не живым человеком?
Она упала на колени, вскрикнув:
— Тени сна не убивают живых, а ты пришел исполнить закон мести, как твой отец!
Она распахнула грудь и сверкнула глазами.
— Убей меня, потому что я ушла своей охотой из твоего дома!
Сын Гостя поднял ее с земли с суровым презрением и ответил, глядя в ее лицо:
— Я не жил в те зимы, когда мамонты бродили по этому острову, который стал их кладбищем! Зачем же я стану исполнять законы тех, чья жизнь угасает, как языки пламени в твоем очаге, потому что ты не бросаешь в него дров!
Мая подняла на него глаза. Он вздохнул с порывистостью оленя, делающего конец пути, и крикнул, звонко протягивая руку сестре:
— Ты ли это, Мая, моя сестра? Разве не ты завязала в мешке нас, кто путался в твоих ногах, мешая твоему счастью, нас, как волчат в капкане, разве не ты завязала в мешке? Или ты веришь в законы, дряхлые, как тенета, висевшие в тайге бесплодно тысячи зим?
Мая прикрыла веками блеск глаз, точно пряча их от гнева брата.
— Что же ты испугалась теперь. — говорил он с жалостью и гневом, — или муж твой опутал тебя новыми тенетами, такими же дряхлыми, как наши законы, а ты не можешь их оборвать?
Мая подняла голову и ответила гордо:
— Замолчи, господин, потому что трусы и слабые не обнажают груди перед ножом, как сделала я, а прячутся в темные углы, подставляя врагам свои спины! Но разве могла я проникнуть в. твои мысли, спрятанные в твоих глазах под глубокими пещерами лба!
Сын Гостя отвернулся. Сумерки быстро ползли сквозь мутные пленки пузырей, заменявших стекла, но света было много для зорких глаз якута. Он кивнул головой Мае.
— Хорошо! Теперь мы знаем друг друга — пусть будет так. Скажи мне, кто русский в твоей юрте, потому что вот русская одежда лежит в углу, и где твой муж, и почему вы пришли на этот остров из полей тунгузов?
Тогда Мая заговорила торопливо, точно ветер помогал так быстро шевелиться ее губам:
— Когда наши собаки… На следах к нашему жилищу нашли клочья одежды отца… А мы нашли труп его, обглоданный волками… На наших следах. Андрей, брат мой, на наших следах…
Сын Гостя сжал голову и удержал свои губы от крика. Мая вскинула руки, защищаясь от его гнева, и они поднялись над заревцом очага, как розовые шеи вспугнутых лебедей.
— Говори! — приказал Сын Гостя тихо. Говори! Я не слышал еще о смерти больного оленя, загнанного глупым законом мести в ловушку смерти, но я видел ее в пламени очага, а потому говори!
Мая покорно опустила руки.
— Тогда, тогда мы бежали! Я сказала мужу, что нужно бежать, потому что ты будешь мстить за меня и отца, а гнев твой ужасен, и капля крови отца лежит на руках наших, потому что он шел по нашим следам! И мы бежали к устью Лены со скоростью ветра, мы пришли сюда, потому что| думали, что ты не уйдешь из полей томузов, пока не исполнишь кровавого закона!
Сын Гостя слушал, не перебивая. Ему было тяжко дышать, и он, отвернувшись к выходу, глотал сухими губами воздух. Мая умолкла. Тогда, подняв клятвенно руки вверх, Сын Гостя заговорил отрывисто и глухо:
Так суждено умирать якуту! В снежных просторах неосторожным грызут горла волки! Лютые холода нередко делают навсегда негодными для движения их ноги! Дряхлые законы гонят их в ловушку смерти. Тот, кто уберегся в тайге, сожжет себя в урасе огненной водой! | Если его не иссушит проказа, не убьет черная оспа, так сожрут язвы чужой болезни, принесенной гостями, которым они по обычаю посылают на ночь своих жен! О, Мая!
Сын Гостя скрипнул зубами. Перед пламенем очага и на багровых тенях заката, бившего в дверь, он был страшен. Мая закрыла покорно лицо.
Русские, зажигающие солнца в своих избах, строят якуту избы, дают машины, делающие хлеб, а он бежит от них в тайгу и льды, чтобы эти места стали называться Кладбищем Якутов. Я не хочу так жить, Мая!
Он умолк. Мая слышала затихавший хрип в его простуженной груди и подошла ближе.
- Не плачет волк, — выговорила она тихо, — над охотником, попавшим в собственные тенета, но бежит прочь, ища безопасное логовище.
Сын Гостя выпрямился и улыбнулся.
- Ты хорошо говоришь, и не тебе бы путать свою жизнь с кочующим тунгузом! Но продолжай твой рассказ!
— Он короток, — ответила Мая, — Мой муж знает воды Лены, как поля страны, в которой он вырос. Он провел каюки торговцев через Быковский рукав к острову и привел их на парусах к берегу. Здесь мы поставили юрту и ищем рога мамонтов!
Кто русский в твоей юрте?
Мая засмеялась.
Он не похож на тех русских, о которых говоришь ты. У него на глазах стекла, и он не ищет рога мамонта, но роется в земле для другой цели. Я не знаю ее.
Сын Гостя посмотрел в окна.
— Ночь удлиняет путь, а мне нужно спешить. Я пришел сюда за той же добычей, за которой пришли каюки. Когда у меня будет достаточно добычи, я приду говорить с хозяевами каюков о том, чтобы они везли ее в город, если я не смогу сам увезти на нартах все. Прощай и не думай о законах тех. чьи кости давно обглодали голодные волки.
Мая протянула к нему руки, загораживая путь.
Ты не пришел убить меня и моего мужа, так почему же ты не хочешь остаться гостем в этой юрте!?
Сын Гостя покачал головой.
— Я не искал тебя, и пути людей разные, потому что орел реет в воздухе, а кабан роет землю. Но мы еще не раз сойдемся с тобой на общей тропинке к каюкам.
Прощай!
Он повернулся и вышел. Мая проводила его до двери. Собаки юлили в ее ногах. Сын Гостя послал их вперед резким свистом, и они пошли, покорно поджав хвосты и насторожив уши.
Ночью Сын Гостя вернулся на берег. Ураса была раскинута на свежем оленьем мху. Зарево очага стояло светло над урасою, путая тени прозрачной ночи.
ГЛАВА ПЯТАЯ СИЛЬНЕЕ ВЕТРА И КРЕПЧЕ ЛЬДА
Много оранжевых солнц встало над Кладбищем Мамонтов в розовом тумане и опустилось за ледяной океанской скалою в сиреневой дали. Ледяные скалы там. на закате, просвечивали солнечными лучами, как-будто солнце катилось за ними, чтобы через два часа снова взмыть нал островом. Тысячелетние льды, уступая теплу горячих солнц и белых ночей, плавились с медленностью стали в раскаленной печи. Островные озера вылили потоки воды в океан бурными ручьями. В густой поросли их берегов длинношеие лебеди выводили в первое плавание желтых лебедят. Бурые лощины расцвели мохом, и море за островом очистилось от льда.
Сын Гостя прошел половину острова и вышел на север к океанскому берегу. Вместе с урасою, оленями, собаками и имуществом он перенес сюда шесть пар желтых, как зубы старого якута, бивней мамонта. Он обошел озера, ручьи и бурные потоки острова, обнажившие свои берега, ища по ним добычу. Иногда, найдя один крутой, как рог, и длинный, как два человеческих роста, едва подъемный для силы одного человека мамонтов бивень, он опускался в холодные стремительные потоки реки или покойные воды озера, отыскивая парный бивень. Он проводил здесь долгий день, скрипел зубами от холода и выплевывал кровь.
С ним бродили собаки. В поисках костей неведомых животных старый и умный пес, тоскуя от бессилия, учился охоте на мертвых. Иногда он нападал на след парного бивня или вынюхивал близость тысячелетней могилы и тогда выл, и метался, радуясь своей понятливости; иногда же только тоскливо следил за хозяином и глухо ворчал и выл, когда тот нырял на дно озера и показывался с пустыми руками.
Крутые склоны океанского берега были дики и бесплодны. Волны океана точили его, а набухшие водою ледяные скалы, промываемые волнами, оставляли свежие язвы в бурых берегах. Сползавшие с берега ручьи вымывали глубокие раны в глинистом теле земли, веками промерзшей до твердости железа.
Сын Гостя раскинул урасу на берегу и перечел бивни. Ваненок считал тридцать пар лебяжьих шкурок и смотрел с презрением на желтые крепкие кости, охраняемые псом.
Сын Гостя сказал, одеваясь в путь:
Русские знают цену вещам, а якут отдает три шкуры голубого песца за один медный чайник, потому что он ему нужен. Русский берет шкуры, которые ему не нужны, и получает за них два десятка чайников! Русские хитры, но у якута не отнял никто разум!
— Дорога та вещь, которая мне нужна сейчас, — ответил Ваненок. — Якут думает так и потребует избу за шкуру лисицы, когда ему нужна изба!
— И он не получит! — сурово оборвал его Сын Гостя и прибавил: Пусть мать разводит огонь! Льды ушли на дно океана, потому что зима близко! А я не прошел еще другой половины острова!
В первую стоянку на северном берегу Сын Гостя ушел перед рассветом. Белая ночь светло тлела над миром, и туман подымался отовсюду. Лаская старого пса, Сын Гостя шел тихо, опираясь на деревянный кол, заменявший ему лом и лопату в охоте на мертвые кости. Пес скулил жалобно, вынюхивая землю, за ним подвывая плелись собаки.
Сын Гостя спустился на дно ложбины, вымытой ручьем. Там в белых сумраках ночи что-то возилось, хрипя и ворча. Псы круглыми шарами скатились вниз. Сын Гостя спустился к ним и узнал одну из своих молодых собак, исчезнувшую с утра. Пес рвал из земли, едва оттаявшей на четверть, куски мяса и шерсти. Он хрипел и стонал, напрасно стараясь выволочить из земли находку.
Сын Гостя отогнал собак и стал копать землю.
Под разорванными клочьями шерсти виднелось темнокрасное мясо. Оно было твердо, как камень, но оттаивало под зубами пса и ползло на длинные волокна, как вяленое.
Сын Гостя поднялся с изумлением и крикнул на рвавшихся к добыче псов.
”Кого погребли здесь океанские льды? — подумал он, страшась земли и могилы. — Льды живут тысячи лет, и они помнят молодость земли, но ручьи вымывают иногда и то, что хранят ее недра! Посмотрим в сердце земли! ”
Он поднял кол и стал рубить землю. Оттаявшая сверху, она снималась легко, но далее мерзлый ее слой был крепок, как камень, и рубился, как лед, на мелкие куски, брызжа в глаза и рот. Сын Гостя рубил и снимал комья земли, отрывая вместе с ними длинную серую шерсть с красноватым подшерстком и черными волосами. Он рыл с жадностью и спешкой охотника. Он с каждым ударом в глубь открывал всё большую часть животного и с каждым ударом подходил к мысли, заставлявшей его рубить землю с торопливостью человека, напавшего на золотую жилу.
Солнце выползло узким краешком из-за ледяных скал, синевших в дали океана, и просветило их насквозь. Свет утра бежал по океану с быстротой облачной тени. Тогда Сын Гостя остановил работу. При свете утра он узнал под снятым слоем земли страшную по своей громадности ногу животного и поднял руки навстречу восходящему солнцу с торжествующим ревом:
— О, если я нашел зверя, чьи рога составляют цель моей охоты! Дорого же мне дадут русские за целую тушу, если так много стоят одни рога!
Он сделал несколько шагов по тому, что напоминало собой ногу животного, вверх и тогда пошел под углом, ища сквозь землю голову, которой должны были принадлежать бивни. Он прошел шесть шагов, снял слой оттаявшей земли и увидел под ним тот же черный волос и рыжий подшерсток. Он прибавил два шага и, отрыв, увидел волосы, похожие на гриву коня. Он стал рыть через каждый шаг и только на двенадцатом шагу нашел, что туловище животного кончилось.
Тогда с неумною жадностью охотника он, задыхаясь от усталости и напряжения, стал копать дальше. Он бил каменную землю своим колом без устали и наконец увидел знакомую желтую кость бивня. Он вздохнул с легкой радостью и сел на землю. Пробные ямки, которыми он прощупывал величину и форму животного, оттаивали на солнце, и собаки рылись в них, добираясь до мяса.
Сын Гостя созвал их к себе и тогда он увидел, что они ели мертвого, оттаивая во рту мясо с клочьями шерсти. Он убрал собак от трупа и подумал о том, что для одного человека работа была непосильна.
Он свистнул собак и ушел.
— Пусть достают его из земли те, кому он нужен, — сказал он, собирая псов, — мне было бы под силу выкопать одни рога!
Ваненок встретил брата и с сожалением посмотрел на его пустые руки. Сын Гостя засмеялся, угадав его взгляд:
— Я нашел добычу, стоящую десяти пар рогов мамонта, потому что я нашел того, кто носил эти рога!
Он положил руку на плечо Ваненка.
— Теперь ты возьми старого пса, пойди в глубину острова, так, чтобы солнце грело твою спину. У большого ручья пес укажет тебе следы Маи. Или по ним, и ты придешь в юрту, где живут те, кто ищет рога мамонта! Вели им прийти сюда, если они хотят обменять на товары целого мамонта, которого лед сохранил таким, каким он был в день своей гибели! Ступай! Я буду сторожить добычу и отрывать ее для купцов.
Ваненок поклонился и ушел.
Сын Гостя стоял до следующего солнца на страже у тысячелетней могилы. Он рубил землю своим колом и снял слой с ноги и ляжки животного. Он с усмешкой вырезал кусок и жевал долго с трудом оттаивавшее во рту мясо. Оно было похоже на вареное, но хранило свежесть вчерашнего дня. Волокна его расползались, и Сын Гостя выплюнул все изо рта со смехом.
— Лед крепок, как железо, — сказал он, — лед переживает тысячелетия, но и он умирает от летнего солнца, как от тепла дыхания человека! Но ветер закроет тучами солнце, и оно погаснет, как жизнь этого животного во льду!
Он посмотрел на серую шерсть, обнаружившуюся под слоем земли, с сожалением и протянул гордо руки вперед.
— И только мой путь не остановил лед и ветер, потому что хитрость и воля якута сильнее их!
Сын Гостя сложил на груди руки и. глядя в лицо восходящего солнца, ждал возвращения брата.
ГЛАВА ШЕСТАЯ ЧЕЛОВЕК СО СТЕКЛАМИ НА ГЛАЗАХ
В полдень Ваненок вернулся. С ним пришел человек в очках, худой и высокий. Он пожал руки всех якутов, вышедших встретить его у порога урасы, и произнес приветствие на якутском языке.
Сын Гостя ввел его в урасу и кормил мясом, яйцами птиц и вяленой рыбой. Только когда угощение было кончено, он сказал гордо:
Я посылал сказать, что нашел мамонта.
Человек в очках обрадованно кивнул головой.
— Я пришел видеть его. Ну, да я то уж знал, что здесь можно найти мамонта!
Сын Гостя поднялся с недоверчивой улыбкой.
Как мог ты знать это? Разве стекла на твоих глазах позволяют тебе видеть сквозь землю? Но видят они все-таки плохо, если ты позволил мне откопать животное, хотя сам знал, где его искать!
Человек посмотрел на него в очки и поверх их с удивлением и смехом.
Ты очень умен, Андрей! Действительно, что стекла позволяют видеть сквозь землю, но так плохо, что я только знал, а ты нашел!
Он высмеялся, потом прибавил серьезно:
— Видят в земле не стекла, но знания! А тот, кто много учится, теряет зрение и вынужден носить очки…
— Так, — медленно проговорил Сын Гостя, — так! Я видел людей, носивших стекла на глазах, но им стекла мешали видеть.
— И это бывает! — усмехнулся человек в очках и протер свои стекла с лукавой усмешкой. — Но не поведешь ли ты меня к месту находки теперь?!
Сын Гостя опустил голову, потом спросил тихо:
— Что же предлагают твои 'купцы за тушу животного с двумя рогами, имеющую двенадцать шагов длины?
— Ничего! — ответил грустно человек в очках. — Им не нужно мороженое мясо, а я не купец. Но если ты отдашь мне животное, поможешь мне откопать его и погрузить в каюк, который подведут к этому берегу, я сделаю, что могу. Я отвезу мамонта туда, где ему знают цену! Что бы ты хотел?
Сын Гостя имел лицо белее якутских, но в нем жила легкомысленная душа якута, и он сказал твердо:
— Русскую избу с русской печью и кусок земли на Алдане с машиной, которая растит хлеб из земли!
Человек в очках кивнул головою.
— Ты торгуешься так же, как якуты. Ты предлагаешь все, что у тебя есть, и требуешь все, что тебе нужно. Но на этот раз, кажется, мы сторгуемся: в Якутске есть комиссия, которая даже бесплатно делает все, чтобы поселить вас на земле для земледелия. Я сделаю все, что ты хочешь.
Сын Гостя встал.
— Тогда пойдем! Иди и бери того, чьим кладбищем называют этот острой и кого сохранила для моего счастья ледяная земля!
Человек в очках протянул руку, и Сын Гостя пожал ее. Красные угасающие языки пламени в очаге сверкнули на стеклах очков, и глаза за ними показались действительно видящими сквозь землю.
Сын Гостя проводил человека в очках с почтением. Они вышли вместе, и собаки завыли, срываясь с привязи, но хозяин не взял их. Когда вой их перестал мешать слушать, он сказал:
— Я держу их на привязи, чтобы они не съели животного!
— Они могут есть? — откликнулся человек в очках с необычайной живостью. — Они ели?
— Я пробовал сам вкус его мяса, и оно не понравилось мне, — ответил Сын Гостя, — но собаки ели.
Тогда человек, сверкая стеклами своих очков, стал спрашивать, задыхаясь от волнения, черна ли шерсть мамонта, и рыжеват ли подшерсток, велики ли бивни и не нашлось ли остатков пищи в его зубах. Сын Гостя остановил его вопросы изумленной улыбкой:
— Ты говоришь так. как-будто уже видел его? Откуда ты можешь знать шерсть зверя? Или ты жил вместе с ними?
— Когда ты вернешься на родину и будешь жить по-новому, ты узнаешь, что такое наука, и тогда будешь знать многое! Не мы первые находим в этих льдах мамонтов, но мы первые сумеем отсюда его увезти! Если он хорошо заморожен!
— Он тверд, как железо, и крепок, как лед! — ответил Сын Гостя и усмехнулся, но лед крепок, пока нет солнца, а солнце горячо, пока ветер не закроет его тучами!
Человек в очках, должно быть, знал хорошо якутскую речь, где тайная мысль вьется тонкой извивающейся нитью между нагромождением образов и шуток. Он посмотрел на своего спутника внимательно и ответил твердо:
— Тот, кто, как ты, сделал путь в две зимы от Алдана до Кладбища Мамонтов, должен хорошо бы знать, что человека, идущего по своему пути, не могут задержать ветер, солнце и лед!
Сын Гостя кивнул головою и замолчал. Тогда они подошли к взрытой земле, где виднелись шерсть и вздутые бугры живота огромного животного.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ СЫН ГОСТЯ ПРОДОЛЖАЕТ ПУТЬ
Еще десять солнц встало за ледяной скалою и столько же их упало невдалеке в розовую океанскую даль. Белые ночи налились сумеречными тенями, и розовые детеныши лебедей пробовали первые размахи своих крыльев.
Огромная туша мамонта вышла из-под земли. Муж Маи, молчаливый тунгуз с зоркими глазами, привел осторожно парусный каюк к океанскому берегу. Туда грузили мамонта, распиленного на части, как камни.
Человек в очках подбирал клочья шерсти и спрятал между двумя листами бумаги остатки травы, найденной во рту мамонта. Сын Гостя смотрел на человека в очках с изумлением. Возвратившись с каюка за новым куском животного, он сказал ему:
— Стекла делают твои глаза зоркими, как у орла, но в ушах твоих нет стекол, а я слышу приближение бури. Пусть каюк уходит сейчас же за остров, подальше от берега океана! Океан прибьет к острову ледяные скалы, и они изрежут в куски твой каюк легче, чем мы резали на части мертвое животное!
Человек в очках кивнул головою, но сказал просящим голосом:
— Хорошо, хорошо! Но надо догрузить, потому что он тает! Мы успеем увести каюк!
Он нагнулся к земле и тер ее в ладонях, потом пробовал на вкус. Сын Гостя посмотрел на него, как на ребенка, и ничего не сказал.
Последнею грузили голову мамонта. Ее нести четыре человека, и они гнулись под тяжестью. Крутой, как рог,
бивень лежал на плече Сына Гостя, длинная грива шеи мамонта путалась в его ногах. Человек в очках поддерживал ее и говорил, сияя восторгом сквозь блестящие стекла:
— Весь мир будет знать о нашей находке и о тебе. Сын Гостя! Много людей со всех концов мира заедут в город твоей страны, чтобы видеть мамонта и изучать каждый клочок его шерсти! Он приносит нам вести из эпохи межледниковья. он позволяет нам видеть назад за тысячи лет! Сын Гостя, ты получишь избу и хозяйство!
Сын Гостя покачал головою и посмотрел в сиреневую даль океана.
— Смотри, вот надвигаются сумерки и с ними буря! Торопи тунгузов увести каюк!
В сумерки тунгузы повели каюк. Ветер был слаб, паруса висели, и каюк едва двигался вблизи берега. Человек в очках дал Сыну Гостя бумагу, которая указывала к нему путь, как звезды вели Сына Гостя к его цели. Сын Гостя взял бумагу, сложил ее бережно и спрятал на груди. Он долго глядел вслед человеку, шедшему по берегу за каюком, и кивал головою, думая о своем.
Ночью же взвыл океанский ветер. Сын Гостя проснулся от ветра и холода. Он вышел на берег и смотрел в непроглядную тьму, хлеставшую в лицо хлопьями дождя и бури. Он думал о каюке и человеке в очках. Он видел, как ледяные скалы настигали каюк, прижавшийся к берегу. Он видел метавшегося по берегу человека с мокрыми стеклами, который просил и приказывал, а тунгузы спокойно глядели на него.
— Йоры не любят, когда люди мешают их играм! Проси их, чтобы они пронесли мимо льды!
Йоры продолжали играть океанскими волнами, и Сын Гостя в непроглядной тьме, как в пламени огня, видел, как деревянное судно еще держалось на воде, покачиваясь и опрокидываясь, как льды надвигались, и первая же льдина легко разрезала его на куски.
Льдина всползла на берег, а щепки каюка исчезли под водою.
Сын Гостя закрыл руками лицо и ушел с берега. Ветер и дождь путали ему ноги. Белая ночь была темна. Рассвет же долго ползал в тумане, отыскивая солнце.
Утрой Сын Гостя пошел берегом по следам человека в очках. Он только к вечеру вышел на морской берег острова и нигде не нашел зоркими глазами следов каюка. Он шел берегом, ища тропинки от стоянки каюков к юрте сестры, и еще издалека увидел на ней съежившуюся фигуру Маи. Она стонала, как чайка, покорно глядя в серую степь воды, отрезавшей остров от материка.
Сын Гостя остановился над нею.
— Почему ты не в юрте и отчего ты стонешь здесь, надрывая мне душу?
Она подняла голову и сказала тихо:
— Мой муж увел каюки, спасая их от бури и льда. И я боюсь, что с ними случится то же, что случилось с тем, который грузили вы мясом дохлого мамонта!
— Откуда ты знаешь. — крикнул Сын Гостя, что стало с ним?
Человек со стеклами на глазах вернулся ночью!
Тогда последняя надежда исчезла, как солнце за тучей. Сын Гостя застонал и поднял руки, обнимая ими голову. Через минуту он опустил их со стоном, и тогда Мая увидела в судорожно сжатых пальцах его черные нити его собственных волос. Она упала лицом на его руки, но он тихо отнял их и спросил резко:
— Что же делает человек со стеклами на глазах?
— Он потерял свои стекла на берегу. Его глаза были мне видны, и я видела, что на них были слезы. Он плачет.
Сын Гостя развернул свою грудь из одежды и ударил по ней.
— Он плачет! Я не плачу, хотя я потерял все, что хотел иметь, а он потерял только мясо падали, негодной в пищу и собакам!
Он отвернулся от сестры и подставил свою голую грудь солнцу и клочьям морской свежести.
— Пусть лед умирает от солнца! Ветер может погасить его свет тучами! Но и все вместе они не остановят меня на моем пути!
Он засмеялся, раскрывая широкий рот, глотая воздух и влажную свежесть моря.
— У меня есть шесть пар рогов мамонта, и еще столько солнц впереди, сколько нужно для того, чтобы пройти весь остров! Мая, я продолжаю свой путь!
Сын Гостя высоко поднял голову и пошел — прочь, не закрывая груди, жаждавшей борьбы и бури.
ВЕЧЕР ЧЕТВЕРТЫЙ или ПОВЕСТЬ ЛОЦМАНА О ЧЕРНЫХ ПЕСКАХ
ГЛАВА ПЕРВАЯ БЕГСТВО
Отец лежал на кошме, вниз лицом, с обнаженной спиною. Над ним, засучив рукава, поджав под себя ноги, сидел Кениссора. Полы его халата, желтого, как цветы асафетиды, стлались по полу, мешая движениям. Он тихонько вращал лучинку, в которой была защемлена головка ришты, и таким образом извлекал ее из-под воспаленной кожи. Круглое, скользкое тело паразита, похожее на огромного дождевого червя, накручивалось на лучинку. Оно выходило из спины отца бесконечною лентой в красную щелку, с гноящимися краями, откуда вчера показалось головкой.
Раим сидел на ковре в углу и смотрел, глотая слюну, выбегавшую в рот от отвращения и любопытства.
Отец впился пальцами в кошму, сказал глухо:
— Кончай, Кениссора! Караван не будет нас ждать!
Кениссора вздохнул.
— Если я оборву ришту, не вытянув до конца, ты умрешь Киртар!
— А если мы не уйдем до вечера, нас всех перережут «басмачи!
— Я тороплюсь, Киртар!
— О! Сколько же длины в этой гадине?
— Ты счастливее других, твоя ришта не очень велика. Но мне приходилось вытягивать ришту до восьми шагов в длину!
Отец только застонал. Тогда Раим, расклеив рот, спросил тихо:
— Отчего у одних она есть, а у других нет?
Кениссора взглянул на него с любопытством и, продолжая медленно вращать лучинку, ответил:
— Русские мудрецы говорят: не пейте сырой воды из ваших арыков, потому что там маленькие невидимые яички ришты. Если их проглотить, они уходят под кожу и тут растут до тех пор, пока не высунут головки наружу.
Раим вздрогнул, чувствуя боль в коже, которая трескается над головой животного. Кениссора прибавил:
— Я думаю, что это правда. Я никогда не видал ришты у тех, кто имеет свежую воду, не гниющую, как наша, в канавах, орошающих поля.
— Раим, — крикнул отец, — иди же, взгляни, что делается в караване и где Алла с матерью?
Раим встал и покорно вышел. Кениссора шепнул отцу, но так, что Раим слышал:
— Хороший сын твой Раим. Он любит узнавать, а нынче велик тот, кто много знает!
Раим вышел из кибитки и быстро обежал поселок. Полуразрушенные сакли пустели. Ворота в дворах, обнесенных высокими глинобитными стенами, похожими на крепостцы, были не заперты. Кое-где за ними навьючивали последние арбы, чтобы примкнуть к каравану. Седой текинец, каравановожатый, опираясь на длинную палку — символ его власти над караваном, спокойно ждал под тенью цветущей туты.
Он заметил Раима.
— Что твой отец?
— Мы будем готовы вовремя, — ответил мальчик, — я ищу мать.
— Они грузятся в арбы Сурафа.
Раим добежал до сакли Сурафа. Алла отцепилась от юбки матери и вернулась с ним к отцу.
— Разбойники совсем близко! — шепнула она.
Они вошли в кибитку и увидели отца одетым. Кениссора стоял у очага и спокойно сжигал лучинку. Отгоревший клубок скрученного животного упал на угли. «
Глаза Аллы выросли до размеров поспевшей вишни. В черных зрачках их отразился ужас. Она отвернулась. Кениссора спокойно отошел от очага.
— Раим, что там? — спросил отец, кивая на дверь.
Верблюды готовы, — ответила Алла, — текинец сказал: в сумерки караван тронется в путь.
Кениссора запахнул полы халата.
— Сумерки близко. До свидания, Киртар, — заметил он, — я ухожу. Мы будем в хвосте каравана, и я подвяжу своих верблюдов к твоим.
— Спасибо, Кениссора!
Он вышел. Отец оглядел кибитку: как-будто бы все было собрано, уложено, вынесено. Ружье одиноко торчало в углу. Кучи ненужного хлама должны были остаться. Киртар с тоскою махнул рукой. Алла хозяйственно скрутила кошму валиком и, перекинув ее через плечо, вышла за ним.
Раим остался у очага. Сырой клубок жарился на заглохающих под ним углях. Еще раз вздрогнув от отвращения, Раим отвернулся и пошел из кибитки.
Знойные сумерки опускались на сакли с неожиданной быстротою. Огромное раскаленное солнце умирало где-то в плоской равнине незасеянных полей из-под джугары. Вместе с сумеречными тенями, набегал из степи холодок. Бараньи тулупы в провизжавшей за саклей арбе лежали наверху.
В песках будет холодно», — подумал Раим и с гордостью крикнул мчавшейся обратно сестре: —Алла, ты знаешь, куда мы бежим?
— Туда, туда, туда! — быстро замахала она коричневой от загара ручонкой, указывая на поля джугары. — За них, за кладбище…
— В Кара-Кум[4], — гордо ответил он. — Потом в Персию, может быть!
— Далеко?
— О, дальше, чем ты думаешь, Алла!
Он был старше ее на три года, и она смотрела на него как на взрослого. Он должен был знать все, и она должна была ему верить. Она поверила и в тихом, покорном испуге сложила руки на груди.
— Раим, тебе страшно?
Он презрительно покачал головой. Она оглянулась кругом.
— В черных песках не будет арбузов и дынь и там нет даже персиков и миндаля! Даже груш! И мы будем есть только лепешки и овечий сыр! Раны, я все знаю, потому что я слышала, что говорят у Сурафа…
Слезы блеснули на ее глазах.
— Я умру там, Раим!
Раим рассмеялся. Он гордо оправил подвязанный к поясу кинжал и сказал:
— Не говори глупых слов, Алла, и ничего не бойся со мной.
Мать показалась в калитке.
— Алла, торопись. В арбы впрягают лошадей!
Раим оглядел двор: как-будто здесь все было давно прибрано. Но Алла и мать находили все новые и новые вещи. Их нужно было прятать, зарывая в землю, или носить во двор Сурафа, грузить в скрипучие арбы или привьючивать к бокам верблюдов.
Раим помогал матери и сестре.
Кишлак[5] сотни лет здесь в глуши Туркестана создававший поля, прорывавший арыки для их орошения, насаждавший сады и виноградники, теперь в один день ломал свою жизнь. Те самые руки его обитателей, которые возделывали поля, теперь оставляли их на произвол зноя и саранчи. И те же руки, что ткали ковры, теперь срывали их со стек жилищ и бросали на арбы или зарывали в погреба.
То, что создавалось годами, разрушалось в одни час.
ГЛАВА ВТОРАЯ В ПЕСКАХ КАРА-КУМА
В сумерки все было кончено: домашний скарб был припрятан, арбы погружены, верблюды навьючены, всадники вооружены. Седой текинец взгромоздился на маленького ослика, так что босые ноги его почти доставали до земли. К его седлу привязали первого верблюда, к этому — второго, и так до конца в длинную цепь. Караван был готов. Текинец дал знак своей палкой и больше уже не оглядывался назад.
Навьюченный на верблюдов, погруженный в арбы поселок тронулся в путь. Мужчины были угрюмы. Женщины всхлипывали. Дети смеялись.
Раим сидел впереди Кениссоры на его верблюде и смотрел восхищенно вперед. Медленной, важной поступью, как муллы, идущие на молитву, шли друг за другом верблюды. Весь поезд, похожий на тело огромного животного, то взбираясь на песчаные бугры, то пропадая головой или хвостом в котловине, то вытягиваясь стрелою, то извиваясь таинственной тропой, мерно подвигался вперед.
Оазис, занятый поселком и его полями, скоро кончился. Караван вдруг очутился в пустыне. Раим напрасно смотрел вперед. Ни ночью, ни на рассвете, покрывшем бронзовыми тенями песчаную пустыню, не увидел он ни малейшего следа пути, по которому текинец вел за собой караван. Не было впереди дороги, не оставлял караван и сзади себя протоптанной верблюдами тропы: тотчас же зыбкая почва глотала следы и нечувствуемый ветерок, похожий на теплое дыхание пустыни, заметал их неясные тени.
— Он знает дорогу? — тихонько толкнул Раим своего покровителя, дремавшего за его спиной.
Кениссора усмехнулся.
— Не бойся, он не собьется с пути! Верблюды помогают ему, они держат путь на ближайшую воду!
Ночь Раим продремал на верблюде. Днем был короткий привал в мертвой пустыне у огромного кирпичного купола, одиноко маячившего в песках. В этот купол, со стороны, откуда реже всего дуют ветры, в небольшое отверстие входили друг за другом все беглецы, чтобы забрать волы для верблюдов в свои опустевшие сосуды.
Раим обежал водохранилище. Кениссора смотрел на него с улыбкой.
— Кто это строил? — допрашивал мальчик.
— Тамерлан! — важно ответил Кениссора.
— Что это такое?
— Кудук. Водохранилище для караванов.
— Зачем на нем колпак?
— Чтобы не испарялась вода, чтобы не заносили пески колодца! — отвечал Кениссора.
Отдых продолжался недолго. Лишь только косые лучи расплавленного солнца перестали палить с непереносимою силою, караван' двинулся дальше. В эти дни ранней весны пески Кара-Кума еще были живы. Серыми камнями лежали, греясь на солнце, угрюмые черепахи. На глинистых впадинах, ещё хранивших в себе влагу стаявшего снега, в несожженном еще саксауле, торчали иногда головы аистов. На пригорках, не трогаясь с места при приближении каравана, сидели орлы; на фоне безбрежной пустыни они казались огромными.
И часто на голой полянке среди заглохших корней саксаула, крепких, как железо, высились хорошенькие деревца ассафетиды, испускавшей из своих желто-зеленых цветов одуряющий, тошнотворный запах, гнавший от них все живое.
Вечером каравановожатый дал знак к большому привалу в крошечном оазисе у развалин какой-то опустевшей деревушки. Вокруг нее среди запущенных полей, среди загрязненных канав, орошавших их когда-то, торчали глиняные башенки, узкие и высокие.
— Сторожевые столбы! — ткнул на них пальцем Кениссора и поправил оружие за поясом. — Здесь хорошо береглись от разбойников!
Мальчик посмотрел на него с удивлением. Он усмехнулся, потом вздохнул:
— И все-таки не убереглись. Пришлось уйти!
— Зачем?
— Басмачи заставили их уйти. Наш вожатый хорошо знает путь да плохо выбирает ночлег! Ну, сходи, Раим!
Караван остановился и вдруг рассыпался. Развалины оживились. Темно-вишневые халаты мужчин, высокие колпаки на головах женщин и малиновые шарфы на их шеях расцветили горячий воздух. Рев верблюдов, крики детей, ворчание голодных собак, сопровождавших хозяев, звон посуды — все это наполнило гулом разрушенные сакли, развалившиеся стены дворов.
Уже веселые огни костров струили к небу ровные столбики дыма, охваченные у основания клочьями светлого пламени. Верблюды, кони, собаки и люди разместились в камнях развалин. На сторожевых башенках мелькнули винтовки караульных. Возле них, по окраинам полей каменными изваяниями застыли мрачные фигуры собак, стороживших покой каравана.
Потом все стихло.
Отец ушел с ружьем в караульную стражу. Дети остались в сакле. Раим лежал на полу, на кошмах, под бараньим тулупом. Алла уснула, едва дотронувшись до постели. Но Раим еще смотрел в огромную дыру на потолке сакли, считая звезды, и слушал, как за саклею потрескивали последние угли костра и седой текинец говорил тихо:
— Мы все здесь — и туркмены, и текинцы, и киргизы — разбойный народ. Одни только сарты завели на базарах палатки и наживают золото. А на нас старики радовались, когда мы возвращались с набегов. Я сам атаманствовал долго, оттого и знаю Черные Пески, как свою ладонь.
В молодости и я был сардаром…
Он вздохнул и такими же сочувственными вздохами ответили ему слушатели.
— И раз мы отправились поживиться в персидский поселок. Только персы нас встретили ружейным огнем — кто-то нас предал! Я сам очутился в плену, был посажен на цепь и просидел на цепи три года, в вонючей яме — ночью, а днем — во дворе, рядом с собакой! Три года!
— Как ты ушел?
— Меня выкупил родственник. Он обменял меня на пленного перса. Я отработал ему за это сто двадцать туманов…
А перс стоил всего лишь двадцать!
Старик усмехнулся.
— Но я скоро расплатился за свой выкуп!
Он замолчал и кто-то, должно быть, Сураф, отозвался из тишины:
— Дехкане никогда не любили русского царя и царской стражи, наполнявшей все щели Туркестана, но тогда мы могли жить покойнее и разводить скотину, сеять джугару, кукурузу и рис, а сейчас мы должны скитаться или уходить в Афганистан. Зачем новая русская власть не выметет из Кара-Кума басмачей?
— Ты лучше скажи, что им нужно, этим басмачам?
— Они не могут не разбойничать, как дехкан не может не сеять джугары!
— Особенно когда им платят за это. О, Туркестан — лакомый кусок.
— Разве персы недовольны своей страной?
— Глазами персов глядят англичане…
Над Раимом в отверстие разрушенного потолка все звезды сияли глазами страшных персов, англичан и басмачей. Он торопливо закрылся с головою тулупом и сжался в комок. Черный страх заползал под овчины, и мальчик дрожал, тоскуя от невозможности забиться в камни, в землю, в песок, чтобы спрятаться от разбойничьих рук.
Голоса за стеной стали неслышными. Звезды не волновали больше. Раим погрузился в сон, как в теплые волны реки, и заснул с необычайной легкостью, как-будто бы не было ни басмачей, ни песчаной пустыни, где оживало ночью зверье.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ ЗАБЫТЫЕ
Словно во сне, глубокою ночью слышал он тревожный лай сторожащих собак, потом сдавленную тревогу, шум поднимающегося каравана, даже глухие выстрелы в след громыхающим арбам.
Но он только плотнее прикрылся тулупом и не открыл глаз.
И он не видел, как, подгоняемый животным страхом, вырастающим в предрассветные часы бессонной ночи из легкой тревоги в призрак бездонной опасности, караван умчался в пустыню, забыв о детях, бросая запасы пищи и добра.
Когда мальчик проснулся, теплое дыхание пустыни затянуло свежим песком самое воспоминание о караване.
Раим проснулся от страшной тишины, стоявшей в развалинах, шуршавшей песчаными вздохами за стеной. Алла сидела на кошме и молчала. Глаза ее были раскрыты, но пусты, как безоблачное небо над головами в дыре каменного потолка. Она слушала тишину.
Раим встал. Прежде чем они могли обменяться словом или взглядом, он выбежал из сакли, как из ловушки, и застыл на пороге. Развалины были недвижны. Столетние глинобитные стены, залитые беспечальным солнцем, как выкованные из меди, отразили звенящим эхом его вздох.
Песчаные вихорьки крутились по мертвым улицам и дворам, разметая пепел остывших костров.
Алла вцепилась до боли сильно в руку брата.
— Раим, где они?
Тогда он вспомнил ночной шум. Он вздрогнул, не понимая: снился ли ему шум уходящего каравана или снится Алла, висящая на его руке. Однако боль была слишком сильна от вцепившихся ее ногтей. Он вырвал руку и закрыл лицо, чтобы она не видела его слез.
— Раим, они ушли?
Он молчал, но острые плечи его под легкой тканью халатика вздрагивали и торчали, как осколки разбитой песчаным ураганом каменной башни.
— Раим, разве, они забыли о нас?
Он сидел на полу, и голова его, кивая, опускалась все ниже и ниже.
— Они вернутся за нами, вернутся, Раим!
Алла упала на его плечи, и тогда, точно заражая друг друга слезами, тоской и отчаянием, они завыли высокими и тонкими голосами, терявшими детскую наивность и чистоту.
И вдруг откуда-то из песчаной тишины, раскаленной подымавшимся над головами солнцем, откуда-то из брошенных полей джугары, донесся до них ответный протяжный и радостный вой.
Раим вскочил, сбросив с плеч своих девочку.
— Алла, они не ушли! Алла! здесь собаки!
Он бросился бежать, прислушиваясь. Алла помчалась за ним. ломая ручонки:
— О, Раим, не брось меня!
Он подождал ее. Они пошли рядом, окликая собаку. В ответ доносилось рычание, стенание и лай. Задыхаясь, они выбрались из развалин к полям, где торчали сторожевые столбы. Тогда за одним из них метнулся туркменский огромный пес. Алла узнала его.
— Это собака Сурафа!
— Почему он не бежит к нам навстречу?
Раим свистнул. Пес отозвался тоскливым воем, но не тронулся с места. Дети подошли к нему: он был привязан и так же забыт, как они. Раим пересек кинжалом веревку, и собака, благодарно лизнув его руку, с тоскою заметалась по полю, отыскивая следы.
Раим и Алла спешили за ним. Но, тычась в бесплодной тоске по струившимся дымками пескам на краю оазиса, за канавами заброшенных полей, пес сам то-и-дело оглядывался на детей, требуя от них поддержки.
— Ищи, Крас! кричал Раим. — Ищи, ленивый пес! Куда они ушли?
Ветер разметал за ночь и тени следов. Раим опустил голову и пошел назад. Алла кричала, лаская густую шерсть взволнованной собаки.
— Отец вернется за нами, Раим! Отец вернется за нами!
— Оттуда?
Раим посмотрел в желтую пустыню: пески — как гладкая шкура животного; складки их, развеваемые ветром, выпрямились и где-то недалеко снова набегали, то возвышаясь до холмов, то выветриваясь в гладкую, как каменный потолок сакли, равнину.
— Оттуда вернутся?
— А как же, Раим?
— Ты глупая, Алла! — сказал он тихо. —Текинец не поведет назад каравана, чтобы взять нас с тобой и погубить всех. И один отец не найдет сюда пути. Да и кто знает, много ли осталось в живых наших. Разве ты не слышала ночью выстрелов?
— Нет.
— Я хочу есть и пить, — неожиданно сказал он, — пойдем назад…
И тотчас же, еще не самый голод, но лишь страх его, одна мысль о нем сжали маленькое сердце в груди Раима.
Они молча вернулись в саклю. Запасы были нетронуты. Лепешки, зерно, овечий сыр и катык лежали в сакле под войлоками. Раим откинул войлок, и Алла всплеснула руками. Старый, умный пес ласково ткнулся влажным носом в мешки. Раим с сожалением бросил ему кусок сыра и лепешку, и тот их мгновенно проглотил. »
И это было страшно, как мысль о том, что будет завтра.
Раим выгнал собаку. Она сторожила покой сакли. И за огромной тенью волкодава, лежавшей на пороге, Алла без страха впилась зубами в кусок сыра.
Раим говорил, бережливо ломая хлеб:
— Караван не вернется за нами, Алла. Мы будем ждать здесь других. Но когда они придут?
— А разбойники? — вздрогнула девочка.
— Мы будем прятаться в стенах, в канавах. Крас будет сторожить нас. -
— Он все съест у нас, Раим!
Раим молчал. Но скоро, как-будто ей в ответ тень пса исчезла с быстротой ветра. Он вернулся с коротким лаем и тут же на пороге улегся с добычей в зубах. Алла бросилась к нему, но розовоухая мышь уже исчезла в огромной пасти собаки.
— Он прокормит сам себя! — рассмеялся Раим.
И он не ошибся: пес не трогал уже более запасов из мешка, но, лежа на солнце, как изваяние, сторожа покой маленьких хозяев, с кошачьей ловкостью ловил мелкое зверье.
Утоленный голод дает ощущение силы. Алла собрала с платья крошки хлеба и, взяв их с ладони губами, сказала просто.
— Раим, разве мы не уйдем отсюда?
— Куда?
— Куда-нибудь, все равно. Где есть люди!
— Ты знаешь дорогу?
— Мы найдем!
— Мы ничего не найдем, — угрюмо отвернулся он, — нас сожжет солнце в пустыне, и как только мы ляжем на ночь, нас занесут пески.
Девочка опустила голову. Тогда, чувствуя свое мужское превосходство над сестрою, он сказал:
— Алла, в старых арыках, по краям поля, я видел ростки кукурузы и стебли джугары. Мы будем собирать их лотом… Мы будем есть мало и будем ждать каравана. Придет же когда-нибудь сюда какой-нибудь караван, как пришел наш!
Она молчала, а он говорил и чувствовал, как тело его готово было в страшной борьбе за жизнь обрасти шерстью, чтобы согреться от холода; ему казалось, что ногти на пальцах его крепчают, как когти зверя. Он чувствовал глаза свои более зоркими и слух утончавшимся от песчаной тишины.
— Разве человек хуже зверя, что он должен засохнуть, как саксаул в этой пустыне, а не храниться в скале, как эта мышь, которую сожрала собака?
Он засмеялся и, позвав собаку, крикнул сестре:
— Алла, пойдем!
И еще раз они обошли все развалины поселка, все его дворы, улицы, сакли, поля, стены и сторожевые столбы. За ними, за этими мертвыми камнями, до тех пор, пока мог видеть глаз, тянулись бесплодные пески Кара-Кума. Кое-где торчали низкорослые кустарники с очень мелкими листьями. Эти безжизненные стволики, с выползающими из-под песка изогнутыми корнями, крепкими, как железо, и хрупкими, как чугун, сдерживали ползущие на оазис пески.
— Человек крепче саксаула! — тихонько заметил Раим, глядя в помутневшие от тоски глаза Аллы. — Не бойся ничего!
Она не боялась полей, песка и солнца. Но в сумерки, когда они снова вернулись в саклю и улеглись на полу, не только ей стало страшно. Выл за порогом верный пес. Вздыхал Раим. Где-то далеко, едва доносимый ветром, как эхо, взорвался рев тигра, и Раим вздрогнул:
— Джульбарс, — сказал он, — Алла, не бойся!
Черное небо светилось в потолке холодными звездами. В полях, должно быть, шмыгая по старым арыкам, взвыла протяжно гиена. Старый волкодав подался в саклю и лег на пороге.
Но длинный день, легший тяжелыми глыбами тоски на плечи детей, был слишком утомительным, и, зарывшись в тулупы от страха и холода, они провели эту первую ночь в тяжелых снах.
Ночью оживали пески Кара-Кума. После знойного дня в наступавшем вдруг в разреженном, безвлажном воздухе ночном холодке начиналась живая жизнь.
Из темных нор, из земляных щелей, из каменных трещин выползали черные жуки, бегали с ядовитым проворством фаланги, шуршали скорпионы и выходили на поиски добычи крупные хищники.
Вой гиен тревожил покой ночи. Каменную тишину нарушали странным криком огромные кричащие ящерицы. Иногда, заставляя вздрагивать Раима и ежиться старого волкодава, как эхо, слышался рев тигра, забежавшего по арыкам в оазис из прибрежных камышей Аму-Дарьи.
Алла вздрагивала во сне. Раим, пробуждаясь от темных страхов, наполнявших ночную тишь сакли, просыпался ежеминутно и прятался вновь под тулупом, только заслышав ворчание собаки.
Она неизменно откликалась на каждый шорох в сакле, прислушивалась к каждому шуму за ее стенами.
Но лишь только огромное, красномедное солнце встало над песчаной пустыней, прячась от врага, слишком заметное на солнечном свете, исчезло мелкое зверье в норах, в трещинах и щелях и залегли в камышах крупные хищники.
От этой солнечной тишины проснулся Раим.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ СОБЫТИЯ НЕСЧИТАННЫХ ДНЕЙ
Утро было проще. И новый день, накаляемый солнцем до нестерпимого зноя, прошел уже старой тропою, и следующая ночь не была страшнее первой.
Алла всплеснула руками:
Раим, брат мой, разве мы так будем жить?
Она стояла на пороге сакли в полдень четвертого, налитого расплавленным зноем дня. Все те же мертвые песчаные степи лежали за развалинами поселка. Лишь складки пустыни, нанесенные за ночь ветром холмы, рассыпались теперь на ее глазах, уносились обратным ветром, как дым, и оседали снова за кустом саксаула, вырастая за ним в непрочный холм.
Это было похоже на неверные волны моря. Поселок в оазисе, как остров, огражденный подводными камнями, раскалялся на солнце, недвижный, как медь. Но легкие струйки песка иногда переносились через стену саксаула, через арыки, орошавшие когда-то поля, рассыпались по улицам, у самых ног.
Песчаное море приближалось неотвратимо. Обнажая на выветрившемся дне своем то. остатки крепостных камней Тамерлана, то следы победного шествия Александра, череп и крепкий костяк римлянина, оно же рядом поглощало поля и сакли голодного туркмена.
Кто знает пески Кара-Кума, тот знает все. Алла смотрела, и глаза ее были круглы, как солнце, от ужаса.
— Раим, мы умрем здесь! Сколько еще будет дней?
Раим не считал знойных дней и холодных ночей, но он со страхом откидывал войлок с мешков в углу сакли и считал оставшиеся лепешки, плесневеющие катуки. Они исчезали, и напрасно Раим приносил корни саксаула, гроздья сырой джугары, думая, что они помогут увеличить запасы. Мышьи зубы Аллы уже грызли зерно, и сам он жевал с несытой тоскою запекшиеся корки овечьего сыра.
А несчитаемые дни шли за днями. Черные ночи давили страхом. Из далеких камышей Аму-Дарьи по гниющим арыкам, доходившим до полей оазиса, приходили шакалы и не однажды ревел у сторожевых столбов джульбарс.
Тихими утрами тени огромных птиц, паривших в безоблачном небе, скользили по камням поселка. Там в голубой вышине, залитой солнцем, величественно кружась над развалинами, высматривали орлы копошившихся на дне арыков редких в пустыне человеческих детенышей.
Раим разыскивал норы сусликов и, шаря по ним ставшими крепкими, как когтистые лапы животного, руками, доставал запасы их пищи или молодых слепых зверьков, которых бросал неизменно бродившему за ним псу.
Алла не помогала ему. Она стояла на валу, глядела в песчаное море. Она еще ждала каравана, она еще думала о том, что должен вернуться отец.
Кожа на лице ее высохла, как у мумии. Черные глаза, как угли, ушли под лоб. Она перестала стонать и жаловаться. Она покорно принимала зерна из рук брата, вырывала из земли корни, которые он ей указывал, и молчала.
В этой мертвой пустыне, в этой песчаной тишине длинные дни уходили на поиски пиши и черные ночи — на отдых от усталости за день. Не было нужды в словах, Раим понимал ее без слов, и она разучивалась говорить.
Несчитанные дни продолжали сменяться ночами, покрывавшимися инеем. Ветры нанесли тучи, безбрежные облака помрачили небо и спрятали солнце. Дождь полился в дыру потолка, и ночами серые тулупы не грели от холода.
Верный пес в поисках падали уходил на долгие часы, и иногда порог сакли оставался без стражи. Раим собирал джугару, кукурузу и все, что могло быть пищей. Он нагромоздил запасы в камнях развалившейся стены, думая о страшной зиме, об Алле, о себе.
Но Алла в дождливое серое утро не встала с постели. Раим посмотрел на нее с удивлением: губы ее были сухи, и даже, наклонившись над нею, он мог почувствовать тепло ее раскаленного тела.
Оно веяло ему в лицо, как летом дышащее зноем песчаное море Черных Песков.
— Алла, встань! — крикнул он.
Она открыла глаза, удивившись словам, которых давно не слышала.
— Раим, — сказала тихонько она, — Раим!
— Ты больна?
— Раим! — повторила она.
Он смотрел на нее в ужасе. Она повторила несколько раз его имя и закрыла глаза, как от страшной усталости. Раим отшатнулся. Он не знал, что надо делать, но подумал о том, что этот последний человек может исчезнуть, и тогда уже ничто не будет напоминать ему о его человеческом происхождении.
— Алла! — крикнул он.
— Дай пить! — ответила она.
Он поил ее водою и жевал ей зерна, но она не брала их. Старый пес сел в ее ногах у края постели, едва сдерживаясь от желания выть и царапать глиняный пол.
У изголовья сидел Раим. Открывая потухшие глаза, Алла могла видеть обоих. Тогда ее черные зрачки наливались блеском, и губы расклеивались, чтобы прошептать:
— Раим!
Так продолжалось день и ночь, снова день и снова ночь. Солнце не показывалось. Дождь продолжал идти. Ночами серый иней, похожий на белую шерсть пыльной овцы, обметывал камни стен, пола, порога и потолка. Старый волкодав, похудевший от холода, голода и тоски, поджав хвост, не сдерживался более и. стоя на пороге, выл в беззлобной тоске на дождь, на небо, на клочья разметанных туч.
Еще день и еще ночь сидел у ее изголовья Раим, прислушиваясь, не шевельнутся ли ее губы, чтобы прошептать его имя.
Но сестра словно забыла имя брата. Глаза ее становились безумными. Все чаще и чаще она порывалась встать и уйти. Раим с трудом удерживал ее в постели.
Уходя, он оставлял сторожем собаку. Если же брал ее с собою, то закладывал дверь сакли обломками глиняных кирпичей.
Он уходил ненадолго: забрать воды в глиняный кувшин или же набрать горсть незрелых зерен джугары, пучок корней саксаула, составлявших всю его пищу за день.
Но однажды он вернулся слишком поздно. Камни в двери сакли были разметаны и постель девочки пуста.
Алла исчезла.
Раим схватил руками голову и упал на каменный порог. Рушилось последнее звено, вязавшее его с человеческим миром. В смертельном страхе он опомнился тут же. Он метался по развалинам, канавам и пескам, как затравленный зверь — Аллы нигде не было.
Верный пес выл от бессилия: вечно движущиеся пески не сохранили ни малейшего следа беглянки.
Напрасно бросался ему на шею Раим и кричал:
— Ищи, пес, ищи! Она — безумная, пес! Голова ее болит и глаза не видят дороги! Она бежит быстрее джульбарса, потому что в ней безумная мечта — уйти! Отсюда нельзя уйти, пес! Там верная смерть!
Старый волкодав выл ответно, точно он сам понимал все не хуже человека. Он царапал свой нос в отчаянии, но свежий лесок, омытый дождями, гонимый ветрами, не хранил на себе следа Аллы.
Так продолжалось до поздней ночи. Аллы не было.
Раим побрел назад. Пес не мог решить, что ему делать: то он взбирался на холм и, завывая, оглядывал безбрежные пески, то скатывался назад к ногам Раима и снова возвращался на холм и опять нагонял оставшегося хозяина.
Потом, решившись, он поджал хвост, опустил голову и покорно вошел за ним в опустевшую саклю.
ГЛАВА ПЯТАЯ ДЫХАНИЕ ПУСТЫНИ
В пустынях растения, животные и люди нуждаются в самом незначительном количестве пищи и почти обходятся 663 воды. Но и на поиски горсти зерен или горького корня степной травы, могущей утолить голод, нужно тратить долгие дни.
Коричневые руки Раима обросли жесткой кожей; пальцы стали когтистыми, как у птицы. Последние клочья одежды сползли с его плеч, и весеннее солнце одело его загаром не менее темным, чем бурые камни пустыни.
Весна налила силою его мускулы.
Пустыня ожила в несколько часов, при первом же солнце. На глинистых буграх, в котловинах с буйною силою поднялся зеленый ковер трав. На короткое время зацвели туркестанские маки, превратившие куски пустыни в огненные озера.
Но тюльпаны, ревень и ассафетиды осыпались и померкли в зное полуденного солнца. Тогда стебли саксаула, тонущие в воде от своей плотности и легко разбиваемые ногами верблюда на куски от своей хрупкости, покрылись серебристой листвою и зацвели. Травы горели, ветер разносил их семена до следующей весны, но седая полынь держалась в котловинах, напитывая дыхание пустыни стойким запахом, вызывавшим горечь во рту.
Старый пес метался по расцветшим полям за сусликами, длинноногими тушканчиками, иногда за птицами, таившимися в траве. Он быстро набирался силами, менял свалявшуюся свою шерсть на новую и лаял на огромных ящериц с беззлобной веселостью.
Но пятидесятиградусный зной быстро испепелил расцветшую ненадолго пустыню. Ветер разметал в песках пепел листвы, и оголенные стебли саксаула остались однако за полями поселка.
Тогда дыхание пустыни стало продолжать свою работу. И днем, и ночью от малейшего дуновения ветра, никогда не прекращавшегося в сухом воздухе, несло на поселок с равнины, как дым от костров, легкие облачка песчаной пыли.
Ничем не ограждаемые поля оазиса, оставшиеся без ухода и забот арыки, заносились песком. Налетевший ураган снес заросли саксаула, и когда песчаные тучи, скрывшие на час солнце, рассеялись, Раим не узнал пустыни.
Он осмотрел ее со сторожевого столба и тогда увидел, как барханы[6] дымящиеся песчаной пылью, почти видимо для глаз, с неотвратимой силою стали приближаться к развалинам. День и ночь, при малейшем ветерке, дышала пустыня песком и зноем на поля поселка, на его улицы, дворы, сакли и стены. Они затягивались песком, их поглощала пустыня шаг за шагом.
Должно быть, чувствуя надвигающуюся гибель, темным инстинктом догадываясь о неотвратимом конце, выл, утопая.
— лапами в песчаной пыли, старый пес. Ночью он метался по арыкам, вокруг сторожевых столбов, иногда уходил в глубину пустыни и с тоскливым воем и страхом возвращался назад, не находя выхода.
Тогда Раим молча гладил его шею и в тупом отчаянии прислушивался к шороху наползавших во двор, в саклю песков.
Однажды он, привычно оглянувшись на кладбище, не увидел старых могил. А через несколько дней исчез холмик, и только одна вершина часовенки сиротливо торчала из песка.
В угасшем сознании его не мелькнула мысль о сестре: прошлое исчезло из его ощущений, как оно исчезает у животных. Но приближение пустыни разбудило темный инстинкт самосохранения. Овеянный страхом смерти, с такой же тоской и отчаянным сознанием своего бессилия, как у старого волкодава, заметался Раим по развалинам.
Он присматривался, прислушивался к шуршащему дыханию пустыни, примечал лунку возле каждого камня и тогда выбрал развалины сторожевого столба, огражденного уцелевшей стеною от ветра.
Это жилище было похоже на каменную нору. Сюда перенес свои запасы ее обитатель. Пес, не могший вместиться в норе, бродил, как потерянный, внизу день и ночь.
Потом он однажды исчез и не вернулся.
В эту ночь Раим слышал рев джульбарса совсем близко. Утром же утончившимся обонянием, слышавшим в дыхании пустыни оттенки всевозможнейших запахов, он учуял запах крови. Как сумасшедший, пошел он, спотыкаясь в нанесенных за ночь барханах, на этот запах и на дне арыка нашел растерзанные клочья верного друга.
Раим безмолвно застыл на месте. Серая змея, развернувшись из клубка, как шелковая лента, равнодушно проползла мимо него.
Он вздрогнул и ушел.
Сжавшееся тоскливым холодком сердце выдавило на его сухие глаза призрак слез. Это было последнее чувство Раима. Оно исчезло, не оставив ни одной мысли в его угасавшем сознании. Он спустился по канаве до влажной котловины и когтистыми пальцами, вырывая горькие корни трав, шарил по норам сусликов, отнимая у них запасы зерна.
Он с звериным постоянством, руководимый инстинктами» пробуждавшимися в нем, как пробуждаются они у человека с угасшим в минуты опасности сознанием, готовил свою страшную нору к новой зиме.
А облака, помрачавшие солнце, уже несли ее призрак.
Но еще было знойно дыхание пустыни; превращаемые резкою сменою дневного зноя ночным холодом в мельчайшую пыль камень и песок тонкими струйками сыпались на умиравшие под ним поля и арыки.
По этим канавам в поисках пищи Раим уходил все дальше и дальше, иногда ночуя в степи. Так нашел он путь к засеянным, возделанным полям кукурузы. Но и они не вызвали в нем мысли. Он, с радостью голодного хищника, ночами, прячась от каждого шума и таясь от малейшего шороха, крал сочные стебли с дозревшими зернами и уносил их в свое жилье.
Застигнутый в поле дехканом, он прополз в густых зарослях джугары с ловкостью зверя и скрылся в канавах, прежде чем изумленный земледелец мог угадать в этом зверьке человека.
Песчаные волны, двигаясь из пустыни, заволакивали все более и более развалины.
Но вид их, подымавшихся уже до пояса сторожевой, башенки, заставлял Раима с упрямством зверя сносить в свою нору запасы пищи и воды.
Поля джугары убираются поздно. И до самой зимы, начавшейся проливными дождями, бродил по канавам Раим.
Когда же дожди сделали их непроходимыми и снова иней стал ночами одевать в серую шерсть песчаные степи Кара-Кума, Раим, как зверек, забился в свою каменную нору и приготовился вылежать в ней недолгую зиму.
Его овчины истлели. Кошмы потеряли вкус шерсти и не один раз в камни сторожевого столба забирались скорпионы, которых не отгонял запах войлока.
И не один раз снимал с лица своего ночью Раим бесстрашного черного паучка, ядовитого, как жало фаланги, и называвшегося в забытом им мире жутким именем — каракурт.
Раим не знал ни врагов, ни друзей.
ГЛАВА ШЕСТАЯ ТЕНЬ ЧЕЛОВЕКА
И еще раз расцвели Черные Пески огненными морями туркестанского мака и еще раз солнце испепелило их. Снова горьким вкусом полыни напиталось знойное дыхание пустыни и вновь стали голыми стебли саксаула.
Скрылись под волнующимся океаном песка и камней арыки, поля и развалины забытого кишлака. Из раскаленных груд его только на краю глинистой котловины торчали осколки стены и верх сторожевого столба, огражденного ею от палящих ветров пустыни.
На эти куски камня вел вооруженный отряд седой туркмен. Его воле охотно подчинялись верблюды, угадывавшие влагу за этими признаками жилья.
Человек в пробковом шлеме, весь в белом, долго и осторожно глядел вдаль, потом, подогнав коня к проводнику, спросил:
— Что это?
Тот покачал головою.
— Не знаю. Должно быть, остатки развалин, которые выдул ветер… А может быть, брошенный кишлак, теперь занесенный песками… Кара-Кум никогда не бывает один и тот же…
И вдруг со вздохом закончил проводник тихо:
— Но, кажется, я узнаю эти места!
Приближаясь к камням, торчащим на гребне песчаного моря, отряд с осторожностью приготовил винтовки. В песках Кара-Кума за каждым барханом может таиться басмач и на сотни верст можно не встретить ни одного человека.
— Ты знаешь эти места, Кениссора? — спросил проводника начальник отряда, равнодушно вглядывавшийся в даль. — Но разве есть хоть какая-нибудь разница между теми песками, которые были вчера, и теми, что мы видим сегодня?
Он усмехнулся и добавил:
— Разве есть разница в этом солнце, которое одинаково жжет нас восьмой день от Керки и будет жечь до самого Чарджуя?
Проводник кивнул головою.
— Песчинку, которая лежит в глазу человека в час его смертельного страха, я думаю, угадает он и в океане песка!
— Что же ты видел в этих песках?
Кениссора вздохнул.
— Третья весна пошла с тех пор, как басмачи настигли наш караван, опустошив его наполовину. Они не пожалели даже детей!
— Твоих детей, Кениссора?
— Детей моего друга. Я их любил, как своих! И мать не могла оплакать даже их трупы. Никто не видел во мраке их мучений… Но в Черных Лесках высохло не мало слез, пролитых бедной женщиной!
Проводник замолчал. Начальник поднял голову, оглядывая степь, хранившую в мертвых песках тайны не одной страшной ночи. Тогда он отчетливо увидел на обломках стены, торчавшей впереди среди песчаной равнины, мелькнувшую тень человека.
Он вздрогнул и положил руку на плечо проводника.
— Ты видел, Кениссора?
Кениссора поднял голову.
— Я не поверил глазам своим, господин! Кто может быть в этой мертвой пустыне?
— Не знаю! Увидим!
Начальник обернулся к отряду. Четыре человека, истомленных зноем, оглянулись на звук его голоса. Он указал на камни.
— Ребята, надо поймать этого человека! Он не без цели торчит на этой стене и высматривает караваны!
Звук команды заставил насторожиться статных туркменских коней. Всадники в тот же миг пришпорили их, и отряд, взламывая копытами коней тонкую каменистую корку песчаного покрова, крутя за собой вихорьки пыли, быстро дошел до подозрительных развалин.
Пески, подступавшие к самой вершине стены, омывавшие, как волны моря, сторожевой столб, были мертвы. Очковая змея, торопливо развернувшись из клубка, скрылась в камнях.
Начальник отряда крикнул. Даже эхо померкло в пустыне.
Один из всадников, приподнявшись в стременах, передал поводья другому и со спины коня взобрался на стену. Он прошел по ней до сторожевой башенки и крикнул оттуда:
— Здесь чья-то нора!
Один за другим взобрались к нему остальные. Кто-то осмелился заглянуть внутрь, вползши в дыру, заменявшую сторожевое окно. Там в темноте он увидел пару сверкающих глаз и тотчас же выбрался наружу.
— Тут кто-то есть!
— Кто? — крикнули снизу.
— Не знаю!
Тащи сюда наконец!
Он вполз снова и тогда, приглядевшись к темноте, увидел коричневое, нагое тело. Он позвал это существо, оно только глубже забилось в камни и груды истлевшей овчины. Тогда, ободренный его страхом, красноармеец схватил его за руку и потащил наружу. Внизу вокруг башни с нетерпением ждали.
Наконец упиравшийся, царапавшийся и кусавшийся человек был вытянут наружу. Тогда все увидели голого мальчика, с головою, опутанной, как гривой, космами волос, с руками, черными от загара, похожими на когтистые лапы птицы, с темно-коричневой кожей, шершавой, как выжженная глина стен.
Безмолвно рассматривали его всадники.
— Кто ты? — спросил наконец начальник. — Что ты делаешь здесь?
Раим молчал. Звук человеческого голоса был для него нов, но он возбуждал любопытство не более, чем вой шакала, и был непонятнее крика ящерицы.
— Суран айдын! — крикнул кто-то по-туркменски.
Раим не заметил разницы в словах, но оглянулся на голос вниз, и тогда увидел там среди других только-что догнавшего отряд проводника.
— Не иш ушун? — крикнул тот снова.
И снова не ответил ничего мальчик. Он дрожал всем своим коричневым тельцем. Сморщенная страхом кожа его еще плотнее обтянула ребра, и все кости его стали отчетливы, как у скелета. Он дышал тяжело и только иногда инстинктивно пытался вырваться из крепко державших его рук.
И вдруг, с какой-то почти юношеской ловкостью, седой, изможденный проводник взобрался на стену и подошел к мальчику. Он опустил руки на его плечи и, обернув его к солнцу, несколько мгновений в тупом ужасе рассматривал его. Потом, крепко стискивая его плечи, точно стараясь болью вернуть ему сознание, он крикнул:
— Раим, Раим! Это ты?
Он почувствовал, что мальчик вздрогнул. В его глазах, опустошенных страхом, мелькнула тень сознания, но с губ сорвался только крик, в котором нельзя было угадать и намека на слово их родного языка.
Кениссора поднял его на руки и снес со стены вниз. Мальчик утих на его руках. Тогда, сбросив с себя халат, старик завернул в него мальчика и стал с ним перед начальником, смотревшим, как все, с изумлением на все, что происходило.
— О, господин! Это тот самый мальчик…
— Кто бы он ни был, но его нужно взять отсюда! — перебил тот.
Раим срывал с себя одежду. Когтистые сильные пальцы его быстро превратили в клочья халат Кениссоры.
— Сними, — крикнул начальник, — он отвык от одежды…
Высвободившись из шелка, как из паутины, Раим утих.
Рыженький красноармеец торопливо достал из мешка кусок хлеба и вложил его мальчику в руку. Он посмотрел на него, не понимая. Судорожно сжатые его пальцы раскрошили заветрившийся хлеб. Он выпал из раскрытой ладони, но крошки его остались и, посмотрев на них с любопытством, Раим собрал их губами, как зерна, и проглотил.
Кениссора посадил его на коня впереди себя. Нужно было держать его за плечи, чтобы он не вырвался из седла. Огромное животное, на котором он сидел, наводило на него ужас. Но он был слишком слаб для того, чтобы вырваться из сильных рук, обнимавших его.
Отряд двинулся в путь. Всадники не сводили глаз с странного своего пленника. Маленький красноармеец крошил ему хлеб, и Раим принимал его.
— Раим, где Алла? — спрашивал Кениссора.
Он называл имена отца и матери, он рассказывал ему повесть его собственной жизни, повторяя настойчиво:
— Киртар, твой отец, ты знаешь? Меня, меня, Кениссору, ты помнишь?
Мальчик молчал. И только при имени Аллы он снова вздрогнул, и, казалось, какая-то тень сознания мелькнула в его пустых зрачках.
Только в полночь отряд добрался до кишлака Ак-Тере. Но прежде чем дать себе отдых, отряд занялся судьбою Раима.
Кениссора отнес его на руках в детский дом.
Раима ослепил и тусклый свет свечи. Он жался в угол, как пойманный зверек. Шаги приближавшихся к нему людей приводили его в ужас. Самый говор их, непонятный и странный, навевал больше страха, чем рев джульбарса в Черных Песках.
Тогда его оставили в темной сакле одного, и он, свернувшись в углу на брошенном ему тулупе, заснул.
Кениссора ушел от двери только тогда, когда услышал спокойное дыханье Раима.
Старый туркмен долго жал руку заведующего приютом.
— О, господин! — сказал он. — Ты русский, и ты много знаешь! Скажи же, разве мальчик, ставший диким в пустыне, не будет опять человеком, каким я его знал три весны назад?
— Не скоро, но станет таким же!
— Я буду ждать! — твердо ответил Кениссора. — Я буду приходить каждый раз, когда мой путь будет лежать через кишлак Ак-Тере.
Отряд ранним утром покинул кишлак и, снова опаляемый зноем, продолжал свой путь в мертвых песках. Дыхание пустыни заметало следы лошадиных копыт и иногда, глядя на эти крутящиеся вихорьки песчаной пыли, маленький красноармеец, кормивший Раима крошками хлеба, с улыбкой думал о том, что время с такой же тщательностью заметает в душе человека и самые страшные следы прошлого.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ АЛЛА
От Керки до Чарджуя прошел с караваном Кениссора и от Керки до Чарджуя не было кишлака и дехкана, который бы не прослушал от проводника полностью печальную историю маленького туркмена.
В Чарджуе, на пестром базаре, вокруг Кениссоры собралась толпа горожан и заезжих дехкан. Они слушали молча, кивали сочувственно головами и вспоминали недавние годы.
— Да, это было, — ворчал седой текинец в бронзовом халате, — не мало кишлаков разбрелось по Черным Пескам! Не многие вернулись назад, да не многие и дошли до чужой границы!
— Кто не терял детей? — всхлипывала какая-то женщина, — разве есть хоть одна семья, где не оплакивали бы потерянных без вести в сутолоке гражданской войны?
— И теперь еще кое-где держатся басмачи, — закончил рассказ Кениссора, — но вот уже два каравана провел я Черными Песками, не видев ни одного разбойника!
Он запахнул халат и собрался уже уйти, когда из-за чужих спин выбрался вперед пожилой туркмен. Шелковый халат его был наряден. Он был угрюм, но спокоен, как человек, знающий свою силу и вес. Он положил руку на плечо проводника и сказал тихо:
— Отойди со мной в сторону, проводник, и будем говорить о несчастных ребятах!
Кениссора посмотрел на него с удивлением, но всякая мысль о помощи Раиму могла бы вести его куда угодно. Он покорно отошел с туркменом в сторону и, когда они остались без любопытных, спросил:
— Не хочешь ли ты помочь бедному мальчику? Но он сыт, обут и одет и в хороших руках. Ему не нужно денег. Может быть, ты знаешь колдуна, который вернул бы ему разум, высохший от голода, горя и страха в пустыне?
— Я знаю! — задумчиво ответил тот.
— Кто это?
— Слушай, — не отвечая, перебил тот, — слушай. Ты говоришь, и я уже не впервые слышу историю эту, которая бежит быстрее ветра от кишлака к кишлаку, от туркмена к туркмену… Ты говоришь, что с ним была девочка, которая погибла?
Кениссора кивнул головой.
— Ее не было с мальчиком в развалинах?
— Нет.
— Но еще в те дни, когда я сам, обманутый и подкупленный, басмачествовал в степях Кара-Кума, я однажды поднял на песке полумертвую девочку!
Кениссора вздрогнул и впился в руку неожиданного вестника.
— Она была почти мертва. Голова ее горела огнем лихорадки, и мы приняли ее за страшного демона Черных Песков.
Две недели она не говорила, и еще две недели неожиданного вестника.
мы не смели ее расспрашивать, чтобы разум не покинул ее навсегда… Я отдал ее старому купцу, который платил нам жалованье за борьбу с советами… Потом, когда бросил басмачествовать, взял ее в свою семью. Может быть, я нашел сестру твоего мальчика?
Кениссора прижал руки к груди.
— Имя, имя? Ради Аллаха, как она называет себя?
— Алла — ее имя. Так она назвала себя!
— Разве она не рассказывала тебе историю, как она попала в степь?
— Я не слушал ее, потому что считал, что все это лихорадочный бред. ,
— Где она?
— Пойдем со мною.
Кениссора не шел, бежал, подгоняя туркмена. Тот торопился, но оставался спокойным и говорил:
— Я бы не отдал ее, потому что она помогает жене няньчить детей, и жена выучила ее за это ткать ковры. Но, может быть, если она — сестра мальчика, найденного тобою, она скорее сумеет разбудить угасший разум брата… Если хочешь, возьми ее к твоему мальчику и верни мне обоих: в моем доме много работы, и я не откажусь вырастить детей тех, виною гибели которых был я или мои товарищи. Ты знаешь что-нибудь об их родителях?
Кениссора покачал головой. Туркмен, отворяя калитку двора, задержался на мгновение и произнес твердо, как клятву:
— Они будут моими детьми…
Кениссора не ответил. Едва переступив порог и очутившись во дворе, усаженном тутами по краям и заросшим розами по средине, он увидел Аллу. Она поднялась с ковра, разостланного в тени дерева, и, отбросив какое-то вышивание, пошла навстречу гостям.
— Алла!
Она не узнала старого знакомца. Кениссора бросился к ней.
— Алла. Алла, разве ты не узнаешь соседа твоего отца? Того, кто держал на коленях Раима, когда мы бежали Черными Песками?
Алла вздрогнула и протянула руки.
— Раим, где Раим! — вскрикнула она. — Раим! Брат мой, Раим, что ты знаешь о нем?
Она подбежала к старому другу отца и, узнавая его не с большею ясностью, чем слабо мерцающий диск солнца сквозь осенние тучи узнают путники, повисла на его руках.
— О, Кениссора! Они не верят мне, они не верят, что брат мой остался в пустыне. Они смеются и говорят, что это бред от лихорадки… Кениссора, скажи им, скажи им!
Он прижал ее голову к своей груди.
— Я уже сказал все.
— Так пусть они возьмут верблюдов и отведут меня в пустыню. Разве Раим не может еще остаться в живых? Разве ты не найдешь тех развалин?
Она дрожала и билась на его груди. Кениссора сказал чуть слышно:
— Раим, брат твой, жив, Алла. Мы нашли его.
— Где он?
Это был не вопрос, не крик — это был вздох замирающего от счастья сердца. Алла затаила дыхание. Туркмен, стоявший вдали и наблюдавший все это, подошел к ним. Лицо его было угрюмее, чем всегда, и глубокий шрам на щеке горел, как воспоминания, огнем прилившей крови.'
— Алла, в кишлаке Ак-Тере брат твой, и этот добрый человек проводит тебя к нему. Скажи ему, твоему брату, что дом, ставший твоим домом, станет и его домом, Алла.
Он отвернулся.
— Придет время, — глухо добавил он, — и ты узнаешь, почему ты смело можешь прийти сюда с твоим братом.
Алла не заметила последних слов. Она всплескивала руками и. задыхаясь, твердила только одно:
— Скорее, скорее, Кениссора!
— Она вернет ему разум! — с странной уверенностью пробормотал Кениссора, обнимая ее. — Мальчик станет тем, чем он был!
В тот же день они уехали с караваном.
Кениссора не ошибся.
Теплые слезы Аллы, упавшие на черные щеки брата, было первое, что пробудило его угасший разум к сознанию. И "Алла" было первое слово, которое произнес он, сверкнув разумными глазами.
ЭПИЛОГ ИЛИ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАССКАЗ О САМИХ РАССКАЗЧИКАХ
Последний рассказ был окончен, кружки допиты, трубки докурены. Свеча догорала. Было далеко за полночь. За бортом корабля выл морской, острый, как нож, ветер, заставляя покачиваться мертвый корабль, как живой. Мы слушали вой ветра и задумчиво молчали.
Капитан неожиданно прервал молчание.
— Итак, — обратился он ко мне, — куда же решаетесь вы направиться теперь, когда наши рассказы окончены?
— Никуда! — столько же кратко, сколько и решительно ответил я.
Все посмотрели на меня с любопытством, ожидая объяснений. Я удовлетворил их любопытство.
— Я не вынес бы и десятой доли того, что пришлось вынести героям ваших приключений.
Я ждал и вполне заслуженно, что от меня с презрением отвернутся мои новые друзья в тот же миг. К крайнему моему изумлению, случилось нечто совершенно противоположное: все взглянули на меня с явным сочувствием.
— И однако же вы не станете спорить, что нет ничего в мире более достойного нашего внимания, чем хорошенькое приключение или необыкновенная история? — предположил капитан.
— Не только не стану спорить, но даже приведу в пример множество людей, думающих таким же образом!
Капитан вопросительно переглянулся со своими приятелями и, получив на что-то их согласие, спросил меня с улыбкой:
— В таком случае, почему бы вам не вступить в общество непутешествующих путешественников?
Я пожал плечами.
— Разве есть такое общество?
— Мы члены его!
— Позвольте, — вскочил я в страшном волнении и, по совести говоря, с готовностью разбить о стол кружку во имя торжества справедливости, — не хотите же вы сказать этим, что ваши истории выдуманы от начала до конца?
— Наоборот, чёрт побери! — с холодной учтивостью возразил капитан при одобрительном молчании всех присутствующих. Этим самым я хочу лишний раз подтвердить их достоверность!
— Как так? — растерялся я.
— Очень просто, объявил он, — общество наше связывает своих членов прежде всего обязательством сообщать только достоверные сведения. Малейшее нарушение этого правила ведет к исключению. Каждый из нас с документами в руках может немедленно доказать вам, что в его сообщении нет ни единого измышления…
— Стало быть, вы действительно путешествовали по тем краям, о которых рассказывали?
Капитан развел руками.
— Я — главный бухгалтер судоремонтных мастерских и даже свой двухнедельный отпуск я провел в конторе, составляя отчет… Мой товарищ, известный вам по прозвищу старшего помощника…
Я с изумлением перевел взгляд на добродушного толстяка, и тот кивнул головой, точно заранее подтверждая все, что скажет капитан.
— Есть никто иной, как старший продавец кооператива "Заря Социализма", и если вы заглянете туда утром, то он отпустит вам лучшие сорта медвежьего окорока, не обманув вас в весе ни на грамм…
Считая характеристику оконченной, я перевел глаза на штурмана. Капитан, следуя за моим изумленным взглядом, отрекомендовал и его:
— Штурман, как таковой, известен только среди нас. За границею этого корабля он слывет за счетовода в конторе Госторга… А лоцман, — ловя мой взгляд, закончил капитан, — никто иной, как кассир местного отделения Госбанка…
— Так, значит, все это, — я с сожалением оглянулся кругом, — все это мистификация?
— Нет, очередное заседание нашего общества!
Расскажите все толком! — взмолился я.
— Мы все, — начал он снова, жестами рук указывая на сидевших по обе стороны от него друзей, которые согласно кивнули головами, — мы все страстные любители путешествий и большие охотники до приключений. Мы собираем все материалы, будь то вырезка из газеты, толстая книга, рукопись или простой бумеранг, завезенный матросом с Полинезийских островов — все, что касается современных путешествий… О монгольской экспедиции Козлова секретариат наш в любой момент может предъявить вам такой обширный и точный материал, что с осведомленностью нашею может поспорить разве только сам Козлов и то без большой надежды на выигрыш в споре… На очередном собрании мы распределяем между членами наши обязанности. На предыдущем собрании каждому было поставлено в обязанность отправиться на окраины России, в противоположные стороны, и возвратиться с запасом интересных сообщений, не переходя нигде границ советских республик… Мы собираемся в этом мертвом корабле, например, для отчетного собрания. Корабль — символ странствования. Каждый обязан рассказать историю своего путешествия, при чем ему предоставляется право пользоваться каким угодно материалом, добытым им при помощи секретариата или самолично, но с тем условием, что материал проверен документально… Точность и достоверность фактов — вот наше требование друг к другу…
Я с упреком посмотрел на него и не отказал себе в удовольствии поймать его на слове:
— И вы документально можете подтвердить вашу историю о Гипербореях?
— Да, — спокойно подтвердил он, — мы надеемся, что вы станете членом нашего общества и мы с удовольствием ознакомим вас с нашими делами. Да, если завтра вечером вы зайдете в секретариат, то вам предъявят и подлинный текст из Диодора и переписку учреждений о гибели топографического отряда на Умбе и фотографические снимки, сделанные на острове одним русским врачом, моим приятелем, который приезжал сюда из Индии специально для того, чтобы проверить какие-то записи о существовании родственного им народа на северо-востоке России…
— Да, но ведь все это должно было давно уже получить широкую огласку!
— Вы правы, вам покажут и вырезку из газеты, где вы прочтете сообщение о том, что Фритиоф Нансен ведет переговоры с русскими учеными о снаряжении совместной экспедиции для исследования Кольского полуострова…
— Дьявол вам на борт! — перебил старший помощник. — Может быть, вам понадобятся документы о том, что алданское золото действительно существует?
Упреки и брань обрушились на меня потоком.
— Ах, ржавчина его ешь, неужели так трудно зайти в якутское представительство, чтобы увидеть мамонтовую кость, которую отправляют за границу сотнями пудов, и кстати уж заглянуть на карту Якутии, чтобы увидеть Кладбище Мамонтов!
Или, чтоб вам растолстеть, — заключил лоцман, — взять первый номер журнала" Жизнь и Техника Связи" за 1926 год, чтобы увидеть снимки с моего мальчугана? Да заодно уже прочесть и отчет участника экспедиции, нашедшего мальчика!
Я вынужден был засвидетельствовать, что не сомневаюсь в истинности происшествий, ими рассказанных, так как мне были известны документы, о которых они упоминали.
— Во всяком случае, — закончил я, опасливо поглядывая на свечу, догоравшую в горлышке бутылки, — я не только выслушал четыре занимательные и поучительные истории. Нет, я провел поистине четыре превосходных вечера, заставившие меня забыть о картах, кинематографе и многих других, далеко не прекрасных вещах! И, по совести говоря, я не вижу того, чем отличались бы ваши рассказы от повестей действительных путешественников и очевидцев событий…
— Но они все-таки отличаются! — подчеркнул капитан.
— Чем? — воскликнул я.
— До-сто-вер-ностью! — указал он.
Свеча погасла. Мы неохотно стали выбираться из трюма покачивающегося корабля на холодный ветер, обдававший запахом далекого, остывающего моря. Водолив проводил нас и спустил с борта по веревочной лестнице в лодку.
Прощаясь с нами на берегу, он о чем-то пошептался со старшим помощником, и ветер донес до меня обрывок его фразы:
— Масло у вас отличное и дешевле. На базаре прямо не подступишься!
Я с досадою заткнул себе уши.
— Итак, достоверностью прежде всего! — напомнил мне капитан, пожимая мою руку на прощание.
Теперь, состоя неизменным участником всех их собраний, получив в качестве члена общества кличку боцмана с присвоенной этому званию поговоркой "тысяча чертей вам в зубы", обязательной к употреблению на наших заседаниях, я могу заключить мою повесть так:
— Тысяча чертей вам в зубы, нет повести, более достоверной, чем рассказанная членом общества непутешествующих путешественников!
Москва, Декабрь 1926 г.
Примечания
1
Диодор, уроженец Сицилии, современник Юлия Цезаря и Августа, после долгих подготовительных работ и путешествий, составил „всеобщую историю древнейших времен до начала войн Юлия Цезаря в Галлии в 40 книгах, под названием. Историческая библиотека". До нас она дошла не в полном виде.
2
Соха-якут.
3
Шаман-колдун,духовное лицо у якутов.
4
Кара-Кум — черные пески.
5
Кишлак — поселок, деревня.
6
Барханы — песчаные бугры, в виде лунки, наносные ветром.


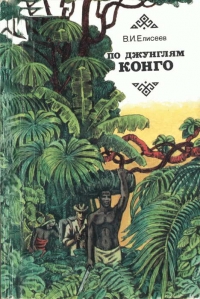
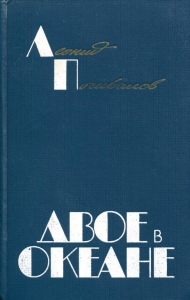



Комментарии к книге «Четыре вечера на мертвом корабле», Лев Иванович Гумилевский
Всего 0 комментариев