Луи Буссенар ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЗНАМЕНИТЫХ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ АФРИКА.
ГЛАВА 1
СТЕНЛИ[1]
Происхождение Стенли. — Начало карьеры. — Мистер Гордон Беннет. — Первая экспедиция. — Ливингстон. — Блестящий успех.
Генри Мортон Стенли — энергичный человек, лишенный предрассудков и больше похожий на средневекового кондотьера[2], чем на мирного исследователя, занимающегося одной лишь наукой.
Наука? Вот еще! Право же, до нее меньше всего дела этому англосаксу. Когда он ищет Ливингстона, сражается на Конго, спасает Эмина против воли самого Эмина — Стенли всегда неустанно стремится к цели не разбирая средств, со свойственным его нации огромным упорством.
Ничто не остановит Стенли! Он бесстрашно преодолеет расстояния и естественные преграды (болота, реки, пустыни, леса), стоически перенесет все лишения, победит болезни и перестреляет всех до единого врагов, вставших на пути.
Конечно, Стенли занимается исследованиями, но мимоходом, совершая грандиозные конкистадорские[3] походы в поисках людей, земель, богатства… и рекламы.
Открытия Генри Мортона от этого не менее знаменательны — их с лихвой хватит для удовлетворения его честолюбия.
Об особенностях Стенли следует сказать с самого начала — он лишен главных достоинств исследователя-путешественника. У Стенли нет терпения, самоотречения и, главное, бескорыстия людей названного типа. У него полностью отсутствует научный подход — этнографию, ботанику, геологию он знает только по названиям. Генри с пренебрежением идет мимо разнообразных растений, животных, людей, встречные препятствия штурмует в лоб, а при этом — увы! — надолго вредит сближению европейца с чернокожим братом.
Стенли — не ученый, а типичнейший авантюрист: кто ему заплатил, тот и хозяин.
Есть ли у этого англосакса имя? Знамя? Отчизна?
Его прославленное имя — не имя отца. Знамя Стенли то американское, то бельгийское, то египетское — смотря по обстоятельствам. Что до отчизны — так и не известно в точности, англичанин он или американец. Генри Мортон был англичанином, но, покинув родину в ранней юности, стал американцем — служил во время Гражданской войны то Северу, то Югу.
Итак, личность Стенли и пути достижения им цели очень спорны — как, вероятно, и самое дело его.
Но навсегда останется бесспорным, что с 1871 по 1888 год Стенли добился огромных, великолепных успехов — проник в неизвестную часть Африки, описал Великие африканские озера, открыл среднее течение Конго, несколько раз пересек Черный континент.
Всего этого у него никак не отнять. Имя Стенли в некотором роде стало символом Экваториальной Африки, а он сам навсегда останется одним из славнейших путешественников, в чем мы, прочитав подробный рассказ о его экспедициях, вскоре и убедимся.
И теперь, когда подлинное лицо Стенли со всей возможной беспристрастностью отделено от восторженных легенд, написанных биографами этого мастера рекламы, — еще два слова.
Стенли можно критиковать и можно восхищаться, возводить и ниспровергать с пьедестала, но никто не откажет ему в своеобразии, и всякий скажет: «Это личность!»
Подлинное имя Стенли — Джон Роулендс. Он родился в 1840 году[4] в Денби (Уэльс) в семье очень бедных родителей и начальное воспитание получил в детском приюте Пророка Асафа.
Чрезвычайно тяжелое детство закалило подростка — он стал энергичным и физически крепким человеком. Тринадцати лет Джон оставил родных и отправился в Ливерпуль, где до шестнадцати лет работал грузчиком в порту, а позже нанялся юнгой на корабль, уходивший в Новый Орлеан.
В Америке трудолюбием и умом он добился расположения некоего Стенли — коммерсанта, к которому нанялся на службу. Негоциант намеревался устроить судьбу юноши, но внезапно умер, не успев составить завещания; надежды на наследство разбились. Несколько лет Джон прожил в безвестности и, несомненно, в бедности. Двадцати одного года от роду он вступил в армию конфедератов[5] под именем своего благодетеля. Так Джон Роулендс стал Генри Мортоном Стенли.
Он деятельно участвовал в Гражданской войне, в битве под Питерсбергом[6] попал в плен, затем бежал, но не вернулся к прежним товарищам по оружию, а поступил на службу в федеральный флот, отличился и получил чин лейтенанта.
В 1865 году Стенли вышел в отставку и стал журналистом; ему было тогда двадцать пять лет.
Он начал работать в газете «Миссури демократ», сопровождая экспедицию генерала Хэнкока[7] против индейских племен чейенов[8] и кайова[9], затем перешел в «Нью-Йорк трибюн», а вскоре — в «Нью-Йорк геральд» с окладом двадцать тысяч франков в год. В 1867 году директор газеты послал его в Абиссинию[10] освещать действия английского корпуса Вулсли[11] против негуса Теодроса[12]. Там Стенли удался недурной репортерский подвиг: газета получила от него сообщение о взятии Магдалы[13] и гибели Теодроса на сутки раньше, чем английский генеральный штаб доложил об этом своему кабинету. В результате дебют молодого корреспондента в прессе получился блестящим.
Потом Стенли как репортер принимал участие во всех важнейших политических и военных событиях своего времени. Он был в Мадриде при свержении Изабеллы II[14], на берегах Суэцкого канала, в Центральной Азии, отовсюду присылая занимательные корреспонденции, полные дотошных проницательных наблюдений.
В октябре 1869 года Стенли присутствовал при страшной бойне, которую устроил в Валенсии генерал Мартинес-Кампос[15], затем корреспондент отправился в Мадрид, где рассчитывал немного отдохнуть. Но там к нему пришла телеграмма: сын директора газеты, мистер Джеймс Гордон Беннет, срочно вызывал своего репортера в Париж. Это незначительное с виду событие решило судьбу и определило призвание Стенли.
Не мешкая, он сел на поезд, поздно вечером 17 октября 1869 года приехал в Париж, прибыл в «Гранд-Отель» и постучался в номер к мистеру Беннету. Их краткий ночной разговор стоит пересказать: он весьма поучителен и прекрасно характеризует как будущего первооткрывателя Конго, так и его благотворителя.
— Кто вы? — спросил мистер Беннет, не вставая с постели.
— Я Стенли.
— Да-да-да, помню, садитесь. Я телеграфировал вам в Мадрид, у меня для вас важное поручение. Как вы думаете, где сейчас Ливингстон?
— Понятия не имею.
— Он жив?
— Может быть, да, может быть, нет.
— А я полагаю, что он должен быть жив, и посылаю вас отыскать его.
— Вы имеете в виду, что я должен отправиться в неизвестные области Африки?
— Я имею в виду, что вы разыщете его, где бы он ни находился, и сообщите о нем все возможные сведения. Вероятно, великий путешественник терпит нужду — возьмите с собой все необходимое. Разумеется, вы ничем не связаны: делайте что хотите, только отыщите Ливингстона.
Ни Беннет, ни Стенли не могли рассчитать предполагаемой сметы, так что было условлено, что путешественнику откроют неограниченный кредит. На первый случай репортер возьмет из кассы «Нью-Йорк геральд» двадцать пять тысяч франков.
— Поезжайте немедленно и действуйте, — сказал Беннет.
— Слушаюсь, сэр. Итак, я еду в Центральную Африку?
— Нет, не сразу. Сначала вы поедете на открытие Суэцкого канала. Потом подыметесь вверх по Нилу: говорят, Бейкер отправился в Верхний Египет, и нам нужен репортаж о его экспедиции. Потом следовало бы съездить в Иерусалим: там, как слышно, капитан Уоррен сделал важные открытия. Потом отправляйтесь в Константинополь и напишите нам о раздоре между султаном и хедивом[16]. Далее посетите места сражений в Крыму[17], затем поезжайте через Кавказ до Каспийского моря и узнайте подробности о походе, который русские готовят в Хиву. Потом через Персию отправляйтесь в Индию, напишите нам о Персеполисе, о Багдаде и о железной дороге в долине Евфрата. В Индии садитесь на пароход и поезжайте в Африку искать Ливингстона. Пока не найдете, не возвращайтесь. Узнайте у Ливингстона все об его открытиях, а если он умер — привезите тому безусловные доказательства. Вот и все. Ступайте! Храни вас Бог!
— Будьте здоровы, сэр. Я сделаю все. Господь да поможет мне.
Стенли отправился в путь. Он проследовал, нигде не задерживаясь, точно по причудливому маршруту, указанному шефом, и наконец 6 января 1871 года прибыл на Занзибар. Ливингстон мог и подождать: чуть раньше, чуть позже…
На Занзибаре Стенли развил такую деятельность, что через две недели у него уже был отряд из 192 человек: три европейца, четыре черных вождя, двадцать три занзибарских солдата и сто пятьдесят семь носильщиков.
Двадцать первого января отряд выступил в глубь континента.
Как громоздка ни была поклажа, но в таких экспедициях все эти вещи абсолютно необходимы. Прежде всего — подарки: стеклянные побрякушки, ткани, латунная проволока. Кроме того, кухонные принадлежности, мешки, палатки, оружие, боеприпасы, медикаменты, а самое главное — продукты. В итоге весь багаж весил не менее шести тонн.
Путешественники имели еще в распоряжении двадцать два вьючных осла, двух лошадей, тележку и две лодки (одна на двадцать человек с поклажей, другая на шесть), разобранные на части, каждая весом около тридцати пяти килограммов.
Уже из этого краткого списка видно, как тяжело придется недисциплинированным, не приученным к подобным тяготам людям идти с подобным грузом по незнакомой местности. Так что все трудности путешествий по Африке обрушились на экспедицию с самого начала. Многие носильщики заболели, некоторые сбежали. Пала одна лошадь, через несколько часов — другая; ослы переносили путь лучше, но со временем и они передохли. Князьки, через земли которых проходил Стенли, изощрялись во всяких предлогах, чтобы взять с путешественников как можно больше платы за проход.
Кроме того, в экспедиции произошел раздор между белыми. В помощниках у Стенли числились два англичанина-авантюриста (я разумею авантюриста низшего пошиба). Они отказывались признавать его власть, сами же были совершенно не подготовлены к серьезному делу. Один из англичан даже пытался убить Стенли во сне. Тот никак их не наказал — только отослал прочь.
От усталости люди валились с ног, болели лихорадкой, но несравненно горшие несчастья были еще впереди. Экспедиция пересекла большую влажную плодородную страну Урагара, изобилующую кукурузой, просом и сорго[18], и пришла в Угого. Там Стенли встретил несколько арабских караванов, пожелавших идти вместе с ним; общая численность отряда достигла четырехсот человек. Когда прибыли в Табору, местные арабы очень хорошо встретили гостя и попросили у него помощи против некоего Мирамбо — мелкого князька и бессовестного бандита, наводившего страх на всю округу.
Стенли еще не хватало опыта, и он имел неосторожность согласиться, хотя элементарнейший здравый смысл говорит, что белым ни в коем случае не следует вмешиваться в распри туземцев.
Мирамбо оказался умелым тактиком: он принял бой и, сделав вид, что совершенно разбит, завлек за собой неприятеля в свои земли. Арабов ослепил первый успех. Они потеряли присущую им осмотрительность и занялись грабежом, разорив несколько вражеских деревень. Все думали, что Мирамбо далеко, а тот вернулся и напал на противника из засады. Застигнутые врасплох арабы разбежались и были перебиты. Сам Стенли еле спасся бегством, оставив в руках Мирамбо американский флаг, развевавшийся над караваном.
Разгром принес Стенли пользу как суровый урок, но подорвал его репутацию в глазах и арабов, и спутников.
Затем Стенли отправился дальше, но решил идти не прямо к озеру Танганьика в Уджиджи, а сперва к югу через Укунго, Укавенди и Ухху. Путь был полон приключений. На каждом шагу приходилось торговаться с туземцами, которые встречали путешественника с оружием в руках и вымогали неимоверные поборы. Его спутники взбунтовались и упорно отказывались идти дальше; на них нападали дикие буйволы и бешеные слоны. Однажды Стенли остановил приступ жесточайшей лихорадки: он лежал неподвижно посреди невыносимого бивачного шума; голова раскалывалась, тело горело в жару и покрывалось потом, все члены ломило…
Мужество и энергия путешественника преодолели все преграды. Он шел только вперед.
Все вокруг единогласно сообщали ему, что на восточном берегу озера Танганьика живет седобородый белый человек. Приложив все усилия, Стенли 10 ноября 1871 года, через двести тридцать шесть дней после отправления с Занзибара, подошел к Уджиджи.
— Развернуть знамя! Зарядить ружья! — скомандовал Стенли.
И вот перед деревней, где жил великий путешественник, прозвучал салют из пятидесяти выстрелов. Прибежала толпа любопытных; кто-то крикнул: «Good morning!»[19] От этих слов волнение Стенли достигло предела.
«Чего бы я не дал, — пишет он в своей книге, — чтобы найти укромный уголок, спрятаться там и дать выход переполнявшей меня безумной радости: кусать себе руки, кувыркаться, трясти деревья! Сердце в груди колотилось и разрывалось, но я справился с собой и подошел к доктору Ливингстону, стараясь сохранить сколь можно более достойный вид. Доктор выглядел очень усталым; на нем был красный сюртук, серые панталоны, синяя каскетка с выцветшим золотым галуном. Мне хотелось подбежать к нему и броситься на шею, но он же англичанин — неизвестно, как бы это ему понравилось. Я просто подошел и спросил:
— Доктор Ливингстон?
— Да, это я, — ответил он с любезной улыбкой. Обменявшись приветствиями, мы прошли к нему на веранду.
Ливингстону, — пишет далее Стенли, — лет шестьдесят, но когда он выздоровел, я не дал бы ему и пятидесяти. Волосы у него темно-русые с проседью, усы и бакенбарды совсем седые, но светло-карие глаза сохранили необыкновенную живость. Зубы у него выпали, так как в Луанде некогда пришлось долго питаться одной сырой кукурузой; за этим исключением в облике Ливингстона нет ничего старческого».
Благодаря тому что Стенли в изобилии доставил продукты и медикаменты, доктор быстро поправился.
Когда к Ливингстону возвратились силы, они вместе со Стенли отправились в поход по озеру Танганьика, чтобы решить одну из интереснейших географических проблем: есть ли у озера сток на запад. Ливингстон утверждал, что да, но не имел никаких доказательств, кроме общего соображения, что бессточных пресных озер не бывает. В этом путешествии Ливингстон и Стенли не нашли подтверждения упомянутой гипотезе. Зато, как часто случается, нашли то, чего не искали: туземцы указали им реку Руфиджи. Она, однако, впадала в озеро, а не вытекала из него.
Итак, до получения новых данных гипотезу Ливингстона следовало считать ошибочной.
В декабре 1871 года Стенли собрался назад в Европу и надеялся, что знаменитый путешественник отправится с ним. Тот, однако, отвечал на все уговоры:
— Я был бы очень рад повстречать семью, близких, друзей, — но прежде должен выполнить свою задачу: найти истоки Нила.
Они вместе выехали из Уджиджи; Ливингстон проводил Стенли по дороге в Уньяньенбе. Не доезжая Таборы, в Куихаре, они расстались — и уже никогда больше не встретились.
Стенли возвратился на восточное побережье без спутников, но зато он вез письма Ливингстона и совершенно поразительную весть: знаменитый старец найден в самом центре Африки живым и невредимым.
На Занзибар Стенли вернулся 6 мая 1872 года, отправив оттуда экспедицию в помощь доктору, а сам отплыл в Англию.
Весть об успехе Генри Мортона вызвала огромный шум и возбудила разноречивые толки. На успех Стенли никто не надеялся, тем более что перед ним плачевно провалились несколько экспедиций с той же целью. Иные теперь прямо обвиняли его в обмане и утверждали даже, что самые письма Ливингстона — подделка. Сэр Генри Роулинсон[20], президент Лондонского Королевского географического общества, на одном из собраний общества заявил, что так называемая находка Ливингстона — не что иное, как грандиозный бесчестный розыгрыш. Знаменитый немецкий географ Риперт[21] утверждал то же в еще более оскорбительных выражениях. Иные же встретили путешественника с восторгом (в частности, Французское географическое общество удостоило его золотой медали) и устроили ему триумф, омрачить который недоброжелателям не удалось.
Стенли не составило труда прекратить толки — у него хватало явных, наглядных, исключающих всякое сомнение в достоверности доказательств. Именитые противники вынуждены были со стыдом взять свои слова обратно и извиниться. Стенли оказался к ним великодушен — настолько полной стала его победа.
В честь Генри Мортона устраивались пиры, его имя находилось у всех на устах, портреты висели во всех витринах, печатались во всех журналах. Королева Виктория пожаловала путешественнику табакерку с бриллиантами, а французское правительство… назначило чиновником при Академии наук. Лорд Гренвилл[22] опубликовал поздравление Стенли, американский посланник Уошберн[23], искренне считавший Генри американцем, заявил, что отважный путешественник прославил свою родину.
Ливингстон ненадолго пережил это достопамятное событие, давшее исследованию Центральной Африки необратимый толчок. После возвращения Стенли о нем долго не было новых известий; под конец 1873 года в Англии распространился слух, что знаменитый старец умер. К несчастью, печальную весть вскоре подтвердила официальная депеша английского консула на Занзибаре.
Ливингстон был вынужден целую неделю провести в болотистой местности, кишевшей неизлечимыми инфекциями, и 27 апреля 1873 года скончался от острого приступа дизентерии[24].
В первых числах февраля 1874 года сопровождавшие его люди доставили тело на Занзибар. Из-за страха, что драгоценный груз украдут туземцы, тело для отвода глаз упаковали как простую вьючную поклажу.
Дело в том, что подлинная доброта доктора Ливингстона превратила англичанина в глазах африканцев в некое божество. Племена, среди которых он жил, принимали путешественника за духа-покровителя своих земель и верили, что в его присутствии их не коснутся никакие несчастья. Поэтому, узнай они, что доктор умер и тело его увозят, возникли бы большие беспорядки; возможно, караван бы и вовсе не выпустили.
С острова Занзибар прах Ливингстона доставили в Англию и торжественно похоронили в Вестминстерском аббатстве, где, как известно, покоятся английские короли.
ГЛАВА 2
Второе путешествие Стенли. — Центральная Африка. — Открытие Конго.
Стенли приподнял завесу над неведомыми дальними землями — и весь образованный мир вдруг проникся к ним страстью. У отважного журналиста нашлось множество подражателей, готовых устремиться по его следам.
В частности, Лондонское географическое общество направило две экспедиции: через Конго и Занзибар. Первая, во главе с лейтенантом Гренди, получив известие о смерти Ливингстона, вернулась назад.
Вторая была доверена офицеру британского военно-морского флота Верни Ловетту Камерону[25]. Она, как и первая, имела целью помощь Ливингстону, но, не дойдя еще до Таборы, Камерон встретил слуг великого путешественника с его прахом.
Тем не менее Камерон направился дальше. Он смело двинулся прямо на запад, но затем уклонился к югу и из-за этого не открыл Конго; однако первым из европейцев пересек Африку с востока на запад. Мы еще расскажем об этом замечательном путешествии.
Честь открытия среднего течения великой африканской реки выпала счастливчику Стенли. У него для этого было все, но главное — богатые и щедрые покровители.
Стенли видел, как Ливингстона хоронили с королевскими почестями. Он тогда только что вернулся с англо-ашантийской войны[26] и решил продолжить дело знаменитого старца — найти исток Нила.
Для подобного предприятия требовались большие средства. Стенли нашел их без труда: половину суммы, необходимой для решения задачи, дал Гордон Беннет из «Нью-Йорк геральд», половину — директор «Дейли телеграф». Ученый мир должен быть обязан одному из важнейших открытий века — открытию Конго — именно мудрой щедрости этих граждан, без колебаний и расчетов давших Стенли деньги.
Двадцать первого сентября 1874 года Генри Мортон вновь приехал на Занзибар и принялся за подготовку новой большой экспедиции через загадочный материк.
Все было готово к 17 ноября. Американца сопровождали еще трое белых — братья Пококк и Фредерик Баркер — и триста шестьдесят шесть черных носильщиков и солдат. Караван растягивался больше чем на километр. Сильные, мускулистые люди несли штуки сукна весом по двадцать семь килограммов, невысокие и крепко сбитые носильщики — мешки с жемчугом весом в двадцать два килограмма, парни лет восемнадцати — двадцатикилограммовые ящики с консервами и с патронами. Людям степенным и рассудительным поручили нести ценные хрупкие инструменты: термометры, барометры, фотоаппараты; человеку, известному ровным, четким, несбивчивым шагом, доверили ящик весом не более одиннадцати кило с тремя хронометрами, обернутыми в вату. Двенадцать кирангози (проводников), облаченных в ярко-красные мантии, сопровождали груз проволоки. Наконец, в отряде были люди геркулесовского сложения и силы, переносившие корабль «Леди Алиса», состоявший из шести частей; к каждой приставили четырех человек, сменявших друг друга попарно. Им платили больше других и давали двойную порцию еды. Кроме того, только им разрешили взять с собой жен — так что за караваном шли еще тридцать шесть женщин, при них шесть младенцев и весь домашний скарб. Несколько черных детишек родилось уже в пути, а к окончанию путешествия эти дети умели ходить…
Стенли совершил небольшой выход в сторону Руфиджи, чтобы проверить каждого спутника в деле, затем вернулся в Багамойо, направился вдоль 6-й параллели южной широты до пересечения с 33° Парижского меридиана[27], оттуда взял в сторону и почти по прямой линии пошел к озеру Виктория-Ньянза.
К несчастью, ровно через два месяца после начала экспедиции в деревне Чивую в Угого от жесточайшей лихорадки умер один из братьев Пококк.
Вскоре Стенли дал первый бой. Жители Итуру не хотели пропускать путешественника, пока он не заплатит за несколько украденных его людьми кувшинов молока — конечно, гораздо дороже настоящей цены. Стенли, проторчав на месте два дня, потерял терпение и решил применить силу. Это было большой ошибкой: ведь в конце концов все равно приходится улаживать дело с туземцами миром, ловко сочетая уговоры с небольшими подарками. Тот же, кто проливает кровь, сеет семена ненависти, надолго вредит безопасности белых людей в Африке.
Стенли устроил настоящее сражение, дал почувствовать туземцам преимущества современного оружия, точнее, скорострельных карабинов[28], перебил множество народу, сжег несколько деревень и пронесся по стране кровавым метеором. Но и сам потерял в жарком деле пятьдесят три человека.
Выпутавшись — какой ценой! — из этой переделки, путешественник пошел дальше на север. 26 февраля колонна одолела затяжной подъем — и вот из авангарда, которым командовал Френсис Пококк, послышались торжествующие крики:
— Озеро! Озеро!
Всего лишь метрах в трехстах от вершины холма расстилалась огромная водная гладь — настоящее внутреннее море; его рябь ослепительно сверкала на солнце.
Да, это была Виктория-Ньянза!
В Кагехьи у вождя Кадума, приветливо встретившего Стенли, путешественник оставил людей, а сам решил подробно описать озеро, о котором существовали разнообразнейшие легенды.
С огромным трудом набрав десяток необученных матросов, он взял на борт «Леди Алисы» провизию и товары для обмена, оставил Френсиса Пококка и Фредерика Баркера охранять лагерь, сам же 10 марта 1875 года отправился в плавание.
Он без остановок обошел озеро, составил его карту, сняв более двух тысяч километров берега и неожиданно сделав интересное открытие: оказалось, что озеро Баринго, находившееся, как прежде считалось, неподалеку от озера Виктория, на самом деле — большой залив в северо-восточной его части.
Три первые недели плавания были ужасны: лихорадка, тучи насекомых, усталость, тревоги, коварные нападения жителей побережья, постоянные бои, штормы…
И как вдруг все переменилось в гавани Укафу!
И это Центральная Африка? Это здесь с таким восторгом встречает иностранцев множество гостеприимных, любезных, богатых людей?
Стенли приплыл в Уганду, землю могучего государя Матесы.
Не успели путешественники ступить на берег, как явился дворцовый мажордом[29], а за ним — обоз с провизией. Мажордом преклонил перед Стенли колени и сказал:
— Государь шлет привет белому человеку, пришедшему издалека посетить его. По любви своей, государь не может видеть лицо своего друга, пока тот не наестся досыта. Поэтому он отправил ему угощенье. Пусть наш друг перекусит и отдохнет, а в девятом часу государь приглашает гостя к себе на прием.
Приветливые слова были подкреплены дарами, пришедшимися весьма по душе изголодавшемуся экипажу «Леди Алисы», — четырнадцатью тучными быками, восемью козами и восемью баранами, сотней связок бананов, тремя дюжинами дичи, четырьмя бадьями молока, четырьмя корзинами батата, пятьюстами кукурузными початками, корзиной риса и десятью кувшинами бананового вина. Путешественники были подавлены подобным царским великолепием; Уганда походила на волшебную сказку.
Ради королевской аудиенции все сытно поели, искупались, причесались и приоделись. В девятом часу утра явились два пажа и пригласили Стенли на прием.
Процессия поднялась на горку, застроенную большими круглыми хижинами — из-за густых банановых побегов видны были только остроконечные кровли. Широкие улицы сходились к пятачку, на котором находился дворец Матесы. Около дворца уже теснились вожди, воины и крестьяне, которых согнало раболепие, свойственное подданным всех деспотов — народ Уганды тут не исключение.
По дороге в тронный зал надобно было миновать восемь — десять дворов. Уже при входе в первый из них Стенли встретила ужасная, невообразимая какофония: тысячи музыкантов с инструментами какой-то апокалиптической, непредставимой разумом формы дули, гремели, колотили, бренчали так, что лопались барабанные перепонки. У входа в зал, где стоял государь, стража взяла на караул. Радушно улыбаясь белому гостю, Матеса пожал ему руки и сам провел к назначенному месту рядом с троном, выше всех сановников.
Чертог этого удивительного африканского монарха — искреннего друга европейцев — заслуживает описания, которое я позаимствую у другого путешественника по Африке — господина Адольфа Бюрдо[30], родом бельгийца, но ставшего сыном Франции; недавно он скончался в расцвете физических и духовных сил.
Зала приемов в длину имеет метров двенадцать, а в ширину — четыре или пять. Наклонный к двери потолок покоится на двух рядах деревянных столбов, разделяющих залу на три части: в средней стоит трон, справа и слева — места для сановников и главных чиновников. У каждого столба — часовой с ружьем, в красном плаще, черной рубахе, подпоясанной красным поясом, и белых штанах; на голове у часовых — тюрбан, обтянутый обезьяньей кожей.
В глубине центрального нефа стоял трон — деревянное кресло, похожее на конторское. Матеса воссел на него, а Стенли усадил на железный табурет по правую руку от себя; придворные расселись на циновках или прямо на земле. Ноги угандийского государя покоятся на подушечке, под троном разостлан смирненский ковер[31], а поверх ковра — леопардовая шкура. Перед царем лежит гладко полированный слоновый клык и стоят два ларца с идолами; у трона два стража: справа с медным копьем, слева с железным — это державные знаки Уганды. У ног императора, повергшись ниц, лежат визирь и два секретаря.
«Матеса, — сообщает далее Адольф Бюрдо, — весьма величав и благороден с виду. Ему можно дать лет тридцать — тридцать пять; кожа у него совершенно гладкая, без единой морщинки. Бритую голову императора украшает феска;[32] на троне он сидит босиком, а когда встает, надевает малиновые турецкие туфли из сафьяна.
Правой рукой царь крепко сжимает золотой эфес арабской сабли, левую держит на колене, подобно статуе Рамсеса[33] в Фивах[34]. Он вечно шарит вокруг беспокойным взором, словно пытаясь увидеть все одновременно. Лицо государя отличается от лиц его подданных только необычайною живостью взгляда. Настроение у него постоянно переходит от одной крайности к другой. Когда Матеса спокоен, выражение лица у него умное и достойное; когда чем-то недоволен или разгневан, губы сразу сжимаются, глаза, расширяясь, вылезают из орбит, руки нервно дергаются; весь двор тогда с трепетом ожидает вспышки царственного гнева. Когда государь удовлетворен — глаза входят обратно в орбиты, разжимаются губы и залу сотрясает звучный смех».
Окончив беседу со Стенли, государь приказал впустить послов, дожидавшихся у входа в залу. Одни принесли Матесе дары от того самого негодяя Мирамбо, с которым Стенли пришлось столкнуться в первом путешествии, и смиренно молили о милости. Другие пришли с ходатайством, чтобы царь утвердил вождем на место одного недавно скончавшегося вассала его юного сына; кто-то просил разрешить их споры. Наконец Матеса поднялся; раздалась продолжительная барабанная дробь. Все в зале — вожди, придворные, пажи, публика — также встали, и государь, ни слова не говоря, прошел в боковую дверь.
Прием окончился.
Вот краткий — конечно, слишком краткий для полного представления — портрет замечательного монарха, правившего тогда Угандой, обширной и богатой державой площадью более 180 тысяч квадратных километров и с населением около трех миллионов жителей.
Кто знает, не суждено ли этой державе сыграть важную роль в начавшемся продвижении европейцев и египтян в Центральную Африку через Судан? Похоже, по географическому положению, по богатствам и воинской доблести жителей Уганда вполне подходит для такой роли. Пятнадцать лет тому назад об этом уже догадывались два выдающихся человека — судьба обоих, заметам, сложилась трагически. Ведь как раз примерно в то время, когда Стенли гостил у Матесы, туда прибыло для переговоров с могущественным властителем Уганды большое посольство от Гордон-паши[35]. Во главе посольства стоял служивший у Гордона француз — отважный и несчастный Линан де Бельфон.
Ни Гордона, ни Матесы уже давно нет на свете… Между тем именно от Уганды зависела судьба помощника Гордона, которого Стенли в третьем путешествии по Центральной Африке избавил от бедствий нескончаемой блокады, — судьба Эмина-паши[36]. Но к Линану де Бельфону рок — увы! — оказался не более благосклонен, чем к его командиру. На обратном пути от Матесы французу пришлось выдержать в стране Униоро[37] ожесточенный четырнадцатичасовой бой против того самого племени, которое столько времени не выпускало Эмина. Благодаря чудесам храбрости и хитроумия Линану удалось спастись, но вскоре, когда он отправился с новой миссией, на него напали свирепые дикари из племени бери и перебили весь отряд — тридцать солдат во главе с начальником. Не забудем: земля, что стала могилой Гордону, земля, где хладнокровному Эмину удалось взрастить первые побеги цивилизации, полита кровью и французского героя: Линана де Бельфона!
Стенли купался в пирах, дарах и почестях, но не забыл товарищей, оставшихся в Кагехьи. Он решил вернуться к ним и попросил у Матесы достаточное количество больших лодок, чтобы вся экспедиция могла пересечь Виктория-Ньянзу.
Государь отдал повеление собрать лодки по окрестным деревням; для этой цели вместе со Стенли он отправил одного из своих флотских начальников по имени Магасса. Стенли, полагаясь на княжеское обещание, отправился впереди на «Леди Алисе». К несчастью, вдали от государевых очей Магасса сильно переменился. Он не дал Стенли не только лодок, но даже и провианта, так что по дороге в Кагехьи путешественники испытывали чувство голода. В поисках пищи путникам приходилось высаживаться на недружелюбные берега; несколько раз их всех чуть не перебили. В Бамбирехе, например, туземцы вытащили «Леди Алису» на берег и приготовились напасть на непрошеных гостей, но хладнокровие Стенли воодушевило спутников. По его сигналу все враз налегли на судно и столкнули в воду. Потрясенные туземцы могли послать вдогонку лишь несколько стрел и проклятье:
— Ступайте и умрите на нашем озере!
Проклятье чуть было не исполнилось: Стенли с командой буквально умирали от голода и насилу нашли остров (Стенли назвал его островом Убежища), где бананы и дичь спасли им жизнь. Два дня спустя, 5 мая, через три недели после прощания с Матесой, «Леди Алиса» пришла в Кагехьи.
Несчастные люди, не видевшие начальника уже два месяца и отчаявшиеся увидеть вновь, встретили его с восторгом и со слезами на глазах.
— А где же Баркер? — спросил Стенли у Френсиса Пококка. — Почему он меня не встречает?
— Он умер, мистер Стенли, — печально ответил молодой человек.
— Быть не может!
— Истинная правда, сэр; вот и могила. Лихорадка его скосила за два часа.
Но это оказалось еще не все — навалилось множество мучительных хлопот. Стенли узнал, что по окрестностям уже дважды прошел слух о его смерти. Вожди соседних племен, пользуясь моментом, составили заговор, решив тайком напасть на стоянку экспедиции и разграбить все ценное. Значит, над людьми, валящимися с ног от усталости, измученными безнадежным ожиданием, истрепанными лихорадкой, нависла смертельная угроза. Что будет, если теперь, когда экспедиция находится в таком физическом и моральном состоянии, вдруг нападут враги? Стенли и подумать об этом не мог без содрогания.
Надо во что бы то ни стало уходить, но Магассы с обещанной флотилией от Матесы все нет и нет. Так проходил день за днем; отчаяние с каждым часом возрастало. Тогда Стенли решил добраться до Уганды по берегу и послал дары царьку Минери-Ровоме с просьбой пройти через его владения. Но дары были отклонены, и разрешения не последовало.
Не мешкая ни минуты, Стенли послал подарки с той же просьбой Лукудже, правителю Укереве, который оказался попокладистее и прислал американцу флотилию под командой брата.
Двадцатого июня Стенли погрузил на пироги всю экспедицию — сто пятьдесят мужчин, женщин и детей, сто девяносто тюков материи, жемчуга и проволоки, восемьдесят восемь мешков крупы и тридцать ящиков патронов.
Налетела страшная буря, разбившая несколько лодок; люди выбивались из сил и тонули. Стенли вынужден был вернуться, и только 6 июля удалось покинуть проклятый берег Кагехьи, где его столько времени преследовали несчастья.
Но впереди оказалось не меньше опасностей — они поджидали на каждом шагу. Бамбирехцы с отчаянной отвагой напали на экспедицию — опять приходится драться, причем в ужасных условиях. Казалось, беда близка… Стенли был уже близок к поражению, когда вдруг появилась колонна воинов, которую на помощь путешественнику послал Матеса.
И вот наконец Стенли довел спутников до безопасных мест в державе Матесы. Оттуда Генри Мортон хотел немедленно отправиться на другое озеро, которое хотел описать — Мута-Нзиге[38]. Он попросил сопровождения с целью пройти через страну Униоро, но государь ответил, что это сейчас невозможно: идет война с мятежным племенем вуавума. Монарх должен сам отправляться в поход, а пока он на войне, никто не позволит пройти путешественникам. После войны Стенли немедленно получит столько людей, сколько требуется.
Получив столь безусловное обещание, путешественник не стал настаивать и даже решил пойти на войну сражаться с Матесой бок о бок.
Государь призвал в армию сто пятьдесят тысяч человек; с ними шло пятьдесят тысяч женщин и столько же детей — итого в лагере собралось двести пятьдесят тысяч человек. Невозможно забыть зрелище, когда все это огромное черное воинство выступило в поход. Вся армия была еще больше — следом двигались полки вассалов и союзников Матесы. На ночь войска располагались в тридцати тысячах круглых хижин, между которыми возвышались остроконечные крыши жилищ вождей. Рядом с собственной штаб-квартирой Матеса распорядился построить дома для Стенли и его людей.
Неприятель сосредоточился на острове Ингира; он хотел навязать Матесе бой на воде: люди вуавума были превосходные моряки, угандийцы же умеют сражаться только на суше. В первых стычках армия Матесы понесла серьезный урон.
Тогда, рассказывает Адольф Бюрдо, Стенли изобрел для Матесы тройной корабль, который так же поразил людей вуавума, как некогда деревянный конь — троянцев[39]. Американец соединил шестами и прутьями три самые большие пироги. Получилось загадочное сооружение, непонятным образом передвигавшееся: двести воинов, сидевших в боковых пирогах, были скрыты от глаз. Вуавума в ужасе собрались на совет: увидав эту диковину, решили, что духи помогают Матесе, и поспешили начать мирные переговоры. Мятежники признали себя подданными Матесы, согласились платить государю требуемую дань — только бы корабль-призрак убрали с их глаз долой. Война окончилась, и воины разошлись по домам.
Тогда Стенли напомнил правителю Уганды про его обещание, которое государь не замедлил сдержать — дал путешественнику двухтысячный полк под командой военачальника Стамбузи. Так Стенли смог войти в недружелюбную землю Униоро, где правил царек Каба-Рега, или Кабрега[40], которого на престол посадил сам Матеса. Но обстоятельства сделали Кабрегу врагом белых людей. Некогда на Униоро напали египетские войска под командованием сэра Самюэла Бейкер-паши, и с тех пор царек поклялся не пускать в свое царство ни европейцев, ни египтян. Вот вам, пожалуйста, доказательство, как европейцы должны быть осторожны в отношениях с туземцами, когда идут по их земле с большим вооруженным отрядом! Ни в коем случае нельзя допускать малейших конфликтов с ними — лучше, может быть, иногда даже отступить, чем нажить смертельных врагов.
Стамбузи увидел, что люди Униоро настроены враждебно и, чего доброго, нападут на него. Тогда он собрал вождей на совет — и все в один голос решили вернуться домой, даже не попытавшись дать бой.
Путешествие уже в который раз могло сорваться; Стенли протестовал, грозил Стамбузи гневом матесы — но ничего не помогало. На другое утро барабаны пробили сигнал к отступлению, которое совершилось благополучно. Стенли пришлось последовать за малодушными воинами Стамбузи — в Униоро было слишком опасно, — но на земле Уганды он немедленно расстался с ними, так и не попав на Мута-Нзиге.
Узнав о проступке Стамбузи, Матеса страшно разгневался, велел его схватить, разжаловать, заковать в железа и бросить в темницу, где вскоре тот бесславно и скончался.
Затем государь послал к Стенли и просил воротиться, обещая дать американцу, если потребуется, целую армию. Но путешественник уже переменил планы. Он велел передать великодушному угандийскому монарху горячую благодарность, но на том их отношения прекратились. Впредь Стенли зарекся ставить себя, свое время и замыслы в зависимость от могущества и благорасположения какого-нибудь африканского князька — он был сам себе хозяин.
Идти намеченным путем стало нельзя. Поэтому Стенли направился к озеру Акенагара, которому дал имя Александра, нанес на карту течение реки Кагеры, четырнадцатью годами ранее открытой Спиком, и другой реки, впадающей в озеро Виктория, — Юджези. Обе реки текут с юга на север и, кажется, сообщаются с водной системой, в которую входят истоки Нила.
Затем постоянные стычки с туземцами опять преградили Стенли дорогу и вынудили изменить маршрут. Не без сожаления он расстался с землей, которую омывают воды, питающие древнюю реку фараонов, и вернулся к Танганьике. Американец не подозревал, что благодаря такому крюку ему удастся открыть Конго.
Двадцать седьмого мая Стенли пришел в Уджиджи, где четыре года назад отыскал Ливингстона.
На Танганьике Стенли хотел прежде всего составить подробное описание западного берега озера и главным образом убедиться, вытекает из этой огромной водной чаши река или нет. Камерон, побывавший там несколько лет тому назад, склонялся к утвердительному ответу; он указывал, что из озера может вытекать река Лукуга, впадающая, вероятно, в реку Ливингстона. Стенли, напротив, полагал, что стока из озера нет. Эта мысль еще более укрепилась в нем благодаря следующему наблюдению. В ноябре 1871 года на базарной площади в Уджиджи росли три пальмы. В 1876 году они стояли уже в воде, в доброй сотне футов от берега, а пляж, где Стенли некогда прогуливался с Ливингстоном, был покрыт водой на ширину в двести футов. Если уровень воды так повышается, резонно рассуждал наш герой, значит, стока у озера нет. Правда, близ экватора леса так густы, что реку, вытекающую из озера, на какое-то время может перегородить целая гора из веток и листьев; вода не в состоянии пробиться через завал, и случается, даже меняет русло.
Стенли с радостью убедился, что оказался прав, но, чтобы подтвердить свою догадку, внимательно исследовал берега Танганьики, собрал множество сообщений туземцев, произвел тщательные наблюдения и пришел к выводу: за последние несколько лет вода в озере заметно прибыла и стока из него быть не может. Арабы в Уджиджи тоже подтвердили, что уже тридцать лет вода прибывает постоянно: раньше здесь были рисовые чеки, а теперь это место милях в трех от берега, и каждый год озеро заливает все новые распаханные земли.
Вернувшись из поездки по Танганьике, Стенли застал лагерь, доверенный попечению Френсиса Пококка, в плачевном состоянии. Молодого человека трепала жестокая лихорадка, пятеро занзибарцев умерло от оспы, десять человек опасно болели, остальные совсем пали духом. Большинство решило сбежать, пока не поздно: они боялись — на самом деле или нет, — что в стране маньема[41], где Стенли собирался продолжить прерванные труды Ливингстона и Камерона на Луалабе, их съедят людоеды.
Начальник принял энергичные меры. Он прилюдно арестовал и под строгим конвоем отправил домой самых неисправимых горлопанов и главарей. Оставалось сто тридцать два человека; у ста двух из них Стенли отобрал оружие и отдал тем тридцати, в которых был совершенно уверен.
Он также строго наказал нескольких пойманных беглецов. От зачинщиков мятежа Стенли избавился, колеблющихся ободрил. После этого он покинул Уджиджи и перебрался в Угухху, на восточном берегу озера.
Два месяца спустя экспедиция пришла в Ньянгве в земле Маньема. Некоторые купцы из Уджиджи хотели отправиться туда вместе со Стенли, но он никого с собой не взял.
В Ньянгве живут главные работорговцы Центральной Африки; одни из них белые, другие полуарабы. Именно там Стенли повстречал Хамеда бен Мохаммеда, более известного под прозвищем Типпу-Тиб; с этих пор последний стал играть весьма важную роль в экспедициях англо-американского путешественника.
Тогда Типпу-Тиб был еще молодым человеком — высокого роста, с густой волнистой бородой, темнокожий, быстрый в движениях, с умным лицом и прекрасными живыми черными глазами. Стенли очень ему понравился; путешественник, со своей стороны, долго изучал арабского купца и, поговорив с ним, пришел к заключению, что перед ним один из замечательнейших людей в этой стране.
Путешественник попросил Типпу-Тиба собрать большой отряд и сопровождать его в бассейн Луалабы. После долгих переговоров Типпу-Тиб согласился.
Он уже был проводником у Камерона; тот не имел лодок и потому был вынужден направиться на юг, тем более что его, как раньше Ливингстона, преследовали враждебно настроенные туземцы.
Типпу-Тиб подрядился сопровождать Стенли в продолжение шестидесяти переходов за пятнадцать тысяч франков и рацион для ста сорока человек на время похода.
Пятого ноября 1876 года отряд из трехсот пятидесяти человек — в том числе сто рабов — присоединился к людям Стенли и они вместе направились в путь через джунгли, которых Типпу-Тиб не знал. Только через две недели тяжелейшего похода Стенли вышел к огромной реке — и сразу догадался, что это Конго.
Колонна разделилась: часть людей пошла вниз по реке на лодках вслед за «Леди Алисой», другая — берегом. Оба отряда все время держались в виду друг друга и по тревоге готовы были прийти друг другу на помощь. По ночам все вместе разбивали лагерь на берегу.
Восьмого декабря туземцы пришли в себя от первого испуга и в первый раз напали на экспедицию. Бои продолжались целую неделю подряд без передышки. Идти приходилось все время под градом стрел, которыми враги осыпали отряд, коварно притаившись за деревьями.
Напрасно люди Типпу-Тиба изо всех сил кричали:
— Мир! Мир!
В ответ из-за деревьев раздавались лишь оглушительные крики:
— Мы враги! Мы враги! Мы хотим вас съесть! У! У! Мясо! Много мяса! У! У! У!
В завершенье бед отряд поразила эпидемия, наповал косившая людей Типпу-Тиба, менее стойких, чем спутники Стенли. Оспа, дизентерия и грудные болезни в считанные дни унесли шестьдесят человек; прочие так пали духом, что Типпу-Тиб попросил освободить его от принятых обязательств — до окончания договора оставалось всего шесть дней перехода.
Стенли согласился и даже одарил Типпу-Тиба богатыми дарами за службу, которую тот нес в совершенно непредвиденных критических обстоятельствах. 23 декабря американец расстался с арабом и отправился вместе со всеми людьми по воде; флот экспедиции состоял из «Леди Алисы» и двадцати двух пирог. Отряд спускался по реке, не переставая отчаянно отбиваться от людоедов.
И это было еще не все. К многочисленным врагам, тяготам долгого пути, беспощадным болезням прибавились естественные преграды, как будто сама слепая природа возжелала помешать путешественнику идти дальше.
Пришел 1877 год. 5 января Стенли открыл возле экватора приток Луалабы, названный им в честь бельгийского короля рекой Леопольда, и тут же увидел, что, встретив огромный холм высотой более трехсот футов, Луалаба резко поворачивает на восток. Там же, на правом берегу, у самой излучины он увидел белую гранитную скалу. За нею слышался глухой, но очень сильный шум, будто кто колотит палкой по пустому котлу.
Это оказались водопады, которые Стенли окрестил своим именем. Итак, на берегу его сторожили каннибалы, на реке разверзалась бездна. Стенли предпочел бороться с людьми.
Он бросил якорь, совершил смелую высадку на берег, разбил полчище дикарей и устроил себе лагерь. Дальше надо было тащить двадцать три судна по горам и долам, пока не появится возможность спустить их на воду ниже водопадов. Титаническая работа — притом путешественники окружены враждебными племенами, которые стояли на пути отряда, сторожили его под деревьями. Стенли разделил экспедицию на несколько маленьких частей; в каждой такой группе находились носильщики, тащившие лодки, и стрелки, оборонявшие колонну от нападений с обеих сторон. Одни группы шли днем, другие ночью.
Чтобы обогнуть один водопад, требовалось больше трех суток таких трудов — а водопадов только в этом месте было семь! В последнем из них вода падает не отвесно, а стремительно катится по склону. Слева — пятьдесят метров ревущей воды, справа — на пятьсот метров отвесный обрыв, ниже по течению — больше тысячи порогов, подобных движущимся холмам, окутанным тучами радужных брызг. А с обоих берегов доносятся нечеловеческие вопли людоедов: «Мясо! Мясо!»
За период с 23 ноября по 19 января Стенли дал двадцать четыре боя. Ниже водопадов на какое-то время наступила передышка, но увы! Покой недолго улыбался этим людям, которым отовсюду угрожала ужасная смерть. Вскоре надоедливые, ничем не оправданные нападения удвоились — ежедневно и еженощно путешественникам приходилось прорываться сквозь ряды черных демонов.
В устье Арувими, большого правого притока Конго, в устье достигающего ширины трех километров, всю экспедицию чуть не перебили. Когда Стенли начал подниматься по Арувими, чтобы осмотреть его берега, как флотилию окружило более двух тысяч оглушительно кричавших вооруженных негров на пятидесяти четырех пирогах!
— Держитесь до последнего! — крикнул Стенли своим людям. — Не тратьте даром патронов! Спасти нас могут только ружья. Ну, вперед, ребята!
К счастью, тогда занзибарцы уже закалились в боях. С поразительным хладнокровием они подпустили неприятеля на пятьдесят метров и открыли адский огонь. Целый ураган свинца обрушился на ряды черных тел в лодках. Враги дрогнули и бежали, в панике высадившись на берег и затворившись в своих деревнях. Стенли в праведном гневе погнался за ними на берег, ворвался в деревню, разграбил ее, перебил всех туземцев и завершил кровавый день огромным пожаром.
Только три десятка человек Стенли избежали ранений.
В земле бангала пришлось дать еще одно сражение, самое, пожалуй, тяжелое, но уже последнее — тридцать второе по счету! В тот день путешественник впервые столкнулся с неграми, использующими для ружей конические, а не круглые пули. Это было, конечно, гораздо опаснее, но вместе с тем означало, что европейские фактории уже недалеко: только там есть огнестрельное оружие и порох, которые купцы безрассудно продают дикарям.
Экспедиция подошла к большому, подобному озеру разливу Конго (его площадь около шестидесяти квадратных километров), названному позднее Стенли-Пул[42]. Там больше не было внезапных нападений и беспощадных боев: торговля с европейскими колонистами цивилизовала туземцев, и они уже не бросаются с яростью, как охотники на добычу, на всех чужаков.
Конго опять встретило путешественников ужасными водопадами. Снова приходилось перетаскивать лодки; туземцы больше не нападали на отряд, но приходилось еще труднее, потому что сама местность была труднопроходимой — лодки в обход водопадов тащили не просто по лесам и болотистой пойме реки, но еще и через высокие горы.
Невероятная тяжесть!
Именно здесь, совсем близко от желанной цели, видневшейся в тумане, как Земля Обетованная, погиб последний из белых товарищей Стенли — несчастный Френсис Пококк. Бедный юноша свалился в порог Массасса; он прекрасно плавал, но бездонный водоворот все равно поглотил его. Казалось, что злой рок преследовал всех европейцев, решившихся попытать удачу вместе со Стенли.
Через несколько дней путешественник бросил на произвол судьбы «Леди Алису»; он устал постоянно бороться с рекой и теперь был уверен, что европейские поселения уже совсем близко. Славное судно, пересекшее всю Африку, рухнуло в водопад Иссангила, и обломки его скрылись на сорокаметровой глубине. Экспедиция продолжила путь берегом и попала в очень бедную страну, где земля почти не обрабатывалась; местные жители признавали в качестве средства обмена только ром! Не правда ли, оригинально: требовать ром у людей, пересекших Центральную Африку…
Подходя к порту, путешественники почти буквально умирали от голода.
Физические силы Стенли подошли к концу — но не душевные. Он написал на трех языках послание о помощи, адресованное первому встречному европейцу, и послал трех самых крепких людей вниз по берегу, насколько хватит им сил.
Посланные возвратились вместе с агентами фактории Бома и доставили провизию. Экспедиция была спасена!
Девятого августа 1877 года, через девятьсот девяносто девять дней после выхода с Занзибара, Стенли достиг западного берега Африки.
Он решил одну из величайших географических проблем XIX века — проследил течение Конго. Но какой ценой! При выходе с Занзибара караван насчитывал четырех европейцев и триста шестьдесят шесть чернокожих. К Атлантическому океану вышло сто девять человек, и из них лишь один белый — Стенли!
ГЛАВА 3
Международная африканская ассоциация. — Бельгийское Конго. — Эмин-паша. — Вверх по Арувими. — Майор Бартлот. — Возвращение Эмина.
Когда Стенли шел с боями вниз по Конго, бельгийский король Леопольд II созвал 12 сентября 1876 года в брюссельском дворце съезд путешественников и ученых. На нем была создана Международная африканская ассоциация, имевшая целью распространение цивилизации в неисследованных местах варварской Центральной Африки, для чего предполагалось создать целую сеть научных и благотворительных учреждений. Большинство цивилизованных стран откликнулось на этот призыв; исключением, конечно, была Англия, не желавшая терять свободу действий и возможность при удобном случае оставлять за собой любые земли.
Программа была, бесспорно, прекрасна — проста и гуманна. Умиротворить вечно воюющие племена, излечить чудовищную язву рабства, принести черным братьям неоценимые преимущества нашей цивилизации не только в виде пороха и алкоголя — как могло это все не привлечь выдающихся личностей, составивших исполнительный комитет! Францию, в частности, там представляли господа де Катрфаж, Анри Дювейрье и адмирал Ла Ронсьер де Нури.
Отважные бескорыстные путешественники бросились, следуя примерно путем Камерона, в те места, которые следовало взять под европейскую опеку, — и…
Это все продолжалось примерно три года. Затем в один прекрасный день, в декабре 1879 года, ассоциация стала попросту Комитетом по изучению Конго — заурядным, хоть и очень богатым, коммерческим предприятием под управлением бельгийского короля.
Нечего и говорить, что наши знаменитые соотечественники оставили ассоциацию после первого же нарушения ее программы.
Зачем было новоявленному комитету брать на себя риск малодоходных, а то и вовсе убыточных дальних экспедиций? Перед европейцами уже лежал бассейн недавно открытой Стенли великой реки, где они могли найти экзотику, пленяющие и едва разведанные богатства! Старый путь с Занзибара к Великим озерам немедленно забыли. Новое коммерческое общество, остановив свой выбор на Конго, назначило Стенли генеральным агентом комитета, наделив его всеми полномочиями для обустройства и эксплуатации края.
Во Франции почти не заметили, какая опасность создавалась для нашей торговли и политического влияния в этих местах, и не оценили важности предприятия. Цель у Стенли была простая: сделать главным путем для торговли с Центральной Африкой вместо реки Огове — Конго, разорить наш Габон и предать забвению открытия великого нашего путешественника Саворньяна де Бразза[43].
У Стенли здесь был двойной интерес: он удовлетворял свою нелепую, стойкую и безрассудную ненависть к Франции (а ведь она приветствовала его!) и сторицей умножал богатства Комитета. Займи он первым судоходную часть Конго — лежащее выше последних водопадов озеро, известное как Стенли-Пул, — и с влиянием Франции на западе Экваториальной Африки было бы покончено.
Скоро мы прочтем описание путешествий де Бразза и увидим, при помощи каких чудес душевной энергии отважному нашему офицеру удалось, опередив Стенли, приобрести для Франции правый берег великой реки и отбросить границу бельгийских владений за Конго.
Увидим мы и то, до каких смешных непристойностей по отношению к сопернику дошел славный спаситель Ливингстона, какую мелочную ревность и в каких нелепых выражениях выказал столь заслуженный человек.
Пять лет Стенли непрерывно работал над созданием новой колонии[44], посвятив всего себя успеху этого дела. Все совершалось мирно, чего никто не ожидал, зная характер Генри Мортона и его прежние отношения с туземцами. Как ни странно, Стенли, столь дурно встреченный местными жителями во время первого путешествия, на сей раз обошелся без единого сражения. Собственно, эта экспедиция даже и не была путешествием, путешествием в неизведанное, не изобиловала, как прежние, волнующими эпизодами и важными открытиями — это было, как мы уже сказали, просто коммерческое предприятие. К тому же путешественник, в прошлый раз штурмовавший великую реку на утлой «Леди Алисе», теперь имел флотилию стальных пароходов. Он шел завоевывать новый мир на деньги бельгийского короля во главе целой армии занзибарцев, хауса[45] и кабинда[46].
Здесь, как никогда, этот авантюрист, кондотьер, безродный наймит, служащий тому, кто больше заплатит, оказался в своей стихии. Больше нечего сказать об этом периоде жизни Стенли. Мы и упомянули-то о нем только для полноты картины, чтобы не терять своего героя из виду, пока честолюбие не позвало Генри Мортона на новые подвиги.
Теперь необходимо историческое отступление, чтобы в нескольких словах изложить события, ставшие причиной последней, самой нашумевшей экспедиции Стенли.
Хедив Исмаил, продолжая политику Мехмеда-Али[47], задумал превратить свое вице-королевство в огромную империю, простирающуюся вплоть до Великих африканских озер. Вероятно, он был для этого слишком слаб и, несомненно, слишком беден. Поэтому в 1879 году хедив был вынужден отречься в пользу Тауфика, над которым европейские державы установили опеку. Через три года разразилось восстание Араби, против которого вызвали все боеспособные войска из Судана. Этой ошибкой воспользовался Махди Мохаммед-Ахмед[48], поднявший против египетского правительства разоренные налогами племена Верхнего Нила, а также работорговцев, поскольку их промысел собирались прекратить. Известно, как Махди начисто разбил и уничтожил в Кордофане[49] египетские войска под командованием англичанина Хикс-паши.
Затем англичане одержали слишком легкую победу при Тель-эль-Кебире, над Суданом установили египетский протекторат и борьба продолжилась, но безуспешно. Баркер был жестоко разбит под Токаром[50], и в Хартум послали генерала Гордона, весьма популярного в Верхнем Египте.
Гордон был назначен генерал-губернатором Судана, Дарфура и всех экваториальных провинций[51]. Он взял к себе вице-губернатором доктора Эдуарда Шницлера — германского подданного еврейского происхождения.
Родился доктор Шницлер в 1840 году, служил в Армении, Сирии и Аравии. Он взял себе имя Эмин-Эффенди Хаким (верный доктор) и по представлению Гордона был назначен губернатором Экваториальной провинции (по-арабски: Хаталь-Астива) с титулом бея.
Что случилось затем — известно: Хартум пал[52], Гордон погиб, махдисты, одержав ряд побед, продвинулись до Газельей реки (Бахр-эль-Газаль)[53], за которой начиналась провинция Луптон-бея. Только Эмин сопротивлялся сподвижникам Махди; сосредоточив свои войска на юге — сперва в Лодо, затем Уаделаи, — он дожидался там, чем все закончится. События обернулись для него благоприятно. Сначала Эмин подавил бунт туземцев бари[54], убивших Линана де Бельфона, покорил динка[55] и чиров, затем, вернув оставленные на время посты Регах и Ладо, успешно утвердил власть на большей части вверенной ему провинции.
Так продолжалось довольно долго. Эмин держался, но запасы его постепенно оскудевали. Он ожидал в Уаделаи помощи или хотя бы инструкций, после чего намеревался отправить домой через Уганду или Карагве чиновников и египетских солдат (в случае, если Судан будет безвозвратно потерян), а сам готов был остаться, пока правительство не «уведомит его о своих пожеланиях». Впрочем, Эмин давал понять, что войска трудно будет уговорить уйти из Судана — «даже ему самому эта мысль противна». С другой стороны, он ясно понимал, что без помощи долго не продержится.
Еще незадолго перед тем как было решено отправить ему помощь, Эмин считал свое положение совсем не безнадежным: у него было две тысячи превосходных солдат, оружие, боеприпасы, походное снаряжение, амуниция, провиант и все необходимое.
Но англичанам, которые пальцем не шевельнули, увидев трагическую гибель Гордона, вдруг пришло в голову все бросить и побежать спасать Эмина. Господину Юнкеру[56] — одному из участников кошмарной хартумской эпопеи — удалось спастись, и он возбудил в британском общественном мнении сочувствие к осажденным в Уаделаи.
Вскоре в Лондоне был создан комитет — «Эмин-паша релиф экспедишн комити» — под председательством мистера Маккиннона[57], директора Британско-Индийской судоходной компании, и вскоре по подписке были собраны необходимые средства — около пятисот сорока тысяч франков.
Оставалось найти начальника экспедиции; кандидат оказался один — Генри Мортон Стенли.
Правда, в широкой публике поговаривали, что знаменитый путешественник устал и подобная воинственная натура не годится для спасательной миссии. Это не возымело действия — Стенли был назначен комитетом единодушно. В это время он выступал с публичными лекциями в Америке и его вызвали телеграммой. Генри Мортон немедленно согласился, бросил чтения, сел на пароход, 23 декабря 1886 года прибыл в Саутгемптон и поспешил в Лондон, где сэр Уильям Маккиннон с нетерпением ожидал его.
Каждый вправе спросить: если в Англии, где так редки бескорыстные акции, развивается такая деятельность, собирается по подписке значительная сумма, снаряжается экспедиция и к тому же интересы страны представляет не кто иной, как Стенли, — какие за этим стоят материальные соображения?
Что за дело себялюбивому Альбиону[58] до немецкого еврейчика Шницлера, потерявшегося где-то на южной оконечности озера Альберта с горсткой суданских негров?
За этим действительно кое-что крылось.
В декабре 1887 года — через девять месяцев после отправления экспедиции Стенли — стало известно, что английская компания «Бритиш-Ист-Африкен ассошиэйшн» во главе с тем же самым мистером Уильямом Маккинноном заключила договор с занзибарским султаном Брагашем бен Саидом, уступавшим Англии суверенитет над частью своего султаната — 350 километров побережья от Ванги до Виту с портами Момбасой и Малинди.
А от Момбасы до Уаделаи по прямой линии 1200 километров. Конечно, англичане не просто так заняли восточное побережье Африки. Стало очевидно, что Британия собирается проторить себе широкую дорогу к озеру Виктория и создать обширную колониальную империю, с одной стороны выходящую к Индийскому океану, с другой — достигающую плодородных нильских стран.
Вот как просто все объясняется. В Англии, как нигде, умеют из всего извлекать пользу.
Впрочем, уже в сентябре того же года не оставалось никаких сомнений, что именно заставляет Англию заниматься делами в центре Африки. Вот как высказывалась на этот счет одна из крупнейших немецких газет:
«В Германии не поняли еще настоящей цели экспедиции Стенли. В сущности, цель у нее только одна: утвердить английское господство в экваториальных областях Египта и предотвратить попытки их аннексии со стороны Франции или других держав. Опираясь на соглашения, заключенные с Германией, Англия не встретит серьезных препятствий для создания колониальной империи, которую ожидает самое блестящее будущее».
Позже мы увидим, насколько серьезны такие заявления со стороны немцев — тех самых, что завладели Эмином и аннексировали Занзибар.
Прежде всего следовало решить проблему выбора маршрута. Путь через озера для путешественников был закрыт — там туземцы враждовали с белыми. Стенли выбрал путь по Конго — длиннее, но, как казалось, безопасней.
В помощники себе он взял инженер-лейтенанта Стэрса[59], кавалерийского капитана Нельсона, пехотного майора Бартлота[60], господ Джефсона, Трупа, Бонни, Джемсона[61] и доктора Пэрка[62]. Сборы Стенли провел как можно быстрее, обращая особое внимание на вооружение: с ним было не менее шестисот карабинов «Винчестер» и «Ремингтон», тысяч двести патронов, две тонны пороха и пулемет «Максим».
Затем американец направился в Каир и получил от хедива фирман[63] с инструкциями для Эмина.
Вице-король разрешил Стенли нанять шестьдесят черных добровольцев и вести экспедицию под египетским флагом. 6 февраля 1887 года Стенли отплыл в Аден, где майор Бартлот уже вербовал сомалийцев, а оттуда направился на Занзибар.
Там случилось примечательное событие. Уже известный читателям, воспетый центральноафриканскими трубадурами за могущество и доблесть, Типпу-Тиб (собственно, Хамед бен Мохаммед: Типпу-Тибом его прозвали из-за мигающих глаз), богатейший арабский купец, считавшийся вассалом Баргаша бен Саида, на деле — полновластный государь Маньемы, — признал Стенли своим начальником и согласился участвовать в его экспедиции.
Двадцать второго февраля 1887 года вся экспедиция — европейцы, арабы и негры — сели на пароход «Мадура» Британско-Индийской компании. 18 марта люди, багаж и экипировка прибыли в порт Банана в устье Конго.
На другой день Стенли отправился в Матади[64]. 21 числа первая колонна сошла там на берег и двинулась к Леопольдвилю.
После долгих препирательств с американской миссией на озере Стенли удалось кое-как отправить экспедицию на пароходах, принадлежащих Независимому государству Конго, баптистской[65] миссии и американской миссии.
Тридцать первого мая эскадра достигла страны бангала. Типпу-Тиба Стенли нанял главным образом для охраны тыла, в районе водопадов, от работорговцев. Поэтому араба отправили на заранее подготовленную стоянку, и американец строго-настрого приказал поддерживать там порядок и со временем прислать носильщиков для главных сил экспедиции. Типпу-Тиб с сотней человек отправился на пароходе «Генри Рид», а Стенли продолжил свой путь: достиг реки Арувими и несколько дней шел на пароходах вверх по ней.
Восемнадцатого июня Генри Мортон бросил якорь у Ямбуйи[66] перед порогами, которые сам же открыл в 1883 году. Пароходы больше не требовались, и их отправили назад в Леопольдвиль, оставив лишь большую стальную шлюпку «Аванс» (в разобранном виде доставленную из Англии). В Ямбуйе Стенли устроил укрепленный лагерь, где разместил большую часть багажа, провизии и снаряжения, прибывших с пароходами, — дальше идти приходилось пешком и перенести все это не хватало рук. Склад Стенли доверил охранять майору Бартлоту, с которым оставался еще мистер Джемсон и 257 солдат. При появлении шестисот носильщиков, обещанных Типпу-Тибом, майор должен был идти следом за Стенли, если же араб не сдержит слова — переносить груз из лагеря в лагерь по частям. Само собой разумелось, что в последнем случае все это займет огромное количество времени и труда и Стенли повстречает майора уже на обратном пути из Уаделаи — главной цели экспедиции.
Двадцать восьмого июня Стенли отправился в путь к озеру Альберта; с ним были капитан Нельсон, лейтенант Стэрс, доктор Пэрк, мистер Джефсон, 414 солдат и 54 слуги[67].
Расстояние от Ямбуйи до озера Альберта определяется примерно в семьсот километров. Это, конечно, значительная дистанция, но вполне преодолимая для человека, у которого, как у Стенли, есть многочисленный, хорошо вооруженный и обстрелянный отряд. Делая по пятнадцать километров в день, весь путь можно пройти за пятьдесят пять дней. Наши путешественники — де Бразза, Крево, Неис, Жиро, Шаффанжон, Кудро — с несравненно меньшими силами, в столь же неисследованной и неприветливой — возможно, еще более опасной — местности проходили не меньше.
Температура была 30° в тени. Караван шел по торной тропинке, время от времени уходившей в густые заросли. Туземцы втыкали в тропинку острые бамбуковые палочки, чтобы носильщики напоролись на них босыми ногами, — и разбегались прочь из деревень. Несколько раз отряд обстреляли из-за деревьев — по счастью, стрелы не причинили вреда.
Шлюпку спустили на воду и погрузили в нее больных и раненых, здоровые же продолжали идти берегом. 5 июля дневали в Буканде и немного запаслись провиантом. 10-го пришли к порогам Гуэнгуэрэ. На берегу у порогов стоят семь больших деревень, оказавшиеся безлюдными; там было много зерна, но ни куска мяса. 19-го шлюпка застряла в верхней части порога, и пришлось расчищать ей проход. В Марири кое-что случайно выменяли у довольно-таки расточительных туземцев. 25 июля экспедиция столкнулась с роем разъяренных ос, укусы которых очень болезненны. 4 августа пришли к водопадам Панга. Восьмого числа тянули лодки бечевой. С 8 по 13 августа попадались одни пустые хижины.
«Тринадцатого августа, — пишет Стенли, — я пришел в Ависиббу. Туземцы решительно не хотели меня пропускать и убили отравленными стрелами пять наших людей[68]. Лейтенант Стэрс получил тяжелую рану в трех сантиметрах под сердцем. Он страшно страдал и встал на ноги лишь через месяц».
Двадцать первого августа умерли двое раненых и четверо больных дизентерией. Тридцатого дошли до лагеря Угарруэ[69], который в 1860–1863 годах прислуживал Спику и Гранту. Стенли договорился с неграми и разбил для отряда лагерь на берегу Арувими, которая здесь называется Итоми[70]. Пятьдесят шесть больных были оставлены на попечение Угарруэ, который должен был содержать их из расчета двадцать пять франков[71] на человека в месяц, пока не явится майор Бартлот.
Пятнадцатого сентября Стенли отправился дальше[72], избавившись от больных и будучи спокоен за тыл, обеспеченный майором, хорошо отдохнул и запасся провизией на несколько дней. Поскольку все больше людей убегало с багажом и оружием, 20 сентября Стенли пришлось для примера повесить пойманного беглеца. К 30 сентября провиант катастрофически иссяк. 4 октября голод усилился, три человека сбежали, двое умерли от дизентерии. 7-го — в отряде еще пятьдесят больных, неспособных передвигаться; провианта нет.
Стенли пришлось оставить больного капитана Нельсона с пятьюдесятью двумя больными, восемьюдесятью тюками товаров и десятью лодками (отныне это место стало называться Лагерь Нельсона). 9 октября людям досталось по два банана в день на человека — по десять граммов твердой пищи! 14-го съели по щепотке кукурузной муки[73]. Силы были на исходе, люди ужасно исхудали. 18 числа, когда вся надежда иссякла, экспедиция повстречала маньемов — охотников за слоновьими бивнями, — стоявших биваком возле Ипото; у них было много свежей еды. Охотники запросили втридорога, отряд совсем разорился, но хотя бы раздобыл наконец провизию. 26 октября Стенли уговорил вождей маньемов за некоторую плату отправить тридцать человек на помощь к капитану Нельсону. Вместе с ним отправился Моунтеней Джефсон, и вот в каких волнующих душу выражениях рассказывает он о встрече с несчастным товарищем:
«Я спустился с холма к биваку; по дороге не было слышно ни звука — только в одной хижине стонали двое умирающих. Лагерь походил на кладбище. Нельсон сидел один в своей палатке. Мы пожали друг другу руки — и у него вырвалось рыдание. Он совсем обессилел; взор застыл и странно блестел, губы пересохли, глаза были окружены глубокими морщинами. Он сказал мне, что совсем отчаялся, не получая известий, и думал, что с нами стряслось что-то ужасное. Питался он почти исключительно ягодами и грибами, которые слуги приносили из леса. Из пятидесяти двух людей, оставленных ему Стенли, налицо были пятеро — все остальные сбежали или умерли».
Стенли договорился с маньемами, как прежде с Угарруэ, что оставит у них больных и раненых. Остался и доктор Пэрк — больные нуждались в его помощи.
Так постепенно таял отряд Стенли. Он отправился из Ипото 28 октября — ровно через четыре месяца после выхода из Ямбуйи. Деревни в этих местах стоят на полянах посреди леса, и добраться до них невероятно трудно — кругом неслыханное нагромождение остатков первозданной чащи: повалившихся деревьев, сгнившего хвороста, стволов, сучьев. Люди там едва могут идти и все время спотыкаются, что очень опасно. Маньемы говорили, что рядом есть деревни пигмеев; 31-го Стенли нашел одну из них, но она была пуста. Никто уже не мог сосчитать, сколько прогремело гроз со страшными громами и проливным дождем. 4 ноября экспедиция миновала еще пять заброшенных пигмейских деревень. 9 ноября Стенли и его люди, умирая от голода, добрались до пигмейского лагеря, а оттуда до Ибуири; там туземцы жили в довольстве и встретили путешественников с распростертыми объятиями.
Сколько же было еды на этой огромной — пять километров в диаметре — вырубке!
«Как мы пировали 10 ноября! — пишет Стенли. — С 31 августа никто из нас не наедался досыта, здесь же — изобилие бананов, бататов, овощей, ямса, бобов, сахарного тростника, кукурузы, дынь; целое стадо слонов численностью с наш отряд в десять дней не сожрало бы всего этого». Тринадцать дней оставались путешественники в этих райских местах, а 24 ноября направились к озеру Альберта, до которого оставалось еще сто пятьдесят шесть километров. На перекличке насчитали сто семьдесят пять человек — со времени выхода из Ямбуйи, то есть за 199 дней, Стенли потерял сто одиннадцать душ![74]
Первого декабря с вершины только что открытой горы, названной Пизга, показался район Великих озер. 5 декабря экспедиция вышла наконец на открытое место — с каким восторгом все устремились прочь из опостылевшего леса! 9 числа путешественники вошли во владение могущественного вождя Мазамбуи;[75] тотчас по горам пробежали зычные воинские кличи, созывавшие всех туземцев на бой. Разразилась настоящая битва — и путешественникам досталась в трофей… корова! С самого побережья они не ели жареного мяса… Мощный отпор остудил пыл туземцев; за ночь они одумались и наутро согласились принять обыкновенные подарки — ткани и проволоку, с тем чтобы показать их Мазамбуи. Но тот отверг дары белого человека и официально запретил ему идти дальше. Получив ультиматум, Стенли с обычной решительностью применил силу и два дня неустанно крушил войска Мазамбуи. 13 декабря в половине второго путь был открыт и экспедиция вышла к озеру Альберта под 1°20′ северной широты. 15 числа она достигла поста Кавалли на западном берегу озера.
А дальше что? Тут никакого Эмина нет. По суше до Уаделаи не дойдешь, водным путем Стенли тоже не доберется. Послать Эмину депешу, а самому остаться в Кавалли — нечего и думать: прокормиться здесь нечем. Стенли решил покуда вернуться в плодородные земли Ибуири — оттуда он мог отправлять гонцов к Эмину, набрать новых людей, соединиться с теми, кто остался у Угарруэ, и, установив связь с майором Бартлотом, вызвать арьергард.
На все это нужно много, очень много времени. Но ведь известно: время и терпение — валюта путешественников…
Шестого января 1888 года Стенли вернулся и занялся постройкой удобного, крепко укрепленного лагеря и назвал этот форт Бодо[76]. Затем прошли дни, недели, месяцы…
Тем временем явились из Ипото доктор Пэрк и капитан Нельсон с больными. Сам Стенли тяжело заболел и выздоровел только 25 марта.
Второго апреля 1888 года ровно в полдень экспедиция вновь выступила к озеру Альберта. 16 числа, находясь в одном дне пути от озера, Стенли получил пакет из черной клеенки.
Там оказалось письмо от Эмина, отправленное из Тунгуру[77] 25 марта. Эмин просил Стенли «стоять на месте» и уведомить о своем местонахождении — Эмин туда прибудет сам. Впрочем, спешить ему было, видимо, некуда: лишь 29 апреля он приехал на пароходе вместе с помощником итальянцем Казати.
«Я ожидал, — пишет Стенли, — увидеть человека воинственной наружности, высокого и стройного. Явился же, к моему великому удивлению, тщедушный человечек в феске, холеный, в белоснежном, отутюженном и безупречно скроенном костюме. Темная — местами, впрочем, уже седеющая — борода обрамляла лицо венгерского типа, которому очки придавали как бы итальянский или испанский вид. Никаких следов болезней и лишений на этом лице не было — напротив, оно являло телесное здравие и спокойствие духа».
Они провели вместе три недели. Спасенный пришел на помощь спасителю: доставил Стенли и его офицерам еду, белье, одежду, обувь и лично подарил Стенли пару туфель.
Вспомнит ли Генри Мортон через несколько лет, с радостью сейчас принимая этот подарок взамен старых изодранных башмаков, с каким нелепым презрением он отнесся некогда к славному отряду де Бразза, босиком пришедшего на правый берег Конго?
Итак, Стенли убедился, что положение Эмина не так уж и плохо, как предполагали, и к тому же он меньше всего на свете хочет уехать из своей провинции. Увезти Эмина не представлялось никакой возможности — до того ему там оказалось хорошо.
Так зачем же тогда эта безумная гонка по лесам Арувими, постоянное напряжение, убитые и умершие от истощения люди? К чему было так надрываться?
Так или иначе, но ни убеждения Стенли, ни фирман хедива не смогли склонить Эмина (а ведь он был пашой) оставить свое губернаторство — разве когда-нибудь потом. Разочарованный Стенли отправился назад в форт Бодо, оставив при паше мистера Джефсона — вероятно, на выручку[78], — трех суданцев и трех занзибарцев. Взамен спасенный дал спасителю восемьдесят двух носильщиков[79] и большую охрану.
Восьмого июня Стенли вернулся в форт Бодо, где нашел остатки отряда, некогда порученного попечению Угарруэ. Из пятидесяти шести человек уже на месте скончалось двадцать да еще четырнадцать по пути — страшные цифры! Оставшиеся в живых двадцать два человека превратились в калек[80].
К тому же от майора Бартлота уже год не приходили никакие известия. Стенли заподозрил, что произошло несчастье, и счел необходимым вернуться в Ямбуйю — разыскать людей и снаряжение. Он прикинул: сто дней на дорогу туда, столько же на обратную. Двести дней! Если выйти 16 июня, в форт Бодо можно будет вернуться 2 января 1889 года, а к озеру Альберта — 22 января. Для людей, истощенных столь долгой уже борьбой против врагов и с естественными препятствиями, это оказался настоящий подвиг. Стенли совершил его сам, взяв с собою несколько самых сильных. Тяготы пути были невыносимы, мучения ужасны. Не доходя ста пятидесяти километров до Ямбуйи, в деревне Баналии, Стенли нашел-таки остатки своего арьергарда, но в каком состоянии! Майора Бартлота убил один из носильщиков, а весь отряд из двухсот семидесяти человек потерял сто семьдесят.
Ситуация сложилась следующая — Типпу-Тиб не выполнил обещания, Бартлоту не хватило решительности, а заменивший его Джемсон умер на обратном пути с водопадов: он ездил туда, чтобы уговорить Типпу-Тиба сдержать слово.
Двадцатого декабря, едва не погибнув в Голодном лагере, Стенли возвратился в форт Бодо.
Скажем кстати два слова об интереснейшем этнографическом открытии, совершенном Стенли во время потрясающих переходов через джунгли Арувими. Речь идет о кочевом племени онамбути, известном также под именем акка, батва или базунгу. Они поразительно малорослы: их рост колеблется от девяноста двух до ста тридцати восьми сантиметров[81], а вес самого крепкого туземца не превышает сорока килограммов. У них шоколадная кожа, живые глаза, курчавые волосы, крепкая выпуклая грудь, мускулистые, кривоватые ноги и сильные руки; они удивительно ловки. Для своего роста эти гномики очень хорошо сложены; живут они в лесу и питаются дичью, на которую сноровисто охотятся из маленьких луков со стрелами, смоченными в сильных ядах. Селятся они — иногда в огромном числе, по две — две с половиной тысячи душ — возле больших вырубок, на которых живут высокорослые земледельческие племена. Пигмеи — живые, подвижные, гневливые, агрессивные — паразитируют при акка, и последние волей-неволей вынуждены давать им сколько угодно зерна и овощей в обмен на скудные поставки дичи и звериных шкур. Несмотря на малый рост, онамбути все уважают и побаиваются: они смелы, жестоки и расправятся с любым, кто осмелится угрожать им.
Вернемся к Стенли. Он обещал быть на озере Альберта 16 января 1889 года — и сдержал слово. В Кавалли он нашел три письма от Эмина и два от Джефсона, из которых узнал о важных событиях, случившихся за время его отсутствия[82].
В египетском военном лагере Дуффилели начался бунт: офицеры Эмина отказались подчиняться начальнику и арестовали его, Джефсона и хотели даже арестовать Стенли, когда тот вернется; причиной мятежа явилось нежелание оставить провинцию. Трудно сказать, что случилось бы дальше, если бы в то же самое время не прибыли три дервиша от Махди с требованием сдачи Эмина. Египтяне и их посадили в тюрьму, но это был не выход. Увидев, что гонцы не возвращаются, махдисты выступили в поход и взяли Реджаф.
Бунтовщики пришли в замешательство, выпустили Эмина с Джефсоном и написали Стенли письмо с просьбой простить их и выручить. Генри Мортон очень умело воспользовался этими обстоятельствами: бунтовщикам доказал, что долго им все равно не продержаться, а Эмину доходчиво объяснил, какие проблемы ждут его с махдистами, в любую минуту готовыми напасть на него, и с подчиненными, в любую минуту готовыми взбунтоваться. Стенли говорил, убеждал — и паша согласился следовать за ним.
Но сколько же понадобилось для этого красноречия! Эмин до такой степени не хотел быть спасенным, что в самый последний момент Стенли все еще боялся, как бы тот не ускользнул. Но для американца это явилось делом принципа. Эмин должен был непременно ехать с ним — иначе в культурном мире Стенли подняли бы на смех. А когда Стенли чего-то хотел, он своего добивался.
Итак, Эмин со свитой присоединился к каравану Стенли, который направился не к Момбасе, в английские владения, а на юг, через неисследованные земли[83]. 11 ноября экспедиция повстречала отряд, который выслала на ее розыски «Нью-Йорк геральд»[84], а 3 декабря триумфально вступил в Багамойо.
Все путешествие продолжалось целых тридцать два месяца.
Вечером устроили банкет, на котором Эмин выглядел очень слабым и в голове у него, вероятно, несколько помутилось. Он встал из-за стола подышать, неосторожно перевесился через подоконник, свалился с четырехметровой высоты и разбил голову. Два немецких врача объявили его безнадежным, но Эмин — хотя болел долго и тяжело — каким-то чудом все-таки выжил.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Строки, которыми Стенли завершил свою книгу, стоит привести дословно:
«С того времени немцы присвоили Эмина себе. Мои отношения с начальством в Багамойо становились все напряженнее. В один прекрасный день мой слуга Сели, которого я всегда посылал проведать пашу, вернулся и сказал: если он еще раз там появится — с ним тут же разделаются. С тех пор я ни единой весточки не получал от Эмина. Но когда я заканчивал эту книгу, до меня дошли известия, что он поступил на службу в германскую администрацию Восточной Африки.
Похоже, он быстро забыл друзей по Экваториальной провинции…»
ГЛАВА 4
АЛЬФРЕД МАРШ. МАРКИЗ ДЕ КОМПЬЕНЬ
Габон. — Огове. — Господин Бувье. — Два натуралиста. — Полтора года лишений. — Результаты.
Перед нашими глазами сейчас предстанут два путешественника по призванию — из тех, кто почти без средств, посторонней помощи, лишней рекламы, обладая лишь отвагой и энергией, с восхитительной скромностью совершили великие открытия.
Альфред Марш еще был не старым человеком — он родился в 1844 году, — но оказался среди французских путешественников одним из старейших. Беспощадная смерть яростно набрасывается на самых благородных и как бы находит удовольствие в том, чтобы среди них собирать свою жатву.
Как у веры, так и у науки есть свои мученики!
До Марша смерть пока не добралась, ведь она постоянно охотится за ним вот уже двадцать пять лет.
Маркиз де Компьень на два года моложе; но он трагически погиб в Каире в феврале 1877 года, не успев совершить географические открытия, которые можно было ждать от подобной своеобразной и симпатичной личности.
В постоянно расширяющейся галерее великих имен первооткрывателей Черного континента Марш и Компьень находятся потому, что серия «Приключений, испытаний и открытий путешественников» начинается с описания путешествий по Экваториальной Африке, а оба первопроходца тесно связаны с историей Французского Конго.
Позже мы еще встретим Марша в Малезии:[85] он провел там пять лет, неутомимо собирая новые материалы, и совершил множество открытий.
К 1872 году Марш уже имел опыт путешественника — в его послужном списке числились трудные путешествия в Малакку, Кохинхину[86] и Сенегамбию[87]. Компьень познакомился с суровой походной жизнью в течение двух лет, проведенных в Техасе, Флориде и Калифорнии. Теперь они решили попытаться проникнуть в Центральную Африку по Огове — большой реке в нашей экваториальной колонии Габон.
Но в те далекие времена путешественникам уделялось мало внимания. Так, по крайней мере, было во Франции: другие державы давали исследователям крупные кредиты, но наше правительство было скупым до чрезвычайности. Маршу и Компьеню вдвойне не повезло: власти тогда всерьез собирались уйти из Габона; Англия и Германия точили зубы на эту колонию.
Но наши друзья оказались хорошими натуралистами и неутомимыми охотниками. Они решили сами заработать на задуманную экспедицию и с этой целью обратились к выдающемуся парижскому естествоиспытателю и путешественнику господину Бувье[88] за кредитом, подряжаясь доставить ему большие редкие зоологические и ботанические коллекции. Тот одобрил их план и дал деньги.
В конце года Марш и Компьень отправились в путь и 6 января 1873 года сошли на берег в Либревиле, тогда мало кому известном.
Да и название реки Огове не будило никаких воспоминаний среди тех, кого обычно называют «широкой публикой», хотя в географическом мире реку знали. Между тем в устье она чрезвычайно полноводна, а ширина дельты не менее ста миль. Но Огове никого не привлекала, и прежде рекой никто не занимался. Только в 1856 году Поль де Шайю собрал свидетельства местных жителей о ее существовании.
В 1867 году офицеры французского флота Серваль и Эме[89], один за другим, увидели эту реку: первый с берега, второй немного поднялся вверх по ней на пароходе «Пионер». Это было настоящее открытие, смутившее ученое общество и породившее множество новых гипотез. Такая большая река должна была вытекать из огромного внутреннего водоема. Сами негры подтверждали это: рабы из далеких-далеких краев, рассказывали они, видели Восточное море, все усеянное большими кораблями… Что ж это за море, если не Великие озера, открытые Ливингстоном, Бейкером и Спиком? Лучшие умы утверждали: Конго и Огове должны брать начало в одних и тех же горах. К тому же после первого путешествия Стенли и исследований доктора Швайнфурта общее мнение стало склоняться к тому, что большая река, открытая Ливингстоном и принятая им за Нил, на самом деле — исток большой реки, текущей на запад и впадающей в Атлантический океан, скорей всего — Огове или Конго.
Так или иначе, все соглашались, что для проникновения в сердце Африки прежде всего следует изучить Огове. При подобных обстоятельствах Марш и Компьень решили приступить к решению этой великой проблемы и подниматься по неисследованной реке до тех пор, пока их не остановит какое-нибудь непреодолимое препятствие.
Едва прибыв в Габон, друзья увидели, что перед ними стоит много препятствий. Они узнали, что верховья Огове на значительном протяжении перекрыты порогами, водопадами и водоворотами, преодолеть которые можно только на специально приспособленных лодках; к тому же вдоль реки местами живут людоеды, враждующие с приморскими племенами.
Марш и Компьень решили все же идти вперед, но оказались вынуждены остановиться в Пуэнт-Фетиш и терпеливо ждать, когда большое половодье позволит им двинуться вверх по реке. Тем временем они знакомились с местными обычаями, завязали отношения с главными вождями и добились горячей любви туземцев. Притом они не забывали о благородном друге господине Бувье.
В январе 1874 года настал долгожданный паводок, благодаря которому путешественники легко преодолели пороги и двинулись по верхней части Огове, называемой Оканда, всего на четырех пирогах с экипажем из сенегальцев и иненга.
Но когда они достигли земель племени оката, им пришлось, чтобы обогнуть пороги, вести с местным правителем нескончаемые переговоры. Естественно, дикий монарх выказал ненасытную алчность. Марш и Компьень были слишком бедны, чтобы уступить; у них едва хватало средств, чтобы прокормиться самим и платить гребцам. Пришлось прорываться на свой страх и риск. На протяжении двухсот километров, все время преследуемые туземцами, они миновали множество порогов и достигли наконец земли апинджи, где пороги кончались.
Друзья уже радовались, что преодолели все преграды, но тут начались земли озейба — алчных, свирепых людоедских племен. Когда они с остервенением напали на путешественников, перегородив реку пирогами и осыпая их тучей стрел, лодочники отказались идти дальше. Пришлось повернуть назад. Обратный путь оказался ужасным. Путешественники болели, умирали от голода, были вынуждены либо все время отстреливаться, либо днем и ночью лежать на дне пироги, под страхом смерти не смея сойти на берег. Так они вернулись в земли оканда, потом в Пуэнт-Фетиш и, наконец, в Габон, где им оказали необходимую помощь в военном госпитале.
Мы лишь в нескольких строчках имели возможность рассказать об этом путешествии. Читатель поймет, какие лишения перенесли наши натуралисты, узнав, что полтора года в необычайно нездоровом климате они пили только воду, не имели ни зерна, ни овощей, а из мяса — только ими самими убитую дичь. Все это время в среднем три дня в неделю они страдали от приступов тропической лихорадки, неизменно начинавшихся страшной рвотой — они проглотили семьсот пятьдесят граммов хинина! Последние полгода первооткрыватели шли босиком. После поражения от людоедов много недель подряд не могли прилечь одновременно, поскольку люди им не повиновались и требовался постоянный надзор; наконец, ноги их по окончании путешествия были покрыты такими глубокими язвами, что туда можно было засунуть палец.
Когда же путешественники вернулись, Географическое общество по представлению знаменитого и достопочтенного Мальтбрена[90] удостоило их серебряной медали. Свой доклад Мальтбрен заключил такими словами: «Мы выражаем признательность господам Альфреду Маршу и Виктору де Компьеню за то, что они, невзирая на все трудности и непрестанные болезни, два года без всякой коммерческой цели провели в тяжелейших условиях Экваториальной Африки, изучили все племена, населяющие Габон и берега Огове, основательно исследовали малоизвестные прежде реку Нгуние, озера Онанге и Азинго, а также совсем неизвестные реки Акойо и Акалои, озера Огемовен и Обанго; водрузили французское знамя за водопадами Самбы в стране ивейа, где не ступала прежде нога белого человека. Наконец, мы выражаем им признательность за то, что посреди диких племен они всегда своим образом действий оставляли память о гуманности и честности, благодаря чему путешественники — прежде всего французские, которые придут вслед за ними, — смогут получить в этих местах благожелательный прием».
ГЛАВА 5
САВОРНЬЯН ДЕ БРАЗЗА
Его призвание. — Начало службы. — Путешествие по Огове. — Разочарование. — На Алиме. — В пяти днях пути от Конго.
Если кто действительно имел пламенную страсть к путешествиям, так это, бесспорно, де Бразза, доблестный офицер нашего морского флота.
Господин де Бразза родился 26 января 1852 года. В 1868 году — шестнадцати лет от роду — он учился в морском училище в Бресте и уже тогда мечтал о неизведанных странах. В это время ему и попалась в «Морском и колониальном журнале» статья об экспедиции господина Эме, первым поднявшегося на канонерке «Пионер» по Огове до устья Нгуме. Статья совершила переворот в душе юноши — с той поры он обратился мыслью к берегам рек со странно звучащими названиями. И тогда юный де Бразза решил — ничто не могло поколебать его решимости — он будет исследователем этих земель.
В 1870 году он закончил училище и был зачислен гардемарином на одно из судов эскадры в Северном море. После франко-прусской войны де Бразза участвовал в подавлении восстания арабов, в 1872 году был назначен адъютантом при адмирале Кийо, отправлявшемся на корабле «Венера» в плавание через Сенегал, Габон, Кейптаун и Южную Америку.
В июле 1872 года фрегат бросил якорь на габонском рейде. Мечта молодого офицера о приключениях уже давно обгоняла бег корабля. Он завороженно глядел на обетованную землю исследователя, испещренную на карте белыми пятнами, от которых в восторге бьется сердце каждого прирожденного путешественника.
Плавание «Венеры» продолжалось два года. Де Бразза чувствовал, что все это время страсть к исследованиям только увеличивалась. В 1874 году он вернулся во Францию, раз за разом обращался в министерства общественного образования, иностранных дел, коммерции и добился наконец скудной субсидии в десять тысяч франков плюс годовое жалованье авансом от морского министерства. Больше ничего французское правительство для будущего основателя Французского Конго, отправлявшегося ныне на Огове, сделать не могло.
Вместе с де Бразза отправились доктор Баллэ, только что получивший диплом врача, и Альфред Марш, полгода назад вернувшийся из своей славной экспедиции вместе с маркизом де Компьенем. Министерство разрешило прикомандировать к экспедиции дюжину сенегальских стрелков, вооруженных ружьями системы «Гра»[91], и молодого флотского старшину Амона.
В сентябре 1875 года де Бразза прибыл в Габон. Ему надо было купить лодки, нанять гребцов, причем большая часть денег выдавалась вперед, заплатить по счетам за провиант… Средства были уже давно на исходе, с покупкой вещей для обмена с туземцами кредит исчерпан, но де Бразза не унывает. Он без колебаний подписывает в Габоне вексель, по которому родные становятся поручителями за все его имущество, — иначе говоря, с легкой душой закладывает личную собственность ради общего дела.
Третьего ноября пароходик «Марабут» отчалил от габонской пристани и направился к Ламбарене — последней европейской фактории в низовьях Огове, километрах в двухстах сорока от побережья. На его борту находились де Бразза, Марш, Баллэ, Амон, двенадцать сенегальцев, вся провизия и багаж.
Начиналась экспедиция крайне неудачно: едва ли может разом случиться столько несчастий, как у де Бразза с товарищами.
Кое-как из Ламбарене добрались до Самкиты, но там пришлось оставить несколько ящиков багажа. Лодочники из племени бакала, будучи завзятыми ворами, тащили без зазрения совести все, что плохо лежит, нанося большой ущерб экспедиции. В завершение бед, европейцев, еще не привыкших к климату, сразила жесточайшая болотная лихорадка.
Когда в феврале 1876 года путешественники добрались до земель апинджи, лодки перевернулись на порогах. Все ящики оказались выброшены на скалы или смыты волнами; барометры, хронометры и прочие инструменты либо сломались, либо разбились; все бумаги, книги и записи утонули. А то, что спаслось от гибели на реке, разграбила орда туземцев.
Из Самкиты в поселок апинджи Лопи доставили несколько новых ящиков. Де Бразза устроил в Лопи резервный склад на случай какой-либо новой беды.
К июлю экспедиция поднялась по Огове на шестьсот километров от устья. Де Бразза отправился дальше по течению, а Марш предпринял отважную разведку Офове — притока Огове; там он встретил племя пигмеев ростом не выше полутора метров, о которых сообщал уже Шайю. Соседнее с ними племя озьеба — людоеды, но бесстрашный Марш направился в их земли, чтобы найти истоки Уфуэ. Когда подошли к концу припасы и истек срок, предоставленный Маршу начальником экспедиции, он вернулся в Лопи и встретился с де Бразза. Тот был еле жив от малярии, но шел на лодке вниз по течению навстречу «Марабуту», посланному за провиантом.
Неутомимый Марш покамест отправился в земли адума и обамба, исследовал реку Лекеле и остался ожидать товарищей, проведя почти в полном одиночестве в неисследованных областях около полугода.
Де Бразза вернулся к океану и действительно нашел там провиант, доставленный пароходом. Не теряя ни минуты, он стал вербовать носильщиков, но сенегальцы запросили такую цену, что наш герой предпочел зафрахтовать буксир у одного европейского купца по фамилии Шмидт и с его помощью доставить грузы рекой на барже. В первый же день буксир напоролся на дерево и так сломался, что дальше не смог идти.
Одним словом, дела шли до того скверно, что лишь 1 января 1877 года де Бразза добрался назад и встретил Марша, который находился в земле оката и был близок к гибели, нуждаясь буквально во всем.
Когда прибыл начальник экспедиции с подкреплением, оката перешли от открытой войны к мелким гадостям, на которые они оказались большие мастера. Если эти добрые дикари видят, что у белого человека есть чем поживиться, они тут же обдирают его как липку: начинаются бесконечные придирки, ненасытные требования, непрестанные нарушения соглашений. Поскольку после смерти царька Эдиле эти места оказались под властью множества мелких деспотов, приходилось иметь дело с каждым из них.
То они обещали дать гребцов и нарушали обещание, даже не потрудившись придумать какой-то предлог, то жаловались на все и всех, изобретали несуществующие причины, переходили всякую меру в претензиях — в общем, вели себя, как лукавые капризные дети, лишь бы только найти предлог вымогать новые подарки. Короче говоря, они из кожи вон лезли, изобретая всякие хитрости, но вывести де Бразза из равновесия им не удавалось.
Нет для путешественника испытания тяжелее, чем видеть, как во всяких глупых пустяках протекают дни, недели, а подчас и месяцы!
В конце концов де Бразза с товарищами все преодолели. Соглашение заключено; маленькая флотилия отправляется в путь. Ее гребцы очень довольны: они ведь содрали с белых жалованье вдесятеро больше настоящей цены. Но вот экспедицию со всех сторон окружают боевые пироги и решительно перегораживают путь по реке.
Многие не рассуждая вступили бы в бой. Как разнес бы какой-нибудь Стенли толпу врагов из скорострельных винтовок!
Де Бразза хладнокровно и невозмутимо вступил в переговоры — осведомился, чем вызвана агрессия. Оказалось, к его великому изумлению, что начальник отряда сенегальцев злоупотребил властью и похитил женщину из племени оката. Последним это, естественно, не понравилось, и они сочли своим долгом отомстить.
Узнав истинную подоплеку агрессивности африканцев, де Бразза объявил туземцам, что не боится их угроз, но велит вернуть женщину, потому что этого требует справедливость. Один из сенегальских стрелков уже готовился исполнить приказание, но их командир выхватил нож и замахнулся на де Бразза, который без малейшего колебания велел заковать мятежника в кандалы. Туземцы поразились: белый вождь так любил справедливость, что и своих людей готов был наказать. Для негров это совершенно необычно: у них ведь нет закона, кроме произвола и каприза сильнейшего.
И нет сомнения, что это свидетельство твердости, проявленное после столь великого терпения в безнадежном положении, показало туземцам — при необходимости белые люди умеют наказывать, и сурово!
Экспедиция отправилась дальше. Она шла на одиннадцати лодках, и ее путь лежал в страну апинджи, где только что уже побывал Альфред Марш. Это оседлый, трудолюбивый и миролюбивый народ; они собирают каучук, сеют индийскую коноплю, арахис и злаки. Есть у них и зачатки промышленности: на продажу лепятся горшки, ткутся грубые ткани.
Второго февраля, вечером, впереди показались пороги Этанша.
— Хозяин, — сказал начальнику главный гребец, — можно обойти пороги по самой реке вдоль правого берега и зря не вытаскивать груз. Но здесь кругом наши враги пахуины[92], бандиты и грабители; они непременно нападут на нас.
— Это не страшно, — ответил де Бразза.
И немедленно приказал сенегальцам идти берегом вдоль реки, прикрывая лодки и держа неприятеля на расстоянии.
Так и сделали. К несчастью, лоцман, проводивший большую флагманскую пирогу, где находился де Бразза, плохо знал фарватер и завел судно меж камней. Пирога попала в водоворот и затонула; люди и груз оказались в воде. Их стали спасать, но в этот момент послышалась громкая ружейная пальба: пахуины, пользуясь темнотой, напали на экспедицию и захватили весь груз с затонувшей лодки. Лишь поздняя ночь заставила разбойников прекратить стрельбу и убраться восвояси.
Несчастные путешественники в изнеможении вылезли на берег и устроились на ночлег, а неутомимый де Бразза, не помышляя об отдыхе, приводил в порядок бумаги и записи, донельзя перепутанные во время крушения. Тут прибежал часовой-сенегалец и объявил, что одну из пирог унесло и потащило на камни. На ней находился последний запас экспедиции — сорок два ящика с ценным грузом; пирогу следовало спасти во что бы то ни стало.
Вне себя от ужаса, де Бразза бросился в темноте искать пострадавшее судно, быстро спустился вниз по реке и через три часа достиг места, где река зажата меж высокими скалами. Там он остановился, развел большой костер и всю ночь всматривался в бушующие волны: не несут ли они его пирогу.
Когда рассвело, путешественник был вознагражден за труды — пирога обнаружилась в полукилометре от де Бразза. Лодка застряла на мели в укромной бухточке между скал; с ней ничего не случилось — даже водой не залило.
После многих приключений, одно опасней другого, многих приступов лихорадки и кораблекрушений экспедиция дошла до Лопи, где пополнила запасы и насладилась по-настоящему заслуженным отдыхом.
Из Лопи де Бразза направился в землю адума, где до него не бывал ни один европеец; в дороге путешественников ждало множество новых опасностей и трудностей. К тому же в этих местах разразилась страшная эпидемия оспы; туземцы объявили, что в ней виноваты белые люди. Тогда же и Марш разболелся настолько, что вынужден был оставить спутников и вернуться в Европу.
Но упорство де Бразза стало сверхъестественным; казалось, что лихорадка, тяготы и лишения потеряли над ним всякую власть. Он продолжил путь вверх по Огове. Но вскоре его надежды рухнули. В нижнем течении этот поток широк и глубок, так что были все основания думать, что он вытекает из большого озера на центральноафриканских плоскогорьях. И вот он превратился в ручеек, берущий начало в крохотных озерках Рабагви и Пасса.
Значит, французская миссия не дойдет по Огове до центра материка. Придется проститься с давней мечтой, за которой путешественник с поразительным упорством стремился в течение двух лет.
Убедившись, что надежды нет, де Бразза покинул берега Огове и направился на восток к Танганьике, где, как он думал, сосредоточили свои усилия Стенли и Камерон.
По дороге исследователь пришел в землю батеке[93], отважного беспокойного племени, прежде никогда не имевшего дела с белыми. Сперва они встретили путешественника очень враждебно, но он, невзирая ни на что, вместе с верным другом доктором Баллэ шел своей дорогой. Для них наступили ужасные времена. Они шли по неизвестным местам, босиком, в кровь изранив ноги, — искали таинственный путь, ведущий к сердцу Черного континента.
И вот первопроходцы вышли к реке Алима, притоку Конго, по которой плавают на пирогах люди аффуру. Это племя до того враждебно встретило белых людей, что они прошли вниз по реке не более ста километров. Будь у де Бразза возможность идти дальше всего пять дней — он задолго до Стенли открыл бы Нижнее Конго!
Но у них с Баллэ уже не оставалось ни продовольствия, ни одежды, ни товаров на обмен; кроме того, французы боялись попасть в какое-нибудь большое озеро, где сопротивление было бы невозможно. Поэтому волей-неволей друзья решили отправиться назад на север.
Через месяц тяжелейшего пути Бразза и Баллэ вышли к другому притоку Конго, реке Ликвала. По ней можно было бы плыть спокойно, так как здесь жили племена миролюбивые, но путешественники решили, что придется срочно возвращаться: уже совсем не осталось вещей, на которые здесь выменивают у туземцев провиант, платят гребцам, покупают право проезда, добиваются дружбы вождей.
Страшно оборванные, они вернулись в Габон. Этот путь занял месяц с лишним, проходил без больших происшествий и завершился освобождением рабов, купленных в дороге, — они стали свободны, ступив на землю колонии.
Вернувшись в Европу, де Бразза узнал о путешествии Стенли: американец открыл Конго, от которого француз был так близко!
ГЛАВА 6
Вторая экспедиция. — Жестокие лишения. — Реванш у Стенли. — Макоко — верный союзник. — Французское Конго.
Первая экспедиция, столь тяжелая, долгая (она продолжалась два года) и полная тревог, окончилась для де Бразза жестоким разочарованием. Но этот отважный путешественник был из тех, кто не знает слова «отчаяние». Впрочем, ему недолго пришлось ждать, пока представится случай для блестящего реванша.
Рассказывая о путешествии Стенли, мы уже говорили о Международной африканской ассоциации, по уставу благотворительной и некоммерческой, но вскоре превратившейся в торговый дом, где патроном являлся бельгийский король, а деловое управление поручили Стенли.
Де Бразза прекрасно изучил нужды, ресурсы и пути сообщения в этих местах; он с первого же взгляда понял, чем грозит бельгийский план нашему политическому и торговому влиянию: его осуществление совершенно уничтожило бы нашу колонию в Габоне — и сколько усилий пропало бы даром!
Стенли достаточно было официально, от имени Международной ассоциации, завладеть берегами Конго в том месте, где начинается судоходство по великой африканской реке. В этом случае, в силу прав, закрепленных международными соглашениями за первооткрывателем, все Конго принадлежало бы новому государству, а то и получило бы право закрывать проход для судов под иностранным флагом.
Чтобы избежать подобной катастрофы, требовалось опередить Стенли, первым прийти на берег Стенли-Пула и, водрузив там французский флаг, закрепить право владения за собой.
Это был настоящий подвиг, и де Бразза решился на него.
Министр иностранных дел понял важность проекта, который без всяких подсказок созрел в голове отважного путешественника, и предоставил ему кредит в сто тысяч франков; министр общественного образования поручил ему вместе с доктором Баллэ продолжить дело, начатое в 1875 году.
Времени было мало; де Бразза не хотел терять драгоценных недель, необходимых для организации новой экспедиции, и 27 сентября 1879 года отправился в путь. Цель экспедиции состояла в приобретении для Франции приоритетного права на ближайшую к Атлантике точку судоходного Конго.
Сборами занимался доктор Баллэ — ему надлежало отправиться несколько позже, захватив с собой в разобранном виде пароходики для плавания по Алиме и Конго.
Инструкция Французского комитета Африканской ассоциации предписывали де Бразза как можно скорее обустроить на выбранных местах два укрепленных поста. Один из них должен был располагаться в верховьях Огове, называться Франсвиль и быть опорным пунктом на пути к Конго. Другой следовало поставить на самом Конго и назвать Браззавилем, который должен был служить цивилизаторской миссии Франции в этих краях. Место, выбранное для Франсвиля, имеет прямое сообщение с Габоном, находится на расстоянии 815 километров от него и 120 километров от начала судоходства по Алиме в здоровой, плодородной местности, населенной миролюбивыми племенами; недалеко от него находилось и устье реки Пасса, впадающей в Огове.
Все это было в точности исполнено, однако времени, разумеется, потребовалось много.
Де Бразза долго ожидал снаряжения, закупленного на правительственные сто тысяч франков. Время шло, запасы подходили к концу, а его все не подвозили. Не имея никаких вестей из Франции и вообще из Европы, де Бразза не знал уже, что и думать. В наше беспокойное время в столь долгом уединении каких только тревожных безумных мыслей не явится в голову!
Еще немного — и он окончательно застрянет во Франсвиле; собственные средства заканчиваются — их явно недостаточно, до Конго с ними не доберешься. На всякий случай француз отправил семьсот сорок туземцев во главе с механиком Мишо на сорока четырех пирогах искать груз (впервые жители верхнего Огове отправились к океану), а сам продолжал ждать.
Положение вот-вот станет совсем отчаянным; медленный огонь вынужденного бездействия изнутри пожирает де Бразза. Он понял: помочь может только подвиг.
Путешественник не может, не хочет больше ждать. Он отберет несколько самых крепких людей — сержанта-сенегальца Маламина и еще человек пять-шесть — и с ними пойдет водрузить на Конго французский флаг — или погибнуть.
Да, это выход! Надо немедленно идти, любой ценой, без поклажи, без провианта — питаться чем придется, но дойти и опередить того — англосакса, располагающего целой армией и королевской казной.
И вот де Бразза отправился в путь; только что казалось, что необъяснимое опоздание пароходов грозит катастрофой — теперь же он о них и не вспоминал.
Путешественник написал трогательное письмо матери. Чтобы успокоить ее, он шутил над собственными лишениями и старался казаться веселым. Но смертная тоска, угнетавшая его, невольно скользила между строк:
«Милая мамочка, здоровье мое хорошо, я по-прежнему бодр, хотя и подвергся тяжкому испытанию. Я совсем поиздержался — из Европы уезжал впопыхах и как-то не позаботился о своем гардеробе. Теперь все мои шляпы износились, да и ботинки просят каши, а пароходов почему-то все нет и нет…»
Когда неустрашимый путешественник вышел из лагеря на Огове, с первых же дней больше всего был занят укреплением влияния среди оканда и окота, приобретенного в первом путешествии.
Рано или поздно Баллэ и Мизон со всем снаряжением все-таки явятся из Европы и двинутся к Конго вслед за своим начальником. Страшно подумать, что будет, если они со всей поклажей пойдут через вражеские земли! Их тяжелый и громоздкий груз ценен не только сам по себе: в нем надежда всей Франции — не одной экспедиции… Они непременнейшим образом должны попасть в дружественные земли, чтобы без труда найти носильщиков и лодки с гребцами.
Как же должен был хвалить себя де Бразза за то, что в отношениях с неграми всегда проявлял бесконечную кротость, не теряя при том ни грана праведной твердости и неистощимого терпения и подчиняя все действия принципам непреклоннейшей справедливости!
Везде француза принимают как друга, хотя путешественник без подарков, обещает вручить их потом, и ему верят — он еще никогда никому не лгал. Де Бразза обгоняет добрая молва, и исследователя радушно встречают даже в незнакомых местах. Одним словом, нравственное влияние симпатичной личности преодолевает все трудности.
Теперь можно быть спокойным насчет груза: местные жители от природы свирепы, но не будут чинить препон, а напротив, всеми силами помогут французам. Так отважный офицер немедленно пожал плоды разумного поведения. Оно должно служить примером и непременным образцом всякому путешественнику, который хочет не только обеспечить собственную безопасность, но позаботиться о будущем и завязать с туземцами прочные связи.
К несчастью, де Бразза переоценил силы: здешний губительный климат подрывает здоровье самых крепких людей. Когда он ушел из земли оканда, жесточайший приступ дизентерии совершенно изнурил его. Бледный как привидение, ужасно исхудавший, он лежал, корчась от боли, в лодке, уносившей его вдаль под мерные удары весел в такт песням чернокожих гребцов…
Отряд достиг порогов Рува. Уже темнело; де Бразза хотел пройти пороги засветло и поклажу для быстроты перехода не стали выгружать из лодки.
Сначала все шло хорошо — но вот туземец-рулевой сделал неловкое движение веслом, судно перевернулось и вся поклажа вместе с полумертвым де Бразза попала в воду.
Здесь еще раз проявилась несокрушимая энергия этого замечательного во всех отношениях человека. Де Бразза превозмог боль и тут же организовал спасение потонувших тюков. Он не думал о том, что долгое пребывание в воде опасно (впрочем, плавал-то он отлично). До самой полуночи путешественник не выходил из воды — до тех пор, пока не выловили весь его скромный скарб, от которого зависел успех экспедиции.
Подобный поступок рисует портрет человека, совершенно презирающего страдание и смерть, всем жертвующего долгу…
Естественно, после такого своеобразного лечения дизентерия разыгралась с новой силой. Более того: ныряя за поклажей, де Бразза ударился ногой о камни и рассек лодыжку. В африканском климате травма ноги очень опасна для истощенного человека. Наш путешественник подвергся очередному испытанию.
Через два дня он счел себя здоровым, переправился через пороги, пошел дальше по Огове и даже решил сам править лодкой. Ему пришлось много часов подряд стоять на корме с веслом. От такого напряжения рана, затянувшаяся снаружи, разошлась внутри.
Тогда для де Бразза началась настоящая пытка. Лекарства все вышли: не было больше ни хинина, чтобы сбить жар, ни карболки — промыть рану.
Дизентерия изнурила путешественника, боль жгла нестерпимо — днем он не мог пошевелиться, ночью не смыкал глаз, сходя с ума от мысли, что время летит и его наверняка опередили… Француз терял последние силы и чувствовал дыхание приближающейся смерти…
Но люди, подобные де Бразза, так просто не сдаются. Лишь на миг поколебалась в нем стальная воля — и вскоре пробудилась с новой силой.
Гребцы научили его местному средству — ставить на ноги компресс из каких-то трав. Боль и вправду унялась немедленно; стало гораздо легче.
Но увы! Лекарство оказалось хуже самой болезни. Под действием варварского зелья края раны размягчились, нагноились; даже профан в медицине понял бы, что дело плохо.
Тогда де Бразза взял старый ланцет, наточил о камень и хладнокровно стал сам себе оперировать больную ногу. С удивительным бесстрастием рассекши опухоль вокруг раны, он вырезал кусок мяса толщиной около сантиметра и шириной сантиметров пять, избавившись таким образом от нагноения, грозившего гангреной.
Он сам признается, что боль при этом испытывал невыносимую — да и как же иначе!
После операции де Бразза два дня держал ногу в теплой воде с лимонным соком. Крепкое сложение помогло, и рана вскоре зажила.
Несколько недель путешественник провел во Франсвиле, который в те времена существовал почти номинально, и полностью выздоровел. Затем, окончательно расставшись с Огове, он с маленьким отрядом кратчайшей дорогой направился к Конго.
Де Бразза надо было пройти около трехсот километров по совершенно неизведанным местам — но добрая слава шла впереди. Поэтому и батеке, и ачиква, и абома прекрасно его принимали.
И вот путешественник увидел доказательство того, что негры с непостижимой быстротой сообщаются между собою. Перед де Бразза (он как раз заканчивал строить плот, чтобы плыть вниз по реке Лефини) вдруг предстал человек в ожерелье вождя батеке и сказал:
— Господин мой Макоко, король батеке, давно слышал о великом белом вожде с Огове. Он знает, что ты идешь в его земли. Он знает: из страшных своих ружей ты никогда не стрелял первым; всюду за тобой следует мир и изобилие. Он прислал меня к тебе с приветствием и просит проводить тебя к нему, ибо он твой друг.
Де Бразза и поверить не мог в такое счастье. Представьте: самый могущественный государь на правом берегу судоходной части Конго объявляет себя его другом!
Француз без промедления отправился вместе с гонцом, только настоял на том, чтобы не делать крюк по суше, а спуститься на плоту по Лефини.
Посланник от Макоко отправился вместе с ним. От Нгампи экспедиции вновь пришлось идти сухим путем. Негритянский вождь взял на себя роль проводника — но с той поры для де Бразза начался долгий ряд тревог, затруднений и неудач. Путь по Лефини сбил посланника с толку; он заблудился и наудачу повел экспедицию совсем в другую сторону. Сам де Бразза также потерял ориентировку в землях, где еще не ступала нога белого человека.
Двое суток продолжался этот безумный поход; проводник непрестанно путался, ошибался и злился от этого чуть ли не больше, чем сам де Бразза. А поскольку он много раз объявлял, что цель близка, и каждый раз ошибался, смущаясь при этом, наш герой в конце концов стал подозревать неладное — уж не ведут ли его в какую ловушку?
… И вот в очередной раз экспедиция пустилась в путь. Луна светила ярко; де Бразза, чтоб не терять даром времени, приказал идти днем и ночью.
Когда наступило одиннадцать часов вечера и путешественники из последних сил брели вверх по склону очередного холма, проводник объявил: теперь они точно у цели. Де Бразза шел с посохом в руке перед отрядом, а рядом с ним солдат из Сенегала нес французский флаг. Вот и вершина…
Де Бразза, обратив взор на северо-восток, увидел, как вдали блестит обширная речная гладь — и дальше теряется в тени окрестных гор… То было Конго!
— Конго! — раздался громкий клич из глоток истомленных путников. Начальник, столь же изнемогший, склонясь на посох, обратил свой взор к усеянному звездами небосклону и прошептал:
— О Франция! Я жизни бы не пожалел, чтобы первым прийти сюда — чтоб первым здесь водрузить твой драгоценный стяг!
Ночь прошла тихо и сосредоточенно, как перед битвой: назавтра решалась судьба нашей колонии…
На рассвете путешественники, предводимые церемониймейстером, отправились на переговоры с Макоко. Там, где французы должны были встретиться с африканцами, расстелили львиную шкуру — знак монаршей власти, а место трона обозначили большим медным тазом.
Вскоре бой барабанов возвестил о прибытии государя, рядом с которым шел главный колдун; жены и самые важные сановники следовали за ними.
Макоко сел или, вернее, присел на львиную шкуру, облокотясь на подушку. Главный колдун пал перед правителем ниц и вложил его руки в свои; так же приветствовал он и де Бразза. Вся свита разом преклонила колени. После этих церемоний начались переговоры, и могущественный государь так обратился к гостю:
— Макоко рад приветствовать сына великого белокожего вождя с Запада, совершающего дела, достойные мудреца. Макоко хочет, чтобы чужеземец рассказал своему вождю, как его приняли здесь.
Вся экспедиция, как могла, заштопала мундиры, надраила ружья, почистила шапки. Не так уж и плохо смотрелся французский отряд в своих поэтичных лохмотьях!
Вождь батеке Оссья — тот самый, что был послан к де Бразза, — обеими руками звонил в колокола у ворот Дворца. Путешественник между тем обошел почетный караул, в который встали его люди. Они были при оружии, но, по миролюбивому обычаю этой земли, обратили дула к земле.
Поднялась поразительная какофония, но де Бразза был так рад, что она показалась ему лучшей музыкой в свете. Затем распахнулись двери; наш моряк вошел вместе со свитой в большую хижину, которую называет «Тюильри короля Макоко»[94], и сел на тюки с подарками, привезенными для конголезского государя. Над правителем висел красный полотняный балдахин, а перед ним слуги расстелили ковер.
— Белых людей, которые приходят к Макоко с миром, государь встречает как друзей.
Де Бразза поблагодарил царя за радушный прием и спросил, не был ли перед ним в этих краях еще какой-нибудь европеец. Сердце едва не выскочило у него из груди, когда Макоко ответил:
— Ты первый белый вождь, посетивший нас. Когда-то давным-давно один белый человек проплыл вниз по реке и убил многих наших. Но с тех пор он не возвращался.
Значит, Стенли его не опередил! Франция победила: водный путь по Конго был занят.
Двадцать пять дней пробыл де Бразза у Макоко, наслаждаясь роскошным и сердечным приемом. 10 сентября 1880 года, желая предотвратить столкновения европейцев с туземцами, государь батеке формально испросил защиты французского знамени и подписал договор, по которому над его царством устанавливался наш протекторат.
Кроме того, он соглашался, чтобы французская миссия выстроила себе поселение на ею же выбранном месте.
Подписав договор, царь с вождями положили в коробочку по горстке земли, которую главный колдун вручил де Бразза со словами:
— Передай эту землю великому вождю белых людей в память о том, что мы принадлежим ему.
И отважный путешественник ответил, водрузив французский флаг перед дворцом Макоко:
— Я оставляю вам этот знак дружбы и покровительства. Франция находится повсюду, где реет этот символ мира, и может защитить всякого, кто станет под наш флаг!
Итак, де Бразза сам мог выбирать место для своего укрепления. Он наметил центром будущего поселения деревеньку Нтамо-Неуна на правом берегу большого разлива Конго, который Стенли назвал в свою честь Стенли-Пулом. Площадь его около 1800 квадратных километров (примерно втрое больше Женевского озера), а ширина от западного берега до восточного — 45 километров. Пул расположен на высоте 352 метра над уровнем моря; выше него Конго становится чудной тихой и величественной рекой, на протяжении 1700 километров открывающей беспрепятственный путь для судов в самый центр Африки.
Имя «Пул» наводит на мысль об огромной водной глади. В стародавние времена, которые может исчислить лишь геологическая хронология, так оно, вероятно, и было: об этом свидетельствуют глубокие морщины, бороздящие прибрежные утесы метров на шесть выше самых больших современных паводков. Теперь же это просто скопление песчаных островов, между которыми множеством русел петляет река. Острова необитаемы: там лишь рыбаки устраивают запасы продуктов на сезон дождей да выходят на берег стада бегемотов и крокодилов, впрочем, постепенно исчезающие. На острове селятся и огромные стаи перелетных птиц: цапель, куликов, ржанок, уток…
Место, выбранное де Бразза, находилось под властью вождя Нгочоно, вассала Макоко; сперва этот князек повел себя так, что сговориться с ним было трудно. Здешние негры, с которыми так жестоко обходился Стенли, сохранили к белым недружелюбие и недоверие, что вполне естественно. То ли Нгочоно не понял, что французская миссия носит совершенно мирный характер, то ли недооценил значения договора, который торжественно подписал его сюзерен[95], только он резко оборвал разговор, едва проводник де Бразза раскрыл рот.
Напрасно путешественник пытался рассеять предубеждения и подозрения Нгочоно — люди убанги, прервав переговоры, удалились вслед за своим вождем.
Кто другой спокойно перенес бы столь скверное начало дела? Но де Бразза невозможно превзойти в отваге и энергии — мало найдется столь опытных, осторожных и умелых дипломатов.
Он добился новой встречи и одержал моральную победу над туземцами: был любезен, настойчив, убедителен, неизменно искренен и постоянно сохранял очаровавшую негров веселость. Француз вовсе не угрожал им, а лишь доказал: поступая так, они нарушают свой долг перед сюзереном; Макоко за них распорядился, и уже только поэтому у них перед де Бразза появились обязательства.
Одним словом, Нгочоно и все убанги убедились в миролюбивых намерениях и правах путешественника; они умоляли простить их за то, что дурно поняли волю своего государя и мысли белого человека. Затем негры отправились прочь, чтобы передать братьям, живущим выше по течению реки, заверения белокожего вождя в мире и дружбе.
Все кончилось благополучно: дальше должен был состояться огромный съезд всех местных вождей, подтверждавший согласие на присоединение к Французской Республике. Вскоре «генеральная ассамблея» собралась.
Казалось, в этот день ликуют все, а Конго — главный и почти что единственный здесь путь сообщения — превратилось в живую дорогу.
Флотилия великолепных пирог, выдолбленных из цельных стволов гигантских негниющих деревьев (каждая с сотней воинов на борту), спустилась вниз по реке и пришвартовалась у Нтамо. Представители всех племен убанги, живущих на западе бассейна Конго, между Стенли-Пулом и экватором, поспешили на этот совет, где решалось, быть войне или миру. Возглавляли их сорок вождей в пышных нарядах; в этом зрелище было некоторое величие и самое дикое варварство.
Впрочем, эти дикие воины знали, что и в их краях, и на Верхней Алиме де Бразза использовал свои ружья исключительно для обороны; знали и то, что, если какое-то племя не решалось пустить его в свои земли, французский вождь не прокладывал себе дорогу силой (а ведь так легко было пробиться, сея кругом смерть!), но добровольно шел другим путем. Подобным обстоятельством путешественник расположил к себе все окрестные племена — отныне в нем они видели друга.
Итак, все шло как нельзя лучше, но вдруг случился серьезный инцидент, чуть не испортивший дело.
Спорили на съезде основательно, потому что появление европейских поселков на Алиме и Конго затрагивало интересы многих, но важных претензий никто не предъявлял.
Вдруг один из вождей убанги встал, торжественно подошел к де Бразза и указал на лесистый островок посреди реки.
— Посмотри на этот остров, — произнес он высокопарно. — Он как нарочно лежит на самой середине реки: напоминает, что мы должны всегда остерегаться белых и не забывать, какое зло они нам причинили. Там пролил кровь убанги первый белый человек, который был у нас!
— Кто скажет, — продолжал вождь, все более распаляясь, — сколько мертвых оставил после себя этот кровопийца-пришелец? Он хотел против нашей воли пройти через эту землю; он пронесся по реке как ураган и всюду нес с собой войну! Так пусть он никогда не пытается пройти обратно: мы поклялись отомстить за наших мертвецов!
Конечно, де Бразза прекрасно знал, что племена, с которыми Стенли тридцать два раза вступал в бой, жаждут мщения, и не был захвачен врасплох: его бы скорей удивило обратное.
Так что французу было легко отвечать. На нем не лежала ответственность за произошедшее ранее и в чем Франция никогда не участвовала. Сам же он решительно отвергал такой образ действий и, пока путешествовал среди дикарей, словом и делом протестовал против насилия и всегда вел себя как друг всех туземных племен.
Ничего лучше сказать было нельзя; факты сами свидетельствовали о правдивости слов миролюбивого путешественника. Инцидент оказался исчерпан, и обе стороны немедленно заключили мир. Чтобы торжественно закрепить его, совершили обряд похорон войны.
Напротив того самого островка, хранившего печальную память, вырыли большую яму; вожди по очереди подходили к ней и бросали кто пулю, кто кремень, кто щепотку пороха, а де Бразза со спутниками — патроны. Затем яму опять забросали землей, и один из вождей произнес следующее:
— Мы зарываем войну так глубоко, чтобы ни мы, ни дети наши не смогли ее откопать, и сажаем здесь дерево в свидетельство союза белых и черных людей.
За ним взял слово де Бразза:
— Мы тоже зарыли войну, и она не вырастет до тех пор, пока на этом дереве не начнут расти пули, порох и патроны.
Вожди подарили де Бразза в залог дружбы пороховницу, а он дал каждому французский флаг. Когда флотилия пошла обратно вверх по Конго, вся река покрылась цветами Франции!
Так было освящено основание Французского Конго.
Установление добросердечных отношений с людьми, которых Стенли на весь мир объявил кровожадными людоедами и достойными истребления чудовищами, стало большим успехом. Де Бразза ждало еще много дел.
Прежде всего надо было позаботиться, чтобы столь долго ожидаемый груз доставили в Нтамо, отныне называвшуюся Браззавилем, и изучить дорогу, соединяющую Французское Конго с морем.
Но вместе с тем приходилось оставить будущее поселение без обороны, положившись на слово негров — переменчивых, словно дети, и легко склоняющихся на сторону того, кто говорит последним.
Де Бразза находился в большом затруднении. Наконец он решил доверить этот почетный пост своей маленькой охране — троим сенегальским стрелкам под командой сержанта Маламина, чью отвагу и верность он уже имел возможность оценить не один раз.
— Маламин, — сказал он, — ты остаешься здесь за меня. Я доверяю тебе французский флаг, который ты не должен давать в обиду! Теперь ты здесь самый главный. Я могу оставить с тобой только трех человек, но ничего не бойся! Ты представляешь Францию, а Франция защищает всех своих детей — и ближних, и дальних. Я же иду туда, куда зовет меня мой долг. И ты исполни долг француза — не оставляй никогда своего поста! Прощай!
Африканец торжественно поклялся в верной службе. Он понял величие своей задачи и ощутил весь груз ответственности, лежавшей на нем.
Де Бразза хорошо разбирался в людях. Он уехал спокойно, ибо знал: Маламина нельзя ни запугать, ни подкупить — покуда он жив, знамя не отдаст никому.
Маламину же действительно приходилось быть начеку. В одно прекрасное утро по реке Нкума вдруг явились два английских миссионера. Они поразились, увидев здесь французские цвета, и с пристрастием стали допытываться у туземцев, понимают ли они, какой серьезный поступок совершили, отдав французам землю. Туземцы, в свою очередь, стали расспрашивать миссионеров, какого они народа; новоприбывшие с презрением и возмущением отвечали, что, уж во всяком случае, не французы.
Возможно, миссионерам действительно казалось, что попытка опорочить нас в глазах африканцев вполне уместна и пристойна. Но нашим новым друзьям не понравилась враждебность англичан, подозрительным показалось и направление, откуда прибыли миссионеры. В результате пришельцев проводили весьма холодно.
Этот мимолетный эпизод стал прелюдией важных событий, когда от Маламина потребовались в полной мере мужество и верность.
Стенли, в изобилии обеспеченный всем — людьми, деньгами, провиантом, снаряжением, — готовил гигантскую работу. Даже не подозревая про стремительный марш своего соперника через Габон и земли, которые несколько месяцев назад стали Французским Конго, он снаряжал разборные пароходы, вербовал носильщиков, ставил под ружье занзибарцев… Наконец англосакс отважно двинулся вперед.
Большая флотилия — четыре паровых баркаса, стальной вельбот и сторожевик — пошла вверх по реке мимо европейских факторий в Руве и достигла первых порогов у Виви. Там Стенли соорудил постройки на плато, возвышающемся над рекой на четыреста пятьдесят метров, и протянул наверх с берега канатную дорогу.
Завершив это колоссальное предприятие, он пешим порядком направился к поселку Иссангила (где судоходство по реке возобновляется) в обход водопадов Йеллала, Инга и Иссангила, разделенных многочисленными порогами. В Виви и в Иссангиле устроили стоянки, между ними проложили дорогу протяженностью в восемьдесят километров и доставили по ней разобранные пароходы. Затем экспедиция поднялась по реке до третьей стоянки — Маньянга в двухстах пятидесяти километрах от Виви.
В Маньянге снова пришлось задержаться, разобрать суда и перетащить огромный груз через горы, долы и леса. Уф! До Стенли-Пула осталось совсем немного, но это не значит, что все трудности позади; дорога по-прежнему малопроходимая. Долгие дни и недели пробиралась экспедиция через всевозможные препятствия.
Вот перед нею еще один холм, круче всех прежних, который Стенли — как всегда — смело штурмует.
Колонна дошла до середины холма, а авангард уже достиг вершины. Вдруг все увидели, как его командир, молодой бельгийский лейтенант, немного помедлив на гребне, побежал назад.
— Мистер Стенли! — закричал он еще издалека. — Я открыл озеро, огромное озеро! С вершины видно, как вода сверкает до самого горизонта.
Стенли ухмыльнулся и сказал по обыкновению насмешливым тоном:
— Мне очень жаль, лейтенант, но озеро, которое вы, по вашему мнению, открыли, я уже два года назад нарек своим именем. Это Стенли-Пул!
Раздался всеобщий радостный клич, и люди, забыв усталость, бросились на вершину. Оттуда открывалось волшебное зрелище.
Насколько хватало взора, сверкала под ярким солнцем рябь реки, орошавшей те самые места, которые Стенли предназначал во владение новому государству. Изумруд великолепных вечнозеленых лесов обрамлял мерцающее серебром зеркало вод.
Широко раскрыв глаза, задыхаясь от торжества, Стенли обводил взглядом эти обширные дебри: это он их открыл, чтобы завоевать и населить…
Внезапно путешественник наморщил лоб и судорожно скривил губы. Вдалеке он смутно разглядел нечто непонятное: какой-то домик, а над ним что-то полощется в воздухе.
Он направил в ту сторону бинокль и, побледнев от гнева, воскликнул:
— Французский флаг!
Очутившись перед свершившимся фактом, Стенли повел себя очень плохо даже в глазах самых страстных своих поклонников. Он не смог сдержать ярости и позволил себе выражения, о которых ему после пришлось пожалеть.
Но это было еще ничего: несдержанность языка можно и простить: ведь этот баловень судьбы впервые пережил неудачу — и очень чувствительную.
Гораздо хуже, что Стенли пытался подкупить сержанта Маламина, чтобы сенегалец оставил свой пост. Так белые люди не ведут себя с неграми!
Африканец хорошо проучил авантюриста — слугу множества господ. Он гордо ответил:
— Француз не может ни нарушить присягу, ни служить двум стягам!
Тогда Стенли попытался взбунтовать против нас местных жителей. Но Макоко оказался верен дружбе и союзу с де Бразза — заявил, что никого другого на его место не допустит.
Стенли уже намеревался применить силу, но резонно подумал, что Франция, без сомнения, сурово отомстит за оскорбление своему флагу и заставит возместить материальный ущерб. Он сдался, отказался от мысли утвердиться на правом берегу, переправился через реку и на левом берегу основал Леопольдвиль[96].
Бразза успевал повсюду; сначала он отправился к Маньянге и пустился на поиски наилучшего пути от Французского Конго к Атлантике.
Он открыл цветущую землю Квилу-Ньяди: ее прекрасное положение впоследствии очень повлияло на судьбу европейских владений в Конго. И действительно, река Квилу — важнейший водный путь внутрь материка. Она берет исток возле Джве[97], недалеко от Браззавиля[98], протекает через густонаселенные районы, богатые свинцовыми, медными и железными рудами, и впадает в океан несколько севернее Пуэнт-Нуара и Лоанго[99].
Так как оказалось, что Огове не может стать путем для торговли с центром материка, то Браззавиль — пока не построена железная дорога — свяжет с морем Квилу.
Де Бразза с полудюжиной туземцев, буквально на пределе сил, вел разведку в Квилу-Ньяди; тем временем лодки механика Мишо, посланные в Габон, встретили долгожданную экспедицию Баллэ. Поселения Франсвиль, Алима и пост Браззавиль получили провиант как раз вовремя.
И вот де Бразза выполнил свою миссию, вернулся на Конго, спустился в Банану и отплыл во Францию вместе с договором с королем Макоко.
В Париж путешественник прибыл 7 июня 1882 года. 21 октября того же года в обе палаты парламента предоставили акт о ратификации договора. Единственная статья этого акта, одобрявшая договор де Бразза с Макоко, была принята единогласно.
Все эти месяцы Франция горячо приветствовала де Бразза — он по праву стал героем дня. Лишь один голос выбивался из хвалебного хора отважному путешественнику, который, не имея никаких средств, без единого выстрела завоевал для своей страны прекрасную колонию, а для цивилизации — огромную дикую территорию. Этот голос принадлежал Стенли, который никак не мог прийти в себя после поражения… Стенли, находившийся тогда в Европе — и даже в самой Франции, в самом Париже, не оставил нападок на счастливого соперника. Американец даже как бы ставил в вину де Бразза то, что француз осуществил экспедицию с пустыми руками!
«Когда я впервые повстречал его на Конго, — пишет злопамятный англосакс, — он показался мне каким-то жалким босяком; не было ничего в нем примечательного, кроме изодранного мундира и мятой-перемятой шляпы. За ним следовала крошечная, невпечатляющая свита с двадцатью пятью фунтами[100] багажа. Даже для героя, нарядившегося в лохмотья, он был, пожалуй, слишком оборван. Мог ли я догадаться, что передо мной стоит человек этого года, новый апостол Африки, великий стратег, великий дипломат, великий завоеватель? Его принимает Сорбонна[101], ему рукоплещет Франция — да что там Франция! — им восхищаются во всем мире, даже в Англии…»
Нет никакой необходимости объяснять, как все это нелепо и глупо: ведь если де Бразза был беден — тем больше цена делу, совершенному в таких условиях!
Впрочем, наш герой не имел недостатка в защитниках. Многие взялись за перо в его поддержку, причем некоторые с чисто французской грацией издевались над Стенли, разнося англосакса в пух и прах. Автор «Приключений путешественников» не может, например, отказать себе в удовольствии процитировать несколько строк, написанных по этому поводу таким мастером, как Виктор Шербюлье:[102]
«Каждый, кто увидит господина де Бразза, — пишет наш выдающийся академик, — легко согласится с господином Стенли, что вид у него не цветущий: щеки запали, лицо в морщинах — сразу виден человек, вынесший непосильные тяготы… За всю слоновую кость Африки, за все каучуконосные леса Конго мы не осмелимся утверждать, что господин де Бразза упитан. Худоба — важное преступление, но господин Стенли — с той же горькой ухмылкой — находит и худшее: рваные башмаки. “Без приданого!” — восклицал Гарпагон[103]. “Без башмаков!” — на все лады твердит господин Стенли. Подумайте только! Господин де Бразза позволяет себе разгуливать по берегам Конго без башмаков — и после такого неприличия его еще пускают в большую аудиторию Сорбонны! И англичане им восхищаются! И еще он смеет утверждать, будто по всей форме подписал — без башмаков — договор с королем Макоко! Нам, в свою очередь, кажется, что господин де Бразза, возможно, и вправду потерял в Африке башмаки, господин же Стенли — изрядную долю рассудка и такта; последнюю потерю возместить труднее».
Де Бразза не составило бы труда и самому ответить на все оскорбления: в бойкости языка он никому не уступит. Но со спокойствием и благородством истинно сильных людей путешественник просто объявил, что считает себя не соперником, а сотрудником Стенли, совершающим одно и то же дело.
Вскоре де Бразза получил чин капитан-лейтенанта и пост генерального консула французского правительства в Западной Африке.
Но Комитет по исследованию Конго, заменивший Международную ассоциацию, также не мог примириться с тем, что благодаря приобретениям де Бразза на правом берегу реки по соседству с Бельгийским Конго создано мощное владение. Были употреблены все средства, чтобы поднять туземные племена и уничтожить французские приобретения.
Узнав о происках, которые могли все испортить, де Бразза в третий раз отправился в Африку. Обе палаты также были убеждены в необходимости активных действий; 28 декабря 1882 года они благородно предоставили путешественнику кредит в 1 275 000 франков для завершения столь счастливо начатого предприятия.
Экспедиция отправилась 20 марта 1883 года.
Несколькими неделями раньше капитан-лейтенант Кордье, командир корабля «Стрелец», официально завладел побережьем от мыса Лопес[104] до Лоанго включительно. Таким образом, устье Квилу, находящееся в этом промежутке, безоговорочно стало принадлежать нам.
Де Бразза прибыл в Лоанго — одну из лучших гаваней побережья, находящуюся в 120 километрах от устья Конго и примерно в 450 километрах по прямой линии от Браззавиля, — и тут же отправил вперед своих подчиненных Мишле и де Монтаньяка с двадцатью сенегальцами охранять пост Алима. Сам направился в Габон, где его уже более месяца ожидали девятьсот гребцов, завербованных господином де Ластуром, на пятидесяти восьми пирогах.
Экспедиция поднялась по Огове; плавание осуществлялось в трудных условиях и потребовало сорок пять дней постоянного напряжения. 25 августа 1883 года де Бразза прибыл во Франсвиль и вскоре достиг истоков Алимы, где его старейший и лучший соратник, неутомимый и преданный доктор Баллэ, устроил лагерь Ганшу. Сверх всякой надежды, доктору удалось даже договориться со свирепыми аффуру — племенем, которое прежде не разделяло всеобщей симпатии туземцев к представителям Франции.
Начальник экспедиции увидел, сколько успели сделать до него, и горячо поблагодарил друга. Вместе с ним, братом Жаком де Бразза и сержантом Маламином, которого господин Мизон отозвал из Браззавиля, де Бразза спустился по Алиме до Конго и направился во владения Макоко.
С тех давних пор, как де Бразза ушел, доверив защиту французского знамени Маламину с тремя сенегальцами, Макоко пришлось многое перенести из-за непоколебимой верности Франции.
Какими только шпильками не изводили правителя агенты Бельгийского Конго! Менее преданного своему долгу человека их изобретательное преследование, несомненно, заставило бы уступить. Стенли, например, возмутил против Макоко всех его вассалов. Право, сколько же злобы было у правой руки короля Леопольда!
Стенли был богат и, ловко раздавая подарки (прежде всего — крепкую водку алугу), поднял мятеж. Макоко, виновного в двух страшных преступлениях — любви к Франции и верности своему слову, свергли и на его место посадили самозванца.
Как вам нравится мораль, которую эти носители культуры преподносят детям природы?
И вот по воле Стенли Лже-Макоко, по-настоящему прозывавшийся Мпутаба, занял место сюзерена! Настоящий правитель не только потерял престол, но ежеминутно рисковал и жизнью: мятежники, страшась возмездия — если превратность судьбы вернет Макоко на трон, — хотели от него избавиться. Но Макоко неким чудом избегал всех ловушек — и в то же время, невзирая ни на что, не склонялся на посулы Бельгийского комитета, который предпочел бы иметь своим подданным его, а не дурачка Мпутабу.
Макоко было довольно сказать лишь слово, отречься от союза с Францией — и к нему вернулись бы престол, сокровища, почести… Как честный человек, он не произнес этого слова, хотя в бесплодном ожидании проходили недели и месяцы. На все уговоры он неизменно отвечал:
— Француз обещал мне вернуться. Я жду, и он вернется. Горе тогда тем, кто предал его!
Такая ситуация продолжала сохраняться до 5 апреля 1884 года, когда внезапно утром и, как всегда у негров, с удивительной скоростью пронеслась весть, что идет на веслах большая флотилия под французским флагом.
Макоко сиял в восторге: справедливость восторжествовала. Вскоре рассеялись последние сомнения: сам долгожданный француз шел во главе маленького флота. 10 апреля честный монарх встретил на берегу друга и союзника де Бразза, вернувшегося наказать обидчиков, возвратить верному Макоко все утраченное и утвердиться на берегах Конго!
Как же на глазах изменились мятежные вассалы, которых увлек за собою Мпутаба!
Отовсюду поспешно собрались вожди — с бельгийского и с французского берегов, все царьки, кому некогда де Бразза вручил французский флаг, подчинились ему, даже сам несчастный, жалкий и смущенный узурпатор Мпутаба предстал перед де Бразза и горько раскаивался в содеянном, утверждая, что испугался угроз Бельгийского комитета.
Макоко как можно скорее собрал большой съезд всех негритянских вождей с обоих берегов, где окончательно была подтверждена французская власть на судоходной части Конго.
В начале собрания Макоко публично ратифицировал соглашения, некогда подписанные им и де Бразза, и объявил, какие меры примет по соблюдению этих соглашений. Затем состоялся суд над Мпутабой. Раскаяние самозванца всем показалось искренним, и де Бразза настоял, чтобы Макоко простил виновного, но король велел Мпутабе явиться на берег Пула, где некогда незаконно правил, и публично признать власть Франции.
Мпутаба честно все исполнил и убедил вождей, даже с левого берега, присягнуть французскому флагу.
В апреле 1886 года господин де Бразза был назначен генеральным комиссаром Конго и Габона. При нем находился верный сотрудник доктор Баллэ, назначенный вице-губернатором Габона.
Казалось, генеральному комиссару нужно лишь ненадолго съездить во Францию — обсудить с правительством проблемы окончательного обустройства Конго — и он может тут же вернуться к прерванным трудам. Но с морским министерством возникли разногласия по поводу бюджета колонии. Де Бразза хотел, чтобы бюджет вотировался в целом, — так генеральный комиссар мог бы в интересах дела иметь свободу маневра. Министерство же настаивало на постатейном голосовании — ради облегчения контроля. После многомесячных переговоров де Бразза добился своего; в феврале 1887 года он отплыл к месту службы.
В Либревиле, согласно полученным инструкциям, он учредил колониальную администрацию. Затем де Бразза немедленно отправился в глубь страны, где требовалось его присутствие. Ситуация там складывалась тревожная — случалось, что начальники неоправданно прибегали к силе. Де Бразза разобрался на месте с обстановкой и отослал кого на океанское побережье, кого во Францию. Некоторые племена опять начинали драться по поводу и без повода. Губернатору, пользуясь своим влиянием, удалось восстановить между ними согласие и вдобавок заставить перенести два разборных паровых баркаса: один из них и теперь еще ходит по Огове, другой — по Конго.
В дебрях Африки де Бразза пробыл полгода и, сильно изнуренный дизентерией, вернулся на побережье. В 1888 году он отправился на родину, чтобы восстановить здоровье и представить точный доклад о положении Конго; кое-кто утверждал, будто оно не блестяще с финансовой точки зрения.
В награду за выдающиеся труды Географическое общество в 1882 году присудило ему большую золотую медаль; в том же 1882 году золотую медаль, специально выбитую в честь путешественника, преподнес ему муниципальный совет Парижа, а 14 августа 1885 года он получил офицерский крест Почетного легиона[105].
Дело де Бразза идет своим чередом, но еще далеко от завершения. Отважному путешественнику ныне больше, чем когда бы то ни было, требуются присущие ему усердие и энергия. Никто, кроме него, не в состоянии завершить освоение неизведанных районов Африки.
Именно де Бразза первый понял, что для постоянной эксплуатации бассейна Конго необходимо владеть устьями других рек и у Франции для этого — наилучшее положение. По реке, текущей по нашему Габонскому плато, можно добраться до судоходной части Конго без существенных перепадов высот. Стенли сказал следующие исторические слова:
«Тот, кто овладеет Конго, получит монополию на торговлю во всем бассейне реки. Она является и навсегда останется великой торговой дорогой, ведущей с запада в Центральную Африку».
Не будем никогда об этом забывать!
ГЛАВА 7
ЛИВИНГСТОН
Детство и юность Ливингстона. — Его призвание. — Первые путешествия. — Луанда. — Переход через Черный материк. — Возвращение в Европу.
В наше время, когда жизнь мчится на всех парах, — время мгновенных знакомств, бесчисленных публикаций, легких путешествий, шумной рекламы — известность, переходящую все границы, стали приобретать люди, которые прежде не заинтересовали бы широкую публику.
Личные заслуги, как правило, тут ни при чем. Достаточно, чтобы о вашем имени несколько дней или недель трезвонили в прессе Старого и Нового света.
А людей действительно выдающихся легко предают забвению — они слишком скромны, чтобы отстоять себя среди шумных оваций, которыми встречают новые громкие имена.
Возможно, — пусть не сочтут это за парадокс — никогда бы мирный добрый проповедник доктор Ливингстон не стал знаменитостью, если бы Гордон Беннет, директор «Нью-Йорк геральд», не вздумал послать к нему репортера Стенли.
Долгое время от Ливингстона не было вестей — считали даже, что он умер. А интересовались доктором — представьте себе! — только в очень узком кругу, где высоко ценили его труды.
Но едва Ливингстоном занялся один из королей прессы — известность проповедника сразу возросла благодаря шумихе, поднятой вокруг Стенли, который сам еще ровным счетом ничего не совершил.
Их имена соединились в пару: Стенли — Ливингстон. И многие узнали о том, что сделал Ливингстон, по тому, что собирался сделать Стенли. А Стенли, отыскав Ливингстона — что, в общем, было не так уж и сложно с теми средствами, которыми располагал, — собирался присвоить себе славу знаменитого путешественника, скромно жившего на Великих африканских озерах среди черных друзей.
Теперь, когда Стенли, случайно ставший исследователем, лихорадочно носится по Черному материку и, будучи дилетантом, поддерживает свою популярность рекламой, постепенно исчезает из нашей памяти имя замечательного исследователя, навечно погребенного под мрамором Вестминстерского аббатства.
Ливингстон — проповедник по призванию, путешественник по натуре, с ранней юности мечтавший посвятить жизнь проповеди Евангелия дикарям, — воистину велик и неповторим в своей трогательной простоте. Как самоотверженна вся его долгая жизнь, целиком посвященная просветительской деятельности! С каким благородством переносил он ради нее неслыханные труды, лишения и болезни! И какой сильный характер был у ребенка, из которого вырос подобный муж! Послушайте собственный его рассказ о детстве:
«Десяти лет от роду[106], чтобы заработать на жизнь и уменьшить таким образом заботы бедной матушки, меня послали на прядильную фабрику, где стал связывать порванные нити на станках. На часть первого же недельного заработка я купил учебник латинского языка и в течение многих лет с неослабным рвением изучал латынь. Каждый день с восьми до десяти вечера я ходил в школу, затем до полуночи и даже еще позже сидел со словарем, если только мать не отбирала у меня книги. На другой день к шести утра я должен был идти на фабрику и оставался там до восьми с перерывом только на обед и ужин. Так я изучил большую часть классических авторов и в шестнадцать лет лучше, чем сейчас, знал Вергилия[107] и Горация[108].
Я глотал все научные книги, что попадались мне под руку, кроме романов: вымыслы я не любил — особенно рассказы о путешествиях, которые были для меня наслаждением. Отец, считавший, как и многие его современники, что научные сочинения противоречат религии, предпочел бы видеть меня за такими книгами, как „Облако свидетелей” или „Великолепное состояние” Бостона[109]. Наше расхождение во взглядах по этому вопросу было очень большим, и в последний раз в жизни я был выдран как раз за категорический отказ прочитать „Христианскую практику” Уилберфорса[110].
В течение долгих лет чтение религиозных книг любого рода внушало мне отвращение, но, натолкнувшись однажды на „Философию религии и будущей жизни” Томаса Дика[111], я с радостью увидел: эта замечательная книга подтверждает мою давнюю мысль о том, что вера и наука отнюдь не враждуют между собой, но взаимно друг друга поддерживают.
Я продолжал занятия и на прядильной фабрике: пристраивал книгу на станке так, чтобы, проходя мимо, можно было, не прерывая работы, выхватить несколько фраз. Таким образом я приобрел способность полностью отрешаться от окружающего шума, свободно читать и писать среди играющих детей или сборища пляшущих и вопящих дикарей. В девятнадцать лет я стал прядильщиком и мне дали собственный станок. Для хрупкого и тщедушного юноши это была чрезвычайно тяжелая работа, но мне и платили соответственно; этих денег хватило даже безбедно провести зиму в Глазго, где я занимался медициной и греческим, посещал лекции по богословию.
Мне никто никогда не помогал деньгами; впоследствии, несомненно, я также без чьей бы то ни было помощи осуществил бы свой план отправиться в Китай врачом-миссионером. Но однажды мне посоветовали вступить в Лондонское миссионерское общество. Оно, как мне сказали, совершенно было лишено сектантского духа; к идолопоклонникам оно посылает не приверженцев англиканской церкви[112], не пресвитериан[113], не индепендентов[114] — но только Христово Евангелие. Это вполне совпадало с моим мнением о предназначении подобного общества».
Одновременно со степенью доктора медицинских наук и хирургии Ливингстон получил должность миссионера. В 1840 году он отбыл в Африку: путь в Китай ему преградила — и надолго — так называемая Опиумная война[115].
Доктор высадился в Кейптауне, где пробыл недолго, оттуда отправился в бухту Алгоа, затем в Куруман — самую отдаленную английскую колонию в этих местах. Там Ливингстон познакомился с доктором Моффетом[116], тоже миссионером, и женился на его дочери[117], со всею преданностью разделившей труды проповедника.
В соответствии с полученными инструкциями Ливингстону надлежало ехать на север[118]. Он отправился в Лепелоле — резиденцию вождя баквейнов Сечеле — и принялся за обустройство миссии.
Несколько месяцев Ливингстон изучал туземный язык и обычаи, научил Сечеле читать и обратил в христианство. Впоследствии этот вождь стал одним из самых верных его соратников.
В 1843 году вражда между соседними племенами заставила Ливингстона покинуть основанную им миссию. Он переехал в Колобенг в долине Маботсе, где прожил девять лет.
Если вам интересно, как должен глава семьи устраивать дом на новом месте, — послушайте самого доктора:
«Поскольку в этой стране нет ни торговли, ни ремесел, все приходится делать своими руками. Вы хотите построить дом — нужны стены. Значит, надо пойти в лес, срубить дерево и распилить его, чтобы сделать форму для кирпичей. Нужно ли дерево на двери, на оконные рамы — опять поезжай в лес. Если баквейнам заплатить, они работают с большим удовольствием, но построить прямоугольное жилище не способны: как и все бечуаны[119], они строят только круглые дома. Поэтому в трех больших зданиях, построенных мною, я должен был сам уложить каждый кирпич и приделать каждую деревянную жердь.
Затем другой, не менее неотложный вопрос — продовольствие.
Прежде всего необходим хлеб. Мельниц тут нет: женщины мелют муку ручными каменными жерновами и сразу же сажают тесто в печь. Устраивается эта печь так: в брошенном термитнике[120] проделывают дырку и закрывают вместо заслонки плоским камнем. Иногда огонь разводят прямо на утоптанной земле; когда почва достаточно нагреется, прямо на нее ставят сковородку с короткой ручкой, а то и просто кладут тесто. Лепешку накрывают металлической миской, со всех сторон подгребают угли, а сверху на миске разводят огонь. Подобный хлеб восхитителен. Масло мы сбиваем в глиняном кувшине-маслобойке, свечи делаем в формах собственного изготовления, мыло готовим из золы: кипятим, получая щелочь, которой смываем жир.
В общем, не так уж и трудно самому себя обеспечить — напротив, невообразимо приятно зависеть лишь от собственной предприимчивости. Многие найдут в такой жизни романтическую притягательность, а цель жизни — та самая деятельная благотворительность, в которой находят блаженство добрые сердца».
Наконец, прожив в Колобенге уже несколько лет, Ливингстон решил исследовать озеро Нгами, о котором ему рассказывали дикари, ежегодно ходившие к его берегам. Два неустрашимых охотника, господа Освел и Меррей, вызвались сопровождать доктора.
Первого июня 1849 года их отряд двинулся по течению реки Зоуга и 1 августа достиг Нгами. Было уже слишком поздно, чтобы исследовать обширный водоем, в который впадает много рек. Ливингстон вернулся в Колобенг и вновь пустился в путь на следующий год вместе с женой и тремя детьми. Он хотел, оставив семью на берегу озера, идти дальше один на встречу с влиятельным вождем племени макололо[121]. Но двое детей Ливингстона заболели лихорадкой, и ему пришлось опять вернуться в Колобенг.
В третий раз доктор отправился на Нгами в 1851 году и открыл в центре континента реку Замбези.
Ливингстон, чтобы более не подвергать семью опасностям нездорового климата, отправил ее в Европу, посадив жену с детьми в Кейптауне на корабль, отплывающий в Англию. Тем временем буры[122], жившие по соседству с Колобенгом — смертельные враги баквейнов, — совершили на них грандиозный набег, увенчавшийся полным успехом. Заодно они разграбили и миссию, лишив Ливингстона всего имущества. Итак, он теперь оказался совершенно свободен и мог отправляться в путь, не заботясь о своих вещах. Вскоре у него созрел план: отправиться в Сан-Паулу-ди-Луанда на западном берегу материка, пересечь по диагонали всю Южную Африку и достичь Келимане на восточном берегу.
Наняв для этой длительной экспедиции баквейнов — проводников и носильщиков, — Ливингстон пересек пустыню Калахари.
Это обширная территория, простирающаяся от Оранжевой реки до озера Нгами, то есть от 29° до 20° южной широты, и от Атлантического океана до 24° восточной долготы. Пустыней ее называют потому, что проточной воды в ней нет, а источники встречаются редко. Но растительности там достаточно: есть густые травы и обширные заросли кустарника, над ними — роскошные деревья; население Калахари также многочисленно. В пустыне есть одна особенность: в наиболее дождливые годы повсюду на огромных пространствах вырастает множество диких арбузов. Подобное изобилие наступает примерно раз в десять — одиннадцать лет. Тогда у всех обитателей Калахари — хищников, жвачных, толстокожих, грызунов и, конечно же, у людей — начинается грандиозный пир. Все наслаждаются ароматной нежной сочной мякотью. Львы, слоны, гиены, антилопы, шакалы, зебры, носороги, буйволы, мыши, — все большие и малые звери радостно встречают этот дар, удовлетворяющий самые разнообразные вкусы…
Ливингстон выехал из Колобенга 23 мая 1853 года. Когда он прибыл в Линьянти, столицу племени макололо, все жители — тысяч шесть или семь человек — вышли ему навстречу. Из Линьянти доктор направился в Сешеке; вместе с ним вышли в поход сам вождь Секелету и сто шестьдесят знатных лиц племени макололо. Потом Ливингстон пошел на запад, как и собирался с самого начала — добраться до Западной Африки и остановиться в португальской колонии Сан-Паулу-ди-Луанда.
Племя макололо богато скотом. Секелету кормил своих людей, то щедрой рукой забирая быков из собственных стад, то принимая животных в подарок от вождей вассальных племен.
Маленький караван, мирно пересекавший владения Секелету, представлял собой живописное зрелище. Некоторые туземцы были одеты в туники из кумача или ситца; в волосы они вплетали бычьи хвосты или надевали парики из львиных грив. Аристократы имели исключительное право идти с дубинками из носорожьего рога, щиты они отдавали своим рабам. Носильщики несли грузы, вооруженные воины исполняли обязанности гонцов.
Ливингстон и Секелету прибыли в деревню Катонга на реке Лиамбье, раздобыли тридцать три лодки и двинулись вверх по реке. Вдоль нее стоит много деревень, жители которых — отважные охотники на бегемотов — отлично обрабатывают железо, знают толк в гончарном деле, умеют резать по дереву и плести различнейшие вещи.
Секелету впервые посетил всего год назад унаследованные владения от отца Себитуане. Поэтому приезд молодого монарха обрадовал местных жителей: они надеялись на какой-нибудь дар от счастливого наследника.
Ливингстон добрался до Нальеле, но, сраженный лихорадкой, внезапно вернулся в Линьянти набраться сил. Путешествие в Сан-Паулу-ди-Луанда вновь отложилось, хотя и ненадолго.
В конце октября Ливингстон поправился, Секелету обеспечил его всем, чтобы дойти до Атлантики — проповедник сам хотел установить торговые отношения с белыми на побережье.
Одиннадцатого ноября 1853 года доктор вновь покинул Линьянти и отправился в путь по реке Чобе. Идти по ней на лодке очень опасно: стоит гребцу зазеваться — старые бегемоты, живущие по логовам, как кабаны-одиночки, тут же нападают и разбивают суденышко.
Затем доктор перешел с Чобе на Лиамбье. Негры гребцы работали на совесть, но лодки продвигались медленно: поневоле приходилось иногда останавливаться в поисках пропитания, и плавание прерывалось.
Тридцатого ноября Ливингстон достиг водопада Гонье — исключительно живописные места. Воды его яростно обрушиваются в бассейн девяностометровой ширины, который не может переплыть ни один пловец, даже профессиональный ныряльщик. Чтобы продолжить путь, надо было перетащить лодки волоком. Это заняло много времени, в течение которого доктор учил туземцев обращаться с огнестрельным оружием.
Ливингстон продолжал идти вверх по Лиамбье на лодке, а часть его спутников шла берегом, перегоняя стада быков, предназначенных на питание путешественникам. Дикари, впервые взявшие в руки ружье, впустую расходовали порох доктора, паля по крокодилам, которыми кишела река. Опасаясь, что запасы «лекарства для ружья» (так туземцы называли порох) иссякнут, Ливингстон вынужден был сам охотиться для всего отряда.
Тем временем из Лиамбье выплыли в реку Лееба; там тоже водилось полно крокодилов, таскавших скот и даже детей. Но зато вдоль реки жило множество диких пчел, а берега покрывали медоносные цветы: путники вдоволь отведали дивного нектара.
Шел проливной дождь, когда доктор прибыл в землю балонда;[123] этим племенем управляла высокая сильная женщина по имени Маненко. Его радушно приютили, встретив с музыкой — звуками маримбы. Маримба, да будет вам известно, нечто вроде дикарского пианино, очень, конечно, примитивного, но весьма остроумного. Инструмент состоит из двух горизонтальных и двух вертикальных деревянных перекладин, на которых укреплены вертикально пятнадцать клавиш, тоже деревянных. Клавиши имеют шесть — восемь сантиметров в длину и сорок пять в ширину; под каждую клавишу ставят резонатором полую тыкву. Звук извлекают, ударяя по клавишам барабанными палочками. Высота звука зависит от толщины клавиши и размера тыквы. Инструмент, конечно, варварский, но интересный, особенно когда музыкант — пианист и барабанщик одновременно — хорошо знает свое дело.
Здесь доктор впервые увидел, как туземцы скрепляют кровью клятву в вечной дружбе, разорвать которую способна только смерть. Два человека, желающих участвовать в этом важном обряде, садятся друг напротив друга. Рядом с каждым из них стоит кувшин туземного пива помбе. Оба делают себе на руках, на животе, на лбу и на правой щеке надрезы. К ранке прикладывают травинку, по которой капли крови стекают в пиво, после чего друзья по очереди пьют из кувшина.
Ливингстона хорошо принимали все, кого он только встречал в пути. Некто Шинте, например, подарил ему раковину, по стоимости равную рабу. Затем доктор прибыл к Катеме — оригиналу в зелено-коричневой одежде и жемчужном шлеме, причудливо разукрашенном перьями.
Далее Ливингстон пересек озеро Дилоло и реку Касаи — великолепную реку стометровой ширины; лодки для переправы туземцы дали путешественнику бесплатно. Через несколько дней доктор добрался до Нжамби[124], где у него стали вымогать выкуп — признак того, что вы приближаетесь к цивилизованной местности. Так как у доктора с собой были только инструменты для съемки маршрута да несколько одеял, Ливингстону приходилось вести долгие переговоры с туземцами; он их насилу убедил, что взять с него нечего.
После многих приключений Ливингстон прибыл наконец в Кассандже — самую отдаленную от побережья Атлантики португальскую миссию. Первый встреченный им человек спросил у англичанина — что бы вы думали? паспорт! — и отвел к губернатору…
Губернатор оказался не таким формалистом, как его подчиненный, и встретил доблестного путешественника с распростертыми объятиями. Не спрашивая никаких документов, губернатор снабдил отряд всем необходимым.
Наконец 31 мая 1854 года желания Ливингстона исполнились и труды увенчались успехом. Он находился на побережье Атлантического океана, в Луанде, столице Анголы, то есть пересек южную часть Африканского континента с юга на северо-запад. Ливингстон прожил в португальской колонии несколько месяцев: с одной стороны, чтобы изучить город с окрестностями, с другой — поправить здоровье.
«Раньше, — пишет путешественник, — Сан-Паулу-ди-Луанда был значительным городом; теперь в нем не более двенадцати тысяч жителей, большая часть которых цветные. Следы былого величия видны до сих пор. Из двух самых красивых церквей города одна, построенная иезуитами, превращена в мастерскую, величественный интерьер другой служит хлевом для быков. Отлично сохранились три форта, много в городе и больших каменных домов — но почти все жилища туземцев построены из веток, обмазанных глиной. Повсюду в городе множество тенистых деревьев, и с моря Луанда выглядит весьма привлекательно.
Португальцы — опытные колонизаторы; у них достало здравого смысла не трогать общественное устройство туземцев и не обременять африканцев новыми законами. Некоторые туземные племена до сих пор сами управляют своими владениями. Например, вождь племени банго сохраняет титул сова, при нем действует племенной совет; народ ведет тот же образ жизни, что и до колонизации.
Местное общество состоит из лиц важных и не очень, которые имеют право носить обувь и называют себя «белыми» (хотя все они очень даже чернокожие), а прочих соплеменников — неграми. Эти привилегированные особы предоставляют заботу о пропитании женам, сами же проводят время, упиваясь тодди. Тодди — не что иное, как сок масличной пальмы; он безвреден и приятен на вкус, когда течет из дерева, но, перебродив несколько часов, ударяет в голову и часто доводит до преступления. Туземцы называют его «малова»; это «бич страны».
Двадцатого сентября 1854 года Ливингстон покинул Луанду и приблизительно той же дорогой вернулся в Линьянти. Он смог, однако, увидеть новые племена, нравы которых представляли особый интерес для такого исследователя, как наш доктор.
На берегу речки Тамба, к югу от земель чибокве, он встретил, например, туземцев, поразивших его цивилизованностью и кротким нравом.
«У жителей берегов Тамбы, — говорит Ливингстон в путевых записках, — кожа черная с оливковым оттенком. Зубы они подпиливают, чтобы стали острыми, и из-за этого улыбка женщин становится страшноватой — что-то вроде ухмылки аллигатора. Интересно, что дикари выказывают такое же разнообразие вкусов, как и цивилизованные люди. Одни туземцы увлеченно заняты своим туалетом; масло со старательно намазанных голов капает им на плечи, волосы с изысканнейшим щегольством закручены и заплетены, а одежда расшита какими-нибудь узорами. Другие с утра до вечера, а то и до глубокой ночи музицируют. Большинство музыкантов по бедности колки для инструментов делают не из железа, а из бамбука. Есть ли слушатели или нет — все равно музыканты играют. Иные туземцы выказывают нрав воинственный и не выходят из лачуг без лука со стрелами или ружья, украшенного лоскутами шкур всех убитых животных. Кто-то из соседей повсюду носит с собой клетку с певчими птицами, а некоторые женщины откармливают щенков (здесь едят собачатину).
Поселения туземцев обычно расположены в лесу, состоят из беспорядочно разбросанных лачуг темного дерева, окружены банановыми посадками, хлопковыми и табачными плантациями. У каждой хижины есть терраса, где сушат маниоковые[125] корни и муку. По стенам развешаны клетки с домашней птицей, на крыше стоят корзины, где куры несут яйца.
При въезде в деревню женщины и дети предлагают вам товары. Торгуясь, они трещат без умолку, но при заключении сделки вежливы и доброжелательны. Торговки настаивают, например, чтобы мои спутники обменяли на их муку говядину, заготовленную специально для продажи; в конце концов они остаются довольны крохотным кусочком мяса — думается, им нравится сам процесс торговли…»
Чтобы не погубить результаты исследований, путешественник вынужден был идти медленно. Через одиннадцать месяцев доктор и его отряд вернулись в Линьянти. Путешествие в Сан-Паулу-ди-Луанда длилось более двух лет, но доктора еще ожидали лошади, оставленные в Линьянти в 1853 году!
Повозку и остальные вещи Ливингстон также нашел в отличном состоянии. Всех жителей созвали послушать рассказ о его путешествии и присутствовать при вручении подарков, которые португальский губернатор и купцы из Сан-Паулу-ди-Луанда поручили передать Секелету. Ливингстон объяснил, что дары белых — свидетельство дружбы и намерения торговать с макололо.
«Дары, — рассказывает доктор, — вызвали бурю восторга. Когда на следующее утро Секелету появился в церкви в полковничьем мундире, все больше смотрели на него, чем слушали мою проповедь. Впрочем, макололо так добры и так трогательно относятся ко мне, что я закрываю глаза на их рассеянность в церкви».
Открыв дикарям из дебрей Южной Африки дорогу к европейским поселениям на побережье Атлантики — дорогу для торговли с туземцами, — Ливингстон задумал проложить для них путь и к восточному берегу материка.
Два пути лежали перед ним — путь к Занзибару и путь по Замбези. Дорога на Занзибар была, пожалуй, легче благодаря мирному и доброжелательному характеру местных жителей, тогда как на Замбези жили воинственные племена, смертельно враждовавшие порой с макололо.
Но Замбези — тот крупный водный путь, который в состоянии связать центральные области с восточным побережьем. Поэтому Ливингстон отправился вдоль по реке, левым берегом. Он полагал, что Тете — самая дальняя португальская станция — находится именно на этом берегу. Позже оказалось, что это не так — географ, составлявший карту, по которой Ливингстон намечал маршрут, ошибся.
Приняв решение, доктор покинул Линьянти 3 ноября 1855 года; с ним шли Секелету и еще около двухсот человек.
Вся племенная знать вызвалась сопровождать путешественников. Впрочем, они и кормились за счет вождя, который на каждой остановке пополнял стада. И о Ливингстоне — со дня его возвращения до самого дня расставания — вождь заботился с неоскудевающей щедростью.
Десять дней отряд шел вниз по Замбези — то на лодках, то берегом. Потом пришлось отклониться от реки на северо-запад, чтобы обойти неприступные горы, перегородившие ее в этом месте; из-за них Замбези некогда разливалась по равнине огромным озером. Позже какой-то геологический катаклизм разломил здесь землю и открыл водам узкий, обрывистый путь на восток. Замбези с ужасным грохотом устремилась в бездонную пропасть, скатываясь в извилистую расселину, которая дальше становится ее руслом. Макололо называют этот водопад Моси-оа-тунья[126].
Доктор слышал о нем еще тогда, когда только приехал в Африку. Один из первых вопросов Себитуане, покойного отца Секелету, звучал следующим образом: «Вы у себя в стране видели пар, который грохочет?»
Местные жители никогда не приближались к водопаду — они видели его только издали и, потрясенные огромными облаками пара и страшным шумом, восклицали: «Моси оа тунья!»
Ливингстон хотел увидеть это чудо природы вблизи — первым из белых людей — и направился к водопаду. Уже за шесть миль (около двенадцати километров) до него путешественник увидел столбы пара. Понятно, почему этот пар называют дымом: издали он похож на пожар, опустошающий огромные пастбища в африканских саваннах.
Пять столбов пара, словно опирающихся на низкий, поросший лесом обрыв, колебались на ветру. «С места, где мы находились, — пишет Ливингстон, — казалось, что их вершины теряются в облаках. У основания они белые, кверху темнеют — тем больше сходства с возносящимся от земли дымом. Вся картина несказанно красива — по берегам реки и на многочисленных островах растут огромные деревья разнообразной формы и расцветки. У каждого дерева свой неповторимый облик; многие усеяны цветами. Вот могучий баобаб[127], каждая ветвь которого могла бы стать стволом огромного дерева; рядом с ним четко рисуются на фоне неба ажурные листья рощицы пальм. Могононо, похожий на ливанский кедр, представляет разительную противоположность угрюмому моцоури, силуэт которого напоминает кипарис, а коричневатый цвет листвы оттенен кроваво-красными плодами. Некоторые деревья похожи на наши дубы, некоторые на вязы и старые каштаны.
Трудно даже вообразить подобное великолепие! Кругом холмы, заросшие деревьями; в просветах сверкает на солнце земля. Не хватает только заснеженных горных вершин на горизонте.
Шагах в восьмистах от водопада я сажусь в легкий челнок. Умелые гребцы ведут суденышко между камнями и водоворотами к острову, расположенному прямо перед провалом, в который низвергается вода. Мне удалось доплыть лишь потому, что уровень в реке был низким — во время паводков сюда невозможно добраться.
И вот я с волнением подошел к краю пропасти и смотрю в глубину огромного разлома, пересекающего Замбези. Передо мною река тысячеметровой ширины внезапно падает на огромную глубину и сужается в русле шириною не более[128] пятнадцати — двадцати метров.
Пропасть эта — глубокая трещина в базальтовой гряде, прерывающая русло реки; она тянется через цепь гор, на север от Замбези еще километров на тридцать — сорок[129]. Если заглянуть в бездну с правого берега, видно лишь сплошное белое облако в ярком радужном ореоле. Из этого облака вырывается фонтан пара стометровой высоты. Поднимаясь, пар сгущается, темнеет и выпадает мелким дождем, который промочил меня насквозь. Особенно сильный дождь идет у самой трещины. В нескольких метрах от пропасти изгородью стоят зеленые деревья; их листья постоянно мокры, а от подножия в пропасть катится множество ручейков. Но столб пара, бьющий навстречу, вновь поднимает их — и, вечно стремясь ко дну пропасти, ручьи никогда его не достигают.
Слева от острова видны пенистые воды реки, текущей в сторону холмов. Высоту гигантской стены, с которой падают потоки воды, можно измерить взглядом. Стены этой гигантской расселины, состоящие из однородной породы, спускаются отвесно вниз. Край той стороны, с которой падает вода, размыт на два или три фута; от него отвалились отдельные куски, придавая выступу несколько зубчатый вид. Противоположный край совершенно ровный, только в левом углу его видна трещина, и кажется, что кусок породы скоро отвалится.
Отсюда прекрасно видно, как вода падает на дно провала белой как снег пеленой, разбивается и выбрасывает при каждом всплеске фонтаны пены. Так стальные брусья, горящие в кислороде, выбрасывают снопы искр; так мириады снежных комет с ослепительными хвостами низвергаются в бездну».
Ливингстон назвал водопад на Замбези именем английской королевы[130]. Это имя — водопад Виктория — сохранилось и поныне.
Затем караван попал во владения батока — некогда многочисленного, но почти уничтоженного в истребительной войне племени. У них много своеобразных обычаев. В частности, достигнув половой зрелости, батока выбивают себе все верхние зубы. Нижние зубы, не стираемые верхними, делаются у них длиннее и несколько наклоняются вперед, безобразнейшим образом оттягивая губы. Если у батока спрашивают, зачем они себя так уродуют, те отвечают: «Мы подобны быкам, а у кого растут зубы — подобны зебрам». Но макололо, насмехаясь, дают этому обычаю другое объяснение. По их словам, жена одного из вождей батока поссорилась с мужем, сильно укусила его за руку и была приговорена к потере верхних зубов. То ли из придворного раболепия, то ли для того, чтобы такое больше не повторялось, мужи племени подвергли такой операции и собственных жен, а потом эту моду переняли все люди батока.
Вскоре Ливингстон побывал на слоновьей охоте. Слониха с двухлетним слоненком плескалась и возилась в ручье. Звереныш весело махал ушами и крутил хоботом, а иногда, бросив игру, принимался сосать материнское вымя. Внезапно раздались крики окруживших их туземцев: «О вождь! Мы пришли, чтобы убить тебя! Вы умрете, как все! Наши животы будут вашей могилой!»
Испуганные звери бросились бежать. Слоненок неосторожно вырвался вперед, но, увидев охотников, вернулся к матери, которая, чтобы успокоить малыша, нежно обвила ему хоботом голову, плечи и загородила собой. Прикрывая сына, слониха то и дело останавливалась и поглядывала на врагов, продолжавших свои заклинания, догоняла слоненка и шла рядом с ним, подняв уши и хобот, шумно дыша и все время пытаясь решить: то ли ей растоптать охотников, то ли спасать малыша. Охотники приближались и приближались: слоненок шел медленно, а все африканцы прекрасные бегуны. Показался довольно широкий ручей. Пока слониха, ни на миг не забывая о сыне, переходила его, охотники подбежали к ним шагов на двадцать. Как только слоны оказались в пределах досягаемости, их осыпали градом стрел. Вся красная от лившейся потоком крови, слониха бросилась бежать и, что удивительно, бросила слоненка. Тот удирал так быстро, как только мог, но был слишком мал, чтобы пуститься в галоп. Пытаясь спастись, бедняжка бросился в воду и прямо посреди ручья был убит.
Услышав его предсмертный крик, мать повернулась и с яростным воплем бросилась на охотников. Те разбежались кто куда. Слониха устремилась за одним из негров, у которого на плечах был кусок яркой ткани (опасная неосторожность: разъяренного от боли и гнева зверя привлекают яркие цвета).
Утыканная копьями, как гигантская подушечка для булавок, слониха несколько раз пыталась вновь броситься на врага. Она с трудом пробежала еще метров сто, перешла ручей, на мгновение остановилась, двинулась вперед, оглянулась еще раз на охотников, вновь получила град копий, задрожала, пошатнулась и с хриплым стоном обрушилась, как гора.
Слониха была в полном расцвете сил; высота ее — два метра шестьдесят четыре сантиметра, окружность ноги — один метр двадцать два сантиметра.
Постепенно приближаясь к португальской колонии, караван плыл по реке Кафуе. Там столько всякой дичи и зверья, что доктор хотел даже сфотографировать местность. Скоро, грустно замечает он, все это исчезнет, сметенное шквалом огнестрельного оружия…
В этих местах все животные невероятно доверчивы. Слоны, например, спокойно обмахиваясь огромными ушами, смотрели на лодки, плывущие в двух сотнях метров от них. Огромные дикие свиньи с забавным изумлением рассматривали отряд чернокожих; сотни зебр и буйволов мирно гуляли по опушкам. Животных на этой равнине столько, что доктор замечает: «Казалось, я попал в эпоху, когда мегатерий[131] спокойно расхаживал по первобытным дебрям!»
Дальше по реке начинаются леса, в которых полно ужасных мух цеце, укус которых безвреден для человека[132] и диких животных, но убивает быков и лошадей.
Чем дальше продвигается экспедиция, тем чаще встречаются туземцы. Они и здесь ведут себя мирно, только собираются толпами поглазеть на невиданное в этом краю диво — человека с белой кожей. Их манера приветствия весьма необычна: при виде доктора они падали на спину, катались по земле и хлопали себя по бедрам. Ливингстон пытался объяснить, что такое странное приветствие ему неприятно, но дикари, думая, что он считает их недостаточно гостеприимными, начинали кататься по земле и бить себя по ляжкам с удвоенной силой.
В каждой деревне Ливингстону давали провожатых до следующего поселения — двух-трех человек, хорошо знавших местность. Дорога здесь идет болотистой низиной, покрытой лесом, поэтому часто она тяжела, а местами и опасна для путешественников.
Небольшими переходами они достигли слияния рек Луанга и Замбези, где обнаружили развалины крепости: свидетельство тому, что здесь когда-то побывали португальцы.
Было очень жарко, и отряд шел неторопливо. Продолжительность дневного перехода не превышала двадцати километров — не то чтобы больше пройти было трудно, но зачем, изнуряя себя, рисковать подхватить лихорадку, если торопиться некуда?
Ливингстон пересек Замбези чуть ниже копей Зумбо и направился к Ниакобе, поселению племени баньяи. Доктор заметил в характере этого племени любопытную черту, свойственную, по его мнению, только им. «У этих туземцев, кажется, авторитетом обладают только женщины. Мужчина без согласия женщины никогда ничего не предпримет, а сделать что-либо без ее разрешения он не способен».
Из Ниакобы доктор вернулся на Замбези, к деревне Тете. Там португальский губернатор чудесно принял путешественника и пополнил запасы отряда.
«Тете, — пишет Ливингстон, — насчитывает от силы тридцать европейских домов вместе с фортом — небольшим квадратным зданием, примыкающим к крытой соломой казарме, где размещается гарнизон. Остальные здешние дома — туземные мазанки с крышей из тростника и травы, кое-как слепленные из веток и глины. В городе, окруженном глинобитной стеной трехметровой высоты, живет около двух тысяч жителей. Примерно столько же туземцев предпочло остаться за оградой и заниматься сельским хозяйством».
Из Тете Ливингстон пошел дальше вниз по Замбези до реки Келимане[133], затем — по ней до деревни с тем же названием. 20 мая 1856 года он достиг берега Индийского океана.
Итак, Ливингстон целиком пересек южную часть Африканского континента с запада на восток, от Луанды до Келимане.
Двенадцатого июля доктор сел на английский бриг «Фролик» и отправился на остров Маврикий, где его надолго задержала болезнь. Наконец 12 декабря 1856 года после шестнадцатилетнего отсутствия он вернулся в Англию.
ГЛАВА 8
Второе путешествие. — Замбези. — Шире. — Новый поход на озеро Ньяса. — «Пионер». — Возвращение в Англию. — Третье путешествие. — Смерть Ливингстона.
Еле переведя дух, отважный путешественник затосковал по Африке и захотел вернуться. Чуть больше года прожил он в Европе — и вот уже готова новая экспедиция[134].
На сей раз целью Ливингстона было исследование Замбези и притоков. Доктор хотел, чтобы они стали удобным путем в глубь Африки и для миссионеров, и для коммерсантов.
Экспедиция отправилась из Великобритании на пароходе «Перл» 10 марта 1858 года; в нее входили доктор Ливингстон, доктор Кэрк и еще несколько англичан. Через месяц пароход пристал к мозамбикскому берегу.
Сейчас уже общеизвестно, что Замбези при впадении в океан образует дельту из нескольких рукавов: Миламбе (самое западное русло), Конгоне, Луабо и Тимбуэ, он же Музилу[135]. Ливингстон изучил все эти разветвления реки и пришел к выводу, что самый удобный для судоходства рукав — Конгоне.
Для исследования Замбези из Англии привезли разобранный на три части пароходик для плавания по реке, собрав который, назвали «Ma-Роберт» («Мать Роберта»): так туземцы звали миссис Ливингстон по имени ее сына.
Без промедления экспедиция выступила в путь. По берегам Конгоне растут огромные папоротники, панданусы, финиковые пальмы;[136] несколько выше по течению начинаются обширные саванны, черноземная почва которых на первый взгляд кажется довольно плодородной.
Временами встречаешь домики на высоких сваях (как кое-где у нас на озерах) — либо для защиты от хищных зверей, либо — что вероятнее — от наводнений, способных за несколько часов внезапно затопить всю округу. Жителей здесь немного — они совершенно безобидны и ходят абсолютно голыми; хотя кругом болота, вид у людей здоровый.
«Ma-Роберт» медленно поднималась по течению и своим астматическим кашлем разгоняла всех прибрежных обитателей: четвероногих, птиц, людей… Посудина была довольно скверная, особенно топка, которая пожирала дрова в невероятных количествах. Но для сколько-нибудь приличной скорости давления все равно не хватало — даже хорошие гребцы на легкой лодочке без большого труда шли вровень с пароходом.
Наконец узким, слегка извилистым проходом по правую руку от Конгоне экспедиция вышла в главное русло Замбези и поднялась до Тете, где бросила якорь 8 сентября 1858 года.
Как и в прошлый раз, в распоряжение доктора и его товарищей предоставили дом губернатора. Некоторые из макололо, узнав старого друга, устроили восторженный, глубоко тронувший доктора прием.
За два года город совсем не изменился, только в сентябре вдоль всех улиц здесь растет индиго[137] в таких количествах, что за самое короткое время можно собрать несколько тонн. Индиго, дурман и разновидность кассии, называемая сенна, здесь главные сорняки — прежде чем обрабатывать землю, их непременно надо выдрать и сжечь.
Белых здесь мало; в основном это солдаты, довольно-таки неприятные, кого здесь называют «неисправимыми», — нечто вроде наших штрафников. В самые нездоровые места колонии этих солдат посылают за ничтожное жалование, но они женятся на негритянках и имеют доход с их огородов.
Из Тете доктор снова отправился к порогам Кебрабаса, о которых уже много слышал. Он приплыл к ним 9 ноября и убедился, что пройти пороги на «Ma-Роберт» невозможно — машина слишком слаба. Тогда Ливингстон запросил через губернатора судно, годное для плавания по африканским рекам, а в ожидании ответа направился по реке Шире — большому левому притоку Замбези. Кстати, по словам доктора Ливингстона, вода великой африканской реки была в те времена столь чиста, что могла заменить фотографам дистиллированную воду, в которой разводят азотнокислое серебро.
Когда в начале 1859 года экспедиция впервые пошла вверх по Шире, все туземцы собрались и взялись за оружие, чтобы не пропустить ее. Самые храбрые воины засели в засаду за деревья; луки были натянуты, отравленные стрелы наготове. Женщины и дети держались в чаще поодаль — одним словом, готовилось большое сражение. В деревне Тингане пятьсот воинов встретили доктора и грубо потребовали остановиться.
Ливингстон сошел на берег и объяснил: «Мы англичане, едем сюда не воевать, не похищать людей, а проложить дорогу нашим соплеменникам, которые не будут торговать рабами, а купят у вас все, что вы хотите, — хлопок, слоновую кость».
Большего и не потребовалось, чтобы изменить расположение вождя, сразу ставшего дружелюбнее.
Впрочем, уже само наличие парохода ясно показывало, что пришельцы относятся к незнакомому народу. Туземцы хорошо видели, что этот пароходик ни в чем не напоминает лодки работорговцев, которым местные жители не без оснований препятствовали вступать в сношения с племенами внутренних районов континента.
На животных астматический пароходик производил не менее сильное впечатление, чем на людей. При его приближении бегемоты в панике разбегались кто куда. Тупые крокодилы, напротив, принимали кораблик за неизвестное животное и, остервенело гнались за судном с целью сожрать добычу. Но в нескольких метрах от корпуса крокодилы поднимали голову, тщательно обследовали жертву, находили, видимо, что такая крупная добыча им не по зубам, и, не притронувшись к металлическому чудищу, камнем шли на дно.
Как говорилось выше, «Ма-Роберт» — судно металлическое, но это еще не значит прочное. Пароход уже чинили два раза, а толку никакого, так как корабль сделан из нового сорта стали, при соприкосновении с водой дающего какую-то совершенно невероятную химическую реакцию. В корпусе появляются дырки, от которых во все стороны, как по тающему льду, бегут по металлу веточками и лучиками трещинки. Вскоре дно корабля становится дырявым, как дуршлаг. Самые большие дыры кое-как затыкали, но едва пароход спускали на воду — появлялись новые.
Во время первого путешествия экспедиция изучала главным образом саму реку. В низовьях она имеет не менее двух саженей[138] глубины, а выше разделяется на множество рукавов — разумеется, менее полноводных. Но, поскольку песчаных отмелей здесь нигде нет, судоходство не представляет никаких затруднений.
Вскоре экспедицию остановили водопады (Ливингстон назвал их водопадами Мёрчисона[139]): впрочем, доктор и без того уже собирался поворачивать назад. Совершенно ясно, что элементарнейшая осторожность не велит предпринимать рискованный поход берегом там, где туземцы, не доверяющие чужакам, день и ночь держат вооруженную стражу.
В марте следующего года Ливингстон опять отправился по Шире. На этот раз туземцы, отбросив предубеждения, приняли его дружески, продавали рис, сорго, птицу.
Доктор договорился с вождем по имени Чибиса — замечательно умным человеком, — что «Ma-Роберт» останется на приколе против его деревни, по местному обычаю называемой также Чибиса. Сам путешественник с доктором Кэрком и несколькими макололо пошел пешком к озеру Ширва и вышел к нему 18 апреля 1859 года.
«Озеро Ширва, — пишет он, — это довольно значительный водоем, где водятся рыбы, крокодилы, пиявки, гиппопотамы…
Вода его слегка солоновата, что указывало на отсутствие стока, и производила впечатление глубокой. Над ее поверхностью, как холмы, возвышаются острова. Впервые мы увидели Ширву от подножия горы Пиримити, или Мопеупеу, расположенной к юго-западу от него. Если смотреть оттуда на север, виден морской горизонт; вдалеке можно было рассмотреть два островка. Тот, что ближе и больше, порос деревьями и похож на вершину горы. Горная цепь видна и на востоке, а на западе возвышается гора Чикала, принадлежащая, по-видимому, к большому горному массиву Зомба.
Там, где мы остановились, берег был покрыт тростником и папирусом. Желая определить широту по естественному горизонту, мы вошли в воду и направились к тому, что предполагалось мелью, но тут на нас напало столько пиявок, что пришлось поспешно вернуться. После одна женщина сказала нам, что мужчины послали нас в озеро, чтобы посмотреть, как мы умрем.
Озеро Ширва, расположенное на высоте тысячи восьмисот футов[140] над уровнем моря, имеет в длину, вероятно, миль шестьдесят — восемьдесят, в ширину — около двадцати. Как мы уже сказали, вода в нем солоноватая — с привкусом английской соли.
Северной оконечности мы не видели, хотя проходили недалеко.
Берега озера очень красивы, растительность вокруг него роскошна; мы видели, как к юго-востоку от нас волны бьются об утес, — это делало картину еще красивее. Недалеко от восточного берега озера возвышается очень высокий горный хребет Миландже — тысячи две с половиной метров над уровнем моря. Крутые остроконечные вершины, накрытые шапками облаков или уходящие выше их, фантастически величественны. К западу — горы Зомба высотой около семи тысяч футов и протяженностью около двадцати миль».
Но целью доктора Ливингстона было не столько исследовать новые места, сколько завоевать доверие туземцев. Он полагал, что для этого лучше не задерживаться в одном месте надолго, а возвращаться туда чаще. Поэтому доктор решил вернуться на пароходе в Тете.
В середине августа экспедиция опять прошла по Шире. Доктор намеревался продолжать исследования к северу от Ширвы, а потом направиться к неизвестному прежде озеру Ньяса. Он слышал о нем от туземцев, называвших это озеро Ньиньеси, что значит «звезды».
По дороге экспедиция открыла горячий источник — в нескольких шагах один от другого из земли бьют два ключа, сливающиеся в прозрачный ручеек. Его температура оказалась 79° по Цельсию! Опущенное туда яйцо варится за три минуты[141]. Если ящерицы и насекомые слишком приближаются к воде, тут же свариваются живьем. Путешественники видели их останки на берегу. Однажды при них большой жук решил присесть на предательскую поверхность воды; он погиб прежде, чем успел сложить крылышки.
Постепенно болота уступили место лесам, но земля оставалась достаточно плодородной. Путешественники прошли по стране манганджа, радостно поразившись царящему в ней порядку. Деревни здесь чисты, хорошо выстроены, рядом всегда течет речка или ручей (проточная вода для негра — половина жизни); в каждой деревне есть «боало» — площадь под большими тенистыми деревьями, где собираются все сходки.
Их экономика гораздо более развита, чем воображают люди, представляющие всех туземцев жуткими дикарями, — торгаши с побережья и географы, привыкшие, не выходя из дома, роскошно живописать нравы и обычаи всех народов.
«Это, — пишет Ливингстон (слог его часто однообразен, но всегда совершенно ясен), — деятельная, трудолюбивая раса. Они обрабатывают железо и хлопок, плетут корзины и циновки, но более всего занимаются земледелием. Нередко можно видеть, как все жители деревни — мужчины, женщины и дети — идут в поле и усердно работают мотыгами, а младенцы в это время спят в тени каких-нибудь кустарников».
Надо отметить, наши французские крестьяне не в меньшей степени, чем эти смиренные африканцы, подчиняют себя закону труда — вот только так же ли они счастливы?
Ливингстон — наблюдатель неизменно проницательный и щепетильно правдивый — дает далее такое интересное описание способа обработки девственных земель:
«Вырубку леса они производят точно так же, как американские колонисты: рубят деревья маленькими туземными топориками. Стволы и ветви складывают в кучу и сжигают, а золой посыпают землю. Пни высотой около метра оставляют гнить на корню: между ними и разбрасывают семена.
Если вырубка сделана на травянистом участке, манганджа захватывает обеими руками сколько может травы и завязывает узлом, а после обрубает под корень мотыгой. Так, охапку за охапкой, очищают все поле; повсюду теперь сохнет сено в маленьких пучках. Перед началом сезона дождей сено сгребают и сжигают, золу смешивают с землей и используют как удобрение.
Главный промысел племени — железоделательный. Руду добывают в горах; в каждой деревне есть домна, угольщики, кузнецы. Последние делают хорошие топоры, наконечники копий и стрел, лопаты, браслеты. Принимая во внимание, что работа здесь ручная, а инструмент примитивен, все это поразительно дешево.
Манганджа делают и много глиняной посуды: котлы, миски, большие корчаги для зерна, всевозможные кувшины. Их изящно лепят без круга и с немалым вкусом украшают добываемым в горах графитом.
Некоторые занимаются только тем, что плетут из бамбуковых побегов красивые корзинки; некоторые вяжут сети — частью для себя, частью для обмена на соль и вяленую рыбу. Соль и рыба, наряду с табаком, железом и шкурами, — предметы оживленной торговли между деревнями.
Многие манганджа имеют внешне разумный вид, пропорциональную голову, высокий лоб, приятное лицо. Они много занимаются волосами; хорошая прическа здесь — предмет гордости, поэтому они бесконечно разнообразны».
И только когда заходит речь об украшении, земледелец и ремесленник, который в умении работать мог бы поспорить со многими европейскими крестьянами, проявляет себя как дикарь, влюбленный в причудливые, бессмысленные побрякушки. Некоторые заплетают длинные пряди на лбу, буйволовы рога. Эта прическа в большой моде, для нее приходится приклеивать к волосам целую сложнейшую конструкцию: трубочки, связочки, подпорки… Другие, напротив, заплетают волосы сзади в густую косу, изображающую буйволов хвост. У иных множество маленьких косичек, подпертых кусочками коры, торчат, как лучи, во все стороны вокруг головы; кто-то носит волосы уложенными в несколько ярусов, а у его соседа бритая голова блестит, как тыква.
Манганджа с ума сходят и от безделушек; все пальцы, даже большой, у них унизаны металлическими фигурками животных, а руки и ноги — латунными, железными, медными браслетами.
Но самое экстравагантное из этих, с позволения сказать, украшений — конечно, пелеле: кольцо, которое женщины носят в верхней губе. В детстве им протыкают губу как можно ближе к носу и в дырочку вставляют деревянную шпильку, чтобы рана не затянулась. Когда края зарубцуются, на место шпильки вставляют стерженек потолще, растянуть дырочку, затем еще толще, еще — и наконец добиваются, что в дыру на губе можно вставить металлическое кольцо диаметром шесть — семь сантиметров[142].
Манганджа-горянки носят подобное украшение все без исключения; достаточно часто оно встречается и у жительниц Нижней Шире. У женщин победнее кольца (или диски) бамбуковые, а у богатых — жестяные или слоновой кости. Металлические пелеле часто имеют форму маленькой тарелочки, а костяные — напоминают кольцо для салфетки.
Женщина — если только она не в трауре — не является на людях без пелеле. Попробуйте представить себе, как ужасна губа, торчащая на два пальца перед носом! Когда женщина, давно носящая пелеле, улыбается, щеки ее судорожно дергаются, губа вместе с кольцом подскакивает до самых глаз, нос уморительно торчит в дырке кольца и видны зубы, заостренные, как у кошки или крокодила.
Подобные экстравагантные кольца не только безобразны, но и страшно неудобны: невозможно произносить губные звуки, есть жидкую пищу, пить из чашки — только лакать языком. Серьезно говоря, невероятно противно глядеть, как изуродованная верхняя губа дергается при каждом движении языка, а по подбородку постоянно струйкой бежит слюна, которую не может удержать полуоткрытый рот.
А скажите этим женщинам, что это ужасно, нечистоплотно, неудобно, — она ответит вам так же, как француженка, измученная корсетом и остроносыми туфлями: «Так носят!.. Коди!..»[143]
Трудно сказать, откуда взялась подобная ужасная мода, распространенная не только в этих местах и даже не только в Африке: она ведь встречается и в Бразилии, недалеко от Амазонки, в штате Гояс, у индейцев-ботокудов[144]. Только индейцы называют пелеле «ботоке» и уродуют не верхнюю губу, а нижнюю.
Манганджа не без изъяна: они любят служить Божественной Бутылке, явленной здесь в виде больших кувшинов пива. Варят его из проса, сорго или кукурузы, но, к сожалению, манганджа не умеют останавливать брожение и потому спешат выпить все пиво, пока не скисло. Сосед зовет соседа, и тот, всегда готовый милосердно помочь ближнему, спешит на помощь, зная, что первый при случае ответит тем же. В результате, когда заканчивается сбор урожая, в деревне на ногах никто уже не стоит.
Ливингстон, сообщая об этом, замечает, что за шестнадцать лет в Африке нигде больше не видел такого пьянства.
«Однажды, — пишет он, — мы пришли в какую-то деревушку. День уже клонился к вечеру. Не было видно ни одного мужчины — лишь несколько женщин сидели под деревом и пили пиво. Местный лекарь, он же колдун, вскоре вышел, пошатываясь, из хижины; на груди у него висел рог. Он упрекнул нас в нарушении этикета:
— Что это за манера — являться в деревню, не предупредив о своем приходе?
Наши люди быстро успокоили пьяного, но благодушного знахаря. Он пошел к себе в кладовку, позвал на помощь двух наших людей и благородно передал им большой кувшин пива для нас.
Итак, мой коллега (шутит доктор) оказался гостеприимен. Зато местный вождь, когда проспался, пришел в ярость и велел женщинам под деревом немедленно бежать прочь, не то он их убьет. Почтенные дамы страшно расхохотались от одной мысли, что кто-то их считает способными куда-то бежать, и продолжали попивать пивко. Мы разбили палатки, стали варить обед. Вдруг в деревню прибежала толпа взмыленных воинов. Они посмотрели на нас, друг на друга — и стали кричать на вождя, зачем он их напрасно потревожил:
— Это тихие люди, ничего плохого тебе не делают… что тебе с пьяных глаз мерещится?
И разошлись по домам.
Пьянство у манганджа проявляется по-разному — кто-то начинает болтать языком, кто-то тупеет, кто-то впадает в буйство, кто-то ищет драки. К последнему разряду принадлежал наш вождь. Он внезапно встал перед своими людьми и завопил на нас:
— Сюда нельзя! Ступайте откуда пришли!
Но когда один манганджа, оказавшийся, как на грех, неуступчивым, здорово стукнул вождя прикладом прямо в грудь, тот сразу отскочил прочь и убрался с дороги не столь величественно, сколь поспешно.
Здешнее пиво похоже на розоватую жидкую кашицу. Проросшие семена высушивают на солнце, измельчают, разводят муку водой и кипятят на медленном огне. Свежее и двухдневное пиво на вкус сладкое с кисловатым привкусом, очень приятное в африканскую жару, а также для больных лихорадкой, которым всегда хочется кислого питья — одного стакана пива довольно, чтобы утолить жажду и успокоить больного. К тому же в пиве разболтана мука (очень удобный способ ее употребления), так что получается очень сытно. По всей вероятности, этот сорт пива совсем не вреден: даже те, кто злоупотребляет им, не болеют никакими особенными болезнями и не сокращают себе жизнь».
У манганджа, как и на Мадагаскаре, существует испытание ядом для всех, подозреваемых в каком-либо преступлении. На большом восточном острове оно называется тонгим, а здесь — муаве.
Обвиняемому дают выпить отраву; если его рвет, он признается невиновным, если нет — виновным. Манганджа так верят в силу этого испытания, что на нем настаивают сами ложно обвиненные (даже вожди). Возможно, врач, готовящий отраву, умеет каким-то образом спасти подсудимого, если считает его невиновным, но туземцы не любят об этом говорить — и никто еще не признавался, что же входит в состав муаве.
Если в результате испытания кто-то признан виновным, его тут же предают истязанию и казни. Когда же бедняга испустит дух, все племя двое суток подряд шумно его оплакивает. Женщины заходятся в душераздирающих (или, пожалуй, ушераздирающих) воплях; все пиво, найденное в доме казненного, выпивается до капли, а затем — тоже в знак траура — в доме бьют всю посуду — все миски, плошки и горшки.
Путешественники отправились дальше: прошли озерко Памаломбе, а 16 сентября 1859 года открыли большое озеро Малави-Ньяса.
«Если пустить по Верхней Шире пароходик, — замечает Ливингстон, — и покупать слоновую кость у прибрежных жителей (а протяженность Шире от порогов вместе с берегами Ньясы не менее шестисот миль), то работорговля в этих местах совершенно парализуется — ведь реальный доход торговцы получают как раз от слоновой кости, которой нагружают перегоняемых рабов.
Так можно будет приобрести влияние на огромной территории. Мазиту, живущие по северным берегам озера, не пропустят охотников за людьми через свои земли; ради уничтожения подобного промысла они будут деятельно союзничать с Англией и могут воспользоваться этим союзом для расширения собственной торговли. Ныне туземцы, продающие слоновую кость и малахит, безбожно обираются. Если мы здесь дадим им ту же цену, какую они получат на берегу, за триста миль от дома, им ни к чему будет ходить так далеко; кроме этой меры — перекрыть континентальным товарам доступ к приморским факториям, — нет другого способа борьбы с работорговлей. В итоге можно будет уничтожить подобный промысел на пространстве от Замбези до Кильвы; вне этого пространства на юге останется лишь португальский порт в Ингамбане, а на севере — часть владений занзибарского султана, за которыми могут надзирать наши крейсеры».
Чтобы негры избавились от всяких подозрений и окончательно убедились в отсутствии любых отношений с работорговцами, Ливингстон не задержался на берегах Ньясы. «Ma-Роберт», кашлявшая все сильнее и обычно покрывающаяся трещинами, вернулась по Шире в Тете, затем — за припасами — по Замбези к морю, а 2 февраля 1860 года опять поднялась до Тете — штаб-квартиры экспедиции.
Там Ливингстон пробыл до 15 мая и, прежде чем вернуться в Англию, решил отвести домой друзей — макололо.
Сначала в поход выступило человек сто, но некоторые скоро вернулись, так как не смогли расстаться с новыми женами — рабынями из Тете. Они прекрасно знали, что женщины и рожденные от них дети принадлежали хозяевам и последние непременно предъявят свои права. Макололо по-настоящему страдали от этого, но узы, привязавшие их к Тете, были столь сильны, что разорвать их было невозможно.
Поначалу экспедиция шла не торопясь, короткими переходами. У порогов Кебрабаса она немного отклонилась от Замбези и пошла через деревню Сандиа.
Там несколько негров, которым не терпелось попробовать мушкеты[145], отправились охотиться на слонов. Уже вскоре им повстречалось несколько слоних со слонятами. Первая слониха в стаде, увидев охотников наверху на скалах, сразу же с подлинно материнским инстинктом укрыла малыша между ног. Сама она, несчастная, осыпанная градом пуль, бросилась бежать в саванну; но новый залп добил ее; слоненок скрылся вместе со всеми остальными.
Восторженные охотники, сами не ожидавшие такого успеха, собрались вокруг гигантской туши и устроили безумную пляску с радостными воплями. Взяв в трофей хвост и кусок хобота, они вернулись в лагерь — грудь вперед, голова вверх, ружье на плече, ни дать ни взять идут маршем солдаты из гарнизона Тете.
Вождь Сандиа тотчас узнал об этой удаче и явился потребовать причитающуюся ему долю — как принято повсюду в здешних местах, половина слона отдается вождю той деревни, где он был убит.
Охотники проводили хозяина к месту, где лежала слониха. Тушу никто не трогал — так и лежала эта гора еды, которой десять раз хватало доверху набить могучие африканские желудки.
Раздел туши — точнее, грызня из-за туши — столь же любопытное, сколь отвратительное зрелище. Люди молча встают вокруг убитого слона, и начальник отряда объявляет, что-де, по древним неотъемлемым законам, голова и правая передняя нога принадлежит убившему зверя; левая нога — тому, кто нанес вторую рану или же нанес первый удар упавшему слону; часть вокруг глаза — самому начальнику. Затем подробно перечисляется, кому что принадлежит, а жир и внутренности рекомендуется оставить для последующего раздела.
По окончании речи обезумевшие негры, не ожидая исполнения недвусмысленно выраженной воли законодателя, с воплями кидаются на тушу, подобно разъяренной своре собак.
В некоем исступлении они сверлят, колют, рубят, режут — топорами, ножами, копьями. Люди толкаются, падают, иногда калечат друг друга — калечат невольно, даже не замечая этого.
И вот туша вскрыта. Из разверстой брюшной полости вылезают вздутые внутренности; газ вырывается, как из гигантских мехов. Этого мига все ждали с нетерпением; иные — самые оголтелые — кидаются очертя голову прямо внутрь, валяются в истекающих кровью кишках, рвут руками и зубами жир. И вот уже повсюду красные с ног до головы люди изо всех сил отрывают здоровенные куски мяса, с непрестанным воплем бегом уносят их прочь и с еще пущим воплем возвращаются, хватают мышцу, кость, сухожилие, жадно грызут…
Иногда доходит и до драки — кровь так ударяет в голову, что люди готовы зарезать друг друга. Забыв обо всех приличиях, три-четыре негра, вцепившись в один кусок, злобно смотрят друг на друга, рычат, словно волки, скрежещут зубами, как крокодилы. Подчас раздается вопль — и раненый, которому пронзил руку дротик чересчур нервного приятеля, в отчаянии выскакивает из толпы и начинает скакать, судорожно размахивая поврежденной конечностью над головой. Такую ссору, чтобы она не кончилась трагической развязкой, приходится улаживать с помощью куска материи или мотка проволоки.
Но из-за подобных мелочей колоссальное вскрытие не прерывается ни на миг. Вскоре в наикратчайший срок несколько тонн мяса разделаны и сложены огромными грудами.
Ливингстону с товарищами, по местному обычаю, отдали слоновью ногу. В земле вырыли большую яму, развели огонь. Когда яма достаточно разогрелась, туда положили ногу, завернутую в душистые травы, засыпали золой, потом землей, а сверху опять разожгли большой костер, который горел всю ночь. На другое утро ногу подали на завтрак; она была великолепна — белесая, чуть студенистая масса, напоминающая костный мозг.
Туземцы в таких случаях съедают целую прорву мяса. Горшок для варки они набивают до краев и наедаются так, что чуть из ушей не лезет. Потом они пускаются в бурный пляс под оглушающее пение. Едва первое блюдо утрясется, плясуны, утерев со лба пот и пыль, приступают к жаркому; оно тоже мгновенно исчезает. Тогда все ложатся, но ненадолго — скоро мясо опять накладывают в котелки. Так всю ночь с короткими перерывами на сон негры жарят и едят, варят и лопают…
Из Сандиа экспедиция с двумя проводниками, местными жителями, 4 июня пошла дальше на запад. Вскоре вышли на Замбези там, где начинается равнина Чикоа — плодородная, довольно населенная и близ деревень хорошо возделанная.
Несмотря на относительную близость человека, в саванне паслось множество буйволов, зебр, жирафов, носорогов, гну и других антилоп; все они огромными стадами приходят на водопой к реке.
Для охоты на них туземцы придумали ловушки, называемые гопо: две очень частые и высокие изгороди, расходящиеся в виде латинской буквы V. В вершине они не соединяются, а продолжаются коридором шагов в пятьдесят длиной; в конце коридора выкопан ров шириной метров пять-шесть и глубиной метра два-три. По краям рва укладывают борта из бревен. С той стороны, откуда звери бегут, и с той, куда они стремятся, борта кладут выше; убежать через них практически невозможно. Всю западню вместе с бортами закрывают камышом и травой. Длина изгородей доходит до целой мили, такое же приблизительно и основание треугольника, который они образуют. Поэтому если все племя встанет вокруг гопо в круг (диаметром мили три-четыре), добыча наверняка получится довольно большая.
Туземцы окружают стадо животных и, постепенно сужая круг, громкими криками загоняют их ко входу в гопо; в этом месте прячутся другие охотники, которые кидают в зверей копья. В испуге животные устремляются к единственному выходу, который им открыт, попадают в коридор между изгородями, ведущий в ров, и один за другим валятся туда, пока ров не наполнится. Лишь последним в стаде удается убежать по груде изуродованных тел полудохлых товарищей…
Ужасное зрелище! На него невозможно хладнокровно смотреть, но туземных охотников оно прямо захватывает. Вне себя, в упоении погони, черные загонщики с воплями (так вопят все нецивилизованные люди, охваченные страстью) подбегают ко рву — и начинается чудовищная бойня. Потеряв от радости голову, они устремляются к горе изнемогающих трепещущих тел, которые в ужасе ревут; кто-то попал на рога, кто-то раздавлен копытом… Негры с остервенением тычут в эту груду копьями, разом насаживая по нескольку грациозных животных… Вскоре вся яма превращается в отвратительную клоаку[146], в которой перемешались грязь, кровь и трупы.
Большинство здешних животных безобидно, но немало встречается и львов, приходящих в эту степь на охоту. Подобное соседство для путешественников неприятно, а иногда и опасно. Поэтому на ночь лагерь всегда ограждают валом из колючих веток и зажигают большие костры.
Ужин — самая плотная трапеза в течение дня; его приготовлением заняты все. После ужина европейцы расходятся по палаткам, а туземцы-батока, собравшись у костра, начинают болтать и петь песни. Один из них играет на сансе — что-то вроде маленького переносного пианино — и до поздней ночи тянет бесконечную песнь, простодушно прославляющую подвиги сородичей и собственные, совершенные в ходе странствий с белым человеком.
Подчас барды[147] превращаются в политиков. Тогда ораторы одушевляются, начинается перепалка — и диву даешься, откуда у дикарей в споре берется столько красноречия! Все возбуждены; между кострами, как между парламентскими фракциями, завязываются дискуссии… Даже те, кто ни о чем другом вообще никогда не разговаривает, начинают говорить красно и страстно.
Вечеринка окончена, и все засыпают до рассвета. Поднимаются в пять часов и закусывают сухарем со стаканом чая; люди свертывают подстилки, дежурный укладывает мешки. Мешок («фумба») вешают на один конец деревянного шеста, котелок на другой, а шест кладут на плечо. Повар грузит на себя кое-как протертую посуду — и с восходом солнца колонна трогается в путь. В девять утра — привал на завтрак; как правило, чтобы не терять времени, еду готовят с вечера — остается только быстро развести огонь и разогреть ее.
После завтрака трогаются опять и идут до полудня; в полдень — снова привал и короткий отдых. Еще через пару часов останавливаются уже до утра. Таким образом, колонна в час проходит две — две с половиной мили[148] по прямой; переход длится часов шесть, не более — итого около двенадцати миль. Больше в жаркой стране и не пройдешь, если заботиться о здоровье, не переутомляться (что неизбежно ведет к лихорадке) и вообще если хотят, чтобы путешествие было в удовольствие, а не в тягость.
Навстречу по дороге часто попадаются местные жители. Этих одиноких пешеходов встреча удивляет, но не тревожит. Когда туземец отправляется в далекий путь, он берет с собой подстилку на ночь, полено вместо подушки, котелок, мешок муки, трубку, кисет, лук, пару стрел и палочки, с помощью которых разводят огонь, если случится заночевать вдали от жилья. Хвороста здесь везде довольно, негры сгребают его в кучу и разжигают костер.
Это делается следующим образом. Палочки сделаны из дерева очень твердого, но с мягкой сердцевиной; длина их фута два-три. В одной из палочек сверлят дырку и кладут на землю, подложив лезвие ножа. Человек садится на корточки и прижимает палочку большими пальцами ног, в дырку под прямым углом вставляет другую и вертит взад-вперед, налегая изо всей силы. Через минуту или чуть побольше из сердцевины вылетают искры и скатываются по лезвию ножа на подложенный пучок сена. Сено тлеет; его хватают и сильно трясут, чтобы раздуть огонь. Это работа нелегкая — если кто нежными руками попробует быстро и с силой вертеть палочку, тут же сотрет ладони в кровь. Все так же не торопясь, экспедиция 9 июля пришла в Семалембуэ при устье Кафуэ, переправилась через нее и пошла дальше левым берегом Замбези по землям батока[149]. Почва здесь плодородна; всюду растет редкий лес без подлеска. Туземцы встречали путников очень хорошо: повсюду знали, что Ливингстон с друзьями идут с миром. Куда бы они ни пришли, им давали самую лучшую муку, птицу, пиво, табак. Можно сказать, что они проходили триумфальным маршем.
Соседи называют батока «баэнда-пези» («ходящий голым»)[150], потому что они не носят никакой одежды, а только мажутся охрой. Правда, иные из них обдирают лыко с деревьев и плетут веревочки дюйма в два длиной. Затем они обривают голову сзади и сантиметра на четыре над ушами, оставшийся клок курчавой шевелюры красят охрой, разведенной на масле, и обвязывают своими веревочками. Получается нечто весьма странное, отдаленно напоминающее фуражку.
Несколько рядов речного жемчуга, проволочный браслет на руке, неизменная трубка и щипчики для уголька — разжечь трубку: вот вся одежда и багаж самого большого щеголя среди «голышей».
Чем дальше шли путешественники, тем возделанней становилась земля. Вокруг деревень сплошь простирались обширные поля сорго. Много было кругом и табачных посевов — в мире нет, пожалуй, более заядлых курильщиков, чем батока: с трубкой они не расстаются никогда. Зато ни в одном железнодорожном вагоне вы не встретите курильщиков столь учтивых. Даже принимая гостя в собственном доме, батока никогда не закурит, не спросив разрешения: в нашей утонченной Франции многим, очень многим не мешало бы у них поучиться!
Способ курения туземцев совершенно необычен; сами они утверждают, что нет лучше способа отравлять себя табаком. Сначала они вдыхают дым, как и все курильщики, затем отцеживают самую грубую, по их мнению, часть и резко заглатывают самый, если так можно выразиться, табачный дух — квинтэссенцию табака. Ну и на здоровье!
Есть у батока и другая страсть, гораздо более полезная, — земледелие. Здесь дикари ни в чем не уступят культурным нациям: они умеют выводить самые лучшие сорта деревьев и злаков. Неусыпным трудом аборигены улучшают отобранный сорт и добиваются десятикратного увеличения урожая. Этим они весьма отличаются от соседних племен, которые не сажают деревьев и не сеют хлеба, но собирают кое-как дикие злаки на старых вырубках и валят деревья, чтобы собрать плоды.
У батока есть великолепные фруктовые сады, где иные деревья достигают до восьмидесяти сантиметров в диаметре, и обширные амбары, из-за которых деревни кажутся гораздо больше, чем на самом деле. К несчастью, в амбарах много червей. Поэтому батока, желая сохранить урожай, хранят его в земле. Когда сходит половодье, жители складывают большое количество зерна, уложенного в корзины, сплетенные из сухой травы и обмазанные глиной, на песчаные острова посреди Замбези — спрятать от грабителей и вредителей. Бессильны они, к несчастью, против долгоносика: тот пролезет повсюду, поэтому надолго урожай все же не сохранишь. Из большей его части варят пиво, а пиво тоже надо пить побыстрее… Выходит, что долгоносик — главная причина пьянства у батока!
Не только как земледельцы батока выше соседей — у них есть и свои барды, поэты саванн. К несчастью, ни устное, ни письменное предание не хранит плодов их вдохновений. «Один из этих менестрелей[151], весьма способный, — пишет Ливингстон, — несколько дней шел вместе с нами. На каждом привале он пел нам хвалебные песни в гармоничных легких пятисложных белых стихах! Сначала песнь нашего импровизатора содержала лишь несколько строф. Но постепенно — по мере того как наш бард узнавал о нас все новые подробности — она удлинялась и наконец превратилась в длинную оду. Когда же мы ушли слишком далеко от его дома, он с сожалением распрощался с нами и вернулся домой, получив достойную награду за свои приятные и полезные славословия.
Был такой сын Аполлона[152] и в самом нашем отряде — впрочем, далеко не столь талантливый. После ужина, когда все кругом болтают, спят или занимаются готовкой, он повторял свои стихотворения; в них рассказывалось все, что он увидал у белых и повстречал по дороге, так что каждый день к его “Одиссее”[153] прибавлялась новая песнь. Впрочем, импровизация не стоит ему труда; он ни когда не запинается ни на минуту: если нужное слово в голову не приходит — просто прибавляет для ритма какой-нибудь бессмысленный звук. Читал он под аккомпанемент сансы. Музыкант держит корпус музыкального инструмента, расписанный орнаментом, в руке к себе лицом, а другой рукой перебирает девять железных клавиш. Музыкальные люди, у которых не хватает средств на такой инструмент, делают корпус из стеблей сорго, а клавиши — из бамбука; звук получается очень слабый, но исполнитель и тем бывает доволен.
Если под сансу подложить как резонатор пустую тыкву, она, естественно, звучит громче. Еще туда подкладывают мелкие ракушки и кусочки жести; их позвякивание сопровождает аккорды маэстро».
Ливингстон шел дальше на запад и пришел в Моачемба — первую деревню батока во владениях своего старого друга Секелету. Там он мог уже ясно разглядеть столбы дыма — водопад Виктория, — хотя до него было еще далеко. Через три дня он пришел к этому чуду природы, намереваясь рассмотреть его подробнее, чем в первой экспедиции[154].
Путешественники направились оттуда дальше вверх берегом Замбези, перешли близ устья реку Лекуэ и вскоре повстречали гонцов от Секелету. «Великий вождь, — сказали гонцы, — просит вас идти поскорей, не мешкая по пути».
Ливингстон понял, что дело не терпит, пошел быстро, как только мог, и 18 августа 1860 года пришел в Шешеке. Старый город лежал в руинах — Секелету перенес свою резиденцию на другой берег. Сам несчастный государь находился в ужасающем состоянии: все тело изъела болезнь, подобная проказе; туземные врачи сочли больного безнадежным и отказались лечить. Вождь горько жаловался Ливингстону на страдания. К великой радости доктора, больного удалось вылечить «адским камнем»[155].
Посудите сами, насколько удачное лечение в столь безнадежных обстоятельствах подняло престиж белых вообще и Ливингстона в частности.
Доктор убедился, что за семь лет племя сильно выродилось. Он полагает, что это связано с продолжительной засухой, губившей урожаи, и страшными лихорадками, косившими людей.
Приход путешественников внес разнообразие в жизнь обывателей Шешеке. Туземцы толпой собирались вокруг белых людей, особенно в обеденные часы, — посмотреть, как едят гости, а заодно и попробовать их еду. Мужчины, когда им давали ложку, пользовались ею довольно странно: зачерпнув супа, переливали в ладонь и только из ладошки хлебали. Женщины с особенным ужасом смотрели, как белые мажут масло на хлеб. Они еще понимали, что в крайнем случае масло можно топить или класть в кашу, но вообще-то они мажутся им как кремом, полагая не без резона, что кожа от него делается мягкая, гладкая и блестящая.
Из Шешеке доктор пошел в Линьянти, где некогда жил; там еще стоял фургон путешественника с кое-какими вещами.
По дороге он встретил несколько семей бакалахари. Это тихие забитые люди; их родина — пустыня Калахари, но едва соседи сделают вид, что собираются им угрожать, как бакалахари впопыхах разбегаются. Чтобы никто их не трогал, они забираются в самые сухие безводные места — ведь африканцу для жилья в первую очередь нужна река. Бакалахари же, едва найдут ключ или просто лужу, тут же прячут воду — засыпают песком.
Чтобы набрать хотя бы немного воды, несчастные женщины бакалахари идут к такому спрятанному источнику (иногда очень далеко) с двумя-тремя десятками пустых страусовых яиц за спиной. В скорлупе сделана дырка толщиной в палец. Женщины берут тростинку около полуметра длиной, с одной стороны приделывают к ней пучок травы, с другой — соломинку и зарывают стоймя во влажный песок. Когда трава намокнет, женщины высасывают воду через тростинку. Рядом с собой они кладут яйца и опускают соломинку в дырочку; так постепенно, вдох за вдохом, вода перетекает в скорлупу. Попробуйте поставить на илистый берег бутылку и перекачать таким способом воду из ила — вы убедитесь, что она превосходна. Так женщины бакалахари, пользуясь собственным ртом вместо насоса, запасают воду. Дома они тщательно ее прячут.
Бедные люди! Как подчас тяжела борьба за жизнь!
В Линьянти Ливингстон нашел в целости и сохранности свои вещи, оставленные у туземцев. Аптечка, волшебный фонарь, книги и инструменты были в полном порядке.
Негры — старые друзья доктора — очень просили его остаться, но Ливингстону непременно нужно было вернуться в Шешеке, а оттуда в Тете. Из Шешеке он 17 сентября 1860 года отправился к устью Замбези за новым, давно обещанным от английского адмиралтейства судном взамен «Ma-Роберт», упокоившейся на одной из мелей Шире — вся дырявая, как огромный дуршлаг.
В конце декабря он достиг берега моря; всего через месяц — 31 января 1861 года — пришел и корабль «Пионер» вместе с двумя крейсерами Королевского британского флота. На них прибыл епископ и несколько миссионеров для проповеди жителям берегов Шире и озера Ньяса. Ливингстон хотел ехать с ними, но добрался лишь до озера Ширва, потому что тогда манганджа воевали с работорговцами.
Второго сентября доктор предпринял новую попытку. Она оказалась удачней, но в начале ноября Ливингстону опять пришлось вернуться: он узнал, что к нему приехала жена. Тот же английский корабль доставил жен еще к нескольким миссионерам, и пароход для плаванья по Ньясе, разобранный на двадцать четыре части.
Тогда Ливингстон опять отправился на замечательное озеро, исследовал его западный берег и северную оконечность, собирался составить полное описание этого огромного водоема… Депеша от английского правительства вдруг положила конец исследованиям великого путешественника. Она гласила: «Жалованье экипажу «Пионера» ни в коем случае не будет выплачиваться после 31 декабря 1863 года».
Ливингстон понял значение этих строк (решительно, их грубый лаконизм — позор английских властей!). Депеша пришла 15 сентября; пришлось срочно возвращаться — иначе доктор остался бы в центре Африки без средств к существованию. А он провел здесь двадцать два года!
Тринадцатого января 1864 года Ливингстон прибыл в устье Замбези и сел там на английский пароход «Орест». Через Занзибар он добрался до Бомбея, а 20 июля сошел на английский берег.
Но оседлый образ жизни в цивилизованной стране не пришелся по душе отважному путешественнику. Не пробыв в Европе и года, он уже в 1865 году отправился в новую экспедицию.
Доктор поставил перед собой четыре главные задачи: стереть белое пятно на карте между озерами Ньяса и Танганьика; завершить исследование Танганьики (ибо увидевшие его первыми Бёртон и Спик не смогли дать полного описания); исследовать как можно дальше земли к западу от Танганьики и пройти к северу от озера в направлении экватора.
Ливингстон остановился ненадолго на Занзибаре, затем безуспешно пытался подняться по реке Рувума, впадающей в Индийский океан почти на широте Коморских островов. Тогда он пошел обратно в сторону Занзибара до бухты Макиндани, уже оттуда двинулся к западу и вновь вышел на Рувуму. 18 мая 1866 года на Занзибаре получили от него письма, отправленные с этой реки. Затем несколько месяцев никаких новостей не было.
Путешественник, перевалив через горы, вышел к озеру Ньяса. Там сопровождавшие его люди отказались идти дальше и сбежали. Дома, на Занзибаре, им причиталась приличная сумма, поэтому, чтобы оправдать преждевременное возвращение, они придумали довольно правдоподобную историю о смерти доктора.
Сам путешественник, спустя девять месяцев после выхода с побережья, пришел в Берубу к северо-западу от Ньясы и направился к Танганьике. Из Берубы ему удалось отправить с караваном, шедшим на Занзибар, письмо к лондонским друзьям. Еще через год от доктора дошли вести с Танганьики, переданные неким арабским купцом. Еще через некоторое время получили письма из Луэнде, столицы Казембе, от 8 июля 1868 года, в которых содержались чрезвычайно важные сведения о географии и гидрографии областей, окружающих Танганьику с запада и юго-востока.
Затем три года о путешественнике не было никаких достоверных сведений — лишь однажды случайно дошел слух, что он живет в Уджиджи.
Только 10 марта 1871 года доктор Кэрк получил письмо от двух арабов. Путешественник-христианин, писали они, в конце предыдущего года находился с несколькими слугами без всяких средств к существованию в местности, называемой Монакозо.
С июля 1868 года доктор отправил тридцать четыре письма — и ни одно не дошло! Он занимался исследованием местности к западу от Танганьики и надеялся выйти к Нилу.
Легко понять, что в Лондоне эти новости вызвали большой переполох. Географическое общество, решив послать экспедицию на выручку к Ливингстону, провело среди своих членов подписку и скоро собрало требуемую сумму.
В экспедицию отправились родной сын путешественника Освальд Ливингстон, а также господа Генн и Доусон, офицеры морского флота. Они прибыли в Занзибар, но предприятие плачевно провалилось. Причину неудачи искали в сезоне дождей и недостатке средств. Может быть, следовало прибавить недостаток энергии и согласия. Оставим это — последуем примеру мудрых англичан, которые во имя национальной гордости не обращают особенного внимания на некоторые мелкие неприятности.
Скажем лишь, что там, где сын путешественника потерпел неудачу и ничего не смогла сделать великая нация, добился успеха Стенли. 10 ноября 1871 года Ливингстон встретился с ним, а 27 апреля 1873 года — скончался на берегах Танганьики[156].
Рассказывая о жизни и приключениях Стенли, мы уже поведали, как слуги Ливингстона отнесли прах исследователя к побережью Индийского океана. Оттуда он был доставлен в Англию и с большой помпой похоронен в Вестминстерском аббатстве.
Давид Ливингстон впервые уехал в Африку в 1840 году и пробыл там, за исключением трех очень коротких приездов в Европу, тридцать три года. Между тем его родина отчаянно торговалась с путешественником за каждую копейку субсидий на великое культурное дело. Зато устроила королевские похороны…
ГЛАВА 9
МАЙОР СЕРПА-ПИНТУ[157]
От Бенгелы до Замбези. — Неприятности. — В огненном кольце. — Приступ. — Измена. — Спасение. — Переход через Африку.
Мало того, что англичане, злоупотребляя силой, украли у португальцев часть их колониальных владений — они еще давно пытаются опорочить их.
Кто все время с чисто англосаксонским упорством распространяет ложные слухи о работорговле португальцами? Англичане! Кто смеет утверждать, что этот гнусный промысел в заморских португальских владениях терпим правительством и ведется непосредственно под сенью лузитанского[158] флага? Опять англичане!
А почему? Какова цель гнусной клеветы?
Да очень просто. Под лицемерным предлогом гуманности Англия стала во главе движения за отмену работорговли (малоприятное занятие арабов). Под этим предлогом Лондон претендует на право осмотра подозрительных судов, берегов, при необходимости — и временного захвата гаваней, где будто бы находят убежище или устраивают склады торговцы людьми.
Какое, собственно, дело англичанам до африканских невольников? Ведь у них под боком есть «братский остров» — Ирландия[159], и там довольно, казалось бы, белых рабов, на которых английское правительство могло бы упражняться в человеколюбии…
На деле британцы желают — лицемерно скрывая истинные помыслы под благовидным предлогом — завладеть всеми или почти всеми берегами Африки от тропика до тропика, вредить неанглийской торговле, занимать земли временно — и остаться там навсегда, как в деле с Египтом.
Разумеется, благородные, сохранившие рыцарские понятия португальцы с негодованием протестовали против лицемерной клеветы британских торгашей[160]. Этот протест послужил причиной замечательной экспедиции по Африке майора Серпа-Пинту.
В начале 1877 года по предложению г-на Жуана ди Андроди Корву португальский парламент одобрил кредит в 169 тысяч франков на исследовательскую экспедицию. Ее цели законодатели определили следующим образом: разведка стран, находящихся между Анголой и Мозамбиком; выяснение географических связей Заира и Замбези; поиск легчайших и надежнейших торговых путей от океана до океана; упразднение работорговли.
Декретом от 11 мая 1877 года начальником экспедиции был назначен командир 4-го егерского батальона королевской армии Алберту ди Роша Серпа-Пинту, помощниками — моряки лейтенант Бриту Капелу и младший лейтенант Роберту Ивенш.
Серпа-Пинту тогда исполнился тридцать один год; он родился в 1846 году в городе Синфайнш на левом берегу реки Дору. Как мы убедимся, невозможно было вверить экспедицию более достойному и отважному человеку.
Начало похода обескураживало. Португальские офицеры, кое-как наняв носильщиков, 12 ноября 1877 года вышли из Бенгелы. Из-за половодья они шли южнее, чем некогда Камерон. 12 декабря экспедиция прибыла в Килленгиш, а 1 января должна была выйти в Каконду.
И вот совсем еще недалеко от Бенгелы — причем на территории, прямо подчиненной Португалии, — неприятность следует за неприятностью. Носильщиков не найти. Серпа-Пинту в одиночку отправился в деревню Нисети на правом берегу Кунене и попытался сторговаться с вождем по имени Дуарти Бандейра, который прекрасно встретил майора и за бочонок водки пообещал сто двадцать носильщиков. Серпа-Пинту уже готов отправиться в путь — и вдруг в последний момент Бандейра отказывается от обещания.
Между тем майор получил письмо от Капелу с Ивеншем, оставшихся позади со всем багажом; помощники объявили, что не могут больше следовать за ним, и предлагали оставить ему треть груза.
Не находя оправданий такому поразительному решению, которое могло быть вызвано лишь неким прискорбным недоразумением, Серпа-Пинту хладнокровно посмотрел правде в глаза. Он находился во враждебной стране; туземцы только потому не трогали его после выхода из Каконды, что принимали маленький отряд за авангард большого экспедиционного корпуса. Старый купец Силва Порту в этих местах выдержал много тяжких боев — что же будет с ним, когда узнают, что у него лишь десять человек!
До Каконды всего три дня пути, а до Бие, где условия для путешественников все равно не бог весть какие — двадцать переходов. Что же: внять голосу разума и вернуться в Бенгелу?
Серпа-Пинту выбрал себе девиз древних римлян, с незапамятных времен сопровождающий землепроходцев: «Audaces fortuna juvat!»[161]
Он решился раз и навсегда, будь что будет — надо идти вперед.
Серпа-Пинту отправился к вождю страны Нану, головорезу Капоку, разбойничавшему в окрестностях. Тот нашел для него сорок носильщиков, которых должно хватить, чтобы тащить часть груза, переданную при разделе Капелу и Ивеншем.
Двадцать первого февраля Серпа-Пинту двинулся дальше в Бие. В тот же день его чуть было не растоптал разъяренный буйвол. Вечером майор вышел пострелять себе дичи на ужин. Внезапно огромный зверь, выставив рога, без всякой видимой причины набросился на него. Серпа-Пинту был очень храбр и прекрасный стрелок; он спокойно подпустил зверя и уже взял ружье у оруженосца негритенка Пепеки, как вдруг вспомнил: ружье заряжено дробью! Он уже расстался в мыслях с жизнью, но все же выстрелил дуплетом и постарался спрятаться за дымовой завесой. И тут, вопреки опасениям, случилось невероятное: буйвол перепугался и бросился без оглядки в лес. Путешественник был спасен!
Тогда же майор узнал, что Капелу и Ивенш направились, опережая его, в Бие, желая, вероятно, идти в глубь Черного континента своим путем.
На другой день у Серпа-Пинту украли ружье, козу и барана. 23 числа в Думбу ему пришлось с револьвером в руке защищать от туземных грабителей свой запас водки. Если бы не негр Верисиму Гонсалвиш, который еще столько раз докажет свою преданность, путешественника наверняка бы зарезали.
Серпа-Пинту определил линию водораздела Кунене и Кубанго между горами Домбу высотой 1700 метров и Бурунда высотой 1585 метров, под 10° восточной долготы[162]. 5 марта, выйдя из одной деревни племени ламонпа, он миновал водораздел бассейнов Кубанго и Кванзы.
Ночью, в страшную бурю, путешественник вышел на берег Куквеймы. Там его скрутил страшный приступ ревматизма и лихорадки. Идти он не может — его несут в гамаке. Река вышла из берегов и катила свирепые волны, неся множество обломков. Серпа-Пинту хочет переправиться во что бы то ни стало; он добыл себе скверную пирогу, вмещающую лишь двух человек, и сел в нее вместе с гребцом. На середине реки кое-как сколоченная, замшелая лодка протекла и стала тонуть. Гребец, чтобы спасти ее, прыгнул в воду, но это не помогло. Лодка накренилась на один борт, на другой и пошла ко дну. Вмиг майор оказался посреди бушующих волн; одной рукой он греб, другой — держал над головой хронометр.
От такого шока он тут же выздоровел: ни ревматизма, ни лихорадки как не бывало. Но зато, обсохнув, Серпа-Пинту получил такой солнечный удар, что чуть не умер на месте.
Невероятным усилием воли майор добрался до фактории Бельмонте, принадлежавшей Силва Порту, и там слег. За ним усердно ухаживали бывшие его товарищи, Капелу и Ивенш; они также пришли в Бельмонте, а оттуда собирались пересечь континент. Серпа-Пинту был так плох, что Ивенш даже предложил отвезти майора обратно в Бенгелу, прежде чем они сами пойдут дальше. Но тот категорически отказался и остался в Бельмонте один со славным негром Верисиму и белой козочкой Корой. Эта Кора была при нем с самого начала пути; теперь она становилась копытцами на постель к больному, ласково блеяла, лизала в лицо и просила погладить.
Двадцать седьмого марта Серпа-Пинту почувствовал себя лучше, а к середине апреля силы стали прибывать с каждым днем. Не теряя времени, путешественник во всех подробностях изучил дорогу на Зумбо, Тете и Сена, по которой собирался идти, составил карту Бие, привел в порядок записи в дневнике и начал готовиться к походу.
Места впереди лежали опасные — не вооружив людей, идти было нельзя. У Серпа-Пинту было лишь десять карабинов Снайдера да десятка два кремневых ружей. Эти старые мушкеты он починил, заготовил боеприпасы, упаковал все и 6 июня отправился в поход.
Больше всех он доверял Верисиму Гонсалвишу и начальнику носильщиков Аугошту — бенгельскому негру геркулесовского сложения, храброму, сильному, честному, преданному. У него была, однако, удивительная мания: он непрестанно женился. Аугошту оставил жену в Бенгеле, другую взял в Домбу, третью — в Киллингише, четвертую — в Каконде, пятую — в Уамбу, а за время болезни хозяина то ли пять, то ли шесть раз сочетался браком в Бие.
«В конце концов, — пишет Серпа-Пинту, — претензии всех его шумных супруг мне надоели. Я вызвал Аугошту, сурово отчитал и пригрозил уволить, если он не исправится. Негр ревел белугой, валялся у меня в ногах, всячески обещал исправиться и наконец сказал так: если только я дам ему штуку материи для жен, чтобы заткнуть им рот, он больше не будет иметь с ними никаких дел. Я дал ему требуемое, но в ту же ночь меня разбудил необычайный шум на другом конце деревни: песни, хохот, одним словом, настоящее веселье. Я послал спросить, что происходит; вернувшись, мой человек доложил, что это празднуют свадьбу Аугошту с девицей из деревни Жамба!»
Шестого июля Серпа-Пинту нашел несколько носильщиков и отправился на восток. 14 числа он пересек Кванзу — часть экспедиции на купленной в Лондоне лодке конструкции Макинтоша, часть на пирогах, одолженных у «со́ва» (вождя) Ливики. Серпа-Пинту пришел в землю кимбанди[163] и послал подарки сова по имени Маванда. Тот подарки принял и попросил еще вдобавок… рубашку! Он также просил у Серпа-Пинту помощи против вражеского племени. Путешественник отказался вмешаться в распри туземцев и остался ожидать носильщиков. Тщетно! Сова все обещал их и не присылал. Впрочем, Маванда — ростом истинный колосс — не сердился на майора за отказ в помощи и подарил португальцу огромного быка, и они расстались как лучшие друзья.
Все свободное от трудов время путешественник перекладывал багаж так, чтобы тюков было как можно меньше. Лодка занимает два тюка, а бросить ее жалко. На обмен почти ничего не осталось: только мешок каури[164] и стекляшек. Увидев, что состояние его более чем скромно, он всерьез готовился к самому худшему.
Двадцать четвертого июня Серпа-Пинту переправился через Уду, красивую реку пятнадцатиметровой ширины, поросшую по берегам дивными древовидными папоротниками. На другой день явились наконец носильщики. Он ожидал тридцать человек — а пришло четверо! Не важно! Дело за тем не станет. Двое понесут лодку, двое — самые тяжелые тюки.
Из земли кимбанди он попал к лучази[165], живущим в междуречье притоков Замбези — Кониту и Лунгвенбунгу. 1 июля, только что переправившись через Кониту, майор повстречал трех негров, гнавших рабынь на продажу. Задержав негодяев и освободив женщин, Серпа-Пинту предложил им свою защиту и покровительство. Каково было его удивление, когда женщины дружно ответили, что им ничего не надо и зачем помешали идти своей дорогой!
Серпа-Пинту двинулся дальше через Бембе, Ньун-Гоавиранду и 5 июля вышел к подножию хребта Карсара-Кайера высотой 1614 метров над уровнем моря и 137 метров от места стоянки. Лагерь разбили на берегу речушки Карисампоа, впадающей в Лунгвенбунгу.
Десятого июля майор убил леопарда и сделал себе из его шкуры подстилку. Затем он вышел к реке Квандо, крупному болотистому притоку Замбези, а вскоре — Кубанги, очень красивой реке, кишащей крокодилами.
Вместе с двумя негритятами путешественник поплыл вниз по ней на лодке Макинтоша. В пяти километрах ниже Кангумбы он увидел трех антилоп неизвестной породы. Серпа-Пинту вскинул ружье, но антилопы проворно кинулись с головой в воду и пропали из виду.
Позже путешественник еще не раз встречал этих удивительных животных и изучил их. Они невероятно проворно плавают и ныряют, выставив на поверхность только кончики рогов; жители Бие называют их кишобу[166], а амбвела — бонзи. Взрослая антилопа всего с годовалого теленка ростом. Шерсть у нее темно-серая и на редкость гладкая, достигающая в длину от шести до двенадцати сантиметров. На голове шерсть короче; морду на уровне ноздрей пересекает белая полоса. Рога у антилоп вытягиваются сантиметров на шестьдесят; в сечении у основания они полукруглые, торчат почти прямо и закручены штопором.
На суше антилопы малоподвижны: копыта у них вытянутые, как у барана, и загнутые наподобие коньков. Они всегда живут в воде — только на ночь выходят попастись. В воде они и спят, и отдыхают, ныряют не хуже гиппопотамов. Часто для туземцев они становятся легкой добычей, но охотятся на них больше ради превосходных шкур, чем из-за мяса.
Двадцать пятого июня поднялась тревога: майор увидел, что не все люди были на месте. Отправившись на поиски, он обнаружил беглецов в лесу — последние даром тратили патроны, стреляя рыбу и кишобу. Завидев начальника, все разбежались, кроме двоих: один на коленях просил прощения, другой схватил топор и ринулся к майору. Серпа-Пинту бросился на него, обезоружил и сильным ударом в голову опрокинул на землю. «Я думал, что убил нападавшего, — пишет он, — но и случись такая беда — она огорчила бы меня меньше, чем этот первый случай неповиновения в отряде. Вокруг меня собрались люди, которым я велел отнести раненого в лагерь. Они тут же исполнили приказание. При виде крови, струившейся из безобразной раны, все стали молчаливы и покорны.
Я осмотрел рану и убедился, что жизнь человека вне опасности, а если от раны в голову сразу не умирают, заживает она быстро. Насколько хватало моих скромных знаний, я помог раненому, а потом собрал на совет всех туземцев — решить, какого наказания заслуживает его преступление. Большинство высказывалось за казнь, меньшинство — исколотить палками до полусмерти. Я ограничился устным выговором и отпустил виновного на волю.
Мое милосердие покорило всех присутствующих, хотя сначала они никак не хотели принимать мои слова всерьез».
Двадцать девятого июля экспедиция, уже почти без провианта, пришла в деревню Кагвегове, расположенную под 17°50′ к востоку от Парижа и 14°30′ к югу от экватора — резиденцию вождя кушиби.
У Серпа-Пинту кончился не только провиант, но, что еще хуже, подошла к концу материя на обмен: оставалось всего несколько штук. Однако местный со́ва принял его весьма любезно. Это был чистокровный амбвела с почти что орлиным профилем; женщины племени также очень красивы.
Амбвела живут на Верхней Квандо, там, где в нее впадают Кембо, Кубанги, Кушиби и Шикулуи. Вдоль Кубанги жители ставят дома на сваях либо на островках, которыми усеяно русло реки, либо прямо в воде. Лодок здесь ни у кого, кроме них, нет, и они спокойно спят в надводных жилищах, не опасаясь внезапных нападений.
Более чем радушное гостеприимство со́ва Моэне из Кагвегове иногда даже смущало майора, которому стоило большого труда избавиться от некоторых любезностей — несомненно, лестных, но все-таки слишком фривольных, подходивших разве что неутомимому жениху Аугошту.
Серпа-Пинту прожил у этих славных людей — простых и гостеприимных, как все земледельческие племена, — до 4 августа, затем переправился вброд через реку, ширина которой здесь доходила до девяноста метров.
Далее португалец перешел притоки Квандо — Кочова, Кушиби и Катогу. Проводник, шедший с майором через земли старика Моэне, на прощанье дал такой совет:
— Вы сейчас пойдете по дороге на Лиамбаи. Я-то эти места знаю, всю жизнь там провел. Так я скажу: всегда держите под рукой самый лучший карабин. Не зевайте по дороге в джунглях — здесь множество хищных зверей. Особенно остерегайтесь буйволов в долине Нинда. Вы встретите могилы многих людей, которых они затоптали; среди них есть даже белые. Так что будьте начеку!
И действительно — Серпа-Пинту повстречал могилу купца Луиша Албину, убитого буйволом. Удивительное совпадение: любимый негр Албину, старик Пунгу Адугу, был в караване майора.
Нинда сливается с Луати и образует Ньенго, впадающую в Замбези несколько южнее пятнадцатой параллели. Чуть ниже слияния Нинды с Луати близ маленького поста Калумбеу начинается земля баротсе[167], где Серпа-Пинту и остановился.
Шестнадцатого августа он увидел, что в лагерь бесцеремонно вошел негр с женой и тремя мальчиками. Путешественника поразили его энергичное лицо, живой взгляд и смелое поведение.
— Кто ты? — спросил майор.
Негр ответил:
— Я Кайумбука; я пришел к тебе.
Майор с живейшей радостью услышал это имя. Кайумбуку, старого спутника Силвы Порту, знали повсюду — от Ньянгове до озера Нгами. Когда Серпа-Пинту уходил из Бельмонте, сам Силва Порту сказал ему:
— Если вы встретите Кайумбуку и наймете к себе на службу, у вас будет самый лучший помощник, какого можно сыскать на юге Центральной Африки.
С тех пор майор повсюду безуспешно его разыскивал — и вот Кайумбука пришел сам. Они проговорили около часа; майор передал негру письмо от Силвы Порту и подарки. Поздно вечером договор был заключен, и Серпа-Пинту представил Кайумбуку спутникам как своего заместителя.
С 17 по 20 августа у путешественников почти не было еды. Увидев, как его люди умирают с голоду, а местные крестьяне не желают ничего продавать, хотя кладовые ломились от провизии, майор собрал всех своих людей и произвел набег на ближайшую деревню. Он взял силой ровно столько, сколько было нужно, чтобы накормить спутников, а стоимость реквизированного возместил жемчугом и порохом. Негры поразились — они не ожидали от победителей такой щедрости — и пообещали впредь продавать еду.
Двадцать четвертого августа Серпа-Пинту вышел к Замбези, пересек ее и прибыл в Лиалуи, столицу повелителя баротсе Лобоси.
Молодой монарх — ему было лет двадцать — радушно принял путешественника и как будто очень заинтересовался его миссией: казалось, он понимает культурное и торговое значение экспедиции. Но, узнав, что матабеле[168] всем племенем пошли на него войной, Лобоси испугался, разозлился и стал вымещать зло на майоре — мелочно, по любому поводу и так чувствительно, что Серпа-Пинту понял: дело скверно.
Тем временем негры, сопровождавшие путешественника из Бие, испугались, что им придется вмешиваться в распрю баротсе с матабеле, и испросили разрешения уйти. В маленьком отряде осталось пятьдесят семь человек.
Король вдруг сбросил маску и даже не пытался больше скрыть свое природное вероломство. 2 сентября он приказал Серпа-Пинту сдать все оружие с запасами пороха, немедленно оставить его владения и возвращаться в Бенгелу. Майор, разумеется, решительно отказался и заявил, что пойдет дальше на восток.
В ночь на 4 сентября путешественник узнал от одного из министров Лобоси, старого слуги Ливингстона по имени Мачуана (рисковавшего жизнью из-за одной любви к белым людям), о готовящемся на него убийстве.
И действительно, несколько часов спустя Серпа-Пинту еле уклонился от брошенного в упор в темноте копья — оно чуть было не пронзило майора насквозь. В ответ он выстрелил из револьвера, ранил и захватил убийцу. Но этого злодея — несомненно, нанятого Лобоси — вскоре похитили, чтобы его показания не скомпрометировали гнусного царька.
На другую ночь одна негритянка, очень преданная Серпа-Пинту, сказала, что опасности еще не миновали. Она тайком пробралась к нему в палатку и поспешно прошептала:
— Берегись: Кайумбука тебе изменил, люди Силвы Порту тебе изменили, хотят убить тебя. Смотри за ними хорошо: они такие злые, такие злые…
Шестого сентября на рассвете Серпа-Пинту допросил Верисиму Гонсалвиша, которому всегда доверял, пригрозил, что в случае чего бенгельский губернатор велит посадить в тюрьму его жену и детей, вообще всячески запугал — и добился-таки правды. Негритянка все сказала совершенно точно. Более того: коварный Лобоси хотел дать Серпа-Пинту охрану якобы до Мозамбика, которая должна была убить путешественника, чтобы завладеть ружьями и порохом.
В результате надо было скорей бежать, но даже самые лихорадочные сборы требовали не менее двенадцати часов. К ночи приготовили, а наутро назначили выступление. Пусть майор теперь сам расскажет об этом драматическом эпизоде:
«Ночь была ясная и прохладная; я сидел у дверей хижины, погруженный в грезы о родине, о семье, о судьбе экспедиции, находившейся в столь серьезной опасности. Вдруг мое внимание привлекли какие-то блики, мелькавшие в воздухе вокруг лагеря. Я выбежал за ограду — и все понял.
Это было ужасно: сотни людей, окружив лагерь, метали на крыши из сена горящие головни. Еще минута, и порыв сильного восточного ветра разнесет огонь по всем кровлям. Люди кимбаре потеряли голову и в панике разбежались, бенгельцы во главе с Аугошту поспешно собрались вокруг меня.
Опасность грозила страшная, но я сохранял спокойствие и думал только об одном: надо непременно выстоять в этой переделке и победить. Из горящей хижины я поспешно вытащил ящики с инструментами, бумаги, записи, порох и вместе со спутниками поспешно сложили вещи на площадке посреди лагеря. Пожар уничтожал жилища одно за другим, но сюда добраться не мог. Верисиму, который был рядом со мной, я сказал:
— Здесь я продержусь еще долго. Любой ценой выберись отсюда и беги к Лобоси в Лиалуи; скажи, что его люди напали на меня. Еще найди Мачуану и тоже все расскажи.
Верисиму метнулся между горящими остовами хижин и скрылся. В это время на нас обрушился страшный град дротиков; многие мои люди были тяжело ранены. Мы отвечали огнем из карабинов, но остановить туземцев не удавалось: они ворвались в лагерь. Спрятаться за домами было невозможно: все сгорело дотла. Я стоял посреди лагеря, защищая португальское знамя; люди кимбаре вновь обрели отвагу и встали вокруг меня, отстреливаясь вкруговую. Только все ли они там были? Нет! Не хватало одного человека, который должен был встать здесь первым, Кайумбуки, заместителя начальника экспедиции.
Когда пожар стал гаснуть, я понял, насколько безнадежно положение: врагов было в сто раз больше, чем нас! Увидев, как множество здоровенных негров скачет вокруг огней, можно было подумать, что мы находимся в настоящем аду. Прикрывшись щитами, туземцы с нечеловеческими воплями мчались и мчались вперед, потрясая страшными дротиками…
Бой был ужасен, но огонь скорострельных карабинов пока еще держал орду дикарей на расстоянии. Но нет, подумал я, надолго это не затянется: наши патроны таяли на глазах… С самого начала у меня было не более четырех тысяч патронов к карабину Снайдерса, а всем известно, как быстро тают боеприпасы в ночном бою против превосходящего противника. Чтобы нас не перебили, необходимо было вести непрерывный огонь.
Аугошту дрался как лев, но вот он в смятении подбежал ко мне и показал свое разорванное ружье. Я велел негритенку Пепеке передать ему мой карабин для охоты на слонов и патроны к нему. С новым оружием Аугошту вновь бросился в первый ряд и почти в упор выстрелил в самую гущу врагов. После этого выстрела дьявольские вопли приняли другой тон: негры с криками ужаса стремглав бросились наутек.
На другой день я понял, почему они так разбежались: карабин был заряжен разрывными нитроглицериновыми пулями[169]. Попадает в тебя такая — сразу сносит голову или разрывает в клочья. Так что первые же выстрелы привели туземцев в панику, а нас спасли».
Седьмого сентября в девять часов утра экспедиция выступила в путь почти без всяких припасов, захватив с собой раненых.
Десятого числа она остановилась в густом лесу в двадцати четырех километрах от места, где перенесла столько опасностей. Как ни спешил майор дальше, ему пришлось остаться там на целые сутки — люди изнемогали от тяжелого перехода и нуждались в отдыхе. Он сам падал с ног — ведь у него не было ни минуты передышки — и крепко заснул, приказав Аугошту зорко стоять на страже. Но и тот на мгновенье поддался усталости. В полночь он разбудил начальника воплем:
— Измена, хозяин! Наши люди разбежались и унесли все, что осталось.
Увы, ужасная весть подтвердилась. Из многочисленного хорошо вооруженного отряда вместе с Серпа-Пинту осталось лишь восемь человек: Верисиму, Аугошту, Камотомбу, Катрайю, Муеру, Пепека и две женщины — жены молодых негров.
Украли все — оружие, боеприпасы, провизию, — все, кроме бумаг путешественника, его одежды и личного оружия. У него оставалось лишь тридцать патронов со стальными пулями для карабина Лепажа и двадцать пять дробовых патронов к мушкету Девима…
Отважный офицер не согнулся под ударами ополчившихся на него бедствий: он счел долгом продолжать борьбу наперекор всему и, спасаясь самому, уберечь и тех немногих, кто остался верен ему.
Серпа-Пинту был изобретателен, как и подобает путешественнику: все у него шло в дело, любой подвернувшийся под руку предмет становился полезен. Он вспомнил, что в тюке, который служил ему вместо подушки, в особом отделении лежал двуствольный карабин — подарок португальского короля; там же было пятьсот запасных гильз, а секстант был обложен двумя упаковками мелкого пороха по килограмму каждая. Но где же взять пули? Неслыханное везение: на деревьях осталась висеть сеть, которой в экспедиции ловили рыбу. Итак, пули можно отлить из свинцовых грузил сети, а форма для литья нашлась там же — рядом с королевским карабином.
Целый день Серпа-Пинту отвешивал порох, лил пули, делал патроны — и к вечеру у него было уже триста зарядов, не считая патронов к ружью Девима. Это были все боеприпасы для защиты и добычи еды.
Лобоси согласился дать майору лодки (видимо, на него произвела впечатление энергия Серпа-Пинту), на которых путешественник отправился по Верхней Замбези или, иначе, Лиамбаи.
В деревнях Налоло, Муангана, Итуфа ему приходилось высаживаться на берег, чтобы лодки не разбили гиппопотамы (в целях экономии патронов майор не хотел в них стрелять). 3 октября он убил огромного льва, а 4-го подошел к водопаду Гонье, прерывающему водный путь. Отсюда начинается сплошная цепь порогов и водопадов: водопады Кате, Момбуэ и Катима-Мориро, пороги Бобуэ и Луссо.
Двенадцатого октября, в день рождения жены, Серпа-Питу чуть не умер от приступа лихорадки. Чувствуя приближение смерти, он продиктовал Верисиму и Аугошту завещание и наказал передать его бумаги и записи любому встречному миссионеру. Но после усиленных подкожных инъекций хинина лихорадка, сверх всяких ожиданий, прошла. 13 числа, будучи еще ужасно слабым, Серпа-Пинту отправился на лодке в Катонго, а 17-го прибыл в деревню Эмбарья у слияния Замбези и Квандо.
Эта часть путешествия отважного португальского офицера имеет важное значение для географии. Он определил координаты истоков притоков Кубанго и Квандо, нанес на карту течение Кубанги, Кушиби, а также весьма извилистое течение Верхней Замбези от Лиалуи до Эмбарья, доказал, что Кубанго не сообщается с Квандо, что эта последняя река удобна для торговли, ибо судоходна на протяжении трех тысяч километров, как и Замбези с притоками Либа и Лунгвенбунгу. Наконец, он разобрался в хитросплетениях рек, питающих Кунене, Конго и Замбези, и заменил на картах фантастические данные, которые некоторые географы предпочитали белым пятнам, другими, ясными и точными.
После многих лишений, злоключений и недоразумений с носильщиками и царьком Эмбарья Серпа-Пинту пересек Квандо и пришел на стоянку английского натуралиста доктора Брэдшоу, у которого прогостил четыре дня. Оттуда майор направился в крааль[170] французского миссионера Куайяра, радушно принявшего португальца. От переутомления Серпа-Пинту тяжело заболел и поправился благодаря лишь заботливому уходу доктора Брэдшоу, госпожи Куайяр и ее племянницы.
Тринадцатого ноября он вместе с семьей миссионера — эти достойнейшие люди стали друзьями и попутчиками — оставил крааль Луксума. Через два дня они приехали в другой, по имени Говеджума, в пятидесяти пяти километрах к югу. 2 декабря спутники отправились через Калахари, о которой мы уже рассказывали при описании путешествий Ливингстона. Португалец нанес на свою путевую карту северную часть пустыни и назвал ее именем английского путешественника Томаса Бейнса.
Мы уже говорили, что Калахари — огромная равнина, пересеченная то здесь, то там руслами пересохших рек. В сезон дождей там растет высокая трава и прочая зелень, кусты покрыты цветами, деревья — листьями. В пустыне много и всевозможной дичи, особенно близ рек и озер, которые, как и в Центральной Австралии, крохотные и в жару пересыхают. Впрочем, почти все они солоноваты и непригодны для питья, так что по Калахари можно путешествовать только в сезон дождей. В это время здесь много сочной травы, без которой не обойтись быкам, запрягаемым в тяжелые местные фургоны — настоящие дома на колесах.
Время было как раз благоприятное; Серпа-Пинту нанял такой фургон и за месяц добрался от Даки до Шошонга. По дороге он установил течение Наты, Симоане и Литублы. Берега этих рек, покрытые — если можно так выразиться — беспорядочной растительностью, во время дождей привлекают миллионы птиц, покрывающих землю толстым слоем гуано[171].
Все три реки впадают в большое соленое озеро Макарикари (туземцы называют его «соленой сковородкой»), к которому майор вышел 20 декабря. Во время дождей притоки несут в озеро воды с западных склонов земли матебеле. Туда же течет и река Ботлете из озера Нгами; по мнению майора, она является продолжением Кубанго. Когда же в Макарикари вода поднимается, Ботлете течет на запад — в озеро Нгами.
Несмотря на такую странную особенность Ботлете — периодически менять направление течения, — удалось, как пишет господин Анри Дювейрье, установить, что малые притоки не оказывают на озеро почти никакого влияния: таким образом, Макарикари образовано разливами Кубанго, к системе которой принадлежит и оно, и Нгами, и все лежащие между ними лагуны.
Мы не будем следовать за неустрашимым путешественником по этим местам: они уже хорошо изучены экспедициями Бейнса, Болдуина, Ливингстона и многих других исследователей Южной Африки. 21 декабря майор оставил берега Макарикари, а 31-го прибыл в Шошонг, где две недели наслаждался заслуженным отдыхом.
Пятнадцатого января Серпа-Пинту распрощался со славной семьей Куайяров, а 15 марта, через четыреста восемьдесят три дня после выхода из Бенгелы, пришел в Порт-Наталь. Он пересек Африку с запада на юго-восток и около четырех тысяч километров прошел по неисследованным землям.
В заключение представим мнение об отважном португальце одного из славнейших наших путешественников, господина д’Аббади:[172]
«Таких путешественников, как Серпа-Пинту, к сожалению, слишком мало, а его путешествие — одно из лучших за все времена. Он сделал важные наблюдения; записи его безупречно четки. Это образованный и очень умный исследователь. Он сделал важный шаг в развитии географических знаний, и географические общества Парижа и Лондона по всей справедливости наградили майора большими золотыми медалями.
ГЛАВА 10
КАПИТАН БЁРТОН[173]
Внутреннее африканское море. — Сомнения. — Английская экспедиция. — Озеро Танганьика. — Спик открывает Виктория-Ньянзу.
Всего тридцать пять лет назад мы знали Африку ненамного лучше, чем древние. Ее тайны охраняли свирепые — больше по слухам, чем на деле, — племена, убийственный климат и, должно признаться, безразличие цивилизованных наций к географическим наукам.
Как красноречиво говорил в 1860 году Эдуар Шартон[174], достопочтенный и приснопамятный основатель журнала «Тур дю монд»: «Напрасно процветала в плодородной Нильской долине древняя цивилизация! Напрасно Карфаген и Рим установили в Африке свое владычество, арабы воздвигли мечети, торговцы устроили фактории! Она и до наших дней остается неведомой людям».
Из рассказов о пустыне заключали, что вся Африка — сплошное пустое пространство, море песка, безводная почва. При виде верблюдов и страусов совсем забывали о крокодилах и бегемотах…
И вот в 1856 году мир с изумлением и недоверием принял новость: немецкие миссионеры, пастор Эрхардт и доктор Рибман, странствуя по Экваториальной Африке, узнали, что там существует большое внутреннее море. Самые сведущие люди Европы отказывались верить в подобный Каспий на востоке Африки между экватором и 15° южной широты. Это были, несомненно, люди выдающиеся, но с молоком матери впитавшие представление, будто вся Африка безводна, безлесна, покрыта песком. Итак, большое озеро в Африке казалось им нелепицей, физической невозможностью. В честности миссионеров европейская общественность не сомневалась, но полагала, что путешественники соединили в одну цепь маленькие озера, указанные на португальских картах и доверчиво перенесенные оттуда на наши.
Но все же поднялся шум, и вопрос был слишком интересен, чтобы оставить без ответа. Впрочем, тогда уже начали понемногу заниматься географическими изысканиями, а страх перед чудовищными живоглотами понемногу проходил. Наметились контуры значительного движения, которое к концу XIX века стало необратимым.
Лондонское Королевское географическое общество сочло полезным проверить и, если удастся, дополнить сообщения миссионеров. С этой целью оно снарядило экспедицию «в район африканских озер».
Командование поручили капитану Ричарду Ф. Бёртону, служившему прежде в Бенгалии; его познания, отвага и великолепные прежние исследования вполне оправдывали выбор Общества. Капитан Бёртон, превосходно представляя себе трудности путешествия, попросил себе в помощники сослуживца по Индии капитана Спика[175].
Экспедиция отправилась из Англии в начале 1857 года и прибыла на Занзибар 14 июня. Без промедления Бёртон и Спик с отрядом из сорока занзибарцев отправились в Каоле, маленький городок в стране Мрима на побережье континента. Затем они медленно двинулись через однообразно плоские равнины, покрытые вперемежку саваннами, лесами, травянистыми долинами, на которых реки после разлива в сезон дождей оставляют множество болот, заросших огромными тростниками, кишащих рептилиями и насекомыми; над ними вечно висят ядовитые тучи, распространяющие малярию.
В первые месяцы малярией заболели многие, но вскоре отряд пришел в Узагару — прелестный горный край с вечнозелеными долинами, умеренным климатом, чистым воздухом. Там все поправились и окрепли.
Жители Узагары, как сообщает Бёртон, красивые, высокие, сильные люди; борода у них гуще, чем у других туземцев, цвет кожи неодинаков: от почти черной до шоколадной. Некоторые из них бреют голову, другие носят арабский шушах (нечто вроде ермолки), большинство — древнюю египетскую прическу. Начесанные надо лбом нестриженые волосы заплетают во множество косичек из двух прядей каждая. Они тверды, как штопор, и потому не путаются; вся их масса образует вокруг головы густой занавес, падающий от макушки на загривок. Нет прически оригинальней и эффектней, особенно когда в нее вплетены комочки охры, пластинки слюды, стекляшки, металлические шарики и тому подобные предметы; они болтаются, сверкают и при малейшем движении головы позвякивают друг о друга. Воины и юноши носят в волосах также перья страуса, коршуна и ярких соек; в некоторых племенах в каждую косичку вплетают красную нитку. Расчесать такую шевелюру средней густоты — работа на целый день. Поэтому неудивительно, что расчесывают их редко и головы туземцев становятся рассадником вшей, а для червей тамошние условия — прямо-таки рай земной.
У этих племен есть удивительная манера растягивать себе мочку уха таким же способом, как бразильские ботокуды и некоторые негры на Замбези уродуют нижние или верхние губы. В мочке прокалывают сначала тонюсенькую дырочку и начинают вставлять все более и более крупные предметы — дырочка постепенно становится больше. Когда сидящий в ухе диск наконец удаляют, мочка уже спускается до плеч. После такой операции уши получают множество функций, не имеющих ничего общего с природными: в них вставляют табакерки, пастушьи рожки, огнива с трутом, мелкие инструменты…
Немного погодя путешественники поднялись по крутой тропке, петлявшей по обрывистым красноцветным склонам, усеянным обломками скал и еле прикрытым редкой травой. Алоэ, кактусы, молочаи, гигантские восковые плющи и чахлые мимозы указывают на засушливость, хотя рядом все еще растут и величественные баобабы, а кое-где попадаются прекрасные тамаринды[176]. По обеим сторонам тропки мрачно белеют обглоданные муравьями скелеты, а иногда можно увидеть распухшие трупы носильщиков, погибших от голода или от оспы.
Когда экспедиция перешла горную цепь, она спустилась вниз и вновь очутилась в болотистых оврагах, на зловонной земле, где озерки и трясины заражены малярией. Но деревья, растущие в условиях вечной влажности, великолепны — капитан Бёртон не скрывает восхищения этими баобабами, пальмами, тамариндами и сикоморами[177], возвышающимися среди зарослей бамбука и папируса.
Несмотря на всю закалку, путешественник нелегко переносил местный климат, укусы насекомых, всевозможные трудности на пути. «Холодная роса, — пишет он, — пронимала нас до костей; ноги еле держались на скользкой дороге; люди и лошади бесились от укусов черных муравьев. Эти муравьи достигают в длину более двух с половиной сантиметров; у них бульдожья голова с такими мощными челюстями, что они могут уничтожать крыс, ящериц и змей, растаскивать по кускам трупы самых крупных зверей. Живут они во влажных местах, роют ходы в грязи, кишат на дорогах и не знают, как и все их сородичи, ни устали, ни страха. Невозможно оторвать такого муравья, когда он впивается вам в тело жвалами[178], как раскаленной иглой. В джунглях обитают еще мухи цеце, прокусывающие наши полотняные гамаки. Вьючные ослы падали один за другим, провиант заплесневел и подошел к концу, болезни обострялись… Мы еле могли усидеть в седле и ожидали, что вот-вот нас придется нести на носилках».
Бёртон шел дальше на запад через земли, населенные мелкими племенами, каждое из которых образует свое государство и имеет собственного вождя. Крупнее других государство Угого; благодаря здоровому климату его населяет очень крепкая порода людей.
Отличительным признаком этих племен является отсутствие двух средних резцов на нижней челюсти; у мужчин — часто и одного. Но еще проще их узнать по невероятно растянутым ушам. Это отличительный знак всех туземцев и привилегия свободных — как мужчин, так и женщин (рабам строго запрещено иметь подобные уши).
Одежда жителей Угого по сравнению с соседями указывает на несколько бо́льшую цивилизованность. Лишь немногие из них носят звериные шкуры, а дальше к западу — полотняные набедренники. Даже дети обычно ходят одетыми. Почти все мужчины носят подобие накидки из ситца или арабской клетчатой ткани. Богатые женщины одеваются в яркие шелка и тонкое полотно, бедные — в суровое полотно. Маленькие девочки носят нечто вроде передника или, скорее, повязочки до колен с поясом из двух рядов крупных голубых жемчужин, называемых сунгомаджи. Сзади к поясу привязывают ленту двухметровой длины, присобранную спереди и завязанную на талии; при каждом резком движении концы этой ленты, доходящей до середины икр, очень эффектно развеваются.
Как и повсюду на Черном континенте, мужчины повсюду ходят с оружием: все носят большой обоюдоострый тесак, которым пользуются и в сражении, и для разных обиходных работ. Щитов у них нет, зато есть очень опасные, страшно зазубренные дротики с толстым древком длиной около метра и двадцати пяти сантиметров; шейка наконечника доходит до середины копья.
Арабы считают эту народность дурной, тщеславной, злобной, хвастливой и разбойной. Надо согласиться, что никакого представления о приличиях у жителей Угого нет: они приходят целой толпой в палатку к путешественнику, рассаживаются, бесстыдно разглядывают гостя и беспощадно высмеивают все, что им кажется странным. Толпа преследует вас повсюду, не отстает в продолжение нескольких миль; женщины с голой грудью и с младенцами за спиной бегут за вами и что-то злобно кричат; девушки при виде чужеземца громко хохочут и издеваются над ним, как уличные мальчишки в странах с более скромными нравами. Но самое любопытство доказывает, что туземцы поддаются совершенствованию: полностью выродившиеся народы — австралийцы или огнеземельцы[179], например, — совершенно равнодушны ко всему новому.
Первого ноября, отдохнув и немного пополнив запасы, караван покинул Угого и направился через заросли в Рубуги. 7 ноября он пришел в Каш, столицу Уньянембе и главное арабское поселение в этих местах.
Против своей воли Бёртон задержался там из-за довольно обычной в Африке неприятности: его носильщики сбежали и нужно было набрать новых. Во многих местах это бывает трудно, только не в Уньянембе: здесь почти все местные жители занимаются подобным промыслом. В большинстве других африканских стран его считают презренной рабской службой, здесь он почетен для мужчины. Более того — уметь носить тяжести здесь так же необходимо, как у нас иметь определенное занятие; это знак добропорядочности и силы.
Дети с молоком матери получают пристрастие к подобному занятию и с самого юного возраста таскают маленькие куски слоновой кости. Они такие же прирожденные носильщики, как породистые собаки — охотники; из-за тяжкого груза у трудолюбивых малышей на всю жизнь остаются кривые ноги, как у животных, которых слишком рано заставляют работать. В Уньянембе любят путешествия, но страстно привязаны и к родной земле; если туземцами овладела страсть вернуться домой, ничто их не остановит.
Они с огромной охотой нанимаются на службу, но вблизи родных мест готовность идти дальше держится на тонкой ниточке: при малейшем предлоге носильщики собирают пожитки и всей толпой исчезают. Когда экспедиция приближается к их краям, у туземцев надо отобрать и сложить все имущество (ткани и стеклянные побрякушки) вместе с общей поклажей и выставить вооруженную охрану. Но и такая предосторожность часто не помогает. Одержимые единой пламенной страстью, они становятся глухи к голосу рассудка и к собственной выгоде — ностальгия помогает им изобрести всяческие уловки для побега. Как правило, туземцы-носильщики не сразу трогаются в путь вслед за караваном, чтобы тот, кто заплатил, не нагнал их и не вернул силой.
Итак, они склонны к бегству и безразличны к тому, что их наниматель окажется в затруднительном положении, но в некотором роде они люди честные: почти не бывало примера, чтобы кто-то унес хотя бы тюк поклажи.
Капитан Бёртон, как зоркий наблюдатель, описывает сцену выхода в путь. Это интереснейшее описание, и читатель, конечно, не посетует на предоставленную возможность оценить его прелесть.
«Все тихо, как на кладбище, — пишет Бёртон. — Все спят — даже часовой стоя покачивается возле костра. Часа в четыре утра один из наших петухов, встрепенувшись, приветствует восход; ему отвечают другие петухи. У нас бывало до шести таких живых будильников, являвшихся всеобщими любимцами; они сидели на шестах носильщиков и по первому требованию получали воду. Я сам давно проснулся и позевываю спросонок, а если хорошо себя чувствую — то уже и перекусил.
Едва побледнел восток, я зову гоанцев[180] развести огонь; зевая и поеживаясь (температура градусов пятнадцать по Цельсию), они поспешно исполняют приказание и приносят еду. В такое время суток аппетит неважный — хорошо было бы возбудить его разнообразием. Мы пьем чай, если есть — кофе, едим печенье из теста на сыворотке, размоченное в рисовом отваре, иногда — похлебку, похожую на кашу.
Тем временем белуджи[181] ставят на костер жаровню и, усевшись кругом, поют священные гимны, курят табак, подкрепляются чем-то вроде кускуса[182] и печеными бобами.
Пять утра. Все проснулись, и начинаются перешептывания. Это критический момент. Носильщики обещали выйти сегодня пораньше и сделать большой переход. Но они изменчивы, как волна, как сердце красавицы; этим прохладным утром они совсем не похожи на людей, которым вчера пришлось жарко. Многие из них, возможно, в лихорадке, но в любом караване есть лодыри без царя в голове, зато с громким голосом, которым лишь бы перечить на каждом шагу. Если такой работничек решил отдохнуть, то греет себе руки-ноги у огня, не поворачивая головы, и только исподтишка хихикает, глядя, как бесится хозяин.
Если все эти люди, склонные к подражанию, единодушны, вам остается только вернуться в палатку. Но если между ними есть разногласия, первый, кто чуть-чуть пошевелится, увлечет за собой остальных. Отряд оживляется, повсюду раздаются крики: “В дорогу! В дорогу! Пошли! Пошли!”; иные еще хвастают: “Я сильней осла! Сильней быка! Сильней верблюда!” Бьют барабаны, звучат дудки, свистки, рожки…
Когда все готовы, проводник — человек из племени киранго в роскошной одежде — берет груз, один из самых легких, красный флаг, утыканный колючками, и идет впереди; за ним следует носильщик и бьет в литавры, напоминающие по форме песочные часы.
Вот наконец весь караван в сборе, выстроился в колонну и ползет чудовищным удавом по склону горы, в глубоком овраге, по ровному полю…
Сразу за проводником идут “раздатчики” с тяжелым грузом слоновой кости — они горды, что несут драгоценную ношу. На кончике каждого клыка непрестанно тинькает колокольчик, как на шее у коровы; к другому концу привязан скарб носильщика: бутылочная тыква, циновка, коробка, глиняный горшок. Если ноша слишком тяжела, два человека тащат ее на шесте, как паланкин[183].
Все люди одеты плохо: если бы кто вздумал в дороге прихорашиваться, его бы подняли на смех. Когда собирается дождь, все снимают плащи из козьих шкур, тщательно сворачивают и подкладывают под груз на плечо. Получив порцию зерна, носильщики ссыпают его в мешочек и привязывают сзади к поясу. Получается нечто вроде турнюра[184], на котором они сидят, как на табуретке.
Главное развлечение в дороге — гвалт; рожки и барабаны соревнуются на громкость, все свистят, поют, завывают, рычат, изображают птиц и диких зверей, кричат такие слова, каких на отдыхе не произносят, и непрестанно болтают.
В караване есть старший, иногда даже несколько; они идут обычно в арьергарде, чтобы подгонять отстающих и следить, не собрался ли кто сбежать.
В восемь часов — привал и завтрак. Носильщики снимают поклажу и осторожно ставят на землю; тем временем женщины шелушат зерно и толкут кофе. В деревне, у себя дома, африканцы обыкновенно едят умеренно, в дороге — до отвала. Не заботясь о завтрашнем дне, они объедаются, а позднее жестоко страдают от голода.
Вечером стреноживают скотину, разжигают костры и обедают, потом — сказки, песни, пляски! Да, у этих усталых людей находятся еще силы, чтобы плясать с такой страстью, о которой не имеют никакого представления те, кто не видал этих плясок.
Часов в восемь вечера раздается крик: “Спать! Спать!” Все тотчас подчиняются, и вскоре над недвижным лагерем звучит согласный храп. Только женщины, которые здесь так же болтливы, как и везде, часто в полночь пробуждаются и встают… чтобы всласть наговориться!»
После многих тревог, лишений и тягот Бёртон поднялся на крутую гору, поросшую колючими зарослями, и увидел на горизонте сверкающую водную гладь. Это была Танганьика!
«Первый же взгляд на озеро, раскинувшееся под тропическим солнцем среди гор, — пишет Бёртон, — поражает воображение… У нас под ногами — дикие ущелья с еле заметной тропкой внизу. В пропасти вьется никогда не выцветающая изумрудная полоска тростника, разрезающая волны и примыкающая к золотой ленте песка.
Душа моя и глаза радовались, я все позабыл — опасности, тяготы, неизвестность, ожидающую меня на обратном пути, — и согласился бы вытерпеть вдвое против прежнего; все разделяли мое восхищение».
Это произошло 13 февраля 1858 года.
Бёртон оказался поражен, увидав, что берега этого огромного озера — подлинно внутреннего моря — почти безлюдны. Ведь по восторженным рассказам арабов он думал здесь найти людный город, порт, крупный рынок, торговлю, жизнь… А тут — несколько хибарок, разбросанных меж небольших полей сахарного тростника и сорго, — и это тогда называлось «город» Уджиджи!
Бёртон вступил в переговоры с местными жителями (он пишет, что они были гораздо грубей и воинственней всех прежде встреченных им негров) и, естественно, захотел проплыть по открытому озеру. Он нанял за плату две большие пироги — одну на тридцать, другую на двадцать гребцов и, пройдя значительное расстояние вдоль западного берега, отправился на север.
Там Бёртон встретил племена воинственные, даже, по словам гребцов, — людоедские; они встречали его оглушительными воплями и рыком. Достигнув последних поселений, до которых доходили арабы, путешественник хотел доплыть до северного берега Танганьики, но спутники начисто отказались плыть дальше — пришлось волей-неволей вернуться в Уджиджи.
Возвращение не прошло без опасных приключений. Внезапно поднялась ужасная буря со страшной грозой; за несколько минут от туч стало темно, как ночью. К счастью, проливной дождь скоро усмирил ветер и волны, иначе лодки не вынесли бы страшных валов, какие бывают на Танганьике, и озеро стало бы могилой своему отважному первооткрывателю.
Но на сей раз все обошлось благополучно, и несколько дней спустя — 26 мая 1858 года — караван вышел в Казех, прибыл туда 20 июня.
Все люди утомились и ослабли от долго переносимых тягот, лишений и лихорадки. Малярия, гепатит, ревматизм, язвы, дизентерия, глазные болезни преследовали отряд и многих погубили.
Капитан Бёртон заболел тяжелее всех; несколько недель он не мог даже пошевелиться.
Итак, из-за болезни начальника, экспедиция получила вынужденный отдых. Капитан Спик, вскоре вставший на ноги, воспользовался им, чтобы дерзко и быстро отправиться прямо на север — проверить утверждения арабов, будто там находится другое озеро, не меньше Танганьики. И действительно, через двадцать пять дней трудного перехода по совершенно неизвестным европейцам местам Спик увидел с вершины холма огромный водоем. Туземцы называли его Ньянза. Спик узнал, что озеро простирается очень далеко на север, где из Ньянзы вытекает река. Он назвал озеро именем государыни, королевы Виктории. Вернувшись к капитану Бёртону, Спик сказал, что, кажется, нашел ответ на загадку об истоках Нила.
Бёртон не разделял убеждения товарища. Он охладил его восторг ледяным душем несправедливой иронии — и немногие лучшие умы удержались бы от этого на его месте: до того ревность свойственна человеку!
Бёртон пишет:
«Капитан Спик преуспел в своем предприятии — дошел до Ньянзы и увидел, что она даже намного больше, чем он ожидал. Но как же я был поражен, когда он, едва перекусив, объявил мне, будто открыл исток Нила! Это, конечно, преувеличение. При первом взгляде на Ньянзу Спику пришло в голову, что великая река, о которой строили столько догадок, должна вытекать из огромного озера, лежащего у его ног. Исток Нила родился, вероятно, в мозгу капитана. Конечно, очень приятно объявить восхищенной публике, в которую входят государственные деятели, мужи церкви, коммерсанты, а главное — географы, что найдено решение задачи, тысячи лет бывшей желанной для науки. Приятно возвестить истину о проблеме, которую тщетно пытались решить многие великие монархи. Но сколько раз, начиная с Птолемея Пелузского, так открывали исток Белого Нила?
Я счел, однако, долгом прекратить споры на эту тему: они начали вредить нашим отношениям. Стало ясно, что каждое мое слово о Ниле больно задевает товарища, и по молчаливому уговору мы больше не заводили подобных разговоров.
Я бы и не вернулся к этому, если бы капитан Спик не выставил нашу экспедицию на посмешище, объявив о мнимом открытии, подкрепленном столь слабыми основаниями, что ни один географ даже не обсуждал их».
Сейчас мы увидим, как должен был капитан Бёртон раскаяться в том, что написал подобные оскорбительно насмешливые и до абсурда горделивые строки.
Два товарища, отношения между которыми так омрачились, вернулись домой без происшествий. 26 сентября 1858 года экспедиция выступила в направлении побережья, а 3 февраля 1859 года вернулась на Занзибар, откуда Бёртон и Спик отплыли в Англию.
ГЛАВА 11
КАПИТАН СПИК
Вторая экспедиция. — Капитан Грант. — Возвращение к озеру Виктория. — Кровавый тиран. — Нил. — Обратный путь.
Джон Хеннинг Спик родился в 1827 году. Восемнадцати лет он поступил в Индийскую армию[185] и служил прапорщиком в ужасной пенджабской кампании.
Спик любил приключения, увлекался охотой и физическими упражнениями, знал ботанику и геологию, являлся очень толковым натуралистом. В Индии он совершил замечательные путешествия по Тибету и Гималаям, откуда вынес обильную жатву важных сведений.
В Индии Спик служил вместе с Бёртоном, который и пригласил его с собой в экспедицию на Танганьику. Мы только что видели, как Спик во время болезни начальника открыл озеро Ньянза и предположил, что нашел при этом один из истоков Нила.
Насмешки Бёртона не поколебали уверенности капитана, а вызвали, напротив, желание глубже изучить этот вопрос — отправиться на место и, чего бы то ни стоило, найти подтверждение своей смелой гипотезе.
Спик не был оставлен поддержкой Королевского географического общества и правительства ее величества. 27 апреля 1860 года он отправился на Занзибар вместе с другом, верным боевым товарищем по Индостану, капитаном Грантом.
В те времена, когда еще не существовал Суэцкий канал, плавание оказалось долгим. Лишь 17 августа друзья высадились на африканском берегу.
На Занзибаре Спику удалось, по счастью, найти многих негров, принимавших участие в предыдущей экспедиции (среди них — Бомбея, позже сопровождавшего Стенли в поисках Ливингстона). Он без проволочек завербовал их и заплатил так щедро, что очень скоро набрал нужных двести человек.
Второго октября караван отправился в дорогу и 24 января 1861 года пришел в Казех. Там Спику пришлось остановиться на три с половиной месяца из-за войны между арабами и одним из туземных вождей. Еще через полгода, 17 ноября, он пришел в Карагве — крупное государство на западном берегу Виктория-Ньянзы. До той поры путешествие было очень тяжелым: болезни, нехватка провианта и различные неизбежно случающиеся в африканских путешествиях несчастья преследовали экспедицию. В Карагве все страдания прекратились как по волшебству: настолько щедро и благосклонно принял путников король Руманика.
«На другой же день, — пишет Спик, — монарх дал нам с Грантом торжественную аудиенцию. Через минуту мы поняли, что люди, окружавшие нас, не имеют ничего общего с грубыми дикарями из окрестных стран. У них, подобно элите абиссинских народностей, красивые продолговатые лица, большие глаза и величественный, гордо изогнутый нос. Руманика совсем по-английски — так принято в его стране — пожал нам руки и с улыбкой предложил место напротив себя.
Он расспрашивал нас, как нравится Карагве, горы — прекраснейшие, по мнению правителя, в мире — и огромное озеро, которым восхищались и мы. Он хотел также знать, как мы разыскали дорогу к нему и откуда пришли; очень Руманику удивило, что наша страна находится к северу от его королевства, а мы хотим узнать дорогу в Уганду, страну, расположенную севернее Карагве».
Спик выбрал для лагеря место с великолепным видом на озеро и целый месяц прожил у гостеприимного монарха, гуляя и изучая окрестности.
Среди прочих достопримечательностей местного населения Спик узнал по рассказам, что жены короля и принцев Карагве невероятно толсты, что считается здесь признаком величайшей красоты. Путешественнику очень было любопытно проверить эти рассказы. Однажды он отправился в гости к старшему брату короля. Преувеличения не было. Спик застал в хижине хозяина и его главную жену сидящими на дерновой скамейке. Над ними, на столбах, подпиравших крышу, выложенную в форме улья, висели боевые трофеи: луки, дротики и ассагаи[186], а перед хозяевами стояли деревянные кадки с молоком.
Хозяйка дома, мать большого семейства, была до того пышна, что это превосходило всякое воображение; впрочем, за необыкновенной дородностью еще замечались какие-то следы красоты. Она не могла стоять на ногах: ей мешал вес собственных рук, на которых болтались огромные горы дряблого жира.
Спик полюбопытствовал, зачем в доме держат столько молока. Королевский брат объяснил, что от этого продукта и происходит столь величественное дородство его супруги.
— Женщины, достойные нашего сана, — сказал он, — вырастают такими потому, что их с самого юного детства обильно поят молоком.
Желая подробнее изучить феномен столь необыкновенной тучности, Спик навестил и измерил другую принцессу. Рост ее составлял 170 сантиметров, окружность руки — 60 сантиметров, объем талии — 130, обхват икры — 50.
Руманика не только хорошо принял путешественников, но и с интересом отнесся к их планам; он сообщил много географических сведений, в точности которых англичане имели затем возможность убедиться.
В первых числах января 1862 года к Руманике явились посланцы от царя Уганды и доставили Спику официальное извещение, что государь желает видеть его. Капитан только о том и мечтал; он собрался в дорогу и выступил, оставив заболевшего тяжелой, никак не проходившей лихорадкой капитана Гранта на попечение Руманики.
В начале февраля Спик прибыл в Уганду и убедился, что она столь же плодородна и живописна, как Карагве.
Ритуал первой аудиенции, которую дал Спику царь Мтеса, оказался сложнее сложного. От него поседел бы гофмейстер[187] любого европейского двора и дошел бы до белого каления начальник протокольной службы французского министерства. Но Спик, чтобы его не ставили вровень с простыми местными торговцами и начальниками обыкновенных караванов, настаивал на упрощении церемонии. И добился своего, как ни опасно было намерение изменить вековые обычаи, которыми дорожат африканские монархи.
Несмотря на все требования придворных чинов, путешественник категорически отказался предъявить для предварительного осмотра подарки, предназначенные монарху, — ружья, патроны, музыкальные шкатулки, шелковые пояса, стеклянную посуду, разные побрякушки и прочее. Не согласился он и с обычаем заворачивать каждый подарок в кусок ситца (приносить государю дары в открытом виде запрещалось).
Туземцы вынуждены были уступить, и караван пошел ко дворцу так, как того хотел «белый принц» (так здесь прозвали Спика). Колонна шла под флагом Соединенного Королевства[188]. Впереди шествовал почетный караул из двенадцати человек в красных фланелевых плащах, при ружьях с примкнутыми штыками, каждый из остальных людей нес какой-нибудь подарок для короля.
По пути кортеж всюду встречали восторженными криками; кто-то из зрителей хватался за голову, кто-то складывал руки рупором и, не помня себя от восхищения, кричал: «Ирунги! Ирунги!» (что значит на местном языке: «брависсимо!») — и так до самой площади, на которой находилось жилище монарха.
В ожидании аудиенции Спика оставили на большом дворе, окруженном строениями под соломенной крышей, как будто постриженной парикмахерскими ножницами.
Солнце пекло очень сильно, поэтому капитан надел шляпу и раскрыл зонтик — эта диковина вызвала веселое восхищение публики. Между тем церемония грозила затянуться сверх всякой меры. Спику надоело смотреть, как проходят перед ним торжественным маршем мужчины, женщины, быки, собаки, козы; он объявил, что всю эту чепуху пусть оставят для арабских купцов, а он — «белый принц» — желает быть принятым как можно скорей.
Чтобы приготовиться к приему, Спик дал неграм самое большее пять минут. Когда они истекли, он положил все подарки на землю и повел отряд домой.
Капитан, до такой степени не считаясь с африканским тираном, вел опасную игру, зато таким образом утвердил независимость и личное достоинство. Его тут же попросили вернуться, обещая незамедлительно представить монарху.
Мтеса был тогда молодым человеком лет двадцати пяти, высокого роста, с выразительным лицом, прекрасно сложенный. Тщательнейшим образом расправив складки новой мантии, он восседал на квадратном сиденье, застеленном красным покрывалом и окруженным тростниковым плетнем. Король был острижен наголо, кроме макушки, где ото лба до затылка возвышался гребень, похожий на султан боевого шлема или, пользуясь менее благородным сравнением, — на петушиный гребень.
«Челядь выстроилась в эдакое каре, — вспоминает капитан Спик. — Через несколько минут меня попросили пройти в середину. Рядом со мной на прекрасной подстилке из леопардовой шкуры стояли огромные медные литавры с бронзовыми колокольчиками по краям и два барабана, искусно украшенные ракушками и бисером.
Мне не терпелось начать переговоры, но я не знал туземного языка, а из моих соседей никто не смел не то что рта раскрыть — глаз поднять: его бы обвинили, что он смотрит на королевских жен. Так мы с Мтесой битый час глядели друг на друга, не обменявшись ни словом; я поневоле молчал, он же, как я слышал, беседовал с придворными о необычности нашего убора, о форме моего караула и тому подобном. Пока он делился своими впечатлениями, меня просили от его имени то надеть шляпу, то открыть и закрыть зонтик, а людям из караула велели повернуться кругом, чтобы полюбоваться их плащами, которых в Уганде прежде не видывали.
На склоне дня его величество направил ко мне церемониймейстера с вопросом, видел ли я государя. Я отвечал, что вот уже час наслаждаюсь этим зрелищем. Когда Мтесе передали эти слова, он встал, держа в руке копье, а на поводке собаку, и удалился в задние покои.
Столь бесцеремонно покидая нас, он шел угандийским традиционным шагом, который льстецы называют “львиным шагом”, и он, вероятно, должен был поразить нас своим величием. Признаюсь, однако: то, как царь выкидывал ноги в разные стороны, больше напомнило мне неуклюжее ковылянье уток на птичьем дворе…»
Последующие встречи уже не сопровождались утомительным церемониалом, которого требовал первый прием. Спик и Мтеса стали лучшими друзьями — насколько цивилизованный, образованный, любезный и гуманный английский офицер может быть другом такому кровожадному дикарю, как Мтеса.
Вот пример: однажды на прогулке одна из его фавориток позволила себе сорвать некий плод и поднести дикарю-монарху. Тот взбесился: женщина не смеет ничего предлагать государю! — и велел не сходя с места удавить ее. Только заступничество Спика и мольбы других женщин спасли бедняжку.
В другой раз Спик подарил Мтесе карабин. Повелитель полюбовался подарком и, желая оценить достоинства ружья, вручил пажу, пареньку лет четырнадцати:
— Поди убей кого-нибудь!
Тот взял карабин, вышел во двор, выстрелил в первого встречного, вернулся и сказал:
— Готово! Ружье бьет хорошо!
Однажды Мтеса велел казнить сразу сотню слуг (чтобы Спик за них не заступился, им отрубили голову в укромном месте), потому что во дворце не хватало провизии. По чистой прихоти, без тени предлога он постоянно велел убивать жен — одну, двух, а то четырех и пять за день. Спик, прожив несколько месяцев во дворце, часто видел, как стража тащит их на казнь, связанных за ноги веревкой; женщины душераздирающе кричали… Между тем благодаря рвению поставщиков гарем никогда не пустовал, несмотря на ежедневную резню.
Так проходили дни, недели, месяцы — царь, казалось, не понимал или, скорее, не хотел понять, куда же направляется «белый принц». Он охотно согласился послать к Руманике за капитаном Грантом, но на том, кажется, и закончилось его благорасположение к новому другу.
Двадцать седьмого мая 1862 года Грант присоединился к Спику, и Мтеса неожиданно решился дать им суда, которые целых два месяца белые выпрашивали у царька, намереваясь отправиться в Гани — страну к северу от Уганды. Спик и Грант тут же простились с Мтесой, пока тот не передумал.
Места, по которым шла дорога, были полностью вытоптаны слонами. Через неделю Спик достиг цели путешествия — места, где Нил вытекает из Ньянзы водопадом высотой двенадцать футов и шириной футов четыреста — пятьсот.
На лодках, сделанных из пяти перевязанных и кое-как обтянутых лоскутами коры досок, Спик отправился вниз по реке в Униоро, правитель которой, Камреси, скромно носил титул отца всех царей.
Девятого августа Спик прибыл в Униоро. Здешний правитель — еще более безумный и жестокий тиран, чем Мтеса, — встретил англичан довольно радушно то ли из симпатии, то ли из жадности, то ли из желания выказать благосклонность, то ли из любопытства. Камреси, заставив две недели дожидаться аудиенции, нарочно дал ее в маленьком домике для приема просителей без всякого церемониала.
Капитан Спик сразу изложил правителю свое дело. Он объяснил, что прибыл в Униоро из Карагве, а не по реке, потому что люди с севера не пропускали чужеземцев в Униоро, и пришел предложить Камреси дружественные и выгодные отношения. Например, менять слоновую кость на европейские товары, соседние государства уже убедились в выгоде этого предложения и заключили соглашения.
Но Камреси не говорил ни да, ни нет, делал вид, что ничего не слышит и не понимает, болтал о всяких глупых пустяках.
Шесть недель продолжалась эта игра в чепуху с правителем-самодуром. Только 10 ноября экспедиция получила разрешение продолжать путь по реке Кафура[189], протекавшей рядом с владениями тирана. Путешественники пересели из дрянных лодчонок в большую пирогу и вскоре оказались на большой воде; вначале они приняли ее за озеро.
Это был Нил — Кафура впадает в него!
Десять дней спустя они увидели водопады Керума, расположенные между 2-м и 3° северной широты. В этом месте Нил поворачивает на запад; из-за ряда порогов и водопадов по реке дальше пройти нельзя, так что Спику пришлось высадиться на берег. Поскольку в тех местах шла война, он не мог и следовать точно вдоль реки, не теряя ее из виду, чтобы нанести на карту русло. Экспедиция вернулась к Нилу в Пайре; там он течет уже с запада на восток. После бесконечных тяжелейших переходов через страну, разоренную разбойниками с севера, именующими себя купцами, они в полном изнеможении 15 февраля 1863 года достигли Гондокоро.
Там Спик повстречал сэра Самюэла Бейкера, который шел к истокам Нила из Каира. Капитан сообщил ему о своих открытиях и посоветовал направиться к озеру Нзиге.
Вернувшись в Англию, Спик был встречен с восторгом и получил от Королевского географического общества золотую медаль. Люди толпами устремлялись на лекции путешественника; их посещал даже принц Уэльский;[190] родное графство объявило капитана одним из замечательнейших своих сынов. Признательность нации была полной, но в 1864 году, тридцати семи лет от роду, Спик случайно погиб на охоте.
Капитан Спик в наивысшей мере обладал физическими и нравственными достоинствами настоящего исследователя. Могучее здоровье, энергия, отвага и хладнокровие позволяли ему превозмогать лихорадку, преодолевать трудности и обходить ловушки, на каждом шагу ожидающие путешественника среди недоверчивых, алчных и жестоких дикарей. Опыт, полученный в этой достопамятной экспедиции, и легкость, с которой его организм приспосабливался к убийственному африканскому климату, позволяли ожидать, что Спик осуществит задуманные им грандиозные планы — но он пал жертвой нелепой горестной случайности…
ГЛАВА 12
СЭР САМЮЭЛ У. БЕЙКЕР[191]
Миссис Бейкер следует за мужем. — Бунт. — Ибрагим. — У Камреси. — Смелый ответ. — Озеро Альберта. — Возвращение спустя четыре года.
Теперь автор хотел бы без предисловий предоставить слово блестящему и скромному герою столь волнующих приключений, что читатель, без сомнения, вздрогнет, услышав о них. Нельзя написать к рассказу о путешествиях сэра Самюэла Уайта Бейкера введения лучше, чем он сам. Его лаконичные строки, исполненные мужества и простоты, дадут вам совершенное представление об образце современного путешественника.
«В марте 1861 года, — пишет сэр Самюэл Бейкер, — я отправился в экспедицию с целью найти истоки Нила. Я надеялся повстречать капитана Спика и капитана Гранта, направленных с той же целью британским правительством; они шли с Занзибара через Восточную Африку. У меня хватило благоразумия не распространяться о цели моей экспедиции: ведь до сих пор истоки Нила были окутаны завесой тайны. Но про себя я решил выполнить эту трудную задачу даже ценой жизни. С самой юности я научился переносить тяготы и лишения в тропическом климате; изучая карту Африки — исполнялся робкой, неверной надеждой, что мне удастся проникнуть в сердце этого материка. Что ж — ведь и крохотный червячок может прогрызть твердое дерево!
Я полагаю, что ничто не может противиться благонаправленной силе воли — хватило бы жизни и здоровья. Не смущала меня и неудача предшествовавших попыток отыскать истоки Нила. Дело ведь было в том, что эти экспедиции возглавляли несколько человек, поэтому при малейшей трудности разногласия заставляли их вернуться. Я решил отправиться один, положившись на Провидение и удачу, нередко сопутствующую твердому решению.
Я тщательно взвесил шансы моего предприятия. Передо мной лежала неисследованная часть Африки. Против меня было множество препятствий, от самого сотворения мира устрашавших людей; за меня — твердый характер, полная свобода, привычка к походной жизни, досуг и средства, расход которых для достижения цели я решил не ограничивать.
Экспедиция Спика и Гранта стала не единственной, которую Англия направила на поиски истоков Нила. Брюсу удалось найти начало Голубого Нила[192], так что честь этого открытия уже принадлежала Англии. Спик, отправившийся с юга, находился уже в пути — и я не сомневался, что мой отважный друг скорее пожертвует жизнью, чем согласится нести позор неудачи. Хотелось бы думать, что моя отчизна не даст опередить себя на этом пути, и мне трудно было надеяться на успех там, где достойнейшие путешественники терпели неудачу, я решился поставить на карту все ради своего успеха.
Будь я один, перспектива смерти на пути, по которому шел первым, не пугала бы меня. Но мне приходилось думать о той, кто, будучи для меня величайшим утешением, требовала вместе с тем и неусыпных забот. Я содрогался при мысли, что моя смерть оставит жену беззащитной посреди пустынь; я рад был бы оставить ее у домашнего очага, а не подвергать лишениям, ожидавшим нас в Африке. Напрасно я молил супругу остаться; напрасно я в самых мрачных красках описывал тяготы и опасности. С постоянством и преданностью, свойственными ее полу, она решилась делить со мной все беды и следовать за мной по тернистому пути.
Итак, 15 апреля 1861 года мы с женой отправились из Каира вверх по Нилу. Дул сильный северный ветер; мы шли против течения к югу и созерцали таинственные воды великой реки с твердым намерением проследить их до самого места зарождения…»
Ни убавить, ни прибавить. Всякий комментарий лишь ослабил бы впечатление от этой исповеди, от немногословного рассказа про то, как женщина без колебаний, только из преданности и чувства долга решилась на подвиг, перед которым отступали самые крепкие и выносливые мужчины.
В то время Бейкеру было сорок лет (он родился в 1821 году). Это был выдающийся инженер.
Через полтора месяца супруги прибыли в Бербер. За это время Бейкерам не раз пришлось убедиться, что незнание арабского языка ставит их в полную зависимость от переводчиков. Целый год супруги отважно учили его и наконец стали обходиться без всяких посредников. В июне 1862 года Бейкер добрался до Хартума, прожил там несколько месяцев, а 2 февраля 1863 года отплыл в Гондокоро. Там он встретил Спика и Гранта, возвращавшихся с озера Виктория.
Спик открыл, что Нил вытекает из Виктории-Ньянзы, и считал возможным утверждать, что дальше он разливается за счет большой массы воды из какого-то неизвестного озера. Капитан поделился гипотезой с Бейкером, рассказал ему о своем маршруте, о предполагаемом местонахождении этого озера, которое туземцы называют Нзиге, и всячески рекомендовал направиться туда.
В самом деле: раз большой водоем вытянут в направлении с юга на север, а Нил течет в том же направлении — значит, озеро Нзиге (если оно действительно расположено именно так) должно, без сомнения, играть в бассейне Нила очень важную роль.
Экспедиция дорого обошлась, зато подготовлена была хорошо. Собрав людей, Бейкер хотел отправиться в путь.
Тут начались проблемы. Торговцы слоновой костью и работорговцы видели (или хотели видеть) в Бейкере эмиссара, посланного наблюдать за их деятельностью. В противном случае они боялись, что, когда англичанин проникнет во внутренние области Африки, торговля по Белому Нилу перестанет быть тайной и вскоре будет уничтожена (или весьма стеснена). Поэтому были предприняты все усилия, чтобы помешать путешественнику выйти в дорогу и даже собраться. Служащие торговцев живым товаром подружились с людьми Бейкера, ловко настроили их, и, когда дали сигнал к выступлению, вспыхнул бунт.
Начальник вел себя решительно. Некоторые из бунтовщиков разбежались, некоторые сдались, были разоружены и уволены. Караванщиков у Бейкера убавилось, но об отступлении он даже не помышлял. Чтобы все-таки отправиться в дорогу и, самое главное, опередить работорговцев, путешественник простил семнадцать человек из числа бунтовщиков, щедро заплатил и убедил их пойти вместе с ним.
Вечером 26 марта 1863 года экспедиция наконец с грехом пополам вышла из Гондокоро.
Пройдя два часа ускоренным маршем, Бейкер нагнал караван купца Ибрагима, одного из главных подстрекателей к бунту. Требовалось опередить Ибрагима — иначе он повсюду посеет гнусную клевету, чем закроет английской экспедиции дорогу и поставит под угрозу жизни путешественников. Но, как ни старался отряд Бейкера, караван все время без видимых усилий шел в нескольких шагах впереди него!
Бейкер еле сдерживал гнев, наблюдая, как в хвосте каравана с высокомерным, наглым видом едет этот полудикарь Ибрагим…
Момент оказался критическим, но миссис Бейкер нашлась и спасла экспедицию. Она убедила мужа позвать Ибрагима, добиться объяснений, может быть, даже что-то подарить и заключить полюбовное соглашение.
Все странствующие торговцы продажны. Когда миссис Бейкер позвала Ибрагима в первый раз, тот прикинулся глухим — без него, дескать, все равно не обойдутся. Тогда сам Бейкер позвал его громче, и араб все-гаки остановился. Обещание подарка в виде двуствольного ружья и кругленькой суммы золотом смело надменность купца, который стал покладистее и согласился подождать.
Бейкер без труда убедил Ибрагима, что дела у них совсем разные и не помешают друг другу. Даже наоборот: англичанин откроет новые земли, где Ибрагим сможет покупать слоновую кость. Свою речь сэр Самюэл завершил неопровержимым аргументом:
— Если вы со мной все-таки поссоритесь, английское правительство вас повесит!
Ибрагим согласился, без колебаний подписал договор о дружбе, и оба каравана пошли вместе.
Бейкер с отважными спутниками без особых неприятностей, хотя и не без труда, доехали до Тарранголе. Это столица страны, называемой Латука, — скопище трех тысяч, если не более, хижин.
В примитивном городе Бейкер прожил около месяца, а затем его пожелал видеть вождь страны Оббо, находившейся к юго-востоку от Тарранголе. Маршрут Бейкера был проложен как раз в ту сторону — путешественник принял приглашение и 2 мая 1863 года отправился в путь.
Царь Оббо без промедления выехал навстречу англичанину. Добрый старый государь полуденного государства уже с трудом ходил; самые сильные и ловкие люди племени переносили правителя на плечах.
Звали этого патриарха Качиба, и было у него сто шестнадцать детей — все крепкие и здоровые. Он чудесно принял белого гостя, объявил себя его другом, устраивал в честь англичанина пиры, пляски и праздники. К своему удивлению, Бейкер увидел, что жители Оббо и Латуки совершенно непохожи и первые намного лучше. Они не просили никаких подарков, словно и не слыхали о подобном невыносимом обычае жителей Центральной Африки. Впрочем, их добрый царь не имеет даже определенного дохода и управляет подданными по-свойски. Он немножко доктор, немножко колдун, продает снадобья и амулеты — вернее, меняет их на всевозможную провизию. Такая торговля мелочами очень доходна и составляет наилучшее украшение его короны.
К несчастью, в Оббо миссис Бейкер с мужем тяжело заболели. Несколько раз они оказывались на волосок от смерти: страшная местная лихорадка сразила их, хинин весь вышел, и болезнь протекала в самой тяжелой форме. Лихорадка, которой особенно подвержены европейцы, действительно ужасна. Сначала несколько дней чувствуешь неопределенное недомогание; другие симптомы появляются только за день-два до кризиса. Тогда нападает усталость, все члены ломит, страшно хочется спать. Начинаются ревматические боли в боку, в спине и в суставах, крайняя слабость, сильный озноб, жестокая тошнота и рвота желчью, выворачивающая все внутренности, жар, страшная головная боль, конечности потеют и холодеют, пульс пропадает, человек впадает в такое забытье, что сердце словно останавливается. Озноб и рвота продолжаются часа два и сопровождаются удушьем. Затем начинается лихорадочное состояние с ужасными видениями, бредом, мучительной тоской, перерывами дыхания, обмороками, сердечными перебоями… Постепенно кризис проходит. Выступает обильный, часто зловонный пот, и начинается кошмарный сон. Приступы повторяются то ежедневно, то через день, то через два — четыре дня. Вскоре больной превращается почти в мумию, потому что желудок становится вялым и не принимает никакой пищи. Всякое сильное умственное напряжение, неприятность, возбуждение, усталость почти всегда сопровождаются приступом болезни.
Единственное спасение от этой болезни — хинин. Нельзя без содрогания представить себе муки несчастных, у которых, как у супругов Бейкер, его нет.
Несмотря на тяжелое состояние, отважные путешественники готовились идти дальше на юг: там находилось озеро Нзиге, которое хотел открыть Бейкер. Он снова сторговался с Ибрагимом, и за изрядное количество медных браслетов тот дал носильщиков. Кроме того, Ибрагим — при условии, что его люди не будут бесчинствовать, — подрядился сопровождать путешественника в Униоро, к царю Камреси.
Экспедиция вышла в путь в первых числах января 1864 года. 22 числа она подошла к открытым Спиком водопадам Карума на границе Униоро. Бейкеру пришлось вести долгие переговоры о разрешении переправиться через реку, но и на другом берегу все время чинили препоны. Кровожадный и недоверчивый Камреси, у которого, если вы помните, уже побывали Спик и Грант, не хотел впускать Бейкера в свое государство, не убедившись, что он действительно белый и англичанин.
После бесконечных утомительных переговоров отряд, встречавший Бейкера, пропустил его. Он направился в Мрули, столицу Униоро, расположенную у слияния Нила (части его, открытой Спиком и Грантом) с рекой Кафурой.
Хотя Бейкер жестоко страдал от лихорадки, он хотел немедленно по прибытии встретиться с царем, так как требовалось как можно скорее добиться от монарха проводников и носильщиков. Камреси пропустил просьбы путешественника мимо ушей и предложил ему вместе идти войной на соседнего князька. Бейкер, разумеется, решительно отказался, ответив, что единственная его цель — озеро. Тогда Камреси усомнился в добрых намерениях путешественника и предложил обменяться кровью в знак дружбы и доверия. Бейкер, не раздумывая, отвечал, что сам не может этого сделать, потому что в Англии смешение крови считается знаком вражды, но его может заменить кто-нибудь из спутников. Монарх и слуга Бейкера обнажили руки, укололи себя, и каждый слизал у другого капельку крови — так был заключен договор.
Бейкеру не терпелось наверстать упущенное время. Заключив соглашение с Камреси, он просил отвести его к озеру кратчайшим путем.
«Тогда, — рассказывает Бейкер, — дикарь с невероятным спокойствием ответил мне:
— Я проведу тебя к озеру, как обещал, только оставь мне жену.
И мы увидели, что нас окружило множество негров. Это наглое требование подтвердило подозрения, что Камреси замыслил предательство. Моя экспедиция могла здесь и закончиться, но это был бы одновременно и последний час жизни вождя. Я спокойно вынул револьвер, навел в грудь Камреси и, глядя на него с величайшим презрением, объяснил: если я сейчас нажму курок, он будет убит наповал и никто ему не поможет. Еще я сказал, что в моей стране такое оскорбление смывается только кровью, но его я почитаю за тупого быка, и невежество спасает его от смерти. Жена в порыве негодования вскочила с места и обратила к Камреси небольшую речь по-арабски; он не понимал на этом языке ни слова, но ее лицо и тон все говорили ясно — царь застыл, словно увидел голову Медузы[193]. Наша негритянка Бачита, хотя и была дикаркой, приняла нанесенное хозяйке оскорбление и на свой счет. Она обрушила на Камреси поток ругательств, стараясь сколь можно вернее передать душераздирающую речь юной Горгоны.
Не знаю, может быть, после этой театральной сцены Камреси понял, что английские женщины слишком своевольны для подобных сделок, только он сказал с видом величайшего изумления:
— Что ты сердишься? Я не хотел тебя обидеть. Я дал бы тебе другую женщину, думал — почему бы тебе не уступить мне взамен свою. Я всегда даю гостям красивых женщин, мы могли бы и поменяться. Что сердиться из пустяков? Не хочешь — как хочешь.
Я ничего не отвечал на такую деловую речь, сказал только, что мы немедленно уходим. Сконфуженный собственной глупостью, он позвал слуг и велел им грузить мои вещи. Я усадил жену на верхового вола, сам сел на другого и с величайшим удовольствием покинул Мрули…
Уже несколько дней проводники говорили, что мы вот-вот подойдем к Нзиге. 14 марта 1864 года они объявили: мы выйдем к нему на следующий день. Еще затемно я пришпорил вола. День начинался великолепно. Мы спустились с холма, миновали глубокую долину и поднялись на другой склон. Я самым скорым шагом поднялся на вершину — и увидел то, к чему стремился. Далеко внизу, к югу и к юго-западу, подо мной до самого горизонта расстилалось озеро, подобное серебристому морю, блестевшее под экваториальным солнцем. На западе милях в пятидесяти — шестидесяти голубые горы вздымались до небес, как будто выступая из самого озера…»
Счастливый путешественник долго в восторге смотрел на озеро, потом спустился к нему и стал на плоский песчаный пляж, у края которого волны разбивались о полосу гальки. Утомленный дорогой и зноем, Бейкер с бесконечно радостным чувством припал к истоку Нила — и все не мог напиться…
Супругов Бейкер давно мучила лихорадка. Теперь, достигнув цели экспедиции, они хотели вернуться в Англию. Для этого надо было успеть в Гондокоро к отправлению судна до Хартума. Бейкер нашел большую лодку, отправился в плавание по озеру и за две недели обошел круго́м. Там, где он находился, ширина озера была всего несколько километров, северней, словно в дельте большой реки, озеро у обоих берегов было покрыто огромными зарослями тростника. Бейкер долго искал место для высадки и нашел наконец узкий проход; по нему лодки подошли к голому скалистому берегу близ деревни Магунго.
Бейкер решился спуститься со спутниками по Нилу от места его выхода из озера (Бейкер назвал водоем именем принца Альберта) до водопадов в стране Мади близ деревни Мьяни. Но он обещал Спику точно нанести на карту часть реки от озера до водопадов Курума, которую капитан был вынужден оставить в стороне. Сэр Самюэл вновь сел в лодку и поплыл к востоку. Вода была так тиха, что казалась просто заливом озера. Но скоро водное пространство сильно сузилось; по обоим берегам поднялись остроконечные скалы стометровой высоты, заросшие дивными лесами. Из-за ослепительной зелени выглядывали чудовищные каменные глыбы — река устремлялась всей своей массой через разрыв в этой стене и единым потоком с сорокаметровой высоты падала в мрачную бездну. В честь президента Лондонского географического общества Бейкер назвал этот водопад водопадом Мёрчисона.
Туземцы ему сказали, что из-за войны не найти носильщиков и дальше до водопадов Курума никак не дойти. Путешественник хотел берегом пройти обратно, но африканцы — несомненно, по наущенью Камреси — бросили его в полуразрушенной хибарке.
«Страшный голод, — пишет он, — и истощение от лихорадки так обессилили нас с женой, что целых два месяца мы пролежали на топчане, не в силах ступить ни шагу. Полумертвые, мы развлекались бредовой болтовней о том, как хорошо в Англии. Я испытывал такой голод, что за бифштекс и бутылку светлого пива продал бы свое дворянство.
Мы уже отчаялись вернуться в Гондокоро и смирились с участью: я не сомневался, что нас зароют в земле Чопи… Предвидя гибель, я записал в дневник последние заметки и велел верному слуге любой ценой передать мои карты, записи и все бумаги английскому консулу в Хартуме. Это была моя единственная забота на свете: иначе смерть сделала бы напрасными все труды. О жене я уже и не думал: если умрет один из нас, второй все равно очень скоро разделит участь другого. Да мы и сами решили, что так оно и будет — не попадать же ей на обратном пути в лапы Камреси…»
Получилось бы несправедливо, если такое мужество оказалось вознаграждено лишь ужасной смертью среди гнилостных малярийных миазмов[194]. Бейкеры немного поправились и 14 ноября 1864 года смогли покинуть зловещую страну.
Они отправились на север, через несколько месяцев пришли в Гондокоро и сели на судно, идущее вниз по Нилу. Бейкеры приплыли в Бербер, где жили четыре года тому назад. По дороге в Египет они решили побывать на Красном море. Итак, они поехали в Суакин, сели там на пароход, перевозивший египетские войска, а через пять дней сошли на берег в Суэце.
«В Каире, в консульстве, — вспоминает Бейкер, — меня ожидали письма из Англии. В первом же распечатанном мною письме утверждалось, что Королевское географическое общество присудило мне золотую медаль королевы Виктории. В то время никто еще не знал, жив ли я и благополучно ли завершилась экспедиция. Мог ли цивилизованный мир встретить меня после стольких лет жизни в варварских странах лучшей оценкой моих трудов! Вознаграждение сделало для меня открытие истоков Нила вдвойне драгоценным: ведь я оправдал доверие Общества, столь благородно присудившего мне награду прежде, чем я достиг своей цели»[195].
ГЛАВА 13
БЕЙКЕР И ПОКОРЕНИЕ СУДАНА. ГОРДОН. МАХДИ
Походы Бейкера и Гордона в район Великих озер. — Английская интервенция. — Падение Хартума. — Поражение англичан.
Прошло несколько лет. Бейкер, осыпанный почестями и наградами, отнюдь не собирался почивать на лаврах и мечтал о новых победах.
Во время первого путешествия он с великой скорбью наблюдал, как процветает на Верхнем Ниле гнусная торговля людьми (ее главным центром был Хартум). Вид человеческих страданий внушил благороднейшей душе естественное желание положить конец подобному явлению. С этой целью Бейкер предпринял мощную кампанию, прочел множество лекций, писал в газеты и журналы, заинтересовал правительство — короче говоря, создал в Англии общественное мнение, против которого хедив ничего не мог сделать.
Не будем здесь рассуждать, в действительности ли упразднение рабства на Верхнем Ниле являлось настоящей целью Англии. Очень возможно, что в головах английских государственных мужей завоевание Судана стало всего лишь прелюдией к покорению всей Африки от Александрии до Кейптауна, а уничтожение рабства — предлогом к аннексии земель хедива. В любом случае позволительно думать, что сам Бейкер искренне стремился к этой гуманной цивилизаторской цели.
Впрочем, исследователь озера Альберта (получивший в награду лордство), конечно, думал, что английская Африка будет лучше варварской. В этом он не ошибался.
Как бы то ни было, считалось, что Бейкер служит хедиву, а тот волей или неволей потворствовал английским интересам. Прежде всего сэр Самюэл посчитал необходимым установить непрерывную линию торговых факторий от Гондокоро до озера Альберта. Там стояли бы гарнизоны, способные защищать отдаленные племена, препятствовать похищению людей, досматривать торговые караваны и покровительствовать всем видам коммерции, кроме торговли рабами.
Хедив Исмаил-паша назначил сэра Самюэла начальником огромной экспедиции — как научной, так и военной, — предоставив действовать в интересах цивилизации целиком по своему усмотрению. Бейкер принял это назначение; в мае 1869 года он выехал из Лондона вместе с женой, племянником Джоном и инженером Хиггинботэмом. В Египте, чтобы возвести Бейкера и его экспедиционный корпус на надлежащий уровень, хедив дал ему титул паши и чин генерала с правом отдавать распоряжения всем гражданским и военным властям в Судане.
Тогда Бейкер занялся снаряжением экспедиции: требовалось набрать тысячи две африканских или арабских солдат, запасти множество провизии и снарядить пароходную флотилию. Благодаря его активной деятельности скоро все было готово — впрочем, ничто и не препятствовало сборам здесь, в цивилизованных краях, на глазах у хедива и министров, благоволивших к предприятию.
Однако Бейкер-паша ясно представлял себе, что все может измениться к лучшему. Вице-король был за него, но подавляющая часть мусульман — большинство населения — выступала против. Более того, все чиновники и купцы на юге, на доход которых он покусится, окажут противодействие.
Итак, с самого начала все предрассудки и корыстные интересы соединились против Бейкер-паши. Вскоре экспедиция столкнулась еще и с естественными преградами. Сразу же за Короско пришлось обходить пороги — сойти на берег и идти сухим путем по пустыне, пока река не станет вновь судоходной. Под поклажу потребовалось тысяча восемьсот верблюдов; тем временем суда без груза и людей кое-как пробирались через пороги.
В феврале 1870 года миновали Хартум, но выше Белый Нил превратился в некое болото; после разлива остались огромные сгустки плавающих растений, цепляющихся за всевозможные предметы. Несколько ниже 10-й параллели река стала абсолютно непроходимой.
Но Бейкер все шел и шел вперед. Он перебрался с Нила в параллельное русло Бахр-эз-Зераф, которое, как утверждали, было рукавом Нила. Вскоре флотилия вновь остановилась — на сей раз перед настоящей безграничной чащобой гигантских трав. Но проводники уверяли, что в ней можно сделать проход и попасть в Белый Нил. Засучив рукава, все принялись за работу. Кирками, лопатами, топорами, саблями люди рубили, рыли, ломали стебли. По узкой протоке тысяча человек, утопая по шею, волочила через зловонное месиво суда на веревке — и так тридцать два дня без отдыха, без передышки!
И вот впереди вновь чистая вода, по обоим берегам — твердая земля, рядом — роскошные леса, где ходят огромные стада буйволов и антилоп, которых можно было стрелять и доставлять экспедиции столь необходимую сытную пищу.
Бейкер покинул Бахр-эз-Зераф и пошел опять по Нилу. Там он встретил два судна с шиллукскими[196] рабами, захваченными с ведома и даже под прикрытием египетского губернатора города Факоба на Ниле. Бейкер освободил несчастных пленников и отослал в Каир рапорт на подлого чиновника.
Он исполнил долг, но понял, как трудно будет ему выполнить человеколюбивую миссию. Затем опять выяснилось, что река почти непроходима, и пришлось остановиться до весны. Из Хартума Бейкер вышел 8 февраля 1870 года, а в Гондокоро после зимовки добрался лишь 15 апреля 1871 года — более четырнадцати месяцев понадобилось экспедиции, чтобы дойти до главной базы.
В Гондокоро Бейкер и остановился; в честь хедива он дал этому городку имя Исмаилия, но оно не привилось. Он объявил именем Исмаила-паши, что берет власть в свои руки, незамедлительно потребовал от местных вождей подчиниться хедиву и весьма решительно объявил, что не намерен далее терпеть торговлю рабами.
Все местные князьки сделали вид, будто подчинились, кроме племени бери. Бейкер напал на них, без труда победил и отобрал годовой запас пшеницы. Казалось, успех должен был ободрить и сплотить войско Бейкера. Но оно, тайно взбудораженное агентами работорговцев и уставшее от чрезмерных тягот, взбунтовалось. Бейкер отослал шестьсот человек обратно в Хартум, половину людей, верных долгу, оставил в Гондокоро, а сам с другой половиной отправился дальше к экватору.
Он пришел в Фаттико — центр плодородной местности, где устроили себе штаб-квартиру работорговцы во главе с неким Абусаудом; у них оказалось войско числом полторы тысячи человек. Бейкер тотчас договорился с окрестными вождями и отправил работорговцам указ хедива немедленно покинуть страну. В Фаттико он оставил своего заместителя Абдаллу, сотню человек и большую часть поклажи, а сам отправился в Униоро, где работорговцы, пользуясь войной с соседним племенем, похитили всех женщин и детей. В Масинди, столице князька Каба-Реги, державшего сторону работорговцев, сэр Самюэл еле избежал страшной опасности. Каба-Реги вероломно послал воинам Бейкера отравленного пива, перебил отставших от отряда, а на главные силы напал из хорошо подготовленной засады. От отравления удалось уберечься, а засаду египетские солдаты беспощадно истребили. В отместку за гибель своих людей Бейкер сжег Масинди, но самого Каба-Реги не удалось взять в плен.
Англичанин не стал зря преследовать противника, пришел в Рионгу, заключил союз с местным вождем и хотел идти дальше. В этот момент гонец из Фаттико привез донесение, что работорговцы напали на отряд Абдаллы.
Бейкер, недолго думая, взял сорок самых храбрых людей и 1 августа 1871 года подошел к Фаттико. Маленькая армия работорговцев яростно напала на него. Раз Бейкер-паша привел с собой так мало людей, решили они, значит, на юге англичанина жестоко побили. Семь египетских солдат сразу были выведены из строя. Но Бейкер соединился с людьми Абдаллы, воодушевил их горячей краткой речью, сам стал впереди и повел в штыковую атаку на разбойничий сброд. Натиск египтян, возглавляемых отважным вождем, оказался неотразимым. В мгновение ока злодеев опрокинули, смяли, а половину отряда перекололи штыками!
Это была великолепная, полная победа — особенно с моральной точки зрения. Негритянские вожди повиновались работорговцам только из страха. Увидев, что их угнетатели разбиты, они приветствовали Бейкер-пашу, подчинились и с радостью согласились платить оброк — весьма легкий по сравнению с прежней страшной данью людьми!
Больше у Бейкера здесь врагов не было. Он основательно укрепил Фаттико, который сделал губернаторской резиденцией. Посчитав свою миссию выполненной, он 29 июня 1873 года вернулся в Хартум, откуда написал в Англию: «Я все оставил в добром порядке. Установлен контроль над территорией, туземцы платят налог зерном, охотники за рабами изгнаны. По Белому Нилу крейсирует одиннадцать пароходов; они в состоянии задержать любое судно с рабами».
23 августа 1873 года после четырехлетнего отсутствия сэр Самюэл Бейкер вернулся в Каир.
С отъездом Бейкера порядок нарушился. Гибель экваториальной империи, которую отважный путешественник сшил из всех мыслимых лоскутов, произошла так стремительно, что уже через два года один писатель рисовал ужасную картину: «Семь восьмых местного населения — в оковах. Здесь полновластно царят охотники за людьми и торговцы рабами, алчные губернаторы — их покровители и соучастники. Вольные туземцы до того запуганы, что в каждом чужеземце видят врага. Они до того пали и обнищали, что собственных детей меняют на зерно и скот. В этой стране, опустошенной охотниками за неграми, повсюду царит отчаяние. Кругом воистину пустыня: ни одна живая душа не выглянет из-за травы, из-за чахлых деревьев… Вожди племен, обитающих по берегам Великих озер, также постоянно нападают на окраины здешних земель и уводят людей в плен».
Тогда Англия, чтобы покончить с ужасной торговлей живыми людьми, побудила хедива поручить тяжкое наследие сэра Самюэла Бейкера полковнику Гордону. Действительно, этот неустрашимый, деятельный, прямодушный, набожный и добрый солдат был там совершенно на своем месте!
Его ранние годы хорошо известны. Гордон родился в 1833 году в Вулидже[197], в 1854-м закончил ученье, в 1855-м участвовал в Крымской войне и был ранен под Севастополем. Несколько лет выполнял разные поручения в Малой Азии, в 1860-м командовал отрядом, воевавшим в Китае. Противники оценили его: через три года Гордона вызвали в Пекин, поручили командование китайской армией против повстанцев[198] и дали ранг мандарина[199], откуда его прозвище «Гордон-Китаец». Он набрал элитный корпус, от которого добился железной дисциплины и такой подвижности, что банды бунтовщиков очень скоро были разбиты. Английский офицер выиграл все сражения, уничтожил в провинциях, где действовала его армия, анархию, навел порядок и установил мир.
Гордон был суров в бою, но милостив после победы; он подал в отставку из-за того, что подчиненные ему китайские офицеры беспощадно расправлялись с пленными, и вернулся в Англию.
Еще во многих беспокойных странах, во многих походах находил удовлетворение дух непоседливого англичанина — любителя опасностей и приключений. Наконец в 1873 году Гордон поступил на службу к хедиву Исмаилу, год спустя стал губернатором Экваториальной провинции, основанной Бейкером. Как и сэр Самюэл, Гордон получил генеральский чин, титул паши и неограниченные полномочия.
Вступив в должность, Гордон всеми средствами старался снискать доверие и привязанность туземцев, попавших в такую беду после отъезда Бейкера. Новый губернатор оказался беспристрастным, всегда готовым прийти на помощь, милостивым к угнетенному народу. Он перехватывал караваны, увозившие рабов, охотников за рабами вешал либо сдавал в солдаты, недобросовестных чиновников отправлял в Каир, а освобожденных невольников распускал по домам.
К 1875 году построили линию укрепленных постов между Гондокоро и озерами. (Позже Гондокоро стало нездоровым местом, и из него перебрались на пост Ладо.) Гордон отправил нашего отважного соотечественника, несчастного Линана де Бельфона, послом к царю Мтесе на берег озера Виктория, а сам продолжил дело освобождения рабов, укрепляя важные позиции на Верхнем Ниле — Наср-Рабачамбе и Латуку.
В то время у него уже сложились серьезные разногласия с египетским правительством. В 1876 году Гордон прибыл в Каир и подал в отставку. Однако хедив не принял ее — напротив, невзирая на разницу мнений, подтвердил и подкрепил полномочия генерала: подчинил англичанину всех губернаторов в Судане, Дарфуре и провинциях, прилегающих к Красному морю.
В предшественнике Гордона Якубе, как говорили, «соединились обе причины разорения страны: алчность турецкая и алчность египетская». Вследствие этого вся страна подчинялась Зубейру-паше, богатейшему работорговцу. Зубейра в Каире посадили в тюрьму, но его гнусное дело продолжил достойный преемник — сын Сулейман. Сначала Гордон думал привлечь Сулеймана на свою сторону кротостью, но слабость на Востоке презирают — у губернатора ничего не вышло.
Церемониться больше не было смысла. В июне 1877 года Гордон набрал трехтысячное войско, вторгся в Дарфур, где Сулейман поднял мятеж, разбил бунтовщиков и принудил к сдаче. В стране наступил мир. Тем временем Англия заключила с Египтом соглашение, по которому работорговля в Нильской долине уничтожалась к 1884, а во всем Судане — к 1889 году. Торговцы, предвидев скорое разорение, вновь взялись за оружие. Гордон немедленно вмешался, покорил Дарфур, стал перехватывать караваны, послал итальянца Джесси усмирить Бахр-эль-Газаль[200], а вновь поднявшего бунт Сулеймана взял в плен и расстрелял.
Через некоторое время хедив Исмаил был низложен. При новом хедиве Тауфике в Каире всем стали заправлять паши, заинтересованные в работорговле и открыто враждебные Гордону. В 1879 году генерал приехал в Каир и вышел в отставку. К тому времени Судан вновь был полностью умиротворен и подчинен Египту; цивилизация распространялась до самих Великих озер.
После отъезда Гордона все развалилось так же быстро, как после отъезда Бейкера.
Благодаря всесильным каирским пашам, на место Гордона был назначен какой-то местный уроженец, который, разумеется, был большим приятелем работорговцев и в неладах с законами чести. С новой силой возобновились набеги, похищения рабов и чудовищные поборы. Любители ловить рыбку в мутной воде водворились в Судане как в завоеванной стране и всячески угнетали туземцев, привыкших к справедливому, отеческому управлению Гордона. Недолго терпели несчастные гнет чиновников и рабовладельцев — вскоре они возненавидели египетскую власть. Восстание в возмущенном Судане стало неизбежно. Тут и явился Махди, которого приняли как избавителя.
Махди для мусульман — последний в чреде великих пророков, включающей Адама, Ноя, Авраама, Моисея, Иисуса и Мохаммеда. Звали этого человека Мохаммед Ахмед. Он родился в Донголе в 1843 году, в семье плотника. Уже в детстве раскрылось призвание Мохаммеда Ахмеда; к двенадцати годам он знал наизусть Коран, и братья, работавшие на Белом Ниле корабельными плотниками, послали его в Хартум продолжать учение. Затем Мохаммед Ахмед поселился на острове Абба, где прослыл великим святым. Вокруг пришельца собралось множество дервишей, а верховные вожди племени баггара выдали за него своих дочерей. В мае 1881 года он объявил себя Мессией, предсказанным пророком Мохаммедом; ученики назвали его Эль Махди[201] и признали за потомка Пророка, пришедшего покарать нечестивых и установить царство правды. Баггара признали его верховенство, а сторонники отправились по египетскому Судану проповедовать пришествие Махди, который истребит злочестивых турок и их союзников — неверных англичан.
Это была подлинно священная война — можно полагать (ничто не говорит об обратном), что Махди был совершенно искренним и бескорыстным фанатиком. Все несчастные и недовольные восстали по слову пророка, соединились вокруг него и составили внушительную армию.
Суданским губернатором являлся тогда Реуф-паша. Он отправил в Махараби комиссию для расследования подстрекательных речей и действий Махди, а затем велел ему явиться в Хартум. Махди не обратил на этот указ никакого внимания. Тогда Реуф-паша (он думал, что имеет дело с обычным безобидным проповедником) отправил батальон шиллуков привести дервиша силой. Баггара, бонго[202] и динка, первыми присоединившиеся к пророку, в яростном бою уничтожили всех солдат. Реуф-паша понял, с кем имеет дело, сильно пал духом и выставил новых шестьсот воинов под командой мудира[203] Решид-бея.
Люди Махди перебили и эту колонну до последнего человека. После двух последовательных побед имя вождя прославилось повсюду.
В середине января 1882 года Махди захватил врасплох новый карательный отряд и, по своему обычаю, беспощадно истребил всех, кто не согласился идти за ним. В апреле взял и сжег Сеннар[204]. Вслед за этим Сеннарский округ, Шиллук и Кордофан присоединились к нему. Вскоре он уже властвовал на всем Верхнем Ниле — сопротивлялся лишь главный город Кордофана Эль-Обейд.
Этот варварский город состоит из трех отделенных друг от друга частей: Орта, Вади-Сафи и Вард-Н’арле. В Орте есть цитадель, прекрасно защищенная тремя фортами. Гарнизоном командовали австрийские офицеры, нанятые хедивом. Население города достигало тридцати тысяч жителей, среди которых жило много купцов. Махди взял город в плотную осаду, перекрыл все пути для подвоза продовольствия, овладел колодцами и отразил все попытки оказания помощи осажденным. Лишенный еды и воды, город был вынужден сдаться на милость победителя — и с тех пор никто не слышал о гарнизоне Эль-Обейда.
После этого Хартуму, последнему оплоту египетской власти на Верхнем Ниле, стала угрожать непосредственная опасность. Надо было действовать очень быстро и решительно, чтобы махдистские войска не спустились вниз по реке и не вторглись в Нижний Египет.
По соглашению с британским правительством хедив отобрал десять тысяч наилучших солдат, поставил командовать ими сорок два европейских офицера и снарядил шесть артиллерийских батарей. Во главе внушительной армии был поставлен энергичнейший генерал Хикс, ранее отличившийся в Индии и Абиссинии.
В декабре 1882 года англо-египетская армия отправилась на пароходе из Суэца в Суакин, перешла через Нубийскую пустыню в Бербер и поднялась по Нилу до Хартума. Там она запаслась провиантом, переправилась через Нил и пошла в Кордофан, чтобы отбить Эль-Обейд.
Это одно из самых унылых мест на земле — упоминание о Кордофане вызывает мысли о величайшей суши и бесплодии. Обжигающая почва, раскаленные скалы цвета железной руды… Высохшие травинки угрюмо торчат в песках… Свинцовое небо над головами, воды мало, а то и вовсе нет: лишь чудом она сохранилась в грязных вонючих источниках, из которых животные и те пьют с неохотой… В этой-то местности Махди ожидал англо-египетскую армию.
Первый бой состоялся при Токаре и закончился разгромом войск генерала Хикса. В руки Осман-Дигмы, шурина Махди, попало пятьсот человек, пушки и восемьдесят верблюдов; всех людей перебили.
За гибелью передового отряда последовала катастрофа, потрясшая весь культурный мир и поднявшая репутацию Махди.
Отдаляясь от Бербера, генерал Хикс, по своей ли вине или нет, не смог обеспечить себе пути отхода. Он шел вперед с дерзостью, соединявшейся, надо сказать, с некоторым пренебрежением к противнику: махдистское войско казалось генералу недисциплинированной, нестройной, неумелой бандой. Итак, он шел вперед и искал противника, не подозревая, что враг следует за ним по пятам и становится на ночлег в тех местах, где накануне был сам Хикс.
Через несколько дней этого странного марша, где преследуемый преследовал преследователя, кончились припасы, прежде всего вода. Люди и животные во множестве умирали от страшной жажды — адского бича выжженных беспощадным солнцем мест.
Настало время действовать решительно и для Махди. Получив донесение разведки, что египетские солдаты, страдая от жажды, идут Кашгильской тесниной, он велел напасть на них. Тут же во всех ущельях, на гребнях хребта, на высотках и вершинах скал появились полчища оглушительно ревущих, отменно храбрых фанатиков, которые ринулись на англо-египетские войска.
Завязалась страшная, беспощадная битва, продолжавшаяся три дня — 3, 4 и 5 ноября 1883 года, закончившаяся полным уничтожением англо-египетского войска. В конце третьего дня генерал Хикс, увидев, что все пропало, попытался, собрав последние силы, пробиться сквозь плотные ряды врагов. Укрывшись за трупами лошадей и верблюдов, солдаты выстроились в каре. Но усилия их оказались напрасными! Каре было прорвано. Генерала Хикса нашли мертвым на горе мертвых тел, в каждой руке он сжимал по револьверу…
Всем пленникам, раненым или умирающим, жестокие телохранители Махди из племени баггара, которых он привык высылать на завершение операции, перерезали горло. Как говорили, от всей блестящей армии, возглавляемой английским генералом и европейским штабом, спастись удалось только какому-то дезертиру-пруссаку.
В то же самое время, 6 ноября, зять Махди под Токаром, в ста километрах от Суакина, где уже однажды разбил отряд самого Хикса, напал на другой отряд из пятисот человек, также под командованием европейца, и уничтожил его. 2 декабря пять рот под командой вновь поступившего на службу Бейкер-паши потерпели полное поражение у самых ворот Суакина, потеряв две трети личного состава. Наконец, сам Тауфик был осажден в Синкате, держал безнадежную оборону и чуял скорый конец — гарнизону приходилось питаться кошками, собаками, древесной листвой… Страшный голод выгнал хедива из города. Он утопил порох, заклепал пушки и вступил в бой в открытом поле. Там его войска, как и войска генерала Хикса, были задавлены превосходящими силами врагов и перебиты до последнего человека.
Хартум держался, но всем было ясно, что Махди скоро придет сюда и сокрушит последний оплот египетской власти на Верхнем Ниле. Требовалось держаться любой ценой.
Общественное мнение в Англии по поводу этой войны во внутренних районах Черного континента разделилось, так что правительство не сочло себя вправе отвоевывать Судан для хедива. Либо британский кабинет счел Махди слишком грозным противником, либо, следуя справедливой (хотя и пошловатой) пословице, решил, что игра не стоит свеч, — только войск в Судан Лондон не отправил. Это было серьезной ошибкой и с точки зрения британских интересов в Нильской долине, и с точки зрения всего цивилизованного мира: потом стало уже поздно…
Кабинет предпочел компромиссный вариант, часто удававшийся английской дипломатии и обходившийся казначейству дешевле, чем прямое военное вмешательство. В Судан решили послать миротворца — энергичного, честного, убежденного человека, хорошо знающего страну и с крупной суммой денег. Он должен был купить все, что можно купить (в особенности совесть местного начальства), заплатить союзникам, навербовать войска, запасти средства, выиграть время и дождаться, пока военные действия сами собой утихнут.
Все сразу поняли: только один человек отвечает всем требованиям и способен сыграть роль воина и миротворца одновременно. Имя Гордон-паши явилось само собой. В то время, когда министерство Гладстона предложило генералу отправиться на выручку в Судан, генерал вел переговоры с бельгийским королем, желавшим поручить ему организацию колонии в Конго. Гордон не колебался ни секунды и уехал в Африку. Правительство, не скупясь, выделило ему средства, чтобы вернуть заблудших овец и водворить порядок всеми способами, доступными человеку его закалки.
Гордона снова назначили генерал-губернатором экваториальных провинций. Этот указ был подписан 18 января 1884 года, а 18 февраля генерал прибыл в Хартум.
Пожалуй, давно уже не случалось такого: английские фунты стерлингов не произвели должного впечатления и не смогли заменить войска. Гордону пришлось сразу же взяться за оружие. 19 февраля он дал небезуспешный бой при Эль-Тебе: разбил махдистов и взял Токар, а 13 марта отбил у Осмад-Дигмы лагерь Тамманех, не заметив, что махдистский полководец слишком легко позволил победить.
Воины пророка часто применяли этот маневр: при случае скрываться, завлекая англо-египетские войска на неблагоприятную позицию или убаюкивая мнимой безопасностью. Несколько дней спустя, 16 марта, Гордон снова вступил в бой с махдистами под Хартумом и потерпел полное поражение. В этом несчастном бою он потерял триста пятьдесят лучших солдат.
С этого дня началась серьезная осада Хартума; 28 апреля город был полностью обложен.
Гордон увидел, что попал в капкан, и понял, что собственными силами не продержится, невзирая на английское золото. Он пытался уцепиться за что угодно: завязал переговоры с работорговцами (обещая, вопреки своим убеждениям, что их промысел будет дозволен), с Осман-Дигмой, с самим Махди (тот и говорить ни о чем не хотел, если Гордон, по меньшей мере, не примет мусульманство)… Притом генерал использовал каждый удобный случай для отчаянных схваток, совершил несколько удачных вылазок, одержал несколько побед, но совершенно бесплодных, которые лишь ослабили его войско, и без того день ото дня таявшее из-за дезертирства.
Нерешительному британскому кабинету Гордон между тем отправлял телеграммы, в отчаянии взывая о помощи.
Действительно, подходило самое тяжелое время. Осман-Дигма осадил Суакин, Донгола была взята, в самом Хартуме процветала открытая измена. Гордону пришлось превратить губернаторскую резиденцию в форменную крепость, чтобы там в последний момент могли укрыться все, кто верен египетскому флагу.
Англия, медленно и нехотя пробуждаясь от апатии, сделала вид, что посылает помощь отважному Гордону, который не бежал, не сдавался и продолжал неравную борьбу.
Восемнадцатого сентября господин Гладстон на заседании парламента объявил об отправке армии в Судан. Она насчитывала десять тысяч человек, в том числе пять тысяч кавалеристов, под командованием генерала Вулсли. Ее задачами определили снятие осады Хартума, спасение Гордона и вытеснение Махди в Дарфур и Кордофан. В конце сентября армия вышла из Каира; 3 октября штаб расположился в Донголе. Затем Вулсли стал действовать, но ужасающе медленно. Целые месяцы проходили даром, а Хартум между тем агонизировал.
Экспедиционный корпус разделился на две колонны. Одна, под командой генерала Герберта Стюарта[205], выступила в поход 4 декабря и двинулась на Метеммех. И Стюарт и солдаты сражались храбро, но 10 января были отбиты. Сам генерал в сражении был тяжело ранен и на обратном пути, 16 февраля, скончался. Другая колонна, под командой полковника Уилсона, 24 декабря погрузилась на пароходы и 25 января подошла к шестому порогу Нила, где попала под жестокий обстрел. Тем не менее 28 числа она оказалась в виду Хартума; ее и там встретил орудийный огонь. Уилсон был вынужден отступить, причем потерял один пароход.
При отступлении он узнал: третьего дня Хартум пал, победоносный Махди занял город и все укрепления. Один египетский сержант, которому удалось спастись, вкратце пересказал плачевный итог отчаянной борьбы. Ночью предатели засыпали рвы вокруг крепости, и махдисты без единого выстрела вошли в спящий город. Всех, кто в темноте пытался хоть как-то изобразить сопротивление, они перебили и устремились к укрепленному губернаторскому дворцу. Гордон при первых же выстрелах вышел им навстречу с несколькими офицерами и горсткой египетских солдат. На маленький отряд обрушился страшный ружейный огонь. Гордон одним из первых был сражен насмерть. Ему отрезали голову и доставили Махди, а всех, кто не сдался бунтовщикам, уничтожили без пощады.
Всего было убито двадцать тысяч человек; страшный пророк велел не хоронить их, а оставить гнить в городе.
Тем временем английская армия, по частям разбитая войсками Махди, изнуренная тяготами пути и болезнями, отступала, оставив Хартум победителю. Это было окончательное отступление: Англия и Египет очистили Судан, весь Верхний Нил был полностью потерян для Египта, труды Бейкера и Гордона пропали даром, а прежний государственный порядок восстановился полностью.
Только одному из офицеров Гордона, Эмин-паше, удалось еще какое-то время продержаться в Экваториальной провинции у озера Альберта. Но, как известно, его люди взбунтовались, и Эмину пришлось вместе со Стенли, пришедшим по Конго на помощь, отправиться восвояси.
ГЛАВА 14
ФРАНСУА ЛЕВАЙАН[206]
Голландская Капская колония. — Путешествие натуралиста.
Хотя Африка была известна уже древним, мыс Доброй Надежды открыт не так давно — одновременно с Америкой. В 1486 году, за шесть лет до того, как Колумб отправился в обессмертившее его путешествие, Бартоломеу Диаш, посланный в плавание знаменитым государем Жуаном II Португальским, достиг высокой скалы, которой отмечена крайняя южная точка Африканского континента[207].
Терпевший страшные штормы мореплаватель назвал эту скалу выразительным именем: мыс Бурь. Но король Жуан, усмотрев в открытии предзнаменованье блестящего будущего для торговли и могущества своего народа, изменил мрачное название на мыс Доброй Надежды.
Одиннадцать лет спустя, в 1497 году, Васко да Гама, вцепившись в штурвал корабля, заливаемого страшными волнами, первым обогнул со своими храбрыми спутниками столь опасный в то время мыс и открыл морской путь в Индию.
Много лет португальцам и другим европейским морякам мыс Доброй Надежды служил лишь стоянкой — никто и не помышлял основать там колонию. Лишь полтора века спустя, и то случайно, цивилизация обосновалась здесь — до открытия Суэцкого канала. В 1648 году корабль нидерландской Ост-Индской компании потерпел у мыса крушение, и несколько моряков обосновались там, пока другое судно не доставило их на родину. Они предоставили очень подробный и полный отчет. Компания убедилась, что имеет смысл обосноваться в великолепной бухте, защищенной с запада полуостровом, южной оконечностью которого является мыс Доброй Надежды. В 1651 году туда отправились восемнадцать поселенцев от компании. Они и заложили у подножия Столовой горы поселок, на месте которого ныне находится город Кейптаун.
Так было положено начало замечательной колонии. В 1793 году англичане овладели ею, в 1802-м потеряли, в 1806-м снова заняли, а в 1815-м окончательно закрепили за собой.
Ныне наш век только и занят что Африкой да аннексиями. Англичане расширяются, прогрызаются, прорубаются, экспроприируют и жестоко, с помощью пушек, изгоняют соперников — одним словом, создают колоссальную африканскую империю. Они уже владеют южной оконечностью континента от бухты Уолфиш на Атлантическом океане до бухты Делагоа на Индийском; и алчут Трансвааля. Только что Лондон аннексировал земли бечуанов, матебеле и баротсе и все пространство между озерами Ньяса, Бангвеулу и южной оконечностью Танганьики. Таким образом, ныне Капская колония простирается в длину на три тысячи двести километров, ширина доходит до полутора тысяч.
Вернемся немного назад, во вторую половину XVIII века, когда Южная Африка была не исследована и не захвачена Англией — великой основательницей колониальных империй.
Речь идет о замечательных путешествиях Франсуа Левайана, исходившего с 1780 по 1785 год всю страну готтентотов[208], кафров[209] и намаква[210], до него совершенно неизвестную — во всяком случае, очень малоизвестную.
Как своеобразна и удивительно привлекательна его фигура! Этот страстный натуралист родился на экваторе среди великолепия тропической природы. Левайан не переставал тосковать о ней. И сердце и разум путешественника навсегда сохранили живую, непреходящую страсть к тропикам…
Нет ничего интереснее, в самом полном значении этого слова, чем читать рассказ о его путешествии в старинном оригинальном издании с гравюрами, изображающими, как славный Левайан в костюме прошлого века, с огромной бородой библейского патриарха, принимает чернокожих вождей! Книга полна фактов, наблюдений, ярких подробностей; повсюду виден тонкий остроумный наблюдатель, всегда веселый, подчас лукавый… Вместе с тем эта книга — основательнейший труд по естественной истории Африки, с великой пользой изучавшийся эрудитами своего времени.
С точки зрения исключительно географической, книга, возможно, и недостаточна. Но сколько же в ней сведений по зоологии, какое богатство материалов о нравах и обычаях народов, о которых прежде не знали ничего, кроме загадок и ложных слухов!
Франсуа Левайан родился в 1753 году в Суринаме в семье французов. Там же и развивались его воистину замечательные способности к зоологии. В 1777 году вся семья переехала во Францию. Франсуа с увлечением занимался в Париже историей, затем перебрался в Голландию, где привлек внимание блестящего натуралиста Темминка. После четырех лет неустанных трудов Левайан узнал все, чему молодой человек с его способностями мог научиться в Европе. Он решил завершить научное образование большой экспедицией в малоизвестные земли, где можно было надеяться найти много новых сведений.
Таким желанным Эльдорадо[211] ему показалась Южная Африка. Темминк, тепло относившийся к молодому ученому, посоветовал отправиться в нидерландскую Капскую колонию и дал самые теплые рекомендации к самым значительным лицам.
19 декабря 1781 года Левайан отплыл пассажиром на корабле «Меркурий», принадлежавшем голландской Ост-Индской компании — хорошем, полуторговом-полувоенном корабле.
На другой день Англия объявила войну Нидерландам. Недалеко от театра военных действий на «Меркурий» напал небольшой английский каперский корабль[212]. У того восемнадцать маленьких пушек, у «Меркурия» тридцать шесть больших. Но большой корабль позволил воинственному противнику обстрелять себя, а сам попытался улизнуть, ни разу не запалив даже зарядный картуз[213] — да тут, как назло, мертвый штиль![214] Хочешь не хочешь, надо драться — иначе потопят, возьмут в плен, обдерут как липку, а то и вовсе убьют… Свернули кое-как патроны[215], зарядили пушки и принялись палить не глядя с обоих бортов. Левайан до слез хохотал над этой нелепой пальбой и над обескураженными, посиневшими от страха физиономиями капитана с помощниками. Перестрелка продолжалась в течение длительного времени. Наконец задул ветер, к «Меркурию» подошел другой бриг компании, и вдвоем они отогнали англичанина. Тот спокойно выдержал огонь восьмидесяти орудий и с достоинством удалился.
После этого потешного сражения, с кроткой усмешкой замечает Левайан, увидели, что некоторые пушки и ружья забиты снарядами по самое дуло: молодцы с «Меркурия» после осечки забивали новый заряд, даже не заметив, что выстрела не было!
Вот страху-то натерпелись! Наконец пришли в Кейптаун. Весть о войне туда доставил один французский фрегат, вышедший намного позже «Меркурия», а пришедший намного раньше…
В Кейптауне Левайан увидал просторные, красивые, удобные, прохладные дома под тростниковыми крышами. Его восхитили элегантные женщины, обученные играть на клавесине[216] — только показалось весьма дурно, что они пренебрегают материнским долгом и вскармливать детей отдают невольницам. Между тем в городе для проезжающих нет ни кофейни, ни постоялого двора. Пришлось искать жилье у обывателей (что, впрочем, нетрудно). Жизнь здесь дешева: упитанный бык стоит сорок восемь франков. Вино превосходно — знаменитое констанцское[217] сухое достойно своей славы, — но фрукты, кроме винограда, сильно перезревают, как почти повсюду в тропиках и даже в субтропиках.
Левайан вырос в колонии во времена рабовладения и находит этот ужасный обычай естественным и спокойно, как о ценах на скот, говорит о продажной цене рабов. Мозамбикские негры у трапа корабля продаются по восемьсот франков, но их надо еще учить. Капские уроженцы стоят вдвое дороже, а если они еще знают какое-нибудь ремесло, цена и вовсе бешеная: повара продают за четыре-пять тысяч франков. «Зато, — пишет Левайан, — в Капской колонии вовсе не видно наглой лакейской челяди. Там еще неизвестны роскошь и гордыня, породившие подлую породу бездельников, населяющую в Европе передние богатых людей и несущую печать неизгладимого нахальства».
Путешественник довольно долго прожил в Кейптауне, во всех деталях подготовив путешествие в глубь страны. Он выехал на «поезде» из двух огромных капских повозок — настоящих передвижных домов, распространенных среди буров. У него тридцать упряжных быков и еще десять на подмену; с ним отправляются три охотничьих лошади, девять собак и пять готтентотов.
И вот Левайан едет на север с запасом провизии на два года, не считая дичи, которой изобилуют эти места, — позднее охота станет единственным способом пополнения его кладовой. Он выехал из очень небольшой зоны, в которой чувствовалось разрушительное действие цивилизации, — и тут же оказался в райских для охотника и натуралиста краях. Франсуа радовался как дитя, восторгался, как художник, пускался на хитрости, как краснокожий, а при виде неописанной антилопы, неизвестной ящерицы, неведомой дотоле птицы — загорался алчностью, как золотоискатель.
Поскольку Франсуа хранил чучела всех больших и маленьких животных, нужно было придумать, как бы поменьше повредить живых представителей фауны — особенно птиц, которых пули и дробь часто разрывают на мелкие части. И вот Левайан выдумал хитрый способ. Он клал сколько нужно пороха, забивал заряд вместо пыжа огарком свечи длиной в полдюйма, наливал в ружье воды и подкрадывался как можно ближе к нужной птичке. Оглушенная струей, мокрая птаха падала в руки охотнику без тех повреждений, какие наделали бы силок или дробь.
Левайан был храбр и жалел бедных изголодавшихся дикарей — он убивал слонов и на званых пирах кормил туземцев горами мяса. Кремневые ружья, при виде которых современные путешественники, имеющие многозарядные карабины, только пожали бы плечами, в его руках творили чудеса; из тяжелого тридцатифунтового мушкета можно было свалить слона…
Впрочем, за добрые дела Левайану воздавалось сторицей — он очень выгодно продавал слоновую кость.
Сначала путешественник сильно растерялся, не зная, какие плоды на окружавших его деревьях и кустах съедобны, а какие ядовиты. Неожиданно незаменимым помощником и дегустатором для него стала капская обезьянка по кличке Кеес — очень ласковый, зоркий и преданный хозяину. Большой лакомка, Кеес обладал неким чудным инстинктом: одни плоды сжирал с удовольствием, другие же, рассмотрев, с негодованием отбрасывал; человек на его месте никак не определил бы, хорош этот плод или дурен.
Кеес исполнял также обязанность — по остроте его органов чувств — сторожа, особенно ночью, никакой пес не мог с ним сравниться. Он ездил с хозяином и в лес на охоту — иногда фамильярно усаживался на плечо, но больше всего любил скакать верхом на собаке.
Левайан знал: белые обыкновенно жестоко обходятся с туземцами и те платят той же монетой. Нужно было отличаться от всех наружностью, чтобы его ни с кем не путали. Лучше не было средства, чем борода: в те времена все белые люди в колонии брились. Скоро Франсуа все стали узнавать и хорошо относиться к французу. К тому же, будучи метким стрелком, он часто в неурожайные годы избавлял несчастных туземцев от страшного голода. По просьбе туземцев Левайан в изобилии стрелял антилоп и буйволов, приносил много мяса и находил к сердцам африканцев дорогу через желудок.
Пропутешествовав несколько месяцев вдали от города, Левайан понял, почему негры, и в особенности кафры, так ненавидят белых — они ведь видят почти исключительно местных колонистов, буров. Узнал он и сколь опасны для одинокого белого путника огромные орды кочевников.
Колонисты позволяли себе немыслимые жестокости. То, что сообщает об этом Левайан, очень ужасно, хотя и интересно.
«Вопреки всеобщему мнению, — пишет Левайан, — кафры — народ миролюбивый и тихий. Но, поскольку белые постоянно их грабят и режут, кафрам приходится обороняться. Буры ославили негров свирепыми и кровожадными людьми в оправдание собственных лютостей и грабежей. Но всем ведь известно, что под предлогом розыска нескольких украденных коров вырезались целые негритянские племена, включая женщин и детей! В качестве “компенсации ущерба” буры разоряют посевы кафров, уводят их скот. За один только год “компенсация” составила двадцать тысяч голов!»
Однажды отряд колонистов разрушил кафрский поселок. Двенадцатилетнему мальчику удалось убежать и спрятаться в звериной норе. Один из буров отыскал парнишку и отвел с собой в рабство, но мальчика захотел забрать командир колонистов. Буры повздорили. В гневе командир воскликнул: «Так пусть никому не достается!» — и тут же уложил мальчика выстрелом из ружья в упор прямо в грудь.
Часто эти сволочи для забавы привязывают пленных и стреляют в них, как в мишень, причем нужно не убить негра, а попасть в ногу или в руку.
В общем, грабежи и убийства здесь — обыкновенное дело, и все ужасные бойни несут неграм несчастье и горе…
Левайан в обществе буров однажды удивился, почему губернатор не прикажет прекратить безобразия.
— А он приказывает, — расхохотался один из буров. — Только и делает, что шлет сюда приказы. Да он где, губернатор-то? Он отсюда за двести миль, чихать мы на него хотели!
— Положим, — возразил Левайан. — Но он может прислать не одни приказы, а еще и добрый отряд солдат, чтобы каждого виноватого взять и отправить в город — тогда что?
— Тогда… — ответил бур. — Ну, пусть попробует, а мы тогда вот что сделаем. Мы соберемся все вместе, половину солдат зарежем, засолим в бочках и с другой половиной отправим назад. Будут знать, как к нам соваться!
День за днем, от ночевки к ночевке, медленно, но верно повозка везла Левайана в земли свободных кафров, куда буры заходить не дерзают, — и понятно почему. Там путешественник встретил гордых, статных мужчин и восхитительных женщин, сложением не уступающих статуям Венеры[218].
Туземцы там добрые, славные люди, живущие скотоводством, плодами земледелия и охоты. Но обижать этих добрых людей, — говорит Левайан, — не стоит: мирные земледельцы вмиг превратятся в отважных и беспощадных воинов.
Путешественник любовался их статью, наслаждался гостеприимством, обменивался подарками, пил дивное молоко, которое хранят в удивительнейших корзинах: они сплетены так искусно, что ни капли жидкости не вытекает.
Путешественнику понравилась и верность супругов (хотя встречается иногда и многоженство), причем отцы привязаны к детям не меньше, чем матери.
Кафры непрестанно курят коноплю, делают недурную посуду, умело и терпеливо пасут скот, умеют строить удобные дома, чтобы укрыться от зимней непогоды. В общем, живут достаточно богато — во всяком случае, гораздо лучше, чем большинство кочевников.
Шестнадцать месяцев подряд колесил Левайан по Африке — то было первое его путешествие. Он собрал и с несравненным искусством препарировал коллекцию редчайших млекопитающих, неизвестных насекомых, а главное — птиц, не включенных в каталоги крупнейших собраний мира.
Вернувшись после долгого отсутствия в Кейптаун, Франсуа позаботился о своих сокровищах: большую часть отправил во Французский музеум[219], кое-что подарил другу Темминку. Путешественник также незамедлительно выправил вольную всем верно служившим ему рабам.
В Кейптауне Левайан сразу затосковал посреди столь чуждого общества…
«Шестнадцать месяцев непрерывной охоты, — пишет он, — не охладили моего усердия, не насытили всех желаний. Эта все более настоятельная страсть к пополнению моих познаний в естественной истории рождалась самим множеством только что узнанного и накопленного мною. Мои тяготы превратились в ничто, как только я сбросил с себя их бремя…»
Пятнадцатого июня 1783 года он вновь отладил фургон и отправился в путь. С ним были все те же быки, собаки, лошади и готтентоты — отныне свободные спутники, а наипаче — верные друзья Левайана.
С точки зрения пользы для естественной истории, второе путешествие оказалось, возможно, еще плодотворней первого. По расстоянию оно намного превосходило первое, а продолжалось на месяц меньше. За такое сравнительно короткое время Левайан побывал в Большом и Малом Намакваленде; при этом он перенес много тяжких невзгод и не раз подвергался серьезной опасности. Он собрал очень точные, любопытные, а главное — достоверные сведения о неизвестных прежде племенах; позже все они были проверены, и Левайан подтвердил репутацию проницательного, правдивого, добросовестного исследователя.
Во втором путешествии Франсуа в первый раз охотился на жирафа. Он первым описал это удивительно сложенное млекопитающее и первым привез в Европу его чучело.
В 1785 году Левайан вернулся во Францию и — поверите ли? — с величайшим трудом продал коллекции и напечатал труд! Началась революция. Хотя Левайана вовсе не интересовала политика, его арестовали и целый год содержали под стражей. Наконец Национальное и Учредительное собрания[220] решили приобрести истинно замечательные коллекции, но враги ученого воспользовались арестом, и государство согласилось купить лишь часть материалов. В оплату Левайан получил дубликаты книг из публичных библиотек. Остальные трофеи были проданы в Голландию и там рассеялись.
Намного позже путешественник получит от Наполеона орден Почетного легиона. Это оказалась его единственная награда за отвагу, перенесенные тяготы и редкостный вклад в естественную историю.
Левайан умер в 1824 году в Сезанне.
ГЛАВА 15
У. С. БОЛДУИН
В глубь Африки. — Драматические приключения профессионального охотника. — У водопада Виктория. — Богатство.
Было бы ошибочным полагать, что до замечательных исследований Ливингстона о Южной Африке ничего не знали.
Действительно, она не была основательно изучена великими путешественниками, которые ныне пересекают материк и приносят нам богатейшую жатву новых знаний. Однако названия туземных племен, природные богатства их земель известны давным-давно. Более того — карты территории от 33°56′ (широта мыса Доброй Надежды) до Оранжевой реки (примерно двадцать девятая параллель) не имели пресловутых белых пятен — очерченных пунктиром провалов, приводящих географов в отчаяние.
Дело в том, что с давних времен, когда голландцы только еще поселились в Южной Африке, по ее землям все дальше и дальше вглубь непрестанно двигались буры. Они повсюду бороздили страну в домах на колесах, находили местечко, где почва получше или дичи побольше, устраивались, заводили ферму, и вскоре являлась на свет большая семья. Отпрысков новоявленных патриархов тоже манили новые земли, и они, в свою очередь, пускались в путь — вперед, непременно вперед, никогда ни за что не удирать в столицу колонии.
Иные устремлялись за стадами зверей, за слоновой костью — и тоже уходили из насиженных мест в неизвестность, иногда на огромное расстояние.
Город при этом не то чтобы забывали — кое-какие отношения с ним все-таки сохранялись. Неустрашимые «дреймены»[221] на огромных фургонах, «дреях», запряженных десятью, пятнадцатью, двадцатью парами быков, отправлялись из Кейптауна с богатым грузом пороха, свинца, мануфактуры и доставляли его в самые отдаленные поселения, затерянные в дикой стране, получая взамен драгоценный товар — слоновьи бивни.
Год за годом знакомым путем через горы, долы, леса и реки первопроходцы объезжали всю страну. Деятельные, энергичные, умные, они кроме всего прочего собирали интереснейшие сведения о землях, которые им случалось проезжать. Этими сведениями пользовались искатели приключений — полуохотники, полукупцы, страстно любившие вольную жизнь в пустыне и острые ощущения схваток с дикими зверями.
Итак, благодаря постоянному продвижению буров с юга на север, благодаря постоянным поездкам дрейменов, с незапамятных времен поставлявших бурам товары, наконец, благодаря походам профессиональных охотников, которые были как бы авангардом колонистов, Южная Африка никогда не была чем-то неведомым и устрашающим.
Среди этих походов, которых за полстолетия было бесчисленное множество, в число самых замечательных входят, без сомнения, путешествия У. С. Болдуина.
Болдуин — человек неординарный и в то же время очень скромный. Он охотник и одновременно коммерсант — убивает зверей, чтобы продать шкуру и заработать денег. География не его дело: он просто идет своей дорогой и по пути смотрит вокруг, интересуется встречными людьми и предметами, пишет дневник, чертит маршрут.
Впрочем, торговлей слоновой костью он занялся лишь по страстной любви к охоте. Денежный интерес у странствующего Нимврода[222], в общем-то, всегда на последнем месте. Прежде всего он следует неодолимой страсти охотника, а там уж потихоньку собирает скромный капиталец.
Итак, по склонности Болдуин стал охотником, по обстоятельствам — негоциантом[223] и путешественником, писателем — невольно; следующая цитата из его книги ясно говорит о замысле англичанина.
«Когда, — пишет Болдуин, — в краале или в фургоне я записывал эти строки — иногда чернилами, чаще карандашом, а бывало, и порохом, разведенным в чае или в кофе, — я не мог предположить, что из них составится книга. Теперь по настояниям друзей я с трепетом решаюсь издать ее. Я должен сдержать слово, данное тем, кто с любопытством в Натале[224] следил за моими походами — сперва в близлежащем округе, потом доведшими меня по нехоженым местам до самой Замбези».
Болдуин отважно устремился через совершенно неизвестные, не пройденные и Ливингстоном, земли. После знаменитого миссионера он стал первым белым человеком, удостоившимся лицезреть и описать водопад Виктория. Итак, это незаурядная личность. Болдуин много знает, много видел, много приметил — поэтому он достоин почетного места в маленьком мирке второстепенных путешественников, которых завтра публика вполне может забыть, если ей об этом не напоминать.
Как всегда, трудней всего дались первые шаги. С раннего детства Болдуин страстно любил охоту, лошадей, оружие, собак — и не выносил городской жизни. Он решил сам добывать себе средства к существованию, безоглядно отдавшись своей страсти к спорту. Капская колония показалась ему удобным местом для этого. В 1851 году, еще совсем молодым человеком, он отправился, захватив с собою дробовики, карабины и конскую сбрую, искать положения в обществе, которое соответствовало бы его вкусам и способностям. Он нашел, что искал, нанявшись к купцу, отправившему в страну зулусов отряд охотников и вместе с тем пастухов — нечто вроде нынешних американских ковбоев[225].
Поход оказался неудачен и плохо организован. Охотников косили болезни: через четыре месяца семеро из девятерых умерли. Только Болдуин и один его товарищ смогли вынести страшные приступы лихорадки.
Целый год они не могли встать на ноги. Но Болдуин следовал призванию и обладал железной выносливостью. Два года он оставался на этой проклятой службе, скопил деньжат и начал охотиться для собственного удовольствия. Мечта сбылась!
У него был такой же транспорт, как у Левайана шестьдесят пять лет назад: фургоны, быки, лошади… Но оружие заметно усовершенствовалось: кремневые ружья были вытеснены капсюльными. Оружия с затвором, правда, еще не придумали, но уже и без них можно было устраивать страшные бойни…
В 1854 году Болдуин отправился из Наталя, вооруженный огромными карабинами. И вот он — замечательное зрелище! — гоняется по ужасным дорогам за грозными африканскими мастодонтами[226], встречает их лицом к лицу и, как подлинный виртуоз, поражает. Однажды на нашего охотника набросился раненный его неловким товарищем гиппопотам. Болдуин, зарядив ружье, отважно поджидал чудовищного зверя. Он подпустил животное на двадцать метров и тогда только выстрелил. Пуля попала над ухом, и бегемот завертелся волчком. Охотник послал в него еще две пули из запасной двустволки, но безуспешно. Эти крупные животные, настоящие бастионы из мяса и жира, ведут поистине нелегкую жизнь. Раненый бегемот хотел убежать, но Болдуин не мог упустить добычу — клыки; пришлось выстрелить еще раз. Тут уже пуля попала точно между глазом и ухом, и гиппопотам повалился мертвым.
Так он и ехал, каждый день стреляя зверей, чтобы прокормить себя и слуг, наполнить свою бродячую лавку слоновьими бивнями, носорожьими рогами, бегемотовыми зубами… Между тем у него всегда находилось время подкинуть какую-нибудь антилопу или буйвола в подаяние встречным голодным беднякам.
По десять раз на дню Болдуин с невообразимой беззаботностью рискует жизнью — впрочем, ему это кажется совершенно естественным.
«Однажды, — пишет он, — я возвращался домой. День был удачный; канна[227], буйвол, три антилопы каама. Я вел под уздцы прекрасную серую кобылу, груженную антилопьими шкурами. Вдруг прямо передо мной явился огромный зверь, который так извалялся в грязи, что сначала я принял его за носорога. Я отпустил повод, спрятался за лошадью, и мы побежали. Зверь, оказавшийся большим буйволом, узнал о моем существовании, только получив пулю между ребер.
Как полетели камни из-под его копыт, с каким страшным грохотом он побежал под гору! Перезарядив ружье, я вернулся к своей кобыле. Она стояла на месте: южноафриканские охотничьи лошади могут хоть целый день, не сходя с места, дожидаться хозяина. Мы побежали вслед за буйволом, но я не очень надеялся отыскать его: уже темнело.
Вдруг из тени мимоз прямо на меня вылетела бесформенная масса. Я поглядел, нельзя ли вскочить на какое-нибудь дерево, попытался сесть на кобылу, но это было невозможно: на ней лежали шкуры. Рука моя запуталась в поводьях, а буйвол все ближе… Я вскинул ружье на плечо. Испуганная кобыла отпрянула назад, пуля попала буйволу в грудь, но ни на секунду его не задержала.
Кобыла совсем обезумела, встала на дыбы, упала на спину и повалила меня с собой. Буйвол промчался рядом со мной, растоптав копытами мою бедную лошадь. Через двести шагов я догнал его и выстрелом прямо в сердце убил наповал».
Болдуин отправился в поход в мае, перешел Драконовые горы, пересек Оранжевую Республику и прибыл в Трансвааль[228]. Там он остановился у одного бура, чтобы починить фургон. В этих местах Болдуин впервые охотился на жирафа; его рассказ, по обыкновению, занимателен.
Вот что он пишет:
«Я ехал верхом на коне по имени Брайен — рослом, поджаром, на редкость медлительном, голубой масти, с овечьей шеей, неровным шагом; он сам очень напоминал то животное, на которое мы охотились. Конь был тяжел в поводу, потому что губы были очень жесткие, но за широкую грудь, спину ему можно было простить некрасивую внешность».
Показалось стадо из семи — восьми жирафов, которые бросились бежать со всех ног и крутили хвостами, как штопором. Лошадь Болдуина сначала испугалась и попятилась, увидав огромных, неуклюжих, дурно пахнущих животных, а через миг погналась за ними вскачь. Охотник преследовал громадного самца; после бешеной скачки ему удалось нагнать жирафа, хотя один прыжок животного равен трем лошадиным. На всем скаку Болдуин выстрелил и попал жирафу в шею, но тот не остановился. Охотник на ходу перезарядил ружье и хотел спешиться, чтобы второй раз прицелиться вернее.
«Куда там! Я потянул за повод, но чертова лошадь мчалась, как корабль на всех парусах, и так закидывала передние ноги, что чуть не задевала меня по плечам. Спешившись, я мог бы выстрелить уже тысячу раз, но никак не удавалось остановить Брайена: его губы не чувствовали узды, и он скакал с прежним пылом, без всяких признаков усталости. Когда мы догнали жирафа, я, держа ружье одной рукой, выстрелил в добычу метров с двух, не более, и попал прямо в лопатку. От отдачи ружье перелетело за мою голову и чуть не сломало палец. Лопатку жирафа раздробило в порошок и со страшным грохотом он повалился мертвым. В спешке я, видимо, переложил в заряд пороха. Брайен сразу встал как вкопанный…»
Двадцать первого сентября Болдуин приехал в Колобенг и увидел развалины жилища Ливингстона, которое буры разграбили в 1852 году. Затем он вознамерился пройти через владения царька Секелете. Царек сперва велел англичанину поворачивать назад, но при помощи подарочков, которые часто рождают, а после помогают сохранить дружбу, дело уладилось. По дороге в Мосиликаци Болдуину пришлось перенести жестокие лишения: жажда была ужасна — у быков в упряжке так пересыхало горло и распухал язык, что они уже и мычать не могли. Ничто не умаляло энергии охотника, не выводило из равновесия! Он упал с лошади и сломал лучшее ружье. Ствол расщепился — он его обрезал. «Ружье после починки получилось смех какое короткое, — вспоминает он, — зато, сидя верхом, с ним стало легче управляться, а меткость, мне кажется, хуже не стала».
Однажды Болдуин упал так, что чуть не лишился жизни, — и рассказывает об этом как о самом обыкновенном деле: «Я гнался за зеброй, когда лошадь на всем скаку попала ногой в яму и несколько раз перекувырнулась через голову. На мне живого места не осталось, но хуже всего было то, что под тяжестью глупой скотины нож и пули врезались мне в бок. Ничего страшного не случилось — через несколько дней я надеюсь уже снова сесть верхом, — но в первый миг мне показалось, что все кончено».
Он справляет Рождество куском мяса носорога — такого жирного, что самый крепкий желудок ее не выдерживает, — и парой ложек полусырой лапши вместо хлеба. Да, насколько это было непохоже на английский рождественский ужин! «Что ж, — философически замечает Болдуин, — у охотничьей жизни есть, конечно, свои неудобства — но есть и радости, вознаграждающие за все лишения».
На следующий год он очутился у озера Нгами и решил дойти до Чобе, правого притока Замбези.
Товарищ оставил Болдуина, с которым теперь остались только три кафра, два готтентота, кучер, семь собак, восемнадцать упряжных быков, корова с телкой и пять верховых лошадей. У охотника в распоряжении имелись боеприпасы, бисер, медная проволока, пряности, мука, ящик водки и бочонок доброй капской мадеры. Кроме того, у него есть немало почти готового вяленого мяса: он уже подстрелил множество канн и жирафов. Это, конечно, жестокость, но для нее есть оправдание: надо кормить полторы сотни кафров; ни куска не пропало. Когда же два великолепных жирафа паслись в четырехстах шагах от фургона Болдуина, но провизии для людей и корма для собак было довольно — он их не тронул.
Каким же старым был фургон! Его пробовали обтянуть сыромятной кожей носорога — высохнув, она становится твердой, как жесть, — но до новой повозки все равно далеко. «Помимо же этого, — пишет Болдуин, — у меня было, кажется, все, что нужно для путешествий по этим краям: здоровье, силы, привычка к климату, неистощимый запас бодрости и некоторое умение обращаться с туземцами. Кафры и готтентоты всегда охотно исполняли мои просьбы — очевидно, потому, что я делил с ними все тяготы и об их пропитании заботился больше, чем о своем. Меня не удерживали никакие семейные и дружеские связи; я не знал ни слез разлуки, ни долгих прощаний, ни беспокойства, которое гонит домой… Мне всегда везет, я на все согласен, мне все интересно. У меня есть винтовка «ваттон» с двумя нарезами[229] — лучшее оружие из всех бывших у меня. Она безупречно точно бьет при любом заряде, а если к конической пуле положить шесть драхм (двадцать два грамма) пороха, получается убойная сила, равной которой я еще не видывал. Вот только опасался, как бы меня не сбросило с седла».
Двадцать два грамма пороха! Те, кто хорошо знаком с огнестрельным оружием, сразу представят себе эту отдачу — такая и впрямь может сбросить с лошади.
В середине июня Болдуин пришел к Лечулатебе, вождю племени, населявшего берега озера Нгами, человеку не злому, но страшному вымогателю. Тот — не бескорыстно, конечно, — рассказал Болдуину все, что нужно, и дела у охотника устроились совершенно. Винтовка «ваттон» без дела не лежала — задний отсек фургона, служивший складом, постепенно наполнялся бегемотовыми зубами, страусиными перьями и слоновьими бивнями.
Так оно и шло из месяца в месяц. Иногда в жизни охотника — и без того полную неожиданностей — происходили какие-нибудь разнообразные приключения, иногда злоключения, а подчас — страшные драмы. Но герой, как в волшебной сказке, пройдя через все испытания, преодолевал преграды; энергия и упорный труд приносили ему успех. Каждый новый день приносил надежду, унося тяготы и разочарования предыдущего.
В конце концов экспедиция принесла чистую прибыль в двадцать пять тысяч франков плюс шестьдесят превосходно натасканных упряжных быков.
Болдуин вернулся в Наталь, продал товар, выгодно разместил деньги, приготовился к новому путешествию и опять отправился на север.
На этот раз он дошел до Замбези и три дня провел возле водопада Виктория — почти не охотился, катался на лодке и во все глаза смотрел кругом, не в силах сдержать восхищения. Он нашел дерево, где доктор Ливингстон вырезал свои инициалы; прямо под монограммой славного предшественника Болдуин — второй европеец, увидевший водопад, — вырезал собственную.
«Я полжизни согласился бы там прожить!» — пишет охотник в восторге. Впрочем, когда однажды ему повстречалось большое стадо слонов, он без колебаний погнался за ним.
Сначала он меньше чем за час убил пять слонов! Постепенно Болдуину удалось перестрелять все стадо и наполнить фургон первосортной слоновой костью.
Ужасное дело! Нет тяжелее доли, на которую человек может себя добровольно обречь, чем слоновья охота. Двое суток без передышки вы скачете на лошади к озерку, куда, по слухам, стадо пришло на водопой, ночуете в лесу, голодаете, утром насилу можете зачерпнуть немного грязной воды панцирем дохлой черепахи. Опять ногу в стремя — и по следу в изнурительную жару. За вами едут три полумертвых от голода туземца, кое-как прикрытые вонючими сальными лохмотьями звериных шкур, и везут несколько глотков воды в бурдюке из шкуры квагги[230] (ничего нет в свете тошнотворнее!) — это весь ваш запас. Бывает, вы ничего кругом себя не видите… Большое счастье, если в изнеможенье вы доберетесь до туземного крааля — там стоят невероятно грязные амбары под растрепавшейся соломенной крышей, на ветру торчат сухие колючки, сушатся ломти тухловатой дичины, расставлены кувшины с водой, на деревьях болтаются клочья шкур. Вы спите на охапке сена, подложив под голову седло, причем коптитесь у костра, чтобы отогнать комаров. Опять начинается скачка, и если вы наконец все-таки увидите зверя — значит, все прошло как нельзя лучше.
Даже в том случае, когда охотник, подобно Болдуину, сразу встречает несколько слонов, сначала он должен отогнать в сторону и застрелить самого большого. Болдуин так и сделал. Получив две пули, слон, находившийся едва в сорока шагах, развернулся и стремглав ринулся на охотника.
«Подо мной, — пишет Болдуин, — был новый, впервые оседланный жеребец по имени Кебон, который стоял на месте как скала. Я хотел встретить слона своим коронным выстрелом в грудь, но только начал целиться — Кебон дернулся и помешал мне. Я пытался его успокоить. Слон в это время опять рванул на нас, и пришлось выстрелить наудачу. То ли коню не понравилось, как пуля просвистела у него над ухом, то ли еще что — только Кебон так сильно тряхнул головой, что левый повод перекинулся на другую сторону, цепочка мундштука порвалась, а железо врезалось коню в рот. Огромный слон — всего в двадцати ярдах — махал поднятыми ушами, яростно трубил и бежал на нас. Я дико колотил коня шпорами по бокам (иначе править было невозможно), но Кебон кинулся не назад, а прямо навстречу чудовищному зверю — я, право, думал, что смерть близка… Уклонившись, насколько возможно (слон задел меня хоботом), я выстрелил в упор и опять пришпорил коня; тот отскочил и встал на месте. Я со всей силой пришпорил коня, который помчался не разбирая дороги, сильно ударив меня об одну из трех бохиний[231], встретившихся по дороге. Я чуть было не вылетел из седла; правую руку мне забросило за спину так, что она хлестнула по левому боку. Сам не знаю, как удержал четырнадцатифунтовое ружье одним пальцем за спусковую скобу! Оторванная узда осталась в левой руке — к счастью, когда я стрелял, она там и была.
Так мы скакали во весь опор по густому лесу. Кебон, как коза, прыгал через колючие кусты подлеска; слон гнался за нами, но в конце концов нам удалось от него оторваться. Тогда я все-таки остановил коня; Кебон сделал еще два-три круга и наконец встал. Взнуздав его, я ветром помчался вдогонку за зверем, чтобы не упустить.
Слон повернулся и помчался на нас. Началась долгая молчаливая и весьма неприятная погоня, тем более что лошадь устала и ей было очень трудно держаться на ногах. С десятой пули слон наконец упал и больше не поднимался. Я выдохся так, что даже не мог насыпать порох на полку[232] ружья».
Это оказалась последняя экспедиция Болдуина, продолжавшаяся целый год и завершившаяся благополучно; охотник получил весьма солидную выручку. После этого он оставил опасный промысел.
Через несколько месяцев англичанин вернулся на родину, имея небольшое, честно нажитое состояние, и с великой радостью встретил родных, о которых никогда не забывал.
Вместе с Левайаном, Ливингстоном, Андерсоном[233], Бейнсом и Чепмэном Болдуин был одним из тех, кто открывает новые пути в неведомых землях, узнает, чем там живут и торгуют. Такие люди приучают туземцев к белым, рождают в них мысль об обмене товарами и медленно, но верно готовят проникновение цивилизации в новые страны.
Иногда это проникновение бывает ускорено, как в Австралии, открытием богатых золотых жил, как в Южной Африке, открытием крупных алмазных копей. Тогда переселенцы с неудержимой силой потоком устремляются в новые края. Возникают пути сообщения, вырастают города. Люди рвутся вперед, а туземцы убегают либо нанимаются на службу к новым завоевателям.
Многим колонизация несет нищету, иным богатство — но несет ли она подлинное процветание дальним странам?
ГЛАВА 16
ГИЙОМ ЛЕЖАН
Призвание. — Первые путешествия. — Назначение консулом в Абиссинию. — Негус Теодрос. — Темница. — Возвращение и смерть Лежана.
Кто действительно был прирожденным путешественником, так это Лежан, коренастый бретонский атлет, миролюбивый и добрый, как все силачи, энергичный и храбрый, как подобает сыну старой честной кельтской земли.
Гийом Лежан родился в Плуэга-Геране (департамент Финистер) в 1818 году. У него было все, что нужно для не слишком возвышенного, но беспечного и безмятежного домашнего счастья. Он успешно окончил коллеж Сен-Поль-де-Леон и был назначен секретарем совета префектуры Морле — недурное место «приказного», как тогда говорили: такие весьма ценились провинциальными буржуа того времени. В 1848 году он имел честь и редкое счастье стать сотрудником Ламартина[234] по газете «Пэи»: его могло ожидать блестящее положение среди литераторов… по крайней мере, в нашей республике. И вот на тридцатом году жизни Гийом Лежан без малейших колебаний — даже с удовольствием — бросает все и целиком отдается непобедимой страсти к дальним путешествиям.
Для начала Академия наук послала его с научной миссией в Черногорию и Европейскую Турцию[235], где он провел несколько лет. Лежан опубликовал несколько замечательных статей об этих краях, за что был утвержден сверхштатным консулом. Тогда он ушел в заслуженный отпуск. Вскоре Лежан задумал подняться по Нилу до самых истоков, но в дороге, к несчастью, заболел и не смог пройти дальше Гондокоро.
Как истый бретонец, Лежан от своего так просто не отступал. В 1862 году консул, по собственной просьбе, послан с дипломатической миссией к знаменитому абиссинскому негусу Теодросу, о крайней жестокости которого ходило множество легенд.
Конечно, отправляться по доброй воле к своенравному монарху было небезопасно: его жестокость и кровожадность подходила цезарям времен упадка Римской империи.
Но Гийом Лежан был одним из тех, кого опасности не останавливают, а только подстегивают. Он отправился в Хартум, оттуда в Сеннар, Галлабат, в пограничную абиссинскую деревню Вухне, оттуда в Дебру и Табор, где должен был встретиться с Теодросом. Путешествие было довольно утомительно, но прошло без приключений, и в январе 1863 года Лежан прибыл к месту назначения.
Легенды говорили, что к негусу нет никакого приступа, но при первой встрече с Лежаном он показался довольно добродушен.
«Я еще не видел негуса, — рассказывает Лежан. — Мне сказали, что он пойдет испытывать новую гаубицу, присланную специально для него из Базеля, и я на всякий случай надел консульский мундир. Это было 25 января 1863 года. Часов в девять утра мне сказали: “Государь идет!” Я тотчас вышел; прямо передо мной проходила шумная свита высших офицеров, одетых в расшитые праздничные рубахи. Среди них шел некто, похожий на добродушного крестьянина — без шапки, босиком, в солдатской тоге[236] не первой свежести. На поясе у него висела кавалерийская сабля, в руке вместо посоха было копье. Знаток абиссинских обычаев с первого взгляда узнал бы сан незнакомца по простому признаку: у него одного тога была накинута на оба плеча — этот более чем просто одетый человек и был эфиопский царь царей[237] Теодрос II.
Царь увидел меня и весело обратился с обычным абиссинским приветствием: “Хорошо ли почивали?” По этикету в ответ полагается молча низко поклониться. Негус сказал еще несколько учтивых слов и спросил, когда я желал бы быть принят официально. Я, разумеется, отвечал, что целиком нахожусь в распоряжении его величества. Тогда негус назначил прием с почестями, подобающими пославшей меня стране, на следующий день и удалился. Таким оказалось мое первое свидание с царем царей».
Когда Гийом Лежан приехал в Абиссинию, Теодросу было лет сорок шесть, если судить по лицу и мускулатуре, — ведь никто, включая самого негуса, не мог похвалиться, что знает настоящий возраст монарха. Для абиссинца[238] он имел средний рост, хорошо сложен, лицо открытое и симпатичное, цвет лица почти черный, лоб широкий, глаза маленькие и живые. Нос и подбородок у негуса были еврейского типа; на этом он основывал свое убеждение в том, будто происходит от Давида и Соломона. Проверить версию оказалось невозможно, ибо императорскую генеалогию, которой Теодрос так гордился, абиссинские ученые и поэты обнаружили лишь по восшествии его на престол…
Выглядел негус весьма внушительно, производя впечатление — и это было действительно так — неутомимого, сильного и ловкого человека. Теодрос весьма хвалился физической выносливостью и любил, например, такую забаву. Опираясь на копье, царь быстро шагал по крутым холмам — то вверх, то вниз. Всякий, кто при нем находился, должен был по этикету идти вместе с ним с той же скоростью, и отставать не приходилось — не то конница беспощадно потопчет копытами… На коне император собой не владел: это был уже не царь, а пьяный от ветра и скачки гаучо[239]. Повседневный наряд негуса казался нарочито небрежным, но это, пожалуй, было просто солдатское презрение к условностям. Обычно он ходил в простой солдатской одежде, без шапки и босиком, прическу носил тоже воинскую: собранные в три пучка — на лбу и по бокам — волосы изящно падали на плечи. Иногда он, подобно гомеровским царям — пастырям народов, ходил в белом плаще.
Таков точный внешний портрет Теодроса. Разобраться и дать описание его нравственного облика гораздо сложнее. Представьте себе крестьянина — лукавого, себе на уме, страшно гордого (само собой!), дерзкого, некогда сильно верующего, ныне безбожника, но с виду страшно богомольного, при всем при том — великого каверзника и лицемера. Иногда, искушая придворных, он разыгрывал внезапное обращение к добродетели и мнимое смирение.
— Ох, дети, — вздыхал он, — не правда ли — я великий грешник, столп соблазна всей Эфиопии?
Горе тому, кто посмел бы неосторожно согласиться с ним, хотя бы из приличия!
— Ох, ох, ох, — продолжал негус, — я ведь не всегда таким был. Бес мною овладел, право, бес! Надобно покаяться.
И пуще прежнего предавался излюбленным порокам — вот и все покаяние.
Итак, по распоряжению негуса на другой день после первой встречи состоялся официальный прием, на котором Лежан вручил монарху верительные консульские грамоты.
Теодрос любил пышные сцены, обладал несомненным вкусом по части их постановки и хорошо умел себя показать на фоне свиты. Он явился во всем варварском величии и африканской пышности. Его окружали знаменитые царские львы — с виду грозные, но в глубине души, кажется, весьма добродушные. Во всяком случае, они ведут себя запросто, а подчас так же взбалмошно, как их хозяин. Об этом свидетельствует один случай, рассказанный Лежаном. В ходе аудиенции один из львов ни с того ни с сего подошел к консулу и в знак приветствия положил ему, как ласкающийся ньюфаундленд[240], лапы сзади на плечи.
Бедного консула несколько ошеломила столь внезапная ласка. Он чуть не упал ничком, но, к счастью, все-таки подавил невольное движение страха — или, может быть, просто неожиданности — и с честью вышел из удивительного положения.
Прожив месяц при дворе посреди варварской, но неподдельной роскоши, Гийом Лежан счел долгом сопровождать Теодроса на войну. Армия шла в провинцию Годжам[241] — там взбунтовалось несколько вассалов абиссинского самодержца. Поход был несчастлив: после нескольких неудач, не опасных для жизни, но чувствительных для самолюбия, негус приказал вернуться.
По возвращении Лежан узнал, что его письма, отправленные в консульскую резиденцию в Массауа, застряли в Гондаре. Консула весьма огорчила эта задержка; он решил, что в подобных обстоятельствах надежней всего будет отправиться ненадолго в Массауа, чтобы самому уладить дела. Лежан отправил к негусу курьера с просьбой об отпуске, но ответа не было. Тогда он надел консульский мундир и в сопровождении слуг сам отправился к Теодросу на царский холм.
«Сняв треуголку, — пишет Лежан, — я согласно этикету остановился на склоне поодаль. Негус увидел меня и послал спросить, что мне нужно; я отвечал, что хочу лично говорить с государем. Тогда он через переводчиков — трех европейцев, знавших государственный язык Абиссинии, — спросил, в чем дело. Я ответил:
— Мне необходимо поехать в свою резиденцию в Массауа. Во-первых, мои люди жалуются, что консул уже одиннадцать месяцев в Эфиопии, а у них еще ни разу не появлялся. Во-вторых, я сам хотел бы доставить его величеству два ящика подарков от моего государя, которые скоро прибудут в Массауа. Я прошу позволения выехать незамедлительно, чтобы вернуться до сезона дождей».
Дальше произошло нечто невероятное. Эту сцену можно если не оправдать, то понять, зная, в каком состоянии духа тогда находился негус. Он был оскорблен поражением от мятежного вассала и, мало того, только что узнал о потере провинции Галлабат. Было еще одно отягчающее обстоятельство: в погребах его величества есть скверный коньяк, к которому он после двух часов дня обыкновенно прикладывается без должной осторожности, так что в этот день, как и всегда, Теодрос был совершенно пьян.
Наконец, в 1855 году негус передал с одним проезжим русским письмо к «российскому брату» с предложением оформить военный союз и поделить мир. Разумеется, если русский царь и получил письмо, то немедленно отправил в корзину. Вероятно, негус боялся, что и французский император отнесется к нему так же, и потому захотел оставить заложника.
В любом случае, едва переводчики замолкли, Теодрос вскричал в безумном гневе:
— Никуда он не поедет! Взять его! Заковать в кандалы! А попытается убежать — поймать и убить!
Отважный «рас»[242] (полковник), которому был адресован приказ, отправился на другой склон холма, где стоял полубатальон солдат.
— Это еще что? — рассвирепел негус. — Пятьсот человек, чтобы арестовать одного?
— Глядите, государь, — возразил трепещущий рас, — у него что-то блестит в руках (это сверкал в закатных лучах галун консульской треуголки). — Вдруг это такая машинка, что всех нас убьет?
— Дукоро! (Идиот!) Ты еще скажи, что он убивает взглядом!.. Вот тебе шесть человек — и взять его!
Солдаты вместе с тремя переводчиками подошли к Лежану, который, стоя в отдалении, ничего не слышал и не подозревал. Он не насторожился даже тогда, когда услышал, что эфиопы шепчутся между собой:
— Пистолеты при нем?
Переводчики подошли к консулу и пробормотали нечто невразумительное; между тем солдаты зашли за спину и набросились на Гийома: один так сильно обхватил руками, что чуть не задушил, двое вырвали шляпу и шпагу, еще двое схватили за руки. Лежан, не столько испугавшись, сколько рассердившись, резко спросил одного из переводчиков, некоего Кьёзлена:
— Что это значит?
Тот, дрожа как лист, пролепетал:
— Не обращайте внимания, господин консул, не обращайте внимания…
Ничего лучше он не придумал…
Лежана силой потащили за холм; вместе с ним схватили и ординарца-нубийца[243]. За императорским шатром консула усадили на большой камень.
До сих пор он никак не мог взять в толк смысл грубостей. Все стало ясно, когда принесли длинную цепь с тяжелыми кандальными кольцами и офицер, просунув в кольцо его руку, стал камнем заковывать кандалы.
«Едва ли кому из моих читателей, — пишет по этому поводу Гийом Лежан, — знакомо это ощущение — более нравственное, чем физическое, — когда у вас в ушах, во всей плоти отдаются удары молота, гремящего о кандалы! Эти отрывистые удары громовыми раскатами гремят в мозгу; вы не поверите, как это бесит и мучит. Сперва я вскипел, но вскоре совершенно успокоился. Рассуждать не было сил, однако я вспомнил о трех вещах: моей невиновности, официальном ранге и о месте страны, представляемой мною, в семье народов. Я понял, что здесь, как это часто бывает, положение оскорбленного намного выгодней, чем положение того, кто оскорбил. Поэтому я хладнокровно и даже (поверите ли?) с любопытством наблюдал за всеми подробностями отвратительной операции. Когда с моим кольцом покончили, ко мне приковали беднягу, головой отвечавшего, что я не убегу, и меня прямо в парадном мундире отвели в палатку, раскинутую неподалеку, в пятнадцати шагах. Вокруг палатки тотчас встали вооруженные стражи; дюжина из них засела внутри.
Читатель простит мне, что я опущу подробности суточного пребывания в кандалах. Без слов ясно, как тяжко мне было ежесекундно ощущать присутствие скованного со мною человека!
На другое утро тот добился от начальника караула — неплохого, в общем-то, парня, — чтобы нам позволили пару часов передохнуть. Сначала сильно полегчало, но потом мне пришлось еще хуже. Я жестоко расплатился за одну свою особенность, которая меня и раньше-то не радовала: маленькая рука. Сокандальник мой так и так старался устроить, чтобы она не выскочила из наручника, и наконец на всякий случай так зажал, что при каждом движении железо впивалось мне в руку.
Тяжелей всего было осознавать, что меня совсем оставили слуги и европейцы-переводчики. В каком страхе жили белые при дворе я знал — правду о слугах узнал позже. При мне служил драгоман[244] Авва-Хайле. Он был священник или что-то в этом роде и некогда отсидел три года в кандалах как будто бы за веру. Я держал его из сострадания к перенесенным мучениям. Теперь он пригрозил всем слугам, что негус на них прогневается, если они останутся на службе у опального. Драгоман поступил так из холопства и природной злобы — я не встречал в Абиссинии другого такого мерзавца.
Люди испугались и спрятались в лесу, но все-таки не поверили Авве-Хайле. Они навели справки и узнали, что негус и думать о них забыл. Тогда они опять пришли ко мне. Вечером первого дня, когда полог шатра приподнялся и я увидел лица верных слуг, ко мне вернулась надежда.
Я еще рассчитывал на то, что негус поведет себя как свойственно пьяному человеку. В кротком вежливом, но сухом письме, написанном по-английски, я потребовал от него объяснений. Тюремщик мой обещал передать письмо и сдержал слово. Вскоре к моей палатке понуро, как на похоронах, подошли три переводчика. Им велено было сказать мне, что я получу свободу в обмен на честное слово не выезжать из Гафата, пока не вернется гонец, отправленный Теодросом в Массауа, и обещание дружбы с негусом. Я хотел было поторговаться, но один из переводчиков уговорил меня дать требуемое слово и меня отпустили».
После подобной выходки любознательный путешественник получил от негуса дозволение разъезжать по внутренним областям империи всюду, где только пожелает. Прежде всего Лежана привлекла сама столица Гондар, которую раньше по понятным причинам мало кто посещал. Она отлично расположена на возвышенности, выходящей мысом к озеру Тана; всякий европеец восхитится окрестностями. Но что за город! Это просто скопище домов под конусообразными соломенными кровлями, прескверно сложенных, кое-как разбросанных на большом пространстве. Между ними — дворы, сады, пустыри с развалинами… В центре возвышается величественное здание императорского дворца; ныне он разрушен, но его руины все еще величавы.
Скопище зданий без всякой архитектуры населяет пестрая смесь племен; в густой толпе встречаются мусульмане, христиане, евреи — и не мешают друг другу. Как ни странно, у мусульман, столь апатичных в других странах, в Абиссинии развилась наклонность к лихорадочной деятельности, торговле и промышленности — они их здесь почти что монополизировали. Местные евреи, хоть и строго соблюдают Моисеев закон, но в отличие от собратьев по всему свету презирают торговлю во всех видах, занимаются исключительно изготовлением оружия, инструментов да еще строительством — одним словом, это самые работящие люди в государстве. Христиане же полностью праздны и все время занимаются решением богословских вопросов.
Гондар пришел в упадок, но все еще оставался довольно активным центром торговой и, кажется, интеллектуальной деятельности. Сюда солдат приходит купить оружие, ремесленник — инструмент; сюда же «дебтера» (студент) приходит усовершенствовать и украсить свой разум. Здесь известно изящество и даже роскошь. В Гондаре есть дамы, и они не ходят босиком, как провинциалки: на ножках у них туфли без задников, а щиколотки непременно охватывают серебряные цепочки. Одеваются женщины в длинные белые рубашки, поверх которых накидывают синие шелковые бурнусы[245], украшенные бляшками чеканного позолоченного серебра — такова была мода 1863 года. Карет здесь нет, поэтому по улице дамы ездят на мулах в сопровождении двух рабов — один держит под руку хозяйку, другой ведет под уздцы мула. За светской женщиной, когда она выходит из дому, следует толпа горничных — кто на мулах, кто пешком, — за ними еще воины с копьями и щитами.
Купчихи заняты только хозяйственными хлопотами; жены ремесленников исполняют и более тяжелые обязанности: принести воды, дров, смолоть зерно, испечь хлеб — короче говоря, рабскую работу.
Вокруг Гондара — множество монастырей, большинство которых разрушено до основания. Ныне и до отдаленных стран дошло вольнодумство; монастыри уже не почитают так, как во Франции до Революции[246]. Лежан посетил Герефский монастырь, основанный самым почитаемым абиссинским святым — Текле-Хайманотом. Описание Гийома столь интересно, что мы непременно должны привести его целиком.
«Более приятного убежища, — пишет Лежан, — не могла бы себе пожелать не то что община аскетов, посвятивших себя всяческому умерщвлению плоти, но и общество философов — друзей уединенных размышлений, соединенных со всеми радостями, какие природа может дать непритязательному наблюдателю. Монастырь — точнее, монастырская деревня — дремал на берегу прозрачной речки, приютившись на склоне лесистого холма. Представьте себе приблизительно гектар земли, ограниченный живой изгородью; внутри это пространство разбито еще на десяток-другой участков, на каждом из которых выстроена избушка монаха. Между садиками петляет, как в лабиринте, узкая улочка, соединяющая кельи с монастырской церковью. Все это полно изящной приветливой сладости и отнюдь не располагает к аскетизму. Герефские монахи — очень добрые, честные и убежденные люди, как и все абиссинские монахи. Вероятно, они добровольно закрывают глаза на проникающие в душу соблазны природы и питают свой дух нелепостями, которыми глупое суеверие коптского[247] духовенства заразило абиссинское христианство.
Приняли нас радушно, но возникла проблема, как ввести в святую ограду мою ослицу. “Понимаете, — сказал монах-привратник, — она женского пола…” Я это понял, припомнив отрывок из дневника одного путешественника, столкнувшегося с таким же ребяческим пуританством на Афонской горе: он привел в ужас святых отцов сообщением, что в обитель проникло существо женского пола — кошка! Но в Герефе страж оказался не так уж строг. Я заночевал у добрых монахов и разделил с ними ужин, состоящий из одних только овощей. Ночевал я неподалеку от церкви, и ночью меня разбудило пение — шла служба. Я нашел, что в этих напевах есть какая-то прелесть…»
Неподалеку от Герефа находится озеро Тана, имеющее в длину двадцать, в ширину восемнадцать лье[248]. Рядом с ним на полянке, поросшей тростником и водяными травами, берет начало Голубой Нил.
Так Лежан, пользуясь разрешением своенравного государя, с толком провел время вынужденного бездействия, объездив вдоль и поперек полную контрастов страну и собрав о ней ценные сведения. Впрочем, если не считать недолгой опасности из-за гнева пьяницы-царя, Лежан не испытал никаких бедствий, постоянно ожидающих путешественника в других африканских странах. Надо сказать, что в абиссинцах много природного доброжелательства. Правда, их доброжелательство нужно поддерживать (а иногда и возбуждать) подарками, но оно все же искреннее и настоящее.
В целом этот народ благоденствует, однако внутри себя делится на весьма различные и разделенные бездной предрассудков сословия. Прежде всего — по месту и почет — скажем о вельможах, имеющих наследственные владения, освобожденные от налогов; затем следуют помещики — весьма уважаемые и влиятельные. Далее — образованный класс; купцы. Кто победнее из последних, тот малоуважаем, но перед разбогатевшими заискивают князья и вельможи. Не только в Европе деньги, нажитые на сомнительных по большей части сделках, золотят гербы! Ниже этого класса — или, можно сказать, касты — стоят слуги; хозяин кормит их, обходится с ними по-отечески и называет детьми. Наконец, на нижней ступеньке абиссинской социальной лестницы находятся рабы.
Одна особенность этого общества, сохранившаяся, должно быть, еще от средних веков, очень интересна. Помимо всех сословий существует категория людей, называемых «азмари». Вольной жизнью, очаровательной и независимой, они напоминают наших стародавних труверов[249]. Они ходят из города в город, играют на некоем довольно грубом инструменте, придумывают рассказы, поют длинные легенды на монотонный, но не лишенный изящества напев. Люди всех сословий любят азмари и с чувством внимают их импровизациям. Придет ли бродячий певец к двери благородного дома, лавки или хижины — всюду его радушно примут.
Лежан был волен ездить по всей стране, но данное слово связывало. Он очень тяготился подобным положением и с нетерпением ожидал, когда оно кончится. В один прекрасный день — 30 сентября 1868 года — консул вдруг получил приказание как можно скорее покинуть владения негуса. Опасаясь, как бы указ не отменили, он спешно собрал пожитки и наконец-то добрался до своей конторы в Массауа.
Но продолжительная сидячая жизнь не пришлась по нраву мощной натуре, неудержимо стремившейся в новые края!
Гийом Лежан уехал из Массауа и вновь отправился в Азию — повидал Турцию, где некогда получил боевое крещение, затем Кашмир, Западную Азию… Но, увлеченный демоном странствий, он не уберег здоровья и сил, прежде никогда его не покидавших. Тяжкие лишения и непрестанные труды преждевременно сломили путешественника. 8 февраля 1871 года Гийом Лежан скончался от страшной лихорадки в родном городке Плуэга-Геран.
Что касается Теодроса, его трагический конец известен. Через пять лет после отъезда Лежана негусу взбрело в голову (он не стал менее вздорным!) заковать в кандалы английского консула и еще два десятка европейцев. Им повезло меньше, чем Лежану: они долго оставались в цепях и каждую минуту, в зависимости от дозы коньяка, принятой царем, могли потерять жизнь.
На формальное требование Англии отпустить задержанных Теодрос ответил оскорблениями. Тогда Великобритания, сохраняя свою честь и безопасность подданных, без промедления собрала экспедиционный корпус под командованием лорда Нэпира[250] и отправила в Абиссинию. Блестяще проведя операцию, Нэпир буквально сокрушил войска негуса и осадил его в Магдале. Когда город был взят и остатки армии истреблены, Теодрос понял: дальнейшее сопротивление бесполезно. Чтобы избежать позорной капитуляции, он выстрелил себе в висок из пистолета.
Конечно, этот полудикарь, более испорченный, чем усовершенствованный цивилизацией, сам по себе не очень интересен, и можно считать, что получил по заслугам. Однако конец негуса не лишен величия и искупает многие недостойные поступки монарха и заставляет простить многие прегрешения…
ГЛАВА 17
ДОКТОР ГЕОРГ ШВЕЙНФУРТ
Три года в сердце Африки. — У динка. — В стране каннибалов. — Ниам-Ниам и момбуту.
Путешественникам издавна не давали покоя поиски истоков Нила. Пусть непрестанные, упорные, героические усилия не всегда венчал совершенный успех, пусть задача долго оставалась нерешенной, она продолжала возбуждать и воодушевлять умы. По крайней мере, отважные пионеры цивилизации совершили превосходные открытия и добыли для науки богатейшие материалы.
Таким блестящим исследователем стал и Георг Швейнфурт, имя которого следует поставить вровень с именами Бертона, Спика, Гранта, Бейкера.
Швейнфурт родился в Риге в 1836 году и очень рано обнаружил живейший интерес к естественным наукам. Его первый учитель, сын миссионера из Центральной Африки, был человеком выдающегося ума, видным ботаником и к тому же, само собой, неутомимым, увлекательным рассказчиком. Конечно, его рассказы производили на мальчика большое впечатление, и с тех пор ум Георга навсегда привлек терпкий, пьянящий аромат тайны, покрывавшей Африку. Швейнфурт очень прилежно учился и совсем еще юным получил диплом доктора естественных наук. Непредвиденное обстоятельство определило его призвание, к которому он был подготовлен рассказами первого учителя. Однажды Швейнфурт получил задание классифицировать и описать коллекцию растений из земель, орошаемых Белым Нилом. Тогда молодого человека охватила мечта — золотая греза ученого: посетить места, где он сможет увидеть эти растения во всем их великолепии, самому открыть новые виды…
Полный надежд и энтузиазма, но с пустым карманом, Георг пустился в первое путешествие. Он отправился в Египет, собирал гербарий в дельте Нила, за несколько Месяцев объездил в собственной лодке вдоль все побережье Красного моря, прошел по абиссинской границе и прибыл в Хартум. Когда деньги закончились, он вернулся в Европу с одной-единственной мыслью: при первой возможности возобновить прерванные труды.
Этот замысел был счастливо воплощен в 1868 году благодаря щедрости Гумбольдтовского общества, которое оплатило расходы по экспедиции из фондов, собранных за пять-шесть лет.
Теперь Швейнфурт мог покинуть Европу, не заботясь о деньгах. В августе 1868 года он сошел на берег в Египте, а в конце ноября оказался в Хартуме. Он намеревался отклониться от маршрута Спика и Гранта и направиться от Белого Нила прямо на запад в совершенно неизведанные области, где, как считалось, царят малярия и людоедство. Там змеится Джур, посещаемый торговцами слоновой костью, и Бахр-эль-Газаль, и множество других, менее значительных рек. Все они составляют бесконечную сеть — систему сосудов, заканчивающуюся, как мощной артерией, Белым Нилом.
Швейнфурт со страстью продолжал заниматься любимой ботаникой, к тому же рассчитывал подробно изучить все множество рек, чтобы распутать их клубок и определить существенно важное место, которое Бахр-эль-Газаль должен занимать в гидрографии[251] Африки.
Хотя у путешественника был фирман, подписанный хедивом, дело не обходилось без задержек, чинимых местными властями. Известно, что, несмотря на повеления из Каира, все суданские губернаторы словно сговорились мешать путешественникам. Причина была очень проста: если их никуда не пускать, они никому никогда не расскажут о рабовладении.
Зато в лице Джафар-паши, генерал-губернатора Судана, Швейнфурт нашел просвещенного, благожелательного человека, друга науки, оказавшего ему самую щедрую и действенную поддержку. Именно сам губернатор договорился об условиях, на которых богатый копт по имени Гатта, один из крупнейших хартумских торговцев слоновой костью, взялся сопровождать доктора и охранять его от любых неприятностей. Спорить Гатте не приходилось. Он был предупрежден: если каким-либо случаем Гатта оставит путешественника у чернокожих, выдаст людоедам и вообще каким бы то ни было образом бросит в беде — государство немедленно отберет у него имущество. Весьма действенное средство заставить плутов-торговцев преданно оказывать путешественнику поддержку, без которой он не может обойтись!
Швейнфурт сел в «неггер» Гатты — судно, специально приспособленное для плавания по Белому Нилу. Прочность этих судов рассчитана на то, чтобы выдержать страшные удары гиппопотамов и столкновения с ракушечными отмелями. Они заслуживают краткого описания: пожалуй, в мире больше таких судов не найти. Для их постройки употребляется исключительно сунт (нильская акация) — дерево, гораздо более тяжелое и твердое, чем дуб, но из всех местных деревьев, кажется, единственное более или менее поддающееся пиле. Оно настолько свилевато[252] и сучковато, что доски из него получаются не длиннее десяти футов, да и то редко. А так как сосну привозят исключительно в Хартум и цена на нее баснословна, то идет она лишь на мачты и реи. Все стыки скрепляются кольцами из бычьей кожи, что в случае бури не всегда надежно.
Нильская акация не только низкоросла и крива, но и столь тверда, что высохшую древесину распилить невозможно. К тому же нубийцы редко берут в руки пилу и плохо с ней управляются. Поэтому доски получаются без малейшей претензии на точность размеров. Но все эти недостатки в значительной мере компенсируются необыкновенной прочностью древесины сунта.
Длина судна превышает двадцать метров, борта достигают толщины одного фута. Они строятся из многих слоев досок различной длины, скрепляемых друг с другом внахлест, наподобие черепицы. На стыках доски сколачивают гвоздями, прошивая насквозь по меньшей мере два слоя. Так, тщательно примеряя доски, судну придают нужную форму.
Мачта, футов двадцати в высоту, несет единственный парус на огромном рее — ее длина в полтора раза длиннее самого корабля.
Первой стоянкой была пристань Фашода[253], где экипаж судна подвергся страшному нападению пчел. Тысячи разъяренных насекомых налетели на полуголые тела путников и жестоко их искусали. От укусов у всех началась сильная лихорадка, а для двух матросов-нубийцев они оказались смертельными.
Всем судам, прибывающим в Фашоду, приходится пробыть там несколько дней — для пополнения запасов зерна и для подписания налоговыми чиновниками бортовых бумаг. Швейнфурт никак не мог привыкнуть к постоянным шуткам корабельщиков, толпившихся на пристани. Эти люди жить не могут без смеха, шуток, подначек. Никакое дело не обходилось без каламбура; ни на минуту, даже ночью, не прерывались их забавы. Внушительных размеров глиняные бутылки с пивом немало способствовали вечному веселью, но и без того страсть к юмору их поистине обуревала. Шуткам предавалась не только молодежь, но и люди зрелого возраста, словно дети, были захвачены веселыми, простодушными, заразительными дурачествами.
Левый берег Белого Нила населяют шиллуки, в то время только что перешедшие под власть хедива. Земля их простирается до устья Бахр-эль-Газаля на двести миль в длину и на десять в ширину. Нигде в Африке, не исключая Египта, нет такой плотности населения — приблизительный подсчет, произведенный по распоряжению генерал-губернатора, дал в общей сложности три тысячи деревень от сорока пяти до двухсот хижин каждая. Население хижины составляет семья из четырех-пяти человек — итак, общее число жителей этой области должно доходить до миллиона двухсот тысяч человек. Это дает шестьсот жителей на квадратную милю — столько же, сколько в самых густонаселенных странах Европы. К тому же в мире, пожалуй, не сыскать столь благодатной для жизни страны. Земледелие, скотоводство, охота, рыбная ловля — все приумножает ее богатства. Изобилие видно во всем с первого взгляда. Деревни стоят узкой полосой на расстоянии от трехсот до тысячи шагов друг от друга: если все их окинуть взором, они словно сливаются между собой. Деревни похожи на пасеки, а хижины, с удивительным тщанием выстроенные, — ни дать ни взять ульи.
Шиллуки обожают быть на людях и помешаны на косметике. Все время, которое не посвящено работе, они проводят, разлегшись на деревенской площади, покуривая в приятной компании табак из огромных глиняных трубок. Что касается косметики, то без нее не могут обойтись ни богатые, ни бедные — только средства, используемые для украшения, не одинаковы. Обилие насекомых вынуждает всех обмазываться толстым слоем защитной мази, о достатке же человека вы можете судить по ее цвету. Мазь делается из золы. Если зола древесная, мазь получается серой, и человек с серым лицом наверняка бедняк. Красивый рыжеватый оттенок говорит о том, что на золе жгли коровьи лепешки; про человека с таким цветом лица всякий скажет, что он богач. Вообще незаменимыми ингредиентами местной косметики служат зола, навоз и коровья моча. Последним из названных средств моют непременно молочную посуду — очевидно, чтобы возместить недостаток соли.
Как и большинство африканцев, шиллуки большое внимание за недостатком одежды уделяют прическе. Мужчины упорно мажут шевелюру глиной, камедью и коровьим навозом; от этого волосы склеиваются и становятся так жестки, что принимают любую форму — гребня, каски, веера… Женщины причесок не делают; их шевелюра состоит просто из мелких завитков и напоминает каракуль. В отличие от братьев и мужей, они ходят не совсем голыми, а носят кожаный передник до колен.
Проведя в Фашоде девять дней, Швейнфурт 1 февраля 1869 года отправился в путь. По берегам кипела жизнь животного и растительного царства. Заросли акации тут настолько богаты камедью, что купцам грех не попробовать извлечь из этого выгоду. Очень любопытный, неизвестный прежде вид растения представляет из себя соффар, который путешественник отмечает из-за следующей характерной черты. Когда у этого растения формируются иглы, их поражают насекомые. Из каждой иглы образуется шарообразный нарост около дюйма диаметром. Затем насекомые покидают гнездо, и иголка с дырочкой словно становится музыкальным инструментом: ветер извлекает из них звуки, подобные свирели… Отсюда и название этого рода акации — соффар, что по-арабски значит «флейта», туземцы называют его «свистящим деревом».
Вскоре судно вошло в густые заросли папируса — настоящую чащобу, заполонявшую ложе реки. Под 9°30′ северной широты приветствовал Швейнфурт этого «отца бессмертия мысли», который прежде изобиловал в Египте, как сейчас — на пороге неизведанных стран.
Вскоре Швейнфурт прибыл к динка, обитающим близ того места, где слиянием рек Диуар и Бахр-эль-Араб образуется Бахр-эль-Газаль. Главную квартиру Швейнфурт устроил в деревне Мешери-эр-Рек. Оттуда он рассчитывал пройти в страну пигмеев аттаков, живущих близ экватора, а потом вернуться в Дарфур, столь давно и столь мало известный. Давно — потому что еще в 1460 году фра Мауро написал на своей знаменитой карте мира слово «Дарфур». Мало — потому что лишь в 1874 году он был исследован немецким путешественником Нахтигалем.
Первой заботой Швейнфурта было изучение динка — интереснейшей народности, область расселения которой простирается на четыреста миль.
Динка — люди среднего роста, коренастые, с длинными, жилистыми и худыми, как у всех жителей болотистых мест, руками, угловатыми прямыми плечами.
Длинная шея, несколько искривленная у основания, подходит к форме черепа — вытянутого и несколько сплющенного, особенно на лбу и на макушке. Челюсти у динка, как правило, довольно велики. В целом создается удивительно цельное впечатление.
Динка, как и шиллуки, с наслаждением мажутся мазью из золы. Из-за этого их черная кожа меняет цвет. Если соскоблить краску и натереть кожу маслом или просто помыть, она сверкает, как бронзовая, но такой оттенок встречается редко. Когда кожу затем долго не мажут, она шелушится и становится серой.
Черты и выражение лица у динка кажутся однообразными, но это впечатление обманчиво: оно объясняется не столько действительным всеобщим сходством, сколько непривычкой наблюдателя. Большинство мужчин выглядят красивей, чем женщины того же возраста, но, во всяком случае, привлекательные черты (чтобы не сказать человеческие лица) встречаются редко. Местные жители безбровы, низколобы, к тому же — постоянно гримасничают и кривляются, одним словом, ненамного симпатичней обезьян. Иногда — как исключение — встречаются изумительно правильные черты.
Волосы почти у всех динка негустые. Обычно они стригутся наголо и лишь на макушке оставляют прядь, украшаемую перьями страуса — так они изображают хохолок цапли. Очень модны также прически из плоских прядей; иногда мелкие косички уложены полосами поперек головы.
Кроме того, встречаются причудники-щеголи, которые выделяются необычной длиной волос. Если волосы негра постоянно расчесывать, мазать маслом и закалывать, они становятся не столь курчавы. Именно так обращаются со своей шевелюрой светские львы у динка. Благодаря прямым заостренным косицам вершков в шесть длиной они похожи на чертей, к тому же моют волосы коровьей мочой, и те становятся ярко-рыжими.
И мужчины и женщины выдирают себе верхние резцы. Трудно объяснить, почему укоренился этот обычай — ведь лица из-за этого становятся отвратительными, особенно у стариков. Кроме того, и мужчины и женщины в нескольких местах прокалывают уши и носят железные кольца или окованные на концах железом палочки. Женщины еще украшают губу стеклянной бусиной на железной булавке. Края неизменной пары передников до лодыжек расшиты колокольчиками, колечками, нитками бисера.
Нынешний век для динка — поистине железный: это у них драгоценный металл. Железо ценится выше меди. Железные кольца покрывают запястья и лодыжки женщин. У богачей супруги подчас носят на себе до полуцентнера подобных примитивных поделок! Любимое украшение мужчин — толстое кольцо из слоновой кости на предплечье; иные носят целую гирлянду таких колец — своеобразную гибкую повязку от локтя до запястья. Мужчины победнее носят украшения из меди, переплетенные полоски ткани вокруг шеи и цельные браслеты из кожи гиппопотама. Всеми мужчинами ценятся козьи и коровьи хвосты, которыми они весьма красиво украшают оружие.
Вооружены здешние люди прежде всего копьем, хотя многие, подобно кафрам, предпочитают палки и дубинки из слоновой кости. За это другие племена в насмешку называют динка «а-тагбондо», что означает «люди с палками».
Против палок динка придумали два своеобразных вида оборонительного снаряжения. Один из них называется «куйаре» — кусок дерева с углублением посередине длиной около метра, служащий для защиты рук. Другой, именуемый «данк», похож на лук, эластичен, пружинит и великолепно выполняет предназначение — ослаблять силу удара. Кроме того, динка употребляют для обороны щит, похожий на кафрский — длинный, овальный, обтянутый буйволовой кожей, с рукояткой, приделанной к обоим концам.
Наконец, что немаловажно для европейского путешественника, привыкшего к чистоте и определенному комфорту при еде, динка искусные кулинары и в педантичнейшей чистоте содержат жилища. Желудок Швейнфурта, кажется, сохранил признательность к ним. Путешественник неустанно подчеркивает, что эти два качества, говорящие об определенной степени как телесной культуры, так и нравственного развития, в подобной степени даже приблизительно не развиты ни у какого другого африканского племени. «Динка, — пишет он, — превосходят в этом отношении нубийцев и — не поколеблюсь заявить — искусней арабов и самих египтян. Их мучные блюда и отвары ничуть не уступают произведениям европейской кухни».
В отношении мясной пищи динка также проявляют более тонкий вкус, чем их соседи. Так, некоторые пресмыкающиеся, которыми лакомятся бонго и ниам-ниам[254], у динка вызывают отвращение. Они никогда не едят крокодилов, ящериц, крабов, лягушек и мышей, неодолимое омерзение питают к собачатине, а что касается человеческого мяса — они скорей умрут, чем его отведают. Лучшее лакомство для динка — «степная кошка». Туземцы знают толк в черепашьем мясе и обожают жареную зайчатину.
Не менее удивительно для простых дикарей, что динка не только вкусно готовят, но и соблюдают порядок при еде — в этом отношении они отстают от нас, бесспорно, меньше, чем жители Востока.
Иногда Швейнфурт ради приятного общества и из уважения к кулинарным талантам приглашал к себе в гости женщин динка из хороших семейств. Под навесом хижины ставился стол с посудой и кухней на европейский манер. Путешественник не уставал дивиться, как быстро гостьи привыкали к нашим обычаям: непринужденно садились на стулья и пользовались ложкой и вилкой так, словно это им было в привычку. После еды они мыли всю посуду за собой и аккуратнейшим образом ставили ее на место.
У динка почти неизвестны паразиты, не дающие спать в Западном Судане — Швейнфурт свидетельствует об этом, как человек, много страдавший от общения с самыми грязными и опустившимися представителями рода человеческого. Единственное неудобство ночлега в просторных, проветриваемых и удобных жилищах — змеи, которые ползают по крыше, шуршат соломой и мешают спать. Кроме того, европейцы от природы имеют предубеждение против рептилий и нервничают от непосредственного соседства с ними. Динка к этим отвратительным тварям питают такое почтение, как ни к какому другому существу. Динка называют их братьями и на убийство рептилий смотрят как на преступление. Заслуживающие доверия свидетели говорили доктору, что главы здешних семейств различают змей в лицо, называют по именам и вообще относятся к ним как к домашним животным. Кажется, эти змеи не принадлежат к ядовитым видам.
Динка, как и пастушеские народы Южной Африки, питают, если можно так выразиться, преувеличенную нежность к своему скоту. Едва у коров начинают расти рога, хозяева искусно расщепляют их так, что рога затем ветвятся до бесконечности и придают ласковым ручным животным очень странный вид. Любовь динка к скотине, особенно к коровам, такова, что ни о чем они столько не думают и ничем так не гордятся, как приумножением стад. Можно даже сказать, что динка поклоняются своим коровам — даже их экскременты почитаются драгоценными. Если корова заболела, врач лечит ее самым внимательным образом. Коров и быков никогда не режут — едят только тех, кто умер от старости или от несчастного случая. Эти обычаи можно было бы считать пережитками старых культов, но динка запросто едят мясо убитого быка, если он им не принадлежал. Выходит, что они так почитают свои стада не из суеверия, а из удовольствия ими владеть. Горе, которое динка испытывает в случае кражи или смерти животного, неописуемо. Чтобы вернуть корову, он готов принести самые тяжкие жертвы — ведь скотина для него ценнее всего, дороже даже жены и детей.
Устроившись на месте, Швейнфурт совершил первую поездку к диурам[255]. Они живут в горах, на плато из красного песчаника, изобилующем железной рудой. Они совершенно непохожи на соседей, динка. Слово «диуры» означает, по-видимому, «лесные люди». Динка пастухи, диуры кузнецы. С удивительной настойчивостью последние отрывают траншеи до десятка футов глубиной и добывают железную руду. Плавят руду в печах, представляющих собой глиняный конус высотой не более четырех футов; верхняя часть печи расширяется наподобие бокала. Расплавленный металл постепенно проходит сквозь раскаленный уголь и стекает в ямку, устроенную под печью. На всю операцию требуется около сорока часов. Металлический осадок на стенках переплавляют второй раз. Теперь разводят костер под большим слитком, лежащим в земле. Когда слиток раскалится докрасна, из него большим камнем формуют цельный брус, из которого простейшей ковкой удаляют последние примеси. Хотя данный способ примитивен, уголь плох и инструменты грубы, получается прекрасное железо — не хуже лучших шведских марок.
У трудолюбивых первобытных ремесленников большие семьи; если бы к ним не вторглись нубийцы, ежегодно отнимающие у них половину урожая, земля диуров была бы заселена так же густо, как и земля шиллуков. Когда диурам удается избежать наложенной завоевателями повинности по переноске грузов, они охотятся, рыбачат, добывают и обрабатывают железо. С удовольствием занимались бы диуры и скотоводством, но земли их заражены мухой, подобной мухе цеце, как известно, ужасно вредной для крупного рогатого скота. Диуры вынуждены довольствоваться козами, для которых страшная муха безвредна.
Мужчины по доброй воле с бесконечным вниманием и усердием ухаживают за домашней живностью. На долю женщин остаются полевые работы. Женщинам приходится также делать домашнюю посуду, строить дома, плести плетни и корзины, лепить горшки — так умело, что и не скажешь, что они сделаны без гончарного круга.
Заключая краткое описание любопытного во многих отношениях народа, скажем, что семейные привязанности, родительская и сыновняя любовь развиты у диуров гораздо сильнее, чем у большинства соседних племен. Они укладывают детей спать в большие продолговатые корзины, подобные нашим люлькам, причем так, что дети не испытывают никаких неудобств; колыбели содержатся в абсолютной чистоте. Однако они не только заботятся о потомстве, но исповедуют также самое глубокое почтение к старикам.
Таким образом, Швейнфурта окружали безобидные, необременительные соседи. Доктор решил подольше пожить в сердце Африки и поселился в просторной хижине, любезно предоставленной в его распоряжение.
Через какое-то время для европейца, поселившегося вблизи экватора, самым большим лишением становится недостаток привычных овощей. Швейнфурт был превосходный ботаник. Чтобы иметь овощи к столу, а также для того, чтобы туземцы убедились, сколь много разных плодов может производить их тучная земля, он сразу же разбил огород. У путешественника были с собой кирки, мотыги, заступы и коллекция семян различных растений. Он поднял около двух гектаров целины и обнес будущие делянки изгородью. В большей части участка, разделанного на грядки, он посеял лучшие сорта кукурузы, початки которой получил из Нью-Джерси. По прошествии семидесяти дней Швейнфурт собрал урожай, который не только оправдал его самые честолюбивые планы, но и превосходил по качеству американский. Табак, посеянный из мерилендских[256] семян, вырос очень высоким и дал около центнера листьев. Табак в здешних местах, правда, рос и прежде, но это низенькое растеньице, из листьев которого нельзя было даже свернуть сигару. Благодаря утренним и вечерним поливам удалось полностью победить засуху. Капуста, редис, кормовая шведская репа наилучшим образом приспособились к твердой, но плодородной почве. Томаты и подсолнечник, прежде здесь неизвестные, также прижились и прекрасно росли в огороде доктора.
«С появлением огорода, — рассказывает Швейнфурт, — все блага флоры оказались к моим услугам. Я вставал на рассвете, брал с собой одного-двух слуг, чтобы нести оружие с чемоданами, и отправлялся в поход по окрестным лесам. К полудню я возвращался с бесчисленными сокровищами, и меня встречал стол, сервированный так хорошо, как только возможно здесь. Затем, усевшись под густым деревом, я анализировал, классифицировал и описывал новинки, которые постоянно находил. При приближении вечера я шел гулять по полям, а мои люди тем временем дополняли гербарий. Недостатка в новых растениях не было, и моя коллекция приобрела внушительные размеры. Сверток громоздился на сверток, изготовленный из кожи, тщательно зашитый и готовый следовать за мной до Европы.
…Тогда же умер пес мой, бедный Арслан, и я долго скорбел об этой утрате. Мы не расставались с самого отъезда, вместе ехали через пустыню. Когда он перестал страдать от недостатка воды, я решил, что все опасности для него миновали, но он пал жертвой зловредного климата. Только Арслан напоминал мне о родном очаге и являлся последним звеном, соединяющим меня с домом. С его смертью связь оборвалась — я почувствовал, что какая-то пропасть отделяет меня от родной земли. Подобную утрату всегда переносишь очень тяжело, особенно здесь, в далеких краях, где Арслан заменял мне друга!
Во всех печалях и скорбях природа — наша великая утешительница. Спокойствие мира растений умиротворяло мой возмущенный дух, и я вновь вернулся в царство флоры…»
Больше всего из жителей этой области Швейнфурт общался с бонго. Он мог изучить их обычаи, язык и таким образом лучше узнать туземцев. Страна, в которой обитает бонго, по размерам приблизительно равна Бельгии, но по численности населения ее можно сравнить с Сибирью. Это племя уже находилось в упадке и некоторое время спустя роковым образом исчезло.
Характерный факт, сразу бросающийся в глаза: динка черны, как аллювиальные земли[257] их родины, у бонго, подобно всем жителям латеритовых[258] плоскогорий, кожа красно-коричневая, как у земли, которую они населяют. У них вообще нет ничего общего с динка. У бонго более крепкие члены, рельефные мускулы, массивные плечи — и полнейшее безразличие к скоту.
Одежда бонго солидней, чем у диуров и динка: в недалеком прошлом они носили кожаные передники, теперь же опоясываются полосой ткани, концы которой свешиваются спереди и сзади. И до чего же они не сходны с соседями во всем, что касается пищи!
Дело в том, что по части питания бонго проявляют самую отвратительную неразборчивость. Для них любое живое существо, за исключением человека и собаки, и в любом виде пригодно для еды. Бонго радуются, когда коршуны наведут их на гниющие объедки львиного обеда: тухлое мясо наверняка не жестко, к тому же, как считают бонго, питательней и легче переваривается. Можно ли спорить о вкусах с людьми, которые обожают содержимое бычьего желудка, кишащего червями, и набивают этими червями полный рот? Можно ли после того удивляться, что они называют дичью все шевелящееся и ползающее — от крыс до змей? Будет ли странно видеть, как они едят дохлых грифов, паршивых гиен, скорпионов, личинки термитов? Одно из любимых лакомств бонго — грибы. Африканцы с неутолимой жадностью вечно голодных людей едят их в неслыханных количествах. Эта еда хотя бы не омерзительна и не опасна, ибо, как ни странно, ядовитых грибов здесь нет вовсе, а некоторые из них — действительно очень вкусны.
Женщины бонго, хотя их одежда, мягко говоря, незатейлива, довольно кокетливы и обожают себя украшать. Тонкая ветка с листьями, иногда обновляемый каждое утро пучок травы и своеобразный султан из окрашенных в черный цвет растительных волокон, напоминающий конский хвост, — вот их наряд. О женских украшениях — отдельный разговор. Мало того, что о приближении туземок издалека возвещает звон массы стекляшек и железяк. В ушах у женщин висят массивные железные или медные кольца и полумесяцы, а иногда и еще пять-шесть подвесок. Выйдя замуж, молодая женщина сразу протыкает себе губу и понемногу расширяет отверстие, так что туда можно просунуть гвоздь, металлическую пластинку, а то и палочку около дюйма диаметром. В ноздри втыкают соломинки до трех с каждой стороны; в большой моде и кольца, вдетые в нос. У самых отчаянных модниц в углах рта вдеты застежки или, вернее, скобки — должно быть, чтобы не растягивался рот.
Предплечья у женщин бонго покрыты татуировкой или рубцами в виде параллельных линий, зигзагов, рядов точек или кружков. Нет ни одного бугорка, ни одной складочки на теле, чтобы туда не воткнули соломинку или веточку. Попадаются щеголихи, у которых из разных мест таких соломинок торчит до сотни, благо места довольно: у взрослой женщины бонго ляжки толщиной с мужской торс, а в окружности бедер она даст фору любой готтентотской Венере[259]. Здесь не редкость красотки весом сотни в четыре фунтов.
Доктор Швейнфурт уже давно жил неподалеку от фактории Гатты, поглощенный занятиями естественной историей, когда некий торговец слоновой костью с берегов Бахр-эль-Газаль пригласил его вместе отправиться в страну племени ниам-ниам. Можно представить себе, с какой радостью наш ученый принял предложение. Конечно, он счел долгом воспользоваться единственной, быть может, оказией изучить совершенно неизвестный дотоле народ, о котором ходили самые нелепые легенды.
Караван отправился в путь в конце января 1870 года. 19 марта он достиг Уэле, одного из притоков, а может быть — и верховья Убанги, впадающей в Конго.
Доктор Швейнфурт побывал у племени ниам-ниам и прожил там несколько месяцев. В результате он прекрасно узнал туземцев — даже научился немного их языку.
Если оставить в стороне некоторые особенные черты, по которым и различаются между собой отдельные группы человеческой семьи, то ниам-ниам — люди той же природы, что и все остальные. Уже давно покончено с абсурдной гипотезой, будто они мало чем отличаются от животных и у них чуть ли не хвосты растут.
Принятое для их племени название заимствовано из языка динка. Оно означает «едоки» или, точнее, «пожиратели» — прозрачный намек на каннибализм. Нубийцы переняли это название, и оно настолько срослось с представлением о людоедстве вообще, что его иногда прилагают и к другим каннибальским народам. Собственно говоря, ниам-ниам неразборчивы в пище так же, как бонго, но притом еще в высшей степени плотоядны. Мясо — их главная пища, а возглас: «Мяса! Мяса!» — их лозунг и страстный боевой клич в ссоре и на войне.
Вот, между прочим, характерный факт, дающий пищу для любопытнейших параллелей. У динка, народа, по существу, земледельческого, инфинитив глагола «есть» применяется и для обозначения сорго, тогда как у ниам-ниам омонимом[260] этого глагола будет название именно мяса: «мясо» и «есть» звучат одинаково.
Поэтому нет ничего удивительного, что столь односторонняя склонность толкает ниам-ниам к людоедству. Собственно, для них это совершенно естественное дело. Ниам-ниам сами запросто рассказывают про ужасные пиршества с человеческим мясом, собирают зубы своих жертв, делают из них ожерелья, которые с гордостью носят. Среди охотничьих трофеев они выставляют черепа съеденных людей, а человеческое сало у них — предмет повседневной торговли.
Едят ниам-ниам военнопленных (мужчин и женщин), едят жертв разбойничьих набегов — брошенных в деревне стариков, по слабости своей самих попадающих в руки. В мирное время, если умрет иноземец, путешествующий в этой стране, — его съедают. Если умрет одинокий, оставшийся без семьи туземец — тоже съедают. Будь это друг, товарищ — не имеет значения: это мясо! Более того, они выкапывают из земли и съедают полуистлевшие трупы умерших в пути караванщиков. Швейнфурт отказывался верить в эти омерзительные подробности, рассказанные ему одним из нубийцев Гатты, но ниам-ниам, не стыдясь своих обычаев, сами заверили доктора, что считают съедобными любые трупы, кроме трупов людей, страдавших от кожных болезней.
Однако этот обычай, которому до сих пор не удалось дать правдоподобного объяснения даже в качестве пережитка древнего культа, бытует далеко не у всех. Есть среди ниам-ниам личности, питающие такое отвращение к человеческому мясу, что они даже отказываются что-либо есть с блюда, которым пользовался их соплеменник, предаваясь каннибализму.
Поскольку ниам-ниам так ужасно плотоядны, они, в отличие от многих африканских племен, не вырывают себе резцы, а, напротив, подтачивают и заостряют их, чтобы легче грызть труп или в сражении рвать «голыми зубами» тело еще живого врага. Дальше этого каннибализм простираться уже, вероятно, не может.
Большинство работ здесь выполняют женщины, мужчины не утруждают себя и располагают множеством времени для занятий туалетом, особенно прической, которой щеголяют до невероятия. Трудно назвать вид косичек, локонов, бантиков, валиков, узелков, тесемок, завивок, который эти господа не испробовали бы, чтобы придать сложному сооружению из волос как можно более утонченный шик. Вот какова была самая распространенная мода в те времена, когда ниам-ниам посетил Швейнфурт. Сначала волосы начесывали на лоб, делая при этом еще пробор и оставляя на лбу треугольную прядь. Еще по пряди брали на каждом виске, закидывали назад и завязывали узлом на затылке. По бокам завивали локоны, изображавшие ломти дыни. На висках у самых корней волосы заплетались бантиками или узелками, а дальше свешивались косицами вокруг шеи, причем три-четыре самые длинные косицы падали на шею или даже на грудь.
В завершение беглого очерка этого любопытнейшего племени, превосходно изученного замечательным путешественником, еще несколько слов. Все ниам-ниам воины, поэтому каждый из них носит копье и кинжал, а изготовлением оружия занято множество кузнецов. Копья у них, как и у всех народов тех мест, страшно зазубрены и потому чрезвычайно опасны. Кинжалы у них отличаются сложностью и многообразием форм: кривые, изогнутые, многогранные, угловатые, покрытые диковинными шипами…
…По-прежнему страстно желая видеть все новые виды человеческого рода и собирать все новые виды растений, Швейнфурт из страны племени ниам-ниам отправился на юг, к момбуту.
Площадь расселения момбуту не превышает десяти тысяч квадратных километров, население же доктору показалось чрезвычайно плотным: он оценивает его более чем в миллион человек. Страна их расположена между 3-м и 4-м градусами южной широты, между 26-м и 27-м градусами восточной долготы.
Эта страна произвела на путешественника впечатление земного рая. Склоны холмов покрывают бесчисленные, роскошные банановые рощи, среди которых возвышаются вершины масличных пальм несравненной красоты и других царственных деревьев. По берегам рек и ручьев — зелень, исполненная свежести и благодати; купола сельских жилищ укрыты навесом густых ветвей…
Обитатели этого экваториального Эдема[261] самостоятельно, помимо всяких контактов с христианами и мусульманами, достигли весьма высокой степени культуры; у них развиты ремесла. Швейнфурту момбуту показались во всех отношениях выше соседних племен. У туземцев есть дух общежития, определенная национальная гордость; немногие из африканцев могут сравниться с ними интеллектом. Момбуту — преданные друзья, и живущие среди них нубийцы восхищены их душевностью, порядком и спокойствием общественной жизни, ловкостью, смелостью…
К сожалению, момбуту — самые закоренелые людоеды во всей Африке! К югу от них живут чернокожие племена, стоящие ниже по социальному развитию. Момбуту глубоко презирают эти племена и видят в южных землях раздолье для разбоя и грабежей. Там они достают себе и скот, и человеческое мясо. Все тела павших в битве немедленно расчленяются, тут же на месте коптятся и отправляются в кладовые. Пленных ведут гуртом, как баранов, дома сажают под замок — и со временем несчастные также исчезают в желудках страшных победителей.
Швейнфурту никогда не приходилось присутствовать при этих ужасных трапезах. Но как-то он проходил мимо одной хижины и увидел, как несколько женщин, не замечая европейца, ошпаривают кипятком нижнюю половину человеческого тела — кожа от этого из черной превратилась в изжелта-серую. Несколько дней спустя в каком-то доме он заметил, что над очагом висит — очевидно, коптится — человеческая рука.
Следы людоедства доктор встречал на каждом шагу. Более того, сам князек подтвердил каннибализм соплеменников. С князьком путешественник встретился у одного купца, который спросил, отчего при них никто в округе ни разу не ел человечины.
— Вы этого просто не видели, — ответил монарх. — Я знал, что вы гнушаетесь этой пищей, и приказал готовить и есть ее только тайком.
Достоверно известно, что антропофагия[262] у момбуту распространена даже шире, чем у ниам-ниам. Доктору показывали множество черепов, оставшихся после туземных пиршеств. Жир из копченых человеческих тел момбуту вытапливают и готовят на нем.
Момбуту несколько светлее других африканских народов: их кожа имеет скорее цвет молотого кофе. У них длинные густые волосы, также довольно длинная и густая борода, руки тонкие, но отнюдь не слабые. Кроме того, есть одна особенность, отличающая момбуту от всех соседей: среди них немало светлоголовых. Швейнфурт за время пребывания среди них видел несколько тысяч человек и пришел к выводу: светлые — пепельные или соломенные — волосы имеет, как минимум, каждый двадцатый момбуту. Светлые момбуту, впрочем, так же курчавы, как и остальные негры, но кожа их более светлого, землистого оттенка; выглядят они слабыми, глаза бегают, а то и косят, во всем явно проявлялся альбинизм[263].
Выдающееся путешествие, выдвинувшее доктора Швейнфурта в первый ряд современных ученых, длилось целых три года и 2 ноября 1871 года завершилось благополучным возвращением в Европу[264].
ГЛАВА 18
МАДЕМУАЗЕЛЬ А. ТИННЕ
По Верхнему Египту. — От Хартума до Гондокоро. — Смерти. — В одиночестве. — Триполитания. — Катастрофа.
Из всех жертв, павших на африканской земле, где пролилось столько крови, никто не выглядит так поэтично и трогательно, как эта девушка. На заре жизни она жестоко обманулась в самых дорогих надеждах, сказала «прости» цивилизованному миру — и отправилась искать забвения на негостеприимной земле, где ее ожидала ужасная смерть.
Александрина[265] Тинне родилась 17 июля[266] 1835 года. Ее отец — богатый английский негоциант — вторым браком женился на баронессе Стеенграхт-Капеллен. Она и стала матерью несчастной путешественницы, трогательную историю приключений которой мы собираемся здесь рассказать.
Отец Александрины умер, когда она была еще маленьким ребенком, и оставил ей солидное состояние: она сделалась одной из самых богатых невест в Нидерландах. Образование Тинне получила блестящее — гораздо более обширное, чем обычно получают девушки. Своей красотой, умом и исключительной добротой Александрина произвела сильное впечатление при голландском дворе. Королева полюбила девушку, быстро угадав своей возвышенной душой, насколько необыкновенна эта натура. Но вскоре разразилась катастрофа, безвозвратно уничтожившая все мечты Александрины Тинне. Она была помолвлена с неким молодым иностранным дипломатом. Вдруг перед самой свадьбой выяснилось, что жених — бесчестный негодяй. Удар был настолько силен, разочарование так жестоко, что она не пожелала слушать никаких утешений, оставила все и решилась отправиться в странствия.
Впрочем, желание странствовать у нее, пожалуй, не возникло на пустом месте, а лишь пробудилось после катастрофы от долгой дремоты. Так сильный удар высекает из кремня искру, скрытую дотоле в косной массе. Отрывок из одного письма нашей путешественницы доказывает наше утверждение:
«Повидать Америку или Австралию, — писала она после первого большого путешествия, — мне было не так любопытно. Но Африка, не сумею сказать почему, всегда притягивала меня. Еще когда я в детстве учила географию, посреди карты Африки было большое пустое пространство — мне все время хотелось поехать туда. Теперь я уже однажды добралась в этот неведомый край — и вновь по некоему инстинкту, словно бабочка на свет лампы, возвращаюсь туда».
Поистине в строках чудится прямое предсказание жестокой судьбы!
В 1856 году мадемуазель Тинне посетила норвежские ледники и отправилась дальше в сторону Северного полюса. Затем, стосковавшись по солнцу, в том же году устремилась в Италию, посетила Константинополь, Смирну, Каир… Ее сопровождали мать и тетка, мадемуазель Адриенна ван Капеллен, — бывшая фрейлина голландской королевы. Александрина поселилась вместе с ними в восхитительной вилле на берегу Нила и там жила, восторженно созерцая прославленное лазурное небо и солнце Ориента[267], неодолимо влекущие к себе.
Она была высокая изящная бледная блондинка; одевалась очень просто, причем в Египте носила местный наряд с широкими рукавами, более удобный в этом климате. Просторный наряд подчеркивал ее естественную грацию, а тюрбан из шелковой дамасской ткани делал еще более привлекательными тонкие, приятные, но волевые черты лица.
Итак, она жила в Египте, не переставая по-детски удивляться пустыням, лесам, цветам, восхищаться несравненным великолепием редких птиц. Она полюбила бездонное, ослепительное, ясное небо, на фоне которого встают величественные, красноречивые для сердца руины; полюбила и священную некогда реку — свидетельницу рождения цивилизации…
Но вскоре в этой душе к чувствам любви и восторга примешалась бессознательная мизантропия[268]. Тинне очень захотелось провести в Африке остаток навсегда загубленной жизни. Но Египет слишком близок к дому, слишком многолюден… Добро бы еще были одни феллахи[269], арабы, негры — но ведь здесь ежеминутно сталкиваешься с европейской цивилизацией. Куда ни пойдешь — бросается в глаза западное влияние в одежде, кухне, языке, попадаются навстречу шумные, все заполоняющие туристы…
И мадемуазель Тинне возжелала увидеть Африку первобытную, девственную. Лишения, трудности и опасности не страшили Александрину. Куда она решила — туда и отправляется. Мать с теткой не оставляли ее. Все вместе они поднялись вверх по Нилу, повторяя путь бесстрашных путешественников, пытавшихся раскрыть тайну истоков реки.
История первой большой поездки в дикую, почти не исследованную область, когда три женщины дошли до мест, расположенных всего в нескольких градусах от экватора, рассказана господином Джоном А. Тинне — единокровным братом путешественницы — в труде, озаглавленном: «Географические заметки о путешествии трех голландок в глубь Африки».
Александрина вернулась в Европу, поправила здоровье и вновь уехала в Каир, где и провела следующую зиму. Сначала она намеревалась отправиться в Абиссинию, но затем передумала и в конце 1861 года твердо решила посетить страну, лежащую по берегам Белого Нила. Это болотистая местность, полная испарений, несущих малярию; она особенно опасна для европейцев — страшная лихорадка изнуряет их. Но самая главная опасность крылась в том, что путешественницу ожидала страна, разоренная грабежами и охотой на людей, безнадежной борьбой чернокожих против работорговцев, — страна, где европейская женщина не найдет безопасного пристанища. Путешественницы знали это — но ничто не могло остановить бесстрашных голландок. Три женщины тщательно собрались в дорогу и 9 января 1862 года вместе со свитой спокойно и бесстрашно погрузились на три корабля, чтобы добраться через Нубию в Судан. Несмотря на всю важность путешествия, перед которым отступало столько закаленных мужчин, мы, за недостатком места, вынуждены отказаться от желания проследить шаг за шагом путь отважных женщин.
Вожди диких племен всюду оказывали мадемуазель Тинне, словно царской дочери, самый миролюбивый и пышный прием. Впереди нее бежали слухи о красоте и богатстве. Многие видели, как Александрина — бесстрашная амазонка[270] — галопом скакала от селения к селению; многие восхищались ее покорявшей сердца благожелательностью. Путешественницу объявили дочерью султана Блистательной Порты[271]. Этот слух, разрастаясь с невероятной быстротой, перелетая из деревни в деревню, распространился по всей Восточной и Северной Африке — караваны донесли его до самых отдаленных оазисов Сахары. Герхард Рольфс[272] позднее слышал его в таких местах, где никогда не ступала нога белого человека.
К сожалению, поэзия путешествия по удивительным диким местам нередко омрачалась встречей с парусниками, перевозившими невольников. Вот какие душераздирающие подробности содержит письмо мадемуазель Тинне из страны динка:
«Здесь я впервые увидела пресловутую торговлю чернокожими. Никогда в жизни я не бывала так поражена, не испытывала такого ужаса. Я, как и все, слышала разговоры об этом, много раз читала описания работорговых караванов, но не представляла себе ни размеров подобного зла, ни жестокости и цинизма торговцев. Все арабские купцы, а также большинство европейских, имеют так называемых охранников, на деле же охотников за неграми. Они окружают и жгут деревни, грабят все, что находят там, и угоняют сотни негров. Несчастных грузят на барки и увозят втайне от вице-королевских властей: хотя в отдаленных провинциях закон не имеет никакой силы, для вида с ним все же как бы считаются.
На самом деле все совершается совершенно бесстыдно. Поскольку в нынешнем (1862) году охота была успешной, все побережье было покрыто большими пятнами. Я подъехала ближе и увидела: это негры, сбитые в кучу так плотно, что образуется сплошная человеческая масса, за которой легко надзирать. Более всего поразила меня крайняя худоба невольников. Торговцы из экономии держат их впроголодь — впрочем, похоже, что натура негра приспособлена к этому: европеец на их месте вряд ли бы выжил.
Несчастные, несомненно, видели, как мы жалеем их. И однажды, когда я проходила мимо одной из групп негров, меня схватила за руку женщина с маленьким ребенком и что-то сказала. Мне перевели ее слова: она хотела через меня попросить хозяина о разрешении свидеться со вторым сыном и матерью, принадлежавшими другому торговцу. Купец не отказал мне. Встреча была столь трогательна, что я купила всех четверых. Сейчас они все у меня; вскоре, надеюсь, мы будем проезжать их родные места и я отпущу их.
На другой день под наше покровительство явились две старухи, которых бросил на произвол судьбы хозяин, потому что они слишком ослабли и не годились для продажи. Если купец видит, что продажная цена не покроет расходов на поддержание жизни раба, он оставляет его умирать без единого глотка воды, а родные, если находятся в той же партии, смотрят на мучения бедолаг и не имеют возможности не только помочь, но даже подойти к ним.
Короче говоря, не могу подробно описать все гнусности, свидетелями которых мы были, пока наши лодки находились вблизи этого лагеря. Вполне понятно, что все негритянские племена Белой Реки, некогда столь миролюбивые и гостеприимные, ныне ожесточились. Туда, где раньше можно было ездить в одиночку, теперь приходится брать большую охрану. От этого даже страдает торговля слоновой костью: негры с большой неохотой берутся возить ее».
Впрочем, мадемуазель Тинне с истинно королевскими почестями приняли в мусульманском селении Хеллет-Кока, расположенном на левом берегу Нила под 10°32′ северной широты. Селение было очаровательно, превосходно расположено в относительно здоровой местности. Но нашла ли здесь путешественница вожделенное Эльдорадо? Нет! Беспокойный дух увлекал еще дальше — все время дальше! Она продолжает плавание и вместе со спутницами прибывает в Гондокоро, под 4°5′ северной широты.
Однако высадиться у этого большого поселка, где сосредоточена торговля как слоновой костью, так и рабами, оказалось невозможно. Мальтийцы[273] из Бона, самые отчаянные охотники на людей во всей стране, совершили столько жестокостей, что туземное население восстало против них и против всех белых. Хотя мадемуазель Тинне грозила гибель, вернуться она не пожелала. Лодки миновали пристань Гондокоро и продолжили путь вверх по Нилу.
Однако вскоре пороги и стремнины сделали реку труднопроходимой. Еще немного — и плыть дальше совершенно невозможно: река была перегорожена. Всякая человеческая воля отступила бы здесь перед препятствиями.
Мадемуазель Тинне велела возвращаться. В общем, это и так уже приходилось сделать. До сих пор здоровье трех спутниц было крепко, но тут их стали сильно мучить внезапные приступы тяжкой лихорадки. 22 сентября они пустились в обратный путь и 20 ноября достигли Хартума. Расходы на плавание составили сто пятьдесят тысяч франков.
Итак, путешественницы обосновались в Хартуме и начали готовиться к новым странствиям.
На этот раз целью была река Эль-Газаль к западу от Нила и страна племени ниам-ниам, в то время, до прекрасных исследований Швейнфурта, казавшаяся легендой. В 1862 году в Хартум прибыли два немецких путешественника, доктор Штойднер[274] и Теодор фон Хойглин[275], с намерением предпринять экспедицию в те же края. Мадемуазель Тинне в сопровождении матери присоединилась к ним, тетка, мадемуазель ван Капеллен, по состоянию здоровья вынуждена была остаться в Хартуме.
Путешествие началось при весьма благоприятных обстоятельствах, закончилось же на редкость трагично. Хотя чернокожие, составлявшие охрану путешественников, хорошо переносят климат, большинство их умерло от злокачественной лихорадки. 10 апреля 1863 года от желтухи скончался доктор Штойднер; в июне смерть унесла госпожу Тинне! Отважная женщина пала жертвой материнской любви: ее также поразила болотная лихорадка, но она не пожелала остаться в Хартуме, а решила все же сопровождать дочь до конца!
Потеря матери сломила Александрину Тинне: ведь с самого рождения они никогда ни на минуту не расставались! Тинне-младшая распорядилась возвращаться как можно скорей. К несчастью, в это время года никак нельзя было пуститься в обратный путь, а ужасный климат косил новые жертвы. 20 августа, а затем в конце декабря на берегах разлившейся реки умерли две горничные-голландки… Наконец, испытав бесчисленные трудности и опасности, страшно поредевшая экспедиция в июне 1864 года добралась до Хартума, где ее ждала ужасная весть: мадемуазель ван Капеллен тоже скончалась от лихорадки!
Из Хартума храбрая путешественница, пережившая столько потерь, отправилась через Бербер и Суакин к Красному морю, где села на корабль и вернулась в Каир, в котором не была уже три года.
За это время мадемуазель Тинне увидела в Судане — дикой стране, полной смертоносных миазмов, но редкостно привлекательной из-за несравненной красоты растений и многообразия удивительной фауны — вторую родину. Она не захотела более возвращаться в Европу, давно отказалась от одежды женщин своей расы и переняла арабскую. Тинне окружали лишь арабские слуги и служанки, сидела она по-восточному, все вокруг нее выглядело по-африкански. Европейские вещи были совершенно изгнаны из ее жилища — на стенах висело оружие и разнообразные редкости, привезенные с верховьев Нила. Притом она проявляла княжеское гостеприимство: приютила у себя представителей восемнадцати арабских племен, с которыми встречалась в путешествиях. Решимость женщины навсегда остаться в Африке оказалась совершенно непоколебимой: брат хотел было отвезти ее в Европу, но, получив категорический отказ, вернулся один.
Говорят, Александрина Тинне хотела построить себе дворец на острове в окрестностях Каира, но хедив не соизволил дать разрешение: ему совсем не нравилось, что путешественница может остаться в его государстве. Она ставила правителя в затруднительное положение, то и дело подавая в суд на суданского губернатора Муса-пашу, открыто покровительствовавшего работорговцам. Это, конечно, был не лучший способ угодить вице-королю.
Лишившись внезапно всех самых дорогих привязанностей, мадемуазель Тинне нашла убежище от скорби в неутомимой деятельности, на которую ее вдохновляли благородные чувства, кроме того — желание внести вклад в науку. Притом она чувствовала глухую враждебность со стороны хедива и министров. Мадемуазель Тинне уехала из Каира, купила себе паровую яхту и вместе с верными чернокожими слугами пустилась в путь по средиземноморским портам.
Ее видали в Смирне[276], Константинополе[277], на Мальте, затем в Неаполе, Риме, Тулоне, далее — в Алжире, где она провела зиму на вилле в окрестностях города, в Тунисе и, наконец, в Триполи. Когда она жила в этом городе, туда прибыли большие караваны, прошедшие через раскаленные пески Сахары от Кукавы на озере Чад до побережья Средиземного моря. Увидев бесконечные вереницы верблюдов, навьюченных грузами из Центральной Африки, которая после исследований Барта, Кайе, Фогеля и Рольфса так живо возбуждала любопытство европейцев, мадемуазель Тинне почувствовала желание посетить после восточных районов мусульманского Судана также и западные.
Увы, этой стране суждено было стать ее могилой.
Тинне не откладывала исполнение желаний надолго — да и громадное состояние позволяло ей делать все быстро и с размахом, не останавливаясь перед препятствиями материального характера, часто непреодолимыми для обычных путешественников. Она организовала караван, насчитывающий пятьдесят человек и семьдесят верблюдов, чтобы отправиться сначала в Мурзук, столицу Феццана[278], а потом к Кукаве[279] в государстве Борну[280]. До этого места больших трудностей в пути не ожидалось. Но далее мадемуазель Тинне задумала нечто грандиозное, отважное и чрезвычайно опасное: она хотела достигнуть восточного берега озера Чад и выйти к Нилу через Вадаи[281], Дарфур и Кордофан. Если бы ей удалось осуществить этот замысел, она сразу же встала бы в самый первый ряд исследователей Африки — тогда еще ни одному европейцу не удавалось пройти такой маршрут от начала до конца. Эдуард Фогель и Мориц фон Бойрманн[282] в самом начале пути погибли, а путешественников, пытавшихся через Дарфур пройти в Вадаи, останавливали на границе государств.
Двадцать восьмого января 1869 года все было готово и караван мадемуазель Тинне пустился в путь из Триполи к Судану. Охрана путешественницы состояла из арабов и негров — кое-кого она привезла еще с берегов Белого Нила. Европейцев с нею было только трое: матросы-голландцы Кеес и Арди и один немец, прежде бывший на службе у Герхарда Рольфса, по фамилии Краузе.
Караван шел очень медленно. 1 марта он дошел до поселка Сокна в Феццане и надолго там остановился. Везде, где проезжала мадемуазель Тинне, ее встречали как царскую дочь; везде говорили о ее богатстве — и каждый кочевник-грабитель бросал мимоходом алчный взгляд на багаж, где, думал он, лежит много золота.
В Мурзуке Тинне заболела и долго не могла ехать дальше. Во время болезни она познакомилась с одним туарегским вождем по имени Ишнушен, жившим в Гате, вне пределов турецких владений. Она решила провести у него лето, а возможно — и осень, покуда из Триполи ей доставят богатые подарки для султана Борну. Ишнушен добровольно и по-рыцарски предоставил покровительство и пообещал прислать в Мурзук отряд для ее охраны. Она встретилась с этим пустынным царьком в Вадиеш-Шарги, в нескольких днях пути к юго-востоку от Мурзука, и заключила с ним вечный, если можно так выразиться, договор о дружбе.
К несчастью, Ишнушен был занят войной против мятежников и не смог немедленно сопровождать мадемуазель Тинне в Гат. Ей пришлось возвратиться в Мурзук и ждать обещанную охрану.
Но случилась странная вещь, которая должна была бы насторожить ее. К ней прибыли сразу два отряда во главе с туарегскими вождями — и оба вождя были подданными Ишнушена. Одного из них, хаджи Ахмеда Бу-Салаха, действительно прислал его хозяин. То же утверждал и другой, хаджи Бу-Бекр эль-Хогари, но он был явно самозванец. Трудно сказать, что ослепило разум нашей путешественницы: нервы? женский каприз? Так или иначе, она выбрала не добросовестного спутника, а предателя.
Так или иначе, она устремилась навстречу гибели, словно и вправду желая покончить с жизнью: отстранив хаджи Ахмеда Бу-Салаха, приняла покровительство и охрану хаджи Бу-Бекра. Она попала в западню. «Судьба избрала для нее жребий, и он неминуемо должен был выпасть», — писал в Триполи мурзукский шейх Бен Аллуа, сообщая подробности убийства путешественницы.
Хаджи Бу-Бекр был врагом Ишнушена и хотел ему отомстить — а какая же месть может быть лучше убийства женщины, связанной с Ишнушеном узами гостеприимства и дружбы! Сверх того негодяй рассчитывал крупно поживиться, разграбив караван и продав чернокожих из свиты Тинне.
Мадемуазель Тинне могла спокойно подождать и навести справки об Ишнушене. Но уже в июле она с невероятной безрассудной доверчивостью отправилась в путь под охраной бандитов. Как и было договорено, направились в Гат. Через несколько дней доехали до Биргиза, к юго-западу от Мурзука. Там и была устроена гнусная западня. Ничего не подозревая, в мечтах о счастливом исходе путешествия, полная грандиозных планов, Тинне спокойно вступила на землю туарегов. Скоро она должна была встретиться с их вождем. Но на другой день после приезда в Биргиз, в тот момент, когда начали грузить верблюдов для дальнейшего пути, она пала от рук своих охранников[283].
Между погонщиками верблюдов возникла ссора — то ли настоящая, то ли нет. Тинне попыталась ее усмирить, что и стало поводом для давно замышленного убийства.
«Барышня Скандрина (Александрина), — читаем мы в письме шейха Бен Аллуа, — получила две раны: сначала ей отрубили саблей правую кисть, чтобы она не могла стрелять из револьвера, а затем уложили выстрелом в грудь из ружья. Стрелял один араб из племени улед-бусиф. Обоих ее голландских спутников тоже убили — одного застрелили из ружья, другого проткнули копьем». Далее убийцы разграбили караван и погнали чернокожих в рабство. Удалось бежать лишь нескольким неграм, которые и принесли печальную весть в Мурзук. Турецкие власти немедленно взяли на себя похороны убитых и розыск убийц.
Господин Анри Дювейрье, выдающийся исследователь Северной Африки, посвятил несчастной путешественнице слова высочайшей похвалы, которыми мы завершим повествование об Александрине Тинне:
«Все, кто почитает великие, благородные дела, исходящие из стремления увеличить число человеческих знаний, приблизить нашу древнюю Европу к народам, пребывающим еще в детском возрасте, но рано или поздно призванным все же получить часть благодеяний цивилизации; все, кто когда-либо думал об этой женщине, равно одаренной умом и богатством, устремившейся в среду грубую и жестокую, не позволяя себе остановиться ни ввиду усталости и лишений, ни из-за немилосердного климата, ни из-за опасностей, которым подверглась жизнь ее, — все они, говорю я, прежде охваченные удивлением и восторгом, были в самое сердце поражены вестью о преступлении, жертвой которого стала мадемуазель Тинне…»
ГЛАВА 19
ДОКТОР Г. НАХТИГАЛЬ
Путешествие в Тибести. — Экспедиция в Багирми. — Мохаммеду Отец Ножа. — В Уаделаи. — Через Фур, или Дарфур.
Чистый случай, можно даже сказать, несчастный случай заставил доктора Нахтигаля[284] предпринять ряд экспедиций в Центральную Африку, которые сразу его поставили в первый ряд современных путешественников и принесли высокие награды, в том числе золотую медаль Парижского географического общества.
В конце 1868 года доктор жил в Триполи, пытаясь вылечить больную грудь в средиземноморском климате. В это время Герхард Рольфс привез подарки от прусского короля шейху Омару, султану государства Борну в благодарность за прием, оказанный немецким путешественникам Барту, Фогелю, фон Бойрманну и самому Рольфсу. Доктор Нахтигаль, которому лечение в жаркой стране заметно пошло на пользу, решил не возвращаться пока в Европу, а проникнуть в глубину таинственного края, в котором знал лишь побережье. Он попросил препоручить миссию Рольфса себе и получил согласие. Специальность врача, знание арабского и знакомство с обычаями мусульман должны были облегчить Нахтигалю выполнение задачи.
Он выехал из Триполи 17 февраля 1869 года, а 27 марта прибыл в Мурзук, столицу Феццана. Нахтигалю пришлось подождать, пока соберется караван для похода в Борну. Досуг он решил использовать для исследования Тибести — дикой страны к юго-востоку от Феццана, своеобразного рифа в центре пустыни, куда не ступала нога европейца.
Напрасно знатные люди Мурзука пытались его отговорить, напрасно утверждали, что жители той страны, люди племени тубу-решад, — отъявленные злодеи, что там адская жара и нет питьевой воды. Доктор Нахтигаль не желал ничего слушать и смело отправился в дорогу.
Начало его пути оказалось очень трудным. Не такие сильные и закаленные люди, как он, могли бы отступить!
Он вышел 6 июня, а 21-го вместе со своими людьми — отвратительными мошенниками — достиг границы Тибести. Расположились лагерем у источника Мешру. Место было чрезвычайно мрачное. Всюду вокруг на земле валялись человеческие кости, скелеты верблюдов, высохшие, полузасыпанные песком детские трупики, на которых еще сохранились лоскутки синего ситца. Должно быть, несчастные негритята шли за караваном и здесь их бросили, ибо дальше они идти не могли. Бедные дети! Как ужасно умирать под знойным небом и на раскаленном песке!
Двадцать седьмого июня подошли к первым тибестийским уступам, где обнаружили много прекрасной воды. В тех краях вода — самое главное в жизни, и обычно путь стараются проложить от источника до источника. Если же проводник ошибется, уклонится вправо или влево — люди могут умереть от жажды, что едва и не приключилось с доктором Нахтигалем.
Двадцать восьмого числа экспедиция прошла стороной от источника. Бурдюки опустели, и всем пришлось долго плутать в поисках драгоценной влаги. Ночь не приносила облегчения адской пытке путешественников. Они пошли вдоль высохшего русла, надеясь отыскать исток — напрасно! Там их застал восход: поднявшись над горизонтом, солнце отражается от моря песка, от угрюмых скал — кажется, будто вы плывете в море огня. Людей измучила страшная жажда, головы словно кто сжимал железными обручами… Верблюды вскоре устали и отказались идти дальше: упрямо улеглись под чахлыми акациями и, несмотря на побои, не желали подняться. Много часов прошло в подобном пекле — и нечем было освежить себя. Спутники доктора начали бредить. Один из них хотел пустить себе пулю в лоб — с большим трудом удалось помешать. Наконец возвратились проводники с бурдюками, полными воды, — доктор со спутниками к тому моменту едва не умерли.
Вода была илистая, тошнотворная, в ней плавали какие-то странные комочки; в обычное время любой человек с отвращением отбросил бы мысль даже искупаться в ней. Но в тот день — что это был за божественный нектар! С каким упоением всякий бы ощутил, как ее капли текут по опухшим, пересохшим, потрескавшимся губам и языку!
Одним словом, это ужасная страна, где много скал и песка, практически нет зелени и воды, не выращивают никаких растений, очень мало жителей, да и те — отвратительные негодяи, вполне достойные ужасающей дикости проклятых мест. Каждый старался половчей исхитриться и обобрать несчастного доктора, средства которого были весьма скудны. По любому поводу он платил фантастическую пошлину и не имел никакой возможности сопротивляться этому грабежу: отказ грозил бы бедой не только успеху предприятия, но и собственной безопасности.
Однажды проводник заглянул к себе домой, и доктору представился случай поближе познакомиться с тибестинскими женщинами. Насколько феццанка беспечна и легкомысленна, настолько тибестинка, хоть и мужеподобна, а потому не слишком привлекательна, серьезна, энергична и надежна. Мужа целыми месяцами, даже годами нет дома, а его половина должна одна прибираться в хижине, заботиться о детях, кухне, верблюдах. Она за всем смотрит, ведет дела, торговлю, если и перекочевывает. Возможно, именно этой совершенной независимости и чувству крайней ответственности слабый пол в Тибести отчасти обязан суровым нравом.
Люди здесь, понятно, селятся в основном возле русел рек (по-местному «эннери»), иные из которых пересыхают на полгода. Главное из них — русло Бардаи. Там во множестве разводятся финиковые пальмы и жители питаются финиками.
Негостеприимные и фанатичные, тибестинцы недружелюбно смотрели на доктора: белая кожа, европейская внешность и религия не сулят в этих местах доброго приема. Не раз Нахтигаль избегал опасностей, не раз в пути его встречали враждебные крики. Однажды он пошел к колодцу неподалеку от лагеря, но толпа подростков стала швыряться в него камнями и во все горло вопить: «Бей неверных!» Доктору пришлось быстро ретироваться.
Чем дальше, тем больше к путешественнику проявляли недоверие и враждебность. Насилу удавалось выходить из лагеря и осматривать долину Бардаи, где в это время шел сбор фиников. Однажды жители Бардаи, напившись «лакби» (перебродившего финикового сока), внезапно бросились на доктора с железными дротиками. Нахтигаля спасла собственная решительность и заступничество дяди одного из проводников — влиятельного в этих местах лица.
Теперь исследователя постоянно оскорбляли, угрожали, вымогали поборы. Даже девочки прибегали швыряться в него камнями. Вскоре, когда у доктора уже почти ничего не осталось, так называемый «султан» Бардаи — дряхлый, тщедушный, бедно одетый старичок с грязным тюрбаном на голове и в дырявых сандалиях — пожелал дать гостю приватную аудиенцию. После обычных слов приветствия старичок спросил, где же подарки. Доктор ответил правителю, что его люди все и обчистили. Тогда султан лично отправился в палатку к Нахтигалю, перерыл все ящики, но обнаружил лишь книги, метеорологические приборы да несколько никуда не годных тряпок. Не найдя ничего для себя подходящего, он молча вышел из палатки, не обращая на доктора внимания, словно и не был знаком с ним.
В конце концов, поскольку положение доктора становилось все опаснее и опаснее, он вынужден был взять в охрану трех тибестинцев, которые вмиг выпотрошили ящики, забрали последнего верблюда, единственное покрывало, смену одежды — все! Нахтигаль ушел пешком с пятью спутниками, прибывшими вместе с ним из Феццана, и двумя ружьями. 25 сентября, с большим удовлетворением простившись с тремя отправившимися в Тибести негодяями, он вместе с феццанцами оказался возле источника Мешру. 5 октября Нахтигаль прибыл в Мурзук босиком, одетый в матерчатые лохмотья, которые никто в мире не решился бы назвать штанами, и летнее парижское пальто, превратившееся в рубище.
Именитые люди города, уже не надеявшиеся увидеть доктора, поспешили передать ему поздравления; теперь они говорили с завистью: «Тебя ждет долгая жизнь, потому что Господь позволил тебе уйти целым и невредимым от стольких опасностей!» Кто вырвется из рук тубу-решад, тот может уже ничего не бояться».
Весной следующего, 1870 года доктор вернулся в Кукаву, столицу Борну, чтобы передать старому шейху Омару подарки от прусского короля. Покончив с миссией, доктор хотел заняться исследованием Вадаи, но султан страны находился в состоянии войны со своим вассалом, султаном Багирми[285]. Пока Нахтигаль ждал прекращения военных действий, он решил отправиться по Борну и возвратился в Кукаву только в 1872 году. Шейх Омар, опасаясь за безопасность путешественника, не хотел разрешать проезд по Вадаи, но охотно согласился на посещение Багирми, где правил султан Мохаммеду.
Багирми расположено к северо-востоку от озера Чад; на северо-западе оно граничит с Борку[286], на северо-востоке — с Вадаи, а на юге — со слабо изученными территориями, населенными язычниками. В середине Судана располагается государство, простирающееся далеко к югу и созданное в начале века феллатами[287] на землях, где уже получил распространение ислам. Тогда как Дарфур, Борну, государства хауса и большинство крупных империй в верхнем течении Нигера, ныне пришедших в упадок, имеют весьма долгую историю, летопись Багирми насчитывает не больше трехсот пятидесяти лет.
Когда Нахтигаль посетил эту страну, Мохаммеду, прозванный Абу-Сиккин, то есть Отец Ножа, потому что приказал злодейски убить отряд арабов, только что был разбит своим сюзереном[288] — султаном Вадаи. Он укрепился в Буссо, самом южном селении собственно Багирми, ожидая, может быть, случая взять реванш и свергнуть дядю Аберрахмана, которого султан Вадаи посадил на трон.
Тем временем средства у доктора подошли к концу: после возвращения из Борку у него оставалось каких-то пятьсот франков. Необходимо было где-то занять деньги, чтобы иметь возможность продолжить исследования.
В конце концов Нахтигаль нашел одного купца родом из Триполи, который согласился одолжить 750 франков в обмен на расписку о получении вдвое большей суммы. И эта поистине ничтожная субсидия оказалась достаточной. Разумеется, доктору, соразмеряясь со средствами, пришлось сократить количество снаряжения. Он купил сорок два фунта изготовленного в Борну пороха — 30 франков; бурнус тонкого сукна цвета спелой вишни — 90 франков; пули — 5 франков; кремни для ружей — 5 франков; два фунта орехов гуру[289], предназначенных для самого Мохаммеду — 40 франков; восемь национальных костюмов хауса, выкрашенных индиго, — 100 франков; четыре шали из красной шерсти — 60 франков; продукты, меновые товары и прочие безделушки — 275 франков, двух волов по цене 70 франков за пару — итого 675 франков. На руках у доктора осталось 500 франков, остаток от экспедиции в Борку, которые отдал на уход за жилищем на время отсутствия.
Двадцать шестого февраля Нахтигаль отправился из Кукавы, обогнул южную оконечность озера Чад, переправился через две мелкие речки — Комадугу и Камбару, миновал обнесенные стеной деревни Март, Нгала, Аффаре, Уэф, застроенные глинобитными домишками под соломенными крышами, и 13 марта прибыл в деревню Вули, расположенную в виду городка Логоне на реке того же названия, левом притоке Шари. Доктор уже намеревался проникнуть в город, когда два всадника в полном вооружении подскакали к нему и приказали повременить со входом. Вооруженная пиками пара выглядела необычно. Лошади, от глаз и до самых копыт, от морды и до хвоста, были скрыты, словно под огромным покрывалом, плотными, подбитыми ватой и простеганными матерчатыми доспехами. Всадники нахлобучили балахоны, чем-то напоминающие длинные английские пальто свободного покроя; балахоны были тоже подбиты ватой и простеганы. Воротники балахонов возвышались над ушами, а полы прикрывали пятки. Церемония приема, хотя и несколько отложенная, не стала оттого менее дружеской; царь Маруф, отец которого двадцать лет назад принимал доктора Барта, встретил нового путешественника превосходно. Но Нахтигаль, кажется, нагнал на него страху синими очками, странным образом красовавшимися над «литамом», туарегским покрывалом, закрывая и губы и нос. Три дня спустя караван вполне благополучно переправился через реку и взял курс на укрепленный город Бугуман, в котором насчитывалось около шести тысяч жителей. У Мискина путешественники переправились через Шари и пошли по правому берегу реки. 27 марта караван прибыл в Мафлинг, где Нахтигаль узнал, что совсем недалеко находится дядя Мохаммеду. Доктор решил покинуть долину Шари и направился на юг, к реке Илли, к которой вышел у городка Гугара. Ему удалось добраться до земель племени сомраи, глава которых — Гедик — дал доктору проводника до располагавшегося в лесной чаще лагеря Мохаммеду.
Растительность в этих избыточно увлажненных местах великолепна; подлесок, над которым поднимаются огромные стволы, полон тени и свежести. Среди деревьев преобладают, кроме различных видов мимоз, тамаринд, муррая[290], мезембриантемумы[291], каучуковое дерево[292], масляное дерево[293] и гигантская сейба[294]. Последнее из названных деревьев воистину ошеломляет размерами, по меньшей мере — в данных краях. Ствол сейбы обычно вытягивается вертикально вверх, а от него отходят могучие ветки, листва которых столь же великолепна, как и древесина. Одно из названий, как известно, дерево получило от веретенообразной формы плода, достигающего одного фута в длину, желтоватый кокон которого, созревая, раскрывается, выпуская наружу белую, пушистую сердцевину, отливающую шелковистым блеском и покрытую короткими волоконцами. Эта хлопковидная материя в государствах хауса, в Борну, Багирми, Вадаи и Дарфусе служит для набивки подушек и матрацев. Из нее получается отличная вата для военных доспехов, которые прошивают на манер стеганого одеяла. Достоинство такого материала в том, что он никогда не сваливается.
Еще там растут жирафовое дерево, пальма дум (гифена)[295], пальма делеб, размножающаяся путем выделения эфирного масла, аромат которого разлит в чаще, жужуба[296] и прочие… Столь же богата и фауна. Реки изобилуют гиппопотамами и крокодилами, в лесах резвятся все разновидности антилоп.
Селение законного правителя Багирми, хотя и временное, размерами оказалось куда больше, чем предполагал доктор. Очень опрятные и очень легкие хижины числом около тысячи теснились вокруг царской резиденции. Нахтигаль со спутниками пробрались через них до монарха. Доктор заметил сидящую на скамье тщательно укутанную фигуру, вокруг которой находились носильщики царских штандартов со страусиными перьями, а возле пристроились рабы, размахивающие для освежения воздуха жирафьими хвостами. Это и был мбанг Мохаммеду — Отец Ножа. Государь носил капюшон до самых глаз, нижнюю часть лица закрывал литамом, так что ничего не разглядишь. Доктор салютовал мбангу выстрелом из ружья и произнес речь, в которой воздал хвалу храбрости и постоянству государя, правоте его дела, пожелал скорой победы над врагами. Повелитель еле слышным шепотом (так требует багирмийский этикет) отвечал, что речь доктора великолепна, что он будет желанным гостем и может рассчитывать на полный аман (содействие) государя.
Вечером Нахтигаль вновь пришел в султанскую резиденцию для вручения подарков. На сей раз вокруг монарха было меньше свиты, а главное — он не был так укутан. Мохаммеду оказался крупным, сильным мужчиной, почти чернокожим, с энергичными чертами лица, с густой седоватой бородой. Он протянул доктору руку; тот сказал, что пришел вручить дары. Мохаммеду вежливо возразил, что нет для него лучше дара, чем сам визит. Когда доктор стал извиняться за бедность подарков, монарх с достоинством ответил: он не ожидал от гостя ни вещей, ни денег — как владыка, он сам обязан озолотить любого гостя.
После такого обмена любезностями доктор предъявил подарки — порох, ружья, ткани, орехи гуру — которые, как вы помните, стоили двести пятьдесят франков. Во времена былой пышности низложенного монарха такие подарки от христианина почитались бы весьма скромными, ныне сошли за вполне пристойные.
На следующий день Отец Ножа приказал устроить в честь гостя смотр войскам. Они были с виду довольно разношерстны, но достаточно грозны. В них состояло тысячи две человек.
Следующие дни проходили без особых приключений. Но вот однажды Мохаммеду спросил доктора, не знает ли он, как справиться с мятежниками, которые засели на сейбах и там живут: ни посулы, ни угрозы на них не действуют. Доктор признался, что никакого совета дать не может. Однако 14 апреля ему пришлось участвовать в походе против восставших. Они жили в лесу Кимре, всего в каких-нибудь четырех часах ходьбы от города — экспедиция, в которой участвовало почти все султанское войско, много времени не заняла. Гигантские сейбы были ничуть не хуже настоящих крепостей. На высоте метров восемь от земли почти горизонтально простирались огромные ветви, на которых были расстелены, как полы, прочные соломенные циновки, огражденные плетнем. Там жили козы, собаки, а иногда, в маленьких хижинах, и люди. Выше также были устроены хижины. В каждой из них размещалась одна семья с самой необходимой домашней утварью: большой ступкой для риса, кувшином с водой, орудиями труда, скудной провизией. Иногда подобное жилье устраивалось и еще выше этажом, так что на одном дереве селилось несколько семейств, причем все они могли взять с собой повседневный скарб, а в небольших количествах и мелкий скот. По ночам эти несчастные люди спускались с нашестов по веревочным лестницам, чтобы запастись водой и вырыть зерно, спрятанное в земле. Когда на них нападали, они отстреливались сверху тростниковыми стрелами (не причинявшими, впрочем, большого вреда), тяжелыми дротиками, от приступов отбивались копьями.
Люди Мохаммеду, прикрываясь щитами и кусками плетней, собирались по сотне вокруг каждого дерева и осаждали мятежные гнезда одно за другим. Правда, проку от этого оказалось немного — полтора десятка султанских стрелков пользовались своими ружьями очень неумело. Когда же, к великому огорчению доктора, его собственные люди, стрелявшие гораздо лучше, тоже ввязались в дело и начали из-за укрытия обстреливать несчастных беглецов, последние так и посыпались на землю после каждого выстрела. На земле воины Багирми кромсали противника буквально на куски. Напрасно им обещали жизнь в случае сдачи в плен. Спасти жизнь означало попасть в рабство — и мятежники предпочитали смерть. То тут, то там начинался приступ. Вскоре осажденные, в большинстве израненные, уже больше не могли защищаться. Тогда они сначала побросали из крепости женщин и детей, а потом бросились вниз головой и сами. Только нехватка боеприпасов остановила бойню. К вечеру победители возвратились домой, уводя с собою около сотни пленных.
Еще несколько недель предпринимались подобные экспедиции, обычно заканчивавшиеся массовыми избиениями. Мохаммеду приводил свой народ к покорности, уничтожая его: необычный, но действенный способ всегда иметь только верных подданных!
Тем временем доктор уже удовлетворил свою научную любознательность и задумал вернуться назад. Но Мохаммеду никак не отпускал гостя: по бедности государь не мог придумать ценного подарка для гостя. Однажды султан прислал Нахтигалю десять рабов — тот решительно отказался от подобного обременительного дара. В другой раз султан дарит шесть мальчиков и шесть девочек — их легко продать за хорошую цену. Новый отказ. Не зная, что и делать, султан посылает к доктору одну из жен с полным гардеробом. Доктор снова отказывается!
Наконец Мохаммеду убедился, что гость решительно хочет вернуться в Борну, и отпустил Нахтигаля, обеспечив — насколько возможно — провизией и проводниками по подвластным ему землям.
Отъезд состоялся 31 июля 1872 года, а 7 сентября доктор возвратился в столицу Кукаву. Шейх Омар был рад снова встретить путешественника и принял как нельзя лучше.
Доктор Нахтигаль провел в Борну еще целых полгода, чтобы совершенно оправиться от переутомления и болезней, перенесенных во время путешествия в Багирми, — в частности, перед самым возвращением его чуть было не погубил понос, не поддававшийся никакому лечению.
Когда доктор поправился, его ум снова начала занимать мысль о поездке в Вадаи. Арабские купцы рассказали много хорошего о властелине этой страны — и путешественник решил отправиться в путь, хотя въезд европейцам в Вадаи был еще запрещен. Когда же в 1873 году в Кукаву прибыл посланник из Вадаи с торговыми поручениями, Нахтигаль решился окончательно. Он распрощался с другом шейхом Омаром и 1 марта 1873 года вместе с посланником выехал из Кукавы. В начале апреля они прибыли в Абеше, резиденцию правителя Вадаи. Расстояние составило около тысячи километров; караваны проходят его за двадцать восемь — тридцать дней, что составляет более тридцати трех километров в сутки.
Товары из Вадаи вывозятся по двум главным направлениям. Первое направление — находящееся в руках представителей племени маджабра из оазиса Джоло и триполитанцев — ведет на север к Средиземному морю через Борну, Тибести и Феццан либо через Уньянгу, Джоло и Куфру. Другое направление — на восток, в египетскую область Фур. Предметами вывоза являются слоновая кость, страусиные перья и рабы, которых постоянно доставляет с юга и юго-востока агид (префект) округа Саламат. Охота на рабов ведется только за счет короля — никаким частным лицам не разрешается охотиться для себя.
Выехав 17 января 1874 года из Абеше, доктор Нахтигаль за несколько переходов достиг границы Вадаи, на всем протяжении отделенной от пределов Фура, или Дарфура, полосой ничейной земли.
Вадаи — страна в основном равнинная, тогда как через Дарфур тянется горная цепь Марра, отделяющая бассейн Нила от бассейна озера Чад и впадающей в озеро реки Шари. Восточная часть Фура почти совершенно безводна, запад, напротив, изобилует крупными реками, выходящими из берегов в сезон дождей. Но даже в сухой сезон под песком или гравием, устилающим ложе рек, на глубине от полуметра до полутора можно найти воду.
Почва здесь по большей части неслыханно плодородна. Она порождает огромное количество овощей, зерна, ценную деловую древесину, фруктовые деревья, технические, красильные, лекарственные растения. Есть в Фуре и растения с необыкновенными свойствами. Таков шаламб — листья этого дерева жуют, чтобы отбить запах вина изо рта. Таково и кили, плод которого служит для судебных расследований: сок кили дают пить обвиняемому, и если человек невиновен, его, как считается, должно тут же вырвать. Упомянем также дагара — главное средство против воспаления глаз и растение, соком которого перекрашивают лошадей.
Главная культура здесь — «духкю», разновидность проса, основная пища жителей области Фур. Им кормят также лошадей и ослов. Выращивают в Фуре и дурру, имеющую множество сортов. Пшеница и лучшие сорта других зерновых производятся в более возвышенных областях. В прудах и влажных низинах растет дикий рис, который весной местные жители собирают и оставляют про запас. В Фуре также множество арбузов и самых разнообразных овощей. Среди других культур следует упомянуть хлопок, табак, арахис, томаты, здесь производят масло и кожи, собирают мед и тамариндовые бобы, получают воск.
Из домашних животных встречаются ослы, довольно редко — лошади, низкорослые, но сильные и резвые, не знающие усталости; далее — верблюды, овцы, козы, собаки. В лесах много диких зверей: львы, буйволы, носороги, дикие быки, кабаны, жирафы, газели.
Столицей Дарфура должен считаться город Коббе, поскольку здесь — место жительства большинства купцов и, следовательно, главный торговый центр. Но резиденция султана — не Коббе, а Эль-Фашер, в двенадцати часах пути от него, своего рода фурский Версаль, очень длинный и узкий город, в котором на глаз не более шести тысяч жителей (в том числе немало рабов). Вокруг каждого дома — просторный палисад, между ними — обширные пустыри.
Что касается жителей Фура, то доктор Нахтигаль, обычно очень снисходительный, сохранил о них не самые лучшие воспоминания. «Жители Фура, — сообщает он, — почти чернокожи, среднего роста, с довольно неправильными чертами лица; характером они неприятны: заносчивы, хитры, хвастливы, предатели, враждебны к иностранцам. Нигде я не встречал такой глубокой и резко выраженной антипатии…»
Бесстрашный путешественник пересек весь Дарфур с востока на запад и 22 ноября 1874 года прибыл в Каир. Его путешествие длилось пять лет и девять месяцев.
ГЛАВА 20
ГЕНРИХ БАРТ
Экспедиция в Борну. — Радиальные походы из Кукавы. — Путешествие в Багирми. — В Адамаве. — В Томбукту.
В 1849 году англичанин Джеймс Ричардсон[297], прославившийся участием в африканских экспедициях, собрался в путь из Лондона с миссией, сулившей выгоду не только науке, но и всему человечеству. Речь шла о том, чтобы Судан стал открыт для европейской торговли, причем торговал не рабами, но естественными богатствами Черной Африки.
Ричардсон не был ученым и понимал необходимость взять с собой хороших исследователей. По совету прусского посланника в Лондоне барона фон Бунзена Ричардсон стал искать их в Германии. Берлинское географическое общество обратило его внимание на молодого естествоиспытателя из Гамбурга доктора Овервега[298], а тот, в свою очередь, рекомендовал включить в состав экспедиции еще одного немецкого ученого — Генриха Барта.
Генриху Барту шел тогда двадцать восьмой год. Он родился в 1821 году в Гамбурге в семье богатого негоцианта. С юных лет охваченный страстью к серьезным занятиям и путешествиям, он четыре года назад совершил путешествие вдоль побережья Средиземного моря, от Марокко до Малой Азии. Он только что опубликовал первый том своих записок, в которых обнаружил весьма ценные качества наблюдателя и ученого. Перспектива путешествия в Центральную Африку открыла перед молодым человеком еще более широкие горизонты. Нетрудно угадать, что он с великой радостью согласился ехать.
В марте 1850 года экспедиция собралась в Триполи, уже готовая направиться в Феццан, а из Феццана — во внутренние области континента.
Сначала два молодых немца, рассказывает господин Вивье де Сен-Мартен, были в экспедиции далеко не на первых ролях. Только благодаря сверхчеловеческой активности Барта с Овервегом (в первую очередь Барта), задававшим предприятию мощный импульс, экспедиция приобрела широкий размах и вызвала в Европе большой резонанс.
Первые шаги при выходе из Феццана ознаменовались открытием. От арабов уже и прежде смутно знали, что посреди Сахары есть какая-то страна Аир[299]. Экспедиция пересекла эту область, представляющую собой большой и красивый оазис — настоящую Швейцарию в пустыне. Открытие представило тем больший интерес, что страна Агисимба — крайняя точка, до которой, по сообщению древних, доходили римские войска и местонахождение дотоле оставалось неизвестно, — есть, вне всякого сомнения, Аир.
В Тагелате путешественники разделились, чтобы больше осмотреть. Ричардсон через Зиндер и Гуре хотел выйти к озеру Чад, но в Гуре заболел. Пытаясь превозмочь болезнь, он дошел до Угурутуа, но дальше идти не смог — ему становилось все хуже. Правитель округа позаботился об уходе за путешественниками, но бедный Ричардсон все же скончался. Это произошло в начале 1851 года. Барт поспешил отдать последний долг несчастному спутнику. Тело Ричардсона завернули в саван, накрыли ковром и похоронили в тени большого дерева недалеко от села. На похоронах находился весь округ с шейхами во главе, а султан Борну прислал приказ оказывать могиле путешественника почести.
Пока же Ричардсон с Овервегом следовали своими путями, Барт прошел до Кано — великолепного города с тридцатитысячным населением, огромной кладовой Центрального Судана.
«Эта стоянка, — пишет он, — была для нас важна не только с научной, но и с финансовой точки зрения. Туареги нас начисто обобрали, и вся надежда была на товары, ожидавшие в Кано. По прибытии в город мне следовало уплатить сто двенадцать тысяч каури — и я был горько разочарован, узнав, как мало стоят вещи, составлявшие мое имущество. Вообразите же, каково мне пришлось в этом знаменитом городе, давно занимавшем мое воображение: квартира дурна, кошелек пуст, каждый день кругом толпятся кредиторы — и любой нахальный посетитель может смеяться над моей нищетой…»
Однако следовало нанести визит правителям.
«Небо было ясно. Город — с пестрыми кучками жителей, с зеленеющими пастбищами, на которых паслись лошади, ослы, верблюды и козы, с подернутыми ряской прудами, с великолепными деревьями, с удивительным разнообразием одежд, от узенького фартука раба до развевающихся арабских плащей, — являл собой живую картину целого мира. С виду он совсем не похож на то, к чему мы привыкли в Европе, но по сути точно таков же. Вот ряд лавок, полных иностранных и местных товаров, где покупатели и всевозможные продавцы норовят выгадать как можно больше и обмануть друг друга. Вон — загоны, набитые полуголыми рабами, умирающими от голода, взор которых безнадежно ищет хозяина, согласного их купить. Вот жизнь во всем разнообразии: богач вкушает самые изысканные деликатесы, бедняк тем временем жадно склонился над горстью зерна. Вот знатный сановник верхом на породистой лошади в блестящей сбруе, сопровождаемый наглой свитой, толкает несчастного слепца — лошади так и норовят затоптать беднягу…
Вот на одной из улиц в глубине двора, огороженного камышовым плетнем, стоит симпатичный домик. Аллелуба и финиковая пальма охраняют это уединенное жилище от полдневного зноя. Хозяйка дома одета в черное приталенное платье и тщательно причесана. Она прядет хлопок и одновременно присматривает за тем, как обрушивают просо. Веселые голенькие ребятишки возятся в песке или гоняются за козой; в доме видны аккуратно расставленные глиняные кувшины и до блеска отмытые деревянные чаши.
Неподалеку громко и принужденно хохочет бесприютная куртизанка[300] — звенит гирляндами ожерелий, подметает песок разноцветной юбкой, небрежно подвязанной под пышной грудью… Вот несчастный, покрытый язвами или искалеченный слоновой болезнью…[301] На открытой площадке — красильня со множеством рабочих. Тут же рядом кузнец кончает ковать клинок, острое лезвие которого отобьет охоту шутить над грубыми орудиями мастера! Вот в глухом переулке женщины развешивают сушиться на заборе мотки пряжи…
Где-то караван привез вкусные орехи, а люди из Осбенавы — соль. Вереница верблюдов с предметами роскоши идет в Гадамес; отряд всадников, опустив поводья, едет сообщить правителю весть о стычке или грабеже. Толпа пестрит всеми людскими типами, всеми оттенками кожи: оливковые арабы, из черных же — канури[302] с раздутыми ноздрями, фулани[303] с тонкими чертами лица, гибкой талией и изящными руками, плосколицые мандинго… Мужеподобная женщина из племени нупе;[304] элегантная, хорошо сложенная женщина хауса… Повсюду жизнь в самых разных видах, самых разных формах — вплоть до самых мрачных».
Это описание — столь образное, полное и достоверное — не оживляет ли в глазах читателя все, что так прекрасно увидел и передал Барт? Талант изображения, изящество формы ставит его в первые ряды не просто исследователей, но еще в первые ряды тех, кто обладает редкой способностью описывать увиденное[305].
Барт договорился с начальником экспедиции, о болезни которого еще не знал, встретиться в Кукаве в первых числах апреля. Из Кано он хотел отправиться 7 марта. Но если вспомнить о его финансовых затруднениях, о доводящей до отчаяния медлительности африканцев, принять во внимание, что Барта сжигала лихорадка, — можно себе представить, сколько энергии потребовалось путешественнику для выполнения обещания. Кроме того, никак не удавалось найти попутчиков. Между тем дорога кишела грабителями, и Барт мог рассчитывать лишь на одного слугу, так как сам, даже накануне отъезда, не мог подняться с ковра от лихорадки. При всем при этом путешественник был полон надежд и радовался, вырвавшись на простор из-за городских стен, как птица, вылетевшая из клетки.
Утром 17 марта он пустился в путь через безводную дикую равнину, покрытую асклепией[306], с редкими одинокими баланитами[307]. В окрестностях Шефны — большого, обнесенного стенами города — Барт чуть не умер от жажды. За Машеном местность становится лесистой. Караван прошел через какую-то совершенно заброшенную деревню: по всему было видно, что здесь разразилась катастрофа. «Если у правителя оскудела казна и появились долги, — замечает Барт, — он непременно устроит набег на соседа — разве только рассудит, что проще продать собственных подданных».
Барт пересек границу Борну вблизи Суниколо, а Кукавы, столицы государства, достиг через четыре дня после того, как получил роковую весть о смерти Ричардсона.
Первый визит путешественник нанес важнейшему после султана лицу — визирю. Он был принят очень хорошо, узнал, что экспедицию давно ждут, и был препровожден в резиденцию, приготовленную заранее. Уже в Кано Барт познал бедность, но теперь дела были куда хуже: на нем лежала ответственность не только за себя, но и за долги всей экспедиции.
«Мистер Ричардсон, — пишет он с горечью, — задолжал более полутора тысяч долларов. У меня же не было ни цента — даже бурнуса или еще какой-нибудь ценной вещи. Я не знал, разрешит ли британское правительство продолжать наше путешествие, а меня между тем известили, что шейх ожидает подарков».
Ценой недюжинной деятельности и упорства добившись возврата вещей Ричардсона, на которые местные власти наложили секвестр[308], Барт договорился о займе под шестьдесят процентов с выплатой в Мурзуке и таким образом рассчитался со старыми кредиторами, заплатил слугам покойного. Восстановив доверие к экспедиции, он с еще большим пылом, чем прежде, стал заниматься исследованием местности и собрал множество ценных сведений.
Сначала о городе. Столица Борну состоит из двух поселений, из которых каждое обнесено своей оградой. В одном живут богатые люди; оно хорошо спланировано, застроено пышными зданиями. Второе состоит из узеньких улочек, в которых теснятся маленькие домишки. Два города соединяются своего рода бульваром длиной метров восемьсот. Бульвар весьма многолюден; на нем вперемежку стоят и большие дома за толстыми глинобитными стенами, и хижины под соломенной крышей, огороженные плетнями — первоначально ярко-желтыми, со временем же приобретающими густой черный цвет.
В предместьях — деревеньки, поселки, обнесенные стенами хутора. Каждый понедельник устраиваются базары. Местные жители на волах, верблюдах везут туда зерно и масло. А вот йедина — браконьер с озера Чад — торгует сушеной рыбой, мясом гиппопотамов и ремнями из бегемотовых шкур…
Если день не базарный, в городе совершенно тихо. Здесь нет, как в Кано, промышленности, нет красилен, нет работы. Вся жизнь проходит на Дендале — бульваре, соединяющем два города. Там каждый день перед вами густая толпа: всадники и пешеходы, рабы и свободные, туземцы и иностранцы… Туземцы идут на прием к шейху или визирю — отчитаться в выполненном поручении, добиться правосудия, выпросить местечко, преподнести дары.
Барт провел в Кукаве три недели, после чего представился случай продолжить путь к озеру Чад. Из этой поездки он привез интересные сведения.
«Я выехал рано утром, — рассказывает он, — и любовался прелестной панорамой, открывавшейся взору. Но озера не видать — вместо него, насколько хватало взгляда, простирается огромная равнина без единого деревца. Мы едем дальше. Мало-помалу трава становится свежее, гуще, выше; начинается болотистая низина, граница которой то выдается вперед, то отступает. После долгих напрасных попыток выбраться из этой низины или углядеть блестящую поверхность на горизонте я вернулся, топая по грязи и утешаясь тем, что видел хоть какую-то воду. Очевидно, озеро Чад подобно большой лагуне, очертания которой меняются каждый месяц. Вследствие этого составить его подробную карту не представляется возможным.
На следующий день в сопровождении правителя области Канем[309] и одного шейхского конногвардейца я отправился на северо-восток. За полчаса мы дошли до болота. Промокнув до колен, хотя и ехали верхом, мы добрались до края красивой водной глади, окаймленной папирусом и тростником высотой четыре-пять метров.
Вода в озере, нагретая солнцем и полная мелких водорослей, не привлекательна на вид, но совершенно пресная. Напрасно утверждали, что озеро Чад либо имеет сток, либо соленое. Я утверждаю обратное: стока озеро не имеет — но откуда может в его воде взяться соль, если в этом краю соли нет вообще? Даже трава здесь совершенно обессолена, и молоко коров и овец вследствие этого безвкусно и нездорово. В ямах, окружающих берег, много почвенного натрия, и вода, естественно, солоновата, но, когда в разлив ямы заполняются водой из озера, соленый привкус навряд ли ощущается».
Бескрайний водный простор (лишь справа, на востоке, его ограничивала болотистая равнина) открылся перед Бартом уже на другой день.
Барт изучил в Борну все, что хотел, и решил воспользоваться конфликтом шейха с правителем области Адамава[310], чтобы посетить Адамаву. Шейх согласился и отправил туда посольство (при котором поехал и Барт) для полюбовного разрешения спора.
Экспедиция отправилась в дорогу 29 марта 1851 года. Путь был опасен: над местными жителями тяготел страх рабства, вследствие чего они вели себя недружелюбно и приходилось все время быть начеку. Но все же миссия добралась до Йолы[311] — столицы Адамавы. Барт был первым европейцем, попавшим туда, и хотя пребывание в этой стране оказалось гораздо короче, чем ему хотелось, он совершил там замечательные открытия.
Майор Денгем[312] в 1824 году только мельком видел границу Адамавы и заметил издали Мендиф, о котором затем было столько догадок. Барт выяснил, что это одиноко стоящая конусообразная гора окружностью в основании не более десяти — двадцати миль. У подножия Мендифа расположена деревня того же названия. Из-за белесого цвета можно подумать, что гора сложена известняками, но это помет птиц, во множестве слетающихся сюда. Как говорят местные жители, на самом деле гора черная. Двойная вершина ее показывает, что Мендиф — древний вулкан, сложенный, без сомнения, базальтами[313]. Барт определил высоту в 5000 футов над уровнем моря и в 4000 — от подошвы.
Страна Адамава простирается миль на двести с юго-запада на северо-восток. Это, без сомнения, одна из красивейших провинций Центрального Судана. Реки с тенистыми берегами, плодородные равнины, невысокие горы, тучные пастбища, пышная растительность: папайи, стеркулии[314], панданусы, баобабы, гифене, бомбаксы, элаисы[315], бананы… В Адамаве водится много слонов, в восточной части — носорогов, в Бенуэ — ламантинов[316]. На востоке Адамавы повсюду встречаются и дикие быки. Домашних животных множество, в том числе — особая порода серых коров, высотою в холке всего лишь метр.
В Йоле живет не более двенадцати тысяч жителей. Находится она на расстоянии немногим более четырех градусов широты от Кукавы и почти на той же долготе. Чтобы проехать это расстояние (то есть, со всеми изгибами пути, сто тридцать наших обычных лье или триста шестьдесят английских миль[317]), Барту понадобилось двадцать четыре дня. Город расположен на реке Фаро, притоке Бенуэ, которая впадает в Нигер всего лишь в нескольких днях пути от устья великой реки. Бенуэ в месте слияния с Фаро достигает в ширину не меньше мили при средней глубине в сухой сезон около трех метров, и Барт весьма прозорливо осознал, какую важную роль призвана сыграть эта река в будущих сношениях Европы с внутренними районами Африки.
Хотя Барт был по всем правилам аккредитован султаном Борну при правителе Адамавы, последний принял его настолько нелюбезно, что сразу после аудиенции путешественник вынужден был отправиться обратно. Тем не менее, как мы только что видели, он сумел извлечь пользу даже из такого краткого визита.
Пользуясь благоволением султана Борну и великого визиря, удостоившего доктора своей дружбой, Барт устроил в Кукаве штаб-квартиру и стал совершать оттуда далекие радиальные походы по округе. Из каждого похода он возвращался в Кукаву, а затем вновь отправлялся в путь в поисках новых впечатлений и сведений.
Между прочим, Барт решил посетить Багирми, хотя в те времена это было очень опасно и рискованно. 4 марта 1852 года он пустился в дорогу. По-прежнему без средств, борясь с нищетой, лихорадкой, тяготами пути, одолевая бесчисленное множество опасностей и препятствий, 17 числа того же месяца он добрался до Багирми, где не бывал ни один европеец.
Сразу же по прибытии Барт попал под подозрение властей и жителей: в стране шла война. Путешественнику запретили входить в деревни; без разрешения властей он не мог следовать дальше — короче говоря, его интернировали. К счастью, он встретился с любезным старцем Бу-Бакр Садиком, который принял путешественника как нельзя лучше. Раздосадованный тем, что посланный к правителю человек не возвращается, Барт решил отправиться дальше и углубился в густые джунгли, надеясь выйти через них к реке Шари. У выхода из леса Генриха поджидали посланцы правителя, которые окружили доктора и дальше не пустили. Слова, протесты оказались бесполезными. Люди правителя грубо схватили Барта и заковали в кандалы. У путешественника отняли оружие, часы, бумаги, компас, лошадь, заперли в сарае и приставили двух часовых. Более того: приходилось выслушивать от этих фаталистов нравоучения, что все, дескать, от Бога и надобно покориться!
Мучения продолжались четыре дня. Затем Барта освободил старый друг Бу-Бакр Садик: кипя от гнева, он прискакал за доктором на коне, заставил людей правителя Адамавы немедленно снять оковы и возвратить отнятое.
Через два дня Барт без помех прибыл в Масенью, столицу Багирми. Она, как и вся страна, была пустынна: правитель уехал на войну, а с ним и двор; в городе никого не осталось. Все же доктору посчастливилось найти человека, общество которого стало для Генриха неоценимым.
«Факи-Самбо, — рассказывает Барт, — высокий и худой, с редкой бородкой и выразительным лицом, был слепцом, но оказался не только знатоком арабской литературы всевозможного содержания — он читал и Аристотеля с Платоном. Я никогда не забуду, как застал его дома рядом с ворохом рукописей: теперь он мог лишь перебирать их листы… Сверх того, Факи-Самбо обладал глубоким знанием страны, в которой жил. Предки его, по национальности фульбе, переселились в Вадаи, а отец (автор ученого труда о народе хауса) отправил сына учиться в Египет, в медресе[318] Аль-Ахзар. Факи-Самбо пробыл там много лет, затем жил в Дарфуре, а потом вместе с одним караваном отправился на Нигер и вернулся на родину. В Вадаи он был важной особой, но после был оттуда изгнан. Он часто говорил мне о славных временах Халифата, о блеске, сиявшем от Багдада до далекой Андалусии; история и литература тех времен были для него родными. Мы пили кофе, напоминавший ему молодость, причем он непременно прикладывал чашечку по очереди к обоим вискам».
Много раз объявляли, что султан возвращается, и много раз слух оказывался ложным. Наконец государь появился у стен города в сопровождении многочисленной конной свиты — огромного кортежа, блиставшего варварской роскошью, пестрой толпы разноцветных бурнусов. Сам султан в желтом бурнусе ехал впереди. Рабы с железными кандалами на правой руке прикрывали монарха двумя зонтами и обмахивали прикрепленными к длинным шестам страусиными перьями. Далее следовали высокие должностные лица государства, затем — оркестр: литаврщик на верблюде, флейтисты и трубачи. Далее на прекрасных лошадях ехали сорок пять султанских фавориток, закутанных в черное, — каждая в сопровождении двух рабов. Наконец, для вящего блеска триумфальной процессии, провели семерых побежденных вождей. Один из них, человек величественного вида, правивший большим племенем, вызвал общую симпатию спокойным видом и улыбкой. Все в толпе знали, что пленных вождей по обычаю убивают или, еще того хуже, предают на поношение сералю[319], после чего гнусным образом калечат.
Час спустя султан передал Барту, что не знал о страданиях, перенесенных доктором, и в доказательство благорасположения прислал барана, масло и зерно.
Это было 6 июля. Вечером Барт получил наконец депеши из Лондона, где находилось разрешение продолжать экспедицию и необходимые для выполнения задачи средства. В нищете и беспокойстве прошло пятнадцать месяцев! Получил он и самое приятное вознаграждение, какое существует для путешественника, — множество частных писем с высокой оценкой своих трудов.
На следующий день султан дал доктору приватную аудиенцию. Государь явил к путешественнику благожелательство и с удовольствием принял дары. Затем, поскольку полученные инструкции звали Барта в Кукаву, он сразу же испросил разрешения покинуть Багирми.
Пять недель спустя Барт воротился в Кукаву.
К сожалению, радость его длилась недолго: в экспедиции вновь случилось несчастье. В сентябре 1852 года умер Овервег, сраженный, как и Ричардсон, столь немилосердным к европейцам климатом. После этого Барт хотел только одного: уехать из гиблых мест как можно дальше. Ожидая из Лондона нового сотрудника, доктор решил отправиться далеко на запад: исследовать Нигер и посетить неизведанное пространство между дорогами, пройденными Кайе, и землями, в которых делали открытия Лендер[320] и Клаппертон[321].
Итак, 25 ноября он отправился из Кукавы, намереваясь достигнуть Томбукту[322].
Девятого декабря унылые равнины Борну закончились и начались плодородные округа хауса. 12 числа Барт направился на северо-северо-восток к провинции Муниго, оттуда — не прямо в Зиндер[323], а на запад, желая посетить Ушек — местность в западной части Борну, где больше всего выращивают пшеницы. Затем Генрих попал в Бадуими, где многочисленные ручьи орошают плодородные поля и сливаются в два озера, соединенные проливом. Но странное дело — хотя озера и соединяются, одно из них пресное, другое солоноватое; одно совершенно спокойно, как лазурное зеркало, второе зеленовато, как море, и, беспокойно вздымаясь, катит волны, вынося на берег множество морских водорослей.
Чтобы попасть в Зиндер, путешественник избрал путь школяров или исследователей, что часто является одним и тем же. Барт прибыл в этот город, где его ожидали средства для продолжения пути. Драгоценный багаж был надежно укрыт за толстыми глинобитными стенами от чуть ли не ежедневно опустошающих город пожаров.
Вид Зиндера необычен: в западной части, прямо посреди города, вздымается скальный массив, а от городских стен во все стороны расходятся каменистые гребни. Вследствие этого вокруг Зиндера находится множество источников, орошающих табачные поля и питающих необыкновенно богатую растительность. Купы финиковых пальм, поселки торгующих солью туарегов оживляют пейзаж. Визирь — друг прогресса — даже распорядился учредить нечто вроде ботанического сада.
У Барта было две тысячи долларов, тщательно упрятанных в ящик с сахаром. Доктор накупил кое-каких вещей: белых, желтых и красных бурнусов, тюрбанов, гвоздики, четок, зеркал — и отправился в Кацину[324]. Он приехал туда 5 февраля 1853 года. Правитель Кацины с явным удовольствием получил бурнус, кафтан и две головы сахара, а больше всего понравились два пистолета. Он постоянно носил их с собой и, словно старый ребенок, забавлялся тем, что поджигал пистонами бороды всем, кто к нему приближался.
Двадцать первого марта под охраной чиновника, посланного собирать налоги, Барт отправился в Сокото. Мало-помалу они приблизились к границе мусульманских и языческих земель. Не стало видно засеянных полей; унылый вид брошенных городов говорил, что здесь прошла война. Алию, эмир Сокото, повел войска на людей Гобира. Это не прошло без следа и для жителей: воины здесь, не имея интендантской службы, живут обыкновенно за счет земель, через которые идет армия, и, подобно саранче, пожирают все под корень.
Тридцать первого марта Барт считал одним из самых страшных дней за все время путешествий. Отряд оказался перед пустыней Гундуми[325]. Ее можно преодолеть только форсированным маршем, таким долгим, тяжким и изнурительным, что даже туареги, при всей баснословной выносливости, боятся пустыни. Лишь через тридцать часов ужасного, нечеловеческого напряжения обессиленная экспедиция, умирая от усталости и жажды, подошла к другому краю Гундуми. Многие были больны, а жена одного из проводников умерла.
В тот же день Барту посчастливилось: мимо с войском проходил эмир Алию. Хотя доктор буквально валился с ног, он поспешно отобрал и отослал в подарок государю, от которого целиком зависел успех экспедиции к Нигеру, все самое ценное из своих товаров. На другой день время в ожидании ответа тянулось медленно. Когда Барт начал отчаиваться, правитель прислал Генриху быка, четырех баранов, двести килограммов риса и на словах передал, что ожидает визита доктора.
Алию пожал путешественнику руки, дружески усадил и спросил, чем может быть полезен. Барт попросил покровительства в пути до Томбукту и охранную грамоту на жизнь и имущество любых англичан, которые когда-либо посетят владения эмира. Алию, благосклонно приняв обе просьбы, заверил, что думает лишь о благе человечества и, следовательно, не имеет иных желаний, как сблизить народы. На другой день Барт прислал монарху еще столько же подарков и один, без эмира, отправился в Нурно. Алию прислал путешественнику вслед сто тысяч каури на все расходы во время путешествия и охранную грамоту.
Эмир отправился на войну, а Барт тем временем на досуге исследовал окрестности, добираясь иногда до самого Сокото. Город оказался заброшенным; лишь тонкой ниточкой текла нездоровая вода, которую людям приходилось пить. Барт заметил много слепых — следствие дурного воздуха и воды. Торговля там, правда, как и в большинстве суданских городов, довольно оживленная, но съестные припасы очень дороги. Барт вернулся в Нурно, куда эмир, покарав мятежников, торжественно въехал 23 апреля. Вообще люди здесь из года в год проводят время в непрестанных войнах. Поистине удивительно, что обширная область имеет довольно плотное население — каково оно бы было, если бы вдруг ненадолго оставил землю страшный бич войны!
Еще две недели эмир, оказывая неизменное благорасположение, держал Барта при себе, а отпустил тогда, когда путешественник, сверх всяких пожеланий хозяина, подарил музыкальную шкатулку. Эмир был совершенно восхищен! Барт отправился в дорогу 8 мая. Славный эмир дал Генриху письмо к племяннику, эмиру Гандо. 17 мая доктор прибыл туда. В Гандо Барта гнусно обобрал некий мошенник, называвший себя «арабским консулом» и сумевший, благодаря слабости и плохому состоянию дел правителя, завоевать себе значительное влияние: знатный плут что хотел, то и творил! Пришлось буквально завалить проходимца подарками, чтобы он тоже дал грамоту с гарантией свободного прохода и с приказом чиновникам оказывать содействие.
«Четвертого июня, — рассказывает Барт, — мы пересекаем долины Кеби[326], которые в сезон дождей становятся рисовыми чеками. В Камбаре[327] правитель присылает мне все необходимое для доброй суданской трапезы — от барашка до пирога и крупной соли. В Тальбе грохот барабанов возвещает о военных приготовлениях: рядом, в Даубе, засели мятежники, но каждый день с их земли пропадает какой-нибудь ремесленный поселок… Яра месяц назад была богатым селением с трудолюбивыми жителями — сейчас она пустынна; я пробираюсь через развалины, невольно держась за ружье. Но в этих плодородных краях жизнь и смерть держатся рядом! Забыв о руинах, мы с радостью видим рисовые поля под сенью прекрасных деревьев — главным образом делебов. В тени этих пальм сидит какой-то человек и преспокойно лакомится их плодами. Кто может путешествовать по таким местам в одиночку? Не иначе шпион? И мой араб, неизменно храбрый, когда нечего бояться, хочет убить одинокого путника. Мне едва удалось отговорить спутника.
Звучат военные кличи, грохочут барабаны, но вдоль дороги непрерывно тянутся плантации хлопчатника и ямса, из-за оград видны кроны папайевых деревьев. Небо ясно, страна красива, хотя и обезлюдела из-за войны. Мы останавливаемся в Коле — столице правителя, располагающего семьюдесятью мушкетами. Здесь это важный человек, и его стоит посетить. Я разжился там жирным гусем (подарок от сестры правителя), таким образом, мой рацион получил ценную прибавку.
…Десятого июня. Переход через большой лес, в котором во все стороны тянутся слоновьи тропы. Местность ровная, и по растительности ни за что не скажешь, что сразу за опушкой начинаются бесплодные земли».
Через два дня Барт увидел блестящую водную гладь. Это Нигер! На другом берегу — город Сай.
Нигер, все имена которого — Джолиба, Майо, Егирен, Ира, Куара, Баки-у-руа — означают не что иное, как река, в месте паромной переправы у Сая имеет в ширину не более семисот метров. Барт с волнением переправился через Нигер, поиски которого стоили стольких доблестных жизней, и вступил в город.
Сай — квадратное укрепление со стороной около полутора километров — чересчур, надо сказать, просторное. За стенами разбросаны плетеные хижины, среди которых возвышается жилище правителя. С севера на юг через весь город тянется лощина, поросшая дикой редькой. В сезон дождей ее заливает водой, и тогда сообщение между двумя частями города прерывается, а климат становится чрезвычайно нездоров. Там растет мало злаков и мало овощей, хотя почва плодородна. «Однако, — замечает Барт, — едва Нигером, великим западноафриканским водным путем, начнут пользоваться, Сай станет самым важным пунктом на всем протяжении реки»[328].
Правитель принял Барта крайне недоверчиво: он никак не мог взять в толк, что доктор ничем не торгует. Сразу после аудиенции тот поспешно покинул Сай с его облаком болотных миазмов и поехал в Томбукту, избрав сухопутную дорогу, соединяющую два конца излучины Нигера наподобие тетивы.
В Чампобавеле каравану пришлось без лодок, на плотах из камышовых вязанок, соединенных шестами, переправляться через глубокую реку. На другом берегу то и дело попадались следы буйволов и слонов. 12 июля караван прибыл в Дори[329], столицу Либтако. Дорогу на каждом шагу преграждали многочисленные речки и болота. Дикие буйволы во множестве встречались повсюду; видел Барт и очень редкую в Судане ядовитую муху, донимающую их. Все время лил проливной дождь, всюду стояла вода. Животные и люди проваливались в грязь так, что лишь с величайшим трудом их удавалось вытащить.
Прежде доктор никогда не скрывал, что он христианин, но, попав в провинцию Далла, подчиненную фанатичному и жестокому правителю, который ни за что не пустил бы неверного на свою землю, выдал себя за арабского шерифа[330]. В конце концов ловкость, терпение, благоразумие и отвага помогли пройти опасную страну. 1 сентября на одной из боковых проток Нигера Генрих сел на корабль и поплыл в Томбукту.
«Мы плывем по водной глади шириной метров сто, — пишет Барт. — Кругом столько водорослей, что мы словно скользим по луговине. Через четыре или пять километров мы входим в открытую воду, и наши лодки везут нас от поворота к повороту. Берега вокруг покрыты тамариндами, дроком, травами, на которых пасутся газели и коровы. Появились крокодилы — значит, большая вода недалеко; между тем протока, по которой мы плывем, имеет ширину не менее двухсот метров. Дивная поездка! Все люди и лошади плывут на корабле. Кругом бесчисленное множество пеликанов. Река петляет все больше, берега видны все ясней — нас притягивают огни. Мы останавливаемся в какой-то бухточке, вокруг которой разбросана деревушка. На берегу высится купа деревьев, у которых все ветви покрыты птицами. Плывем дальше. В черном небе встает луна, под которой блестят величавые волны реки; полыхают зарницы, внушающие спутникам благоговейный трепет.
…На самом восходе солнца мы, переправившись через Нигер, входим в небольшую протоку, ведущую нас в Кабару — город, служащий аванпортом Томбукту, — а на другой день переваливаем через дюны, разделяющие оба города».
Когда Барт достиг цели, он совсем обессилел, но тут-то ему и потребовались, как никогда, мужество и хладнокровие. Слух о том, что в городе появился христианин, опередил путешественника. Барт имел за собой поддержку шейха, однако из-за распри властей в Томбукту слово этого государя могло в любой момент лишиться веса, так что доктор не был в безопасности.
Прошло какое-то время, и Барт действительно оказался вынужден временно покинуть город. Через два дня он смог вернуться туда — однако гражданские распри так усилились, что решительно стали угрожать путешественнику гибелью. Силой фульбе не смогли добиться от шейха его выдачи. Чтобы изгнать Барта во что бы то ни стало, они решили прибегнуть к хитрости.
«Семнадцатого марта ночью, — сообщает путешественник, — старший брат шейха приказал бить в барабан, оседлал коня и велел мне с двумя слугами следовать за ним. Туареги — наши союзники — с боевым кличем колотят по щитам. Мы приезжаем к шейху, с которым находится многочисленный отряд. Я прошу его не проливать из-за меня кровь. Он обещает недовольным не пускать меня в город, и мы становимся лагерем в некотором отдалении».
Барт оставался в Томбукту целых семь месяцев и в итоге был несколько разочарован, хотя и знал уже описание француза Рене Кайе, которое мы прочтем впоследствии. Дело в том, что Томбукту, как все далекое и таинственное, в нашем воображении вырос.
Размеры города люди соотносят с его славой, а слава, к которой примешалось немного и легенды, превратила Томбукту в один из величайших городов Африки — богатейших и могущественнейших. Томбукту действительно сыграл в истории очень важную роль. Его торговое значение было велико, да и теперь еще не малое, однако неизвестное всегда кажется значительней того, что находишь в реальности… Город имеет в плане вид треугольника и был некогда окружен глинобитными стенами, ныне снесенными. Обойти кругом его можно за час. Но хотя он не так обширен, как другие большие города Восточного Судана, зато в нем нет больших пустырей и огородов — дома стоят тесней, а потому у Томбукту более городской вид. Да и в прочих отношениях он больше похож на северные мавританские города, чем остальные суданские столицы. Жилища, числом около тысячи, в большинстве построены из побеленной глины, многие имеют два этажа с террасами. Круглые хижины с коническими кровлями встречаются только на окраинах города и составляют его предместья. Вид города особенно своеобразен благодаря шести-семи мечетям, стройные минареты которых возвышаются над всеми домами. Город разделен на кварталы; улицы узки и извилисты. Число жителей Барт оценивает в двенадцать или тринадцать тысяч, а когда, с ноября по январь, в Томбукту приходят караваны, с ними является еще почти столько же мавританских купцов, туарегов с севера и негров с юга.
Барт прибыл в Томбукту 27 августа 1853 года, был изгнан, содержался под надзором вне городских стен, потом снова заперт в городе с запрещением покидать его… Наконец в конце марта 1854 года путешественник смог беспрепятственно выехать из Томбукту. В сопровождении эскорта из двадцати человек он спустился по Нигеру до Сая. Обстановка ухудшалась — повсюду разгоралась война. Султан Асбена был свергнут, шейх Борну утратил власть, а великого визиря — друга Барта — удушили…
Семнадцатого октября 1854 года Барт прибыл в Кано, где ждал писем, денег, новостей из Европы. Ничего! А он должен заплатить слугам, рассчитаться с долгами, уплатить по всем давно просроченным векселям. Доктор продал все, что у него оставалось, вплоть до револьвера, и сумел с присущей ему скрупулезной честностью рассчитаться со всеми.
Здоровье Генриха, и до того расшатанное после перенесенного в путешествии, совсем ослабло. Животные от переутомления также все заболели. Верблюды и лошади Барта пали, в том числе благородный верный конь, три года деливший с ним все невзгоды.
Воля путешественника и в этот раз победила все трудности. 24 ноября он выехал в Кукаву, где шейх Омар вернул себе власть. Там Барту пришлось пробыть еще четыре месяца. Весной он наконец отправился в путь на Феццан, в конце августа прибыл в Триполи, откуда отплыл на Мальту, потом — в Марсель, проехал через Париж и 6 ноября 1856 года прибыл в Лондон.
ГЛАВА 21
Анри Дювейрье. — Туареги. — Убийство Дурно-Дюперре. — Поль Солейе. — В. Ларжо. — Гибель экспедиции Флаттера.
На последних страницах читатель нередко встречал имя туарегов. Итак, нелишне будет посвятить несколько строк этим кочевым племенам, не приемлющим нашей цивилизации, покамест неуязвимым для нашего оружия и представляющим собой главное (можно сказать — единственное) препятствие для нашего проникновения в Сахару. Это же позволит напомнить при случае о превосходных трудах нашего выдающегося путешественника, которыми по всей справедливости должна гордиться наша страна. Он много сделал для географической науки, и его имя вызывает живейшее сострадание и вместе с тем самое искреннее восхищение. Я имею в виду Анри Дювейрье[331], чья трагическая кончина только что потрясла нас.
Блестяще закончив коллеж, давший юноше превосходное образование, Дювейрье почувствовал, что в нем проснулась беспокойная, неутомимая страсть к путешествиям. Это было в 1859 году — как видите, за тридцать три года до выхода этих строк в свет. Сейчас научные экспедиции вошли уже, можно сказать, в обиход — тогда они были далеко не столь частыми. Требовалось нечто большее, чем просто отвага, чтобы вот так, с легким сердцем, отправиться в совершенно не исследованную страну — не имея опыта научных экспедиций, без предварительных тренировок, почти без всяких сведений о тех местах, куда ты отправился.
С великолепной самоуверенностью, присущей девятнадцатилетним, Дювейрье немедленно, без колебаний пустился в дерзкое предприятие. Никто еще не исследовал алжирскую и марокканскую Сахару. «Вот я и исследую», — сказал себе Дювейрье. И он сделал это насколько позволили обстоятельства, оказавшиеся сильнее воли и мужества самого отважного человека. Вначале Дювейрье постигла небольшая, совсем незначительная, неудача в области Туата. Далее путешественник сосредоточил исследования на Алжирской Сахаре от меридиана Алжира до меридиана Туниса[332] и даже значительно восточнее последнего. Посредством длительных, неустанных наблюдений, беспрестанных странствий по пустыне он самостоятельно добыл для нас множество точных, интересных и совершенно неизвестных дотоле сведений о жизни племен, населяющих в Великой пустыне пригодные для обитания места.
До арабского нашествия в XI веке эти племена жили независимо по всей Северной Африке и составляли единый народ, называемый берберами[333]. Вторжение оттеснило берберов к югу. Одни из них укрылись в ущельях Джерджеры и труднодоступных частях алжирского Атласа, где и сейчас живут под именем кабилов. Другие, которых зовут теперь шлсхами, нашли убежище в Марокко и марокканской части Сахары. Третьи, наконец, углубились в пустыню и стали именоваться туарегами[334].
Еще недавно страна туарегов была на карте сплошным белым пятном. Сегодня она изучена во всех подробностях, которые полностью опрокидывают бытовавшее недавно представление об огромном пространстве, известном под общим названием «Сахара».
Никто, конечно, не опроверг, что Сахара является пустыней — типичнейшим, эталонным, можно сказать, образцом для всего пояса бесплодных земель, простирающихся через весь Старый Свет от Атлантики до внутренних областей Тартарии[335]. Но она оказалась не такой уж однообразной и голой — не той обширной безводной равниной, повсюду, подобно пляжу, покрытой песком, которую с таинственным ужасом рисовало себе воображение. Бесчисленные русла пересыхающих речек, многочисленные озера, источники, цепи высоких гор, увенчанных крутыми пиками, снежные шапки, по нескольку месяцев не сходящие с этих вершин, — вот каков вид пустыни в действительности. И лишь по временам встречаются нескончаемые равнины, покрытые движущимися песками…
Посреди своеобразной и не слишком-то приветливой природы живут туареги — искусные грабители, убийцы по инстинкту, поднявшие разбой до степени общественного порядка. Это люди высокорослые, хорошо сложенные, сухопарые, жилистые, не знающие усталости; под загорелой кожей рельефно выступают мускулы. Именно загорелой: в детстве кожа у берберов совершенно белая, и лишь солнце придает ей бронзовый оттенок, свойственный жителям жаркого пояса. Женщины — тоже высокорослые, с горделивой осанкой — по большей части красивы, но той грубой, звериной, так сказать, красотой, которой недостает женственности, того божественного духа, что образует настоящую женщину. Между тем лицом они гораздо более похожи на европейских женщин, чем на арабских. Скажем еще, что туарега можно узнать среди тысяч людей по походке: важной, медленной, твердой, широкой поступи с высоко поднятой головой. Говоря прозаически, она подобна отчасти походке верблюда или страуса, а происходит, как говорят хорошо осведомленные люди, от привычки постоянно носить копье.
У всех туарегов — и благородных, и слуг — одно и то же одеяние, своего рода форма: более или менее богатая, блестящая, но совершенно похожая. Она состоит из длинной рубахи с рукавами и белого полотняного плаща. Вместо рубахи иногда надевают блузу, также полотняную. Под плащом — широкие штаны, напоминающие штаны древних галлов[336], а верхней одеждой служит длинная блуза, украшенная вышивкой. На голове носят красную тунисскую шапочку с шелковой кисточкой[337], на ногах — большие толстые сандалии с ремешками. Но самая характерная деталь туарегской одежды — литам, накидка, закрывающая всю голову, лицо и шею, так что видны только глаза, да и над ними, как некое забрало, висит широкая складка материи.
Литам все туареги носят постоянно, не расставаясь с ним ни в дороге, ни на отдыхе, ни во время сна. Трудно объяснить причину и обнаружить происхождение подобного обычая. Говорят, будто литам носят из гигиенических соображений: он предохраняет глаза от солнца, ноздри и бороду — от неосязаемой песчаной пыли, поддерживает постоянную влажность в отверстиях дыхательных путей. Но если принять такое исключительно гигиеническое объяснение — почему тогда литама не носят женщины? Почему мужчины не освобождаются от стесняющей движения одежды ночью, на отдыхе, когда ни солнца, ни пыли, ни горячего сухого воздуха нет? Как бы то ни было, для туарега совершенно невозможно и неприлично раскрыться перед кем бы то ни было — разве что в интимных обстоятельствах или по просьбе врача для осмотра.
Женская одежда еще проще мужской. Она состоит из одной, двух или трех хлопчатобумажных блуз, стянутых вокруг талии красным шерстяным поясом. Поверх блуз туарегские женщины на мусульманский манер завертываются с головы до пят в кусок шерстяной ткани — белой, красной или полосатой красно-белой, — волосы укладывают косами вокруг головы и покрывают матерчатой повязкой — кто богатой, кто бедной. Обувь такая же, как у мужчин, только более легкая и лучше украшенная.
Странное дело: женщина-туарег пользуется большим уважением, если у нее много друзей среди мужчин, но если она хочет сохранить доброе имя, то не должна никому отдавать предпочтения. Если у женщины только один друг, ее сочтут развратной и станут указывать пальцем. Более того, здешние нравы дозволяют отношения между мужчинами и женщинами, несколько напоминающие предания средневекового рыцарства. Так, женщина может вышить на покрывале или написать на щите кавалера похвалу либо пожелание удачи, а кавалер — высечь имя возлюбленной на скале, воспевать ее красоту и добродетели, и никто в этом не увидит ничего дурного.
К тому же северные туареги сохранили в целости некоторые добродетели, свойственные их народу и описанные еще шестьсот лет тому назад одним беспристрастным историком, которого они сами, как араба, считают врагом. Верность слову у туарегов такова, что добиться от них обещания чрезвычайно трудно, а обещать им что бы то ни было — опасно: свои обещания они выполняют скрупулезно, но такой же щепетильности требуют и от других. Обычное правило туарегов — обещать вдвое меньше, чем возможно, чтобы никто не упрекнул их в вероломстве.
Храбрость туземцев вошла в пословицу. Вопреки всем слухам, они не отравляют ни стрел, ни копий. Огнестрельное оружие туареги презирают и называют предательским, потому что человек, засев в кустах, может убить противника, не подвергаясь никакой опасности. Но их важнейшая добродетель, возведенная в ранг религии, — защита гостей и клиентов. Если бы не это, торговля через Сахару была бы невозможна.
Дело в том, что Великую пустыню часто бороздят караваны арабов, перевозящие товары с севера на юг и обратно. Эти арабы заключают с туарегами — исконными жителями пустыни — договоры, по которым хозяева обязуются за известную плату пропускать их, а при случае оказывать помощь и покровительство.
В целом из материалов Дювейрье вытекает, что отношение арабов и туарегов к иноземцам было если не дружественным, то, по крайней мере, неагрессивным. К несчастью, подобные отношения в высшей степени обострились после восстания 1871 года и в ходе последовавших за ним репрессий. Кочевники стали враждебнее относиться к христианам, особенно к французам, чем и следует, думается, объяснить смерть двух наших соотечественников, Дурно-Дюперре и Жубера, убитых в 1874 году.
Дурно-Дюперре был молодой путешественник — умный, благородный, энергичный, а главное — многообещающий. Французу исполнилось только двадцать девять лет, когда он задумал смелый патриотический проект, состоявший преимущественно в дальнейшем исследовании Сахары. Дурно-Дюперре напечатал записку о нем в «Бюллетене Географического общества» и показал, сколь важно было бы в интересах как политики, так и науки расширить наши отношения с соседними племенами Алжирской Сахары. Из всех возможных путей он предлагал избрать, как обещающий доставить более всего полезных результатов, путь из Туггурта в Гадамес, далее мимо Гата на запад к Иделесу в области Ахаггар, а оттуда к Томбукту. Торговая палата Алжира и министерство торговли, одобрив проект, проголосовали за субсидию, и Дурно-Дюперре начал готовиться к путешествию, маршрут которого так хорошо наметил.
Он отправился из города Алжира в 1873 году вместе с господином Жубером, поселившимся в Туггурте. В марте 1874 года спутники оказались в Гадамесе, намереваясь ехать через пустыню, однако им пришлось ждать: они узнали, что дорога на Гат стала опасной. Вновь вспыхнули старые распри между туземцами; дальше надлежало идти вперед с чрезвычайной осторожностью и сделать большой крюк, чтобы на каком-то из обычных караванных путей в Гат не угодить в засаду.
Дурно-Дюперре составил маленький отряд из туарегов дружественного Франции племени ифога, вождь которого Си-Отман в 1862 году приезжал в Париж. Один из этих четверых, некто Клас, нареченный наследник Си-Отмана, ставший впоследствии его преемником, уговорил путешественника отказаться от первоначального плана попасть в Иделес через Темассинин[338], несмотря на важность этого пункта, через который проходят дороги в Алжир, Туат, Айн-Салах, Ахаггар, землю аджеров[339] и Феццан. Клас прекрасно знал, что эту область беспокоят нашествия немирных арабов, не сложивших оружия после восстания 1870 года, борьба окрестных племен за преобладание, наконец, набеги туатинцев и феццанцев друг на друга. Следуя его мудрым советам, Дурно-Дюперре должен был избежать встреч и с племенем шамбаа[340], предводимым нашим смертельным врагом Мохаммедом бен Абдаллахом, мятежным шерифом Уарглы, и с людьми из Туата, где враги Франции подчинялись Бу-Шуше и брату уарглинского шерифа Си-Саиду бен Идрису.
Дурно-Дюперре решил, что сможет избежать опасностей, сделав большой крюк через Феццан, то есть зависимые от Триполитании сахарские территории. И действительно, там он мог в известной мере рассчитывать на поддержку туарегов, заключивших в 1862 году с Францией соглашение в Гадамесе, и на содействие могущественного вождя аджеров, без разрешения которого нельзя было обогнуть опасное место, — того самого Ишнушена, который некогда милостиво отнесся к мадемуазель Тинне.
Кроме упомянутых четырех туарегов, Дурно-Дюперре и Жубер взяли в отряд еще несколько рекомендованных им людей, и между прочим — некоего Насера бен Тахара, служившего проводником у господина Анри Дювейрье и досконально знавшего политическую обстановку в Сахаре. Может быть, он стоял перед выбором между союзом с Францией и пособничеством ее врагам; может быть, уступил влиянию, которое по временам оказывают на верных сторонников ислама религиозные фанатики; может быть, наконец, раскаялся, что не пограбил вдоволь Дювейрье. Так или иначе, сначала Насер скрыл намерения; до самого Гадамеса казалось, что он твердо решил сопровождать путешественников до конца. Однако по прибытии в Гадамес араб сразу сбросил маску и заявил, что из Гадамеса в Гат невозможно пройти, если не заплатить находившемуся в тех местах отряду туарегов-хоггаров[341] шесть тысяч франков дорожной пошлины.
Это требование показалось Дурно-Дюперре непомерным. Он, естественно, отказался его принять, заподозрил араба в сговоре с туарегами и решил уволить. Произошла довольно бурная сцена, в которой принял участие и господин Жубер, причем Насер выказывал желание уступить, ведя себя по отношению к Жуберу гораздо сдержаннее. Французы не могли понять, с чем это связано; во всяком случае, их подозрения в нечестности проводника лишь усилились. Чтобы вывести араба на чистую воду, они прибегли к хитрости. Жубер притворился, будто поссорился с другом, пошел в Насеру и объявил ему, что Дурно якобы решил вернуться, сам он хотел бы продолжить экспедицию. Жубер таким поведением товарища очень возмущался и раскаивался, что в споре с Насером держал его сторону. Араб попался на удочку: он взялся доставить Жубера в Гат целым, невредимым и без всякой пошлины.
Каковы бы ни были мотивы вражды араба к Дурно-Дюперре и симпатии к Жуберу, но дурные намерения араба стали очевидны. Дурно-Дюперре попросил Жубера изложить свой разговор с Насером письменно, отнес этот документ к каймакаму[342] Гадамеса и потребовал арестовать проводника. Затем французы решили, что опасаться больше нечего, и собрались в путь, хотя каймакам всячески их удерживал. В конце концов он потребовал, чтобы Дурно-Дюперре, по крайней мере, оставил расписку о принятом решении, чтобы снять с каймакама ответственность за возможное несчастье.
Проводника каймакам рассудил за благо оставить в тюрьме, чтобы в случае гибели путешественников отправить в Триполи в распоряжение нашего консула. То ли Насер еще раньше снесся с врагами Франции, то ли ему уже из гадамесской тюрьмы удалось обратиться к ним и призвать к мести — только все были уверены, что он причастен к гибели несчастных путешественников.
Вот при каких обстоятельствах свершилось это преступление. 14 апреля 1874 года маленький караван — Дурно-Дюперре, Жубер и их слуга Ахмед бен Зерба — верхом на верблюдах отправился из Гадамеса. Среди погонщиков находился араб по имени Насамр, который стал свидетелем событий и рассказал о них.
Когда экспедиция отошла от Гадамеса уже на семь дней пути, около полудня ей повстречались семеро довольно подозрительных оборванцев. Караван приготовился к обороне и вступил в переговоры. Незнакомцы объявили, что родом они из племени шамбаа, сбились с пути, умирают от голода и хотели бы добраться до Гата. Отвечали они уверенно, без раздумий. Доверившись словам туарегов, путешественники отбросили первые предубеждения: гостеприимно приняли встречных к себе в караван, накормили и дальше отправились вместе. Вдруг, в тот момент когда французы менее всего ожидали нападения, разбойники предательски набросились на Дурно-Дюперре, Жубера и их слугу, изрешетили пулями и ограбили. Верблюжьих погонщиков убийцы не тронули — с ними они, конечно, были в сговоре. Шамбаа выпотрошили багаж, все забрав себе (кроме нескольких напечатанных европейскими буквами книг), чтобы выгодно продать туарегам-хоггарам.
Нападение, несомненно, было заранее задумано и спланировано, избежать его караван не мог: ведь в момент убийства за путешественниками следовало с десяток туарегов-хоггаров, отделившихся от отряда, только что совершившего набег на Гадамес. Убийцы тут же направились к ним и доложили, что дело сделано.
Некоторое время спустя из Триполи прибыл курьер, который вез несчастным путешественникам письмо из Парижского географического общества. Он увидел трупы, повернул назад и помчался поднять тревогу в Гадамесе. Затем возвратился в город погонщик верблюдов Насамр, доставивший более подробные сведения о мрачной драме. Он узнал, что убийцы были шамбаа — грабители самого худшего сорта, а в том, что туареги-хоггары были с ними заодно, никто и не сомневался.
Почти в то же время Поль Солейе — еще один француз, смолоду проявивший темперамент истинного путешественника, — также отправился разыскивать путь к югу, на котором полегло столько жертв. Солейе имел все необходимое для успеха. Это был человек оригинальный, отважный, предприимчивый, терпеливый и вместе с тем энергичный. Будучи охвачен страстью к географическим открытиям, обладая непоколебимой верой, а также драгоценным даром внушать туземцам симпатию и уважение, он был человеком, вполне способным решить задачу, если бы обстоятельства хоть сколько-нибудь ему благоприятствовали.
Совершив три плодотворных путешествия в нашу африканскую колонию, Поль Солейе в 1872 году посетил оазисы Алжирской Сахары, горы Ксур[343], священный город Айн-Мади, Мзаб и земли шамбаа. Нигде он не встречал отпора — ведь если когда-либо избирался образ действий, прямо противоположный военному походу или даже крупной экспедиции, организованной на военный лад, то, конечно, таков был поход Солейе. Он просто шел пешком в арабской одежде, с тремя-четырьмя людьми и двумя-тремя вьючными верблюдами — без лишней рекламы и помпы… Солейе просил гостеприимства, на которое имеет право любой путник, в котором араб никогда не откажет, — и возникала симпатия, весьма удивлявшая господ начальников наших колониальных контор.
Солейе стал третьим европейцем и первым французом, сумевшим достичь Айн-Салаха. Первым, в 1826 году, был английский майор Лэйн, вторым, в 1864 году, немецкий путешественник Герхард Рольфс.
Путешествуя в страну шамбаа, Солейе обеспечил себе сотрудничество туземцев — этого не мог, не умел и, может быть, не хотел никто до него. Кроме того, он убедился, что частный человек — не офицер и не чиновник — вполне может, будучи христианином и французом, путешествовать по Сахаре, если только станет соблюдать местные обычаи.
По возвращении в Алжир Поль Солейе предложил Торговой палате разведать дорогу в оазис Айн-Салах через Лагуат и Эль-Голеа. Кроме того, он надеялся пройти из Айн-Салаха в Томбукту и достичь Сенегала. Его проект одобрили; Солейе отправился в путь и без затруднений пришел в Лагуат, а затем в Эль-Голеа. Но добраться до Айн-Салаха оказалось сложнее. Этот город, самый значительный в оазисе Туат[344], расположен почти на равном расстоянии от Томбукту, Триполи, Могадора[345] и Алжира, вследствие чего станет, конечно, в будущем играть важную роль.
Впрочем, этот оазис уже давно должен был попасть под прямое и непосредственное влияние Франции. Подумать только: еще в 1857 году под глубоким впечатлением наших побед Айн-Салах послал уполномоченных в Алжир с поручением вручить дань и признать главенство Франции, хотя и на условии сохранения местной автономии, но неожиданный подарок не приняли! Что сказать о глупости правительства, неспособного понять, что наше влияние могло быть сразу же перенесено на полдороге к Томбукту, что одним росчерком пера мы передвинули бы нашу алжирскую границу к 30° широты!
С тех пор арабы убедились, что мы хотим завоевать Сахару, и стали потихоньку поглядывать в сторону Марокко. В 1861 году два французских офицера в военной форме производили в этих краях рекогносцировку — вполне, впрочем, мирную. Тогда жители Айн-Салаха, опасаясь возможности французской оккупации, обратились за поддержкой к султану Марокко, которого прежде признали своим духовным главой.
Между тем считалось, что над Айн-Салахом установлен французский протекторат (как теперь над Тунисом). Вот почему тринадцать лет спустя Солейе думал попасть туда беспрепятственно — и неожиданно узнал, что эмир запретил въезд в Айн-Салах. У Солейе хватило терпения и упорства в конце концов преодолеть препятствие. Однако его людям намекнули, что лучше бы им из оазиса убраться. Не желая ничего слушать, они в паническом ужасе разбежались, и главе экспедиции тоже пришлось вернуться восвояси.
Путешествие все же не осталось бесплодным. Солейе разведал путь из города Алжира в Айн-Салах — чего оккупационным войскам никогда не удавалось сделать — и вынес глубокую уверенность в возможности провести железную дорогу хотя бы через часть Сахары, которую он посетил.
Подобно первым двум, еще один француз потерпел неудачу, отыскивая путь на юг, хотя и не столь трагическую, как Дурно-Дюперре.
Это был Виктор Ларжо. Он, как и Солейе, был из тех путешественников, что обладают крепкой верой в себя, выдержкой, горячим патриотизмом и не падают духом.
Первое путешествие Ларжо предпринял в 1874 году, располагая очень скромными средствами, собранными по подписке в Париже, Женеве, Лионе, Марселе и Алжире. Он не получил столь внушительной суммы, которые стали наконец-то предоставлять исследователям в наши дни. Но ему посчастливилось встретить в Туггурте агу[346] Мохаммеда бен Дриса, энергичная помощь которого стала для Ларжо наисущественнейшей поддержкой. Именно туггуртский ага дал нашему соотечественнику хороших проводников и добрые рекомендации к племенным вождям Сахары.
Сначала Ларжо в сопровождении всего трех местных жителей прошел вверх по высохшему руслу реки Игаргар (древний Гейр[347] Птолемея[348]), которая ранее впадала, вероятно, в залив Тритон[349].
Ларжо предполагал вослед редкостно удачной попытке Солейе направиться прямо в Айн-Салах. Но фанатики из тайных обществ все время скрытно обрабатывали население — и оно взбунтовалось. Идти дальше по этой дороге, и без того снискавшей дурную славу, становилось небезопасно. Ларжо все понял, и французу хватило благоразумия не настаивать на своем. Не без колебаний, но он признал свой план невыполнимым (по крайней мере временно) и отказался от него.
По прибытии в Гадамес Ларжо был благосклонно принят турецким губернатором, который свел Виктора с крупнейшими местными негоциантами. Ларжо воспользовался неожиданным обстоятельством и подписал с главными деятелями оптовой торговли в Гадамесе торговый договор, вследствие которого наши алжирские колонисты должны были получить наилучший путь в Судан.
Едва успев приехать во Францию, отважный путешественник, не знавший усталости и преодолевавший все препятствия, стал собирать деньги для организации новой экспедиции. В кармане у Виктора лежал торговый договор, по которому исследователь имел право привезти с собой ученых, а главное — коммерсантов. Ларжо рассчитывал, что при таких условиях коммерсанты откликнутся на призыв и поедут вместе с ним искать путь, который обещает стать исключительно выгодным.
Это оказалось элементарной ошибкой. Исследователи всегда простодушно таскали из огня каштаны для господ негоциантов, и можно предположить, что еще долго (наверное, пока существуют каштаны) таскать их из огня будут ученые, а кушать — другие люди. В конце концов спутниками господина Ларжо стали отважный молодой человек, блестящий флотский офицер Луи Сэй, и превосходнейший литератор Гастон Леме, журналист с весьма почтенным положением.
Девятого ноября 1875 года экспедиция отправилась в путь, а 24 декабря покинула Туггурт, где ага Мохаммед дал Ларжо письма и подарки для самых важных персон Гадамеса.
От Туггурта до Гадамеса шли весело. Спутники Ларжо были не из тех людей, которые падают духом, особенно Гастон Леме: сугубо галльский склад ума придавал особое своеобразие замечательной эрудиции литератора. Кое-как они приспособились к варварской кухне, зверски сдобренной жгучими пряностями, вызывавшими жажду, которую еле-еле утоляла вода — ни дать ни взять какая-то тошнотворная щелочь. Наши путешественники хохотали до упаду над неповторимой наивностью, которая только увеличивалась, оттого что хозяева произносили изречения с истинно мусульманской важностью. Как-то раз Ларжо сказал, что море покрывает две трети земного шара. Один из присутствующих с поспешностью человека, которому не терпится вставить глупость, тут же воскликнул: «Значит, после кончины Пророка выпало ужасно много воды! В Коране я читал, что тогда море занимало лишь одну треть». Другой арабский вождь уверял господина Сэя, что земля держится на рогах быка, стоящего на огромном камне, который лежит на спине огромной рыбы…
Читатель может представить себе, каким потоком лился хохот трех французов, когда они выслушивали изъяснения причудливой, бессмысленной космологии![350]
Впрочем, незнание астрономии не мешало местным жителям очень справедливо рассуждать на сельскохозяйственные темы и на опыте приспособлять сорта различных культур к разнообразию почв на окрестных землях. Первые артезианские колодцы прямо-таки потрясли арабов вопреки их обычной флегматичности.
Артезианский колодец в Африке — жизнь, бьющая ключом из высохшей земли, это сок — кровь растений, — текущий полной струей и оживляющий унылые пустынные местности. Вот неотразимое (хотя и бывшее долго в пренебрежении) средство проникнуть в те места! Ведь жители пустыни отдали бы все на свете за эти источники — такие свежие, животворные, обильные, возникающие по указке наших инженеров. Инженеры были готовы всеми средствами способствовать строительству колодцев между Туггуртом и Гадамесом, и это оказался бы самый верный способ подчинить французскому влиянию все страны от Алжира до Сенегала. Почему подобного доныне не сделано? Почему не отмечен цепью колодцев, как вехами, путь, который должен полностью принадлежать нам?
Ларжо со спутниками прибыли в Гадамес 5 января 1876 года и оказали городу важную услугу — участвовали в военной экспедиции против бандитов, нападавших на караваны. Несмотря на это, путешественников встретили равнодушно и неблагодарно. 21 января они были вынуждены отправиться в обратный путь, убедившись в непригодности города как опорного пункта для караванов из Алжира в Судан.
После неудачи господин Ларжо не счел себя побежденным. В том же 1876 году он снова отправился в Сахару, намереваясь посетить оазис Айн-Салах и, если позволят обстоятельства, исследовать загадочный массив Ахаггар. На этот раз господину Ларжо помогало правительство.
Он посетил бассейн уэда Гир[351], где пришлось надолго задержаться. Пользуясь задержкой, наш соотечественник произвел любопытнейшие археологические раскопки. Наконец 11 апреля, когда он уже собирался в Айн-Салах, к нему явились оттуда посланники и объявили, что султан Марокко запретил жителям этого оазиса принимать у себя христиан, а туареги и шаона гонятся за экспедицией. Ларжо пришлось спешно возвращаться другой дорогой. Нечеловеческие усилия вновь увенчались горьким разочарованием.
Одновременно Луи Сэй в сопровождении господ Кайоля и Фурро направился к югу от Уарглы и добрался до оазиса Темассинин, пройдя в виду мятежных шамбаа, — дерзкое предприятие могло стоить французам жизни. К счастью, их сопровождало несколько наших союзников, и Сэй в полном здравии возвратился в Алжир, добавив свое имя к перечню европейцев, отторгнутых Сахарой.
Эти путешественники все хотя бы остались в живых — пустыня была к ним сравнительно милостива. Но вот еще экспедиция, которая погибла и память о которой для французов будет всегда горька. Я имею в виду экспедицию Флаттера.
Выдвинутая инженером Дюпоншелем и Полем Солейе мысль о строительстве большой железной дороги через всю Сахару до Сенегала или до Томбукту распространялась все шире и принималась общественным мнением все благосклоннее. Наконец в 1878 году господин де Фрейсине, бывший тогда министром общественных работ, созвал комиссию для изучения данного вопроса.
Были предложены две трассы. Западная, начинавшаяся в Мешерии (провинция Оран), изучалась господином Пуйаном, восточная — двумя самостоятельными миссиями: господина Шуази и полковника Флаттера.
Господин Пуйан не смог пройти дальше Тиу, в четырехстах шестидесяти километрах от побережья. Поль Солейе, в то же самое время предпринявший самостоятельную экспедицию из Сан-Луи в Сенегале до Томбукту, был арестован и ограблен в Адраре, но экспедиция Галиени была удачливей — она дошла до Бамако и водрузила французский флаг на берегу Нигера. Экспедиция Шуази, вышедшая 17 января 1880 года из Лагуата, к 16 апреля прошла около тысячи двухсот пятидесяти километров и достигла Бискры[352]. Дорогу Уаргла — Бискра признали во многих отношениях более удобной и рекомендовали для первой очереди будущей железной дороги.
Миссия Флаттера 31 января вышла из Бискры. Предполагалось, что она вступит в земли туарегов, посетит себху[353] в Амагдоре, достигнет страны Аир и далее реки Нигер. Полковник избрал помощниками капитанов Массона и Бернара, младших лейтенантов Ле Шателье и Бросслара, статс-инженера Беренже, горного инженера господина Роша, доктора Гиара и других. Экспедиция, состоявшая из десяти человек штаба и девяноста пяти человек охраны, была превосходно организована, люди хорошо подобраны. Без больших задержек прибыв в Уарглу, она уже в марте смогла выступить в поход.
Экспедиция прошла через барханы, после перехода в двести двадцать километров достигла болота Айн-Тайба, пересекла оазис Темассинин. В пути французы, насколько было возможно, завязывали отношения с туарегами и производили самые различные наблюдения. 16 апреля экспедиция прибыла к озеру Менгуг в ста двадцати километрах от Гата.
Аджерские туареги за три тысячи франков, восемь ружей и еще кое-какие подарки приняли у себя миссию. Однако их правитель, старый марабут[354] Хадж-Ишнушен, чье разрешение все больше и больше становилось необходимым, счел долгом послать отчеты Флаттера на рассмотрение турецкого правительства в Триполи. Переговоры угрожали затянуться, и встал вопрос: а если экспедиция, простояв несколько месяцев на берегу Менгуга, в конце концов получит категорический отказ следовать дальше? Между тем к лагерю Флаттера каждый день подходило какое-нибудь новое племя и разбивало стан невдалеке — не столько для того, чтобы оказать почести, сколько для вымогательства подарков. В таких обстоятельствах элементарнейшее благоразумие требовало отправиться обратно в Алжир.
Однажды рано утром Флаттер снял лагерь. Увидев, что никого нет, туареги от неожиданности всполошились. Они ожидали приказа от вождей, но вожди тоже пропали — Флаттер предвидел возможность нападения и очень ловко сумел купить их нейтралитет. Князьки удалились в пустыню, получив хорошие подарки. Подданные сочли это предательством.
Двадцать первого мая миссия возвратилась в Уарглу. Флаттер поехал во Францию, чтобы представить отчет о полученных результатах и по новым инструкциям подготовить второй, решающий поход.
Комиссия по Транссахарской магистрали одобрила первые результаты и пришла к такому заключению: необходимо следовать центральным направлением через Амгид, Тахохаит и Хоггар, обеспечив содействие туарегов. В октябре 1880 года Флаттер, снабженный инструкциями, вновь покинул Францию.
Сбор экспедиции состоялся в Лагуате. В ней было девяносто два человека, три лошади, девяносто два верховых верблюда и сто восемнадцать вьючных: Флаттер был главой миссии; с ним следовали капитан Массон, инженеры Беренже, Рош и Сантен, лейтенант де Диану, доктор Гиар, унтер-офицеры Деннри и Побеген, солдат Луи Брам, семь проводников из племени шамбаа и марабут из мусульманского ордена теджана[355].
Перед отъездом полковник Флаттер получил от Ахитарена, вождя туарегов-хоггар, три письма, не суливших ничего хорошего. Письма от Ишнушена — эмира аджерских туарегов — были довольно обнадеживающими. Французский консул в Триполи между тем дал знать, что предвидит катастрофу, но Флаттер пренебрег предупреждением. Он выехал из Лагуата 24 ноября 1880 года, из Уарглы 4 декабря. Сначала казалось, что туземцы его принимают если не тепло, то, по крайней мере, не враждебно. С самого начала экспедиция избрала неизведанный путь — через уэд Мья и восточные отроги плато, протянувшегося от Эль-Голеа до Тидикельта[356].
Путь шел через владения трех туарегских племенных союзов: на востоке были аджерцы, на западе хоггары, на юге немови или аирские туареги. Хоггары — злейшие наши недруги — приютили у себя некоторых членов семьи шейха улед-сиди, бежавшего от нас с юга провинции Оран.
Страна эта бесплодна, гориста и безводна. Несколько животных, взятых в экспедицию, пали. Отряд находился в пути уже два месяца, и Флаттер начал беспокоиться: вот уже несколько дней на западе параллельно курсу экспедиции следуют конные отряды.
Шестнадцатого февраля отряд рассчитывает подойти к колодцу, но проводники утверждают, что колодец остался позади и немного правее. Они предлагают полковнику остановиться, сгрузить поклажу и отправить верблюдов на водопой. Верблюды вернутся скоро — ведь вода, по уверениям проводников, совсем близко. Более того, они уговаривают отправиться к колодцу и членов экспедиции.
Забыв о подозрениях, полковник принял предложение проводников. Ослепившая его доверчивость необъяснима — еще накануне вид неизвестных всадников казался по меньшей мере подозрительным. Он пошел вместе с Беренже, Массоном, Рошем, Гиаром и десятью носильщиками — все они пребывали в том же ослеплении. Туареги двигались впереди. Охрана лагеря была поручена Диану, Сантену, Побегену, Маржоле и Браму. Дорога была так узка, что верблюдам приходилось идти гуськом. Через два часа пришли к колодцу.
Внезапно с кручи раздались дикие вопли и во весь опор устремились вооруженные до зубов туарегские всадники. В тот же миг один из проводников предательски напал на господина Беренже, убил его ударом сабли и стал в ряды нападавших. Тут Флаттер увидел, в какую гнусную западню угодил. Вместе с капитаном Массоном он бросился на первые ряды врагов, разрядил в них пистолет и так же, как инженер, пал, сраженный ударом сабли. Капитан Массон, доктор Гиар, Рош, сержант Деннери после ожесточенной борьбы также погибли, а погонщики верблюдов спаслись бегством. Восемь из них добрались до лагеря и подняли тревогу. Лейтенант де Диану, оставшийся после гибели товарищей начальником экспедиции, приготовился отражать неминуемое нападение.
Но когда Диану окончательно убедился, что люди погибли, а верховые животные оказались в руках врагов, он последовал совету могаддема[357] Си-Абделькадера бен Хамида и отступил. Ночью Диану разделил припасы, деньги и вещи на пятьдесят человек, оставшихся в живых, приказал свернуть лагерь и уходить. Начался ужасный переход через пустыню. Настроение после разгрома было подавленное — да и как иначе! 27 февраля один из стрелков был захвачен туарегами. 8 марта погибли пять человек, посланных на поиски съестных припасов, кроме одного, оставшегося в живых. Вечером встретились еще какие-то туареги. Они сказались друзьями, поклялись на Коране, что не участвовали в бойне, и предложили купить у них финики. Финики были отравлены! Под действием яда многие стрелки охраны впали в настоящее безумие, начали стрелять друг в друга, и их пришлось разоружить. Оставшиеся в живых собрались вокруг импровизированного знамени и с арабской песней на устах отправились в путь, полные решимости дать отпор преследующим их предателям.
Вскоре небольшой отряд разбился на две группы. Более сильные, бросив на произвол судьбы слабых, пошли вперед и, укрывшись за складками местности, открыли по туарегам огонь. В Амгиде состоялось сражение, длившееся восемь часов и стоившее жизни лейтенанту Диану, Маржоле, Браму и двенадцати стрелкам. В экспедиции осталось всего тридцать четыре человека под командой сержанта Побегена. Им все-таки удалось вырваться из окружения и укрыться в какой-то пещере, где они и забаррикадировались. В ночь с 11 на 12 марта четыре человека сумели выбраться оттуда и направиться в Уарглу, куда благополучно пришли 18 марта. На помощь немедленно выслали кавалерийский отряд, но было уже слишком поздно. Отряд застал лишь десять человек, лишенных сил от усталости, страданий и голода. Побеген и остальные стрелки — всего двадцать человек — умерли в страшных мучениях. Ужасное дело — те, кто был покрепче, убивали и съедали слабых товарищей! Из десятерых выживших и возвратившихся в Уарглу не оказалось ни одного француза.
Франция оплакивает и долго еще должна оплакивать гибель этих благородных жертв. С другой стороны, ее престиж был сильно подорван разгромом, закрывшим для нас доступ в Сахару. Вождь туарегов хвастает, что истребил армию христиан. И кто знает — не был ли крупный мятеж, вспыхнувший в 1881 году в Алжирской Сахаре, отзвуком этой катастрофы?
ГЛАВА 22
Алжир. — Завоевание. — Организация колонии. — Арабские бюро. — Гражданская администрация. — Тунис.
Сейчас Тунис вполне офранцужен, но еще немногим более полувека назад (так немного в жизни народов!) казался загадочным и таинственным. Хотя от Европы его отделяло лишь малое расстояние, Тунис знали только по донесениям редчайших путешественников, сумевших на свой страх и риск преодолеть охраняемые фанатиками крепчайшие рубежи — как внешние, так и те, что отделяют столицу от провинций.
Характер властей и жителей Алжира был отнюдь не из тех, что привлекают, а тем менее — поощряют путешественников. Только одному наблюдателю — доктору Шоу, который провел в Алжире двенадцать лет (с 1716 по 1728 год) капелланом английской фактории, — особо благоприятные обстоятельства, а главное, ревностная страсть к научным исследованиям, позволили собрать значительное количество фактов и наблюдений; его труд до сих пор остается в некотором роде классическим. Французу Андре Пейсоннелю в 1724 и 1725 годах, а после него в течение XVIII века еще нескольким исследователям также удалось повидать некоторые области Алжира, главным образом восточные. Это были: немецкий доктор Хебенстайт в 1732 году; знаменитый Брюс — с 1764 по 1766; французские натуралисты Дефонтен и Пуаре: первый с 1783 по 1786, второй — с 1785 по 1786 год. К началу нашей экспедиции 1830 года ученые располагали достаточно обширными сведениями по естественной истории Алжира и общими представлениями о его политической истории (с многочисленными пробелами, относившимися ко времени самостоятельности берберов). Что касается географии и топографии — тут зияла пустота.
Завоевание 1830 года сорвало все завесы и опрокинуло все преграды. Известна причина, по которой Франция решилась на вооруженное вторжение: необходимо было уничтожить пиратское гнездо, существование которого беспрестанно угрожало достоинству и безопасности европейских держав.
В 1827 году дей[358] Хусейн так разъярился из-за одной бесконечно тянувшейся тяжбы, которую вели во Франции два алжирских купца-еврея, что ударил французского консула по лицу. После столь тяжкого оскорбления терпение французского правительства иссякло, да и общественное мнение требовало энергичных действий. Незамедлительно была подготовлена крупная военная экспедиция. 15 июня 1830 года армия численностью в тридцать семь тысяч человек под командованием генерала де Бурмона и адмирала Дюперре высадилась в Сиди-Феррухе. Доблестное войско шло от победы к победе, и 6 июля дей сдался на милость победителя. Алжир стал французским!
Но после столь ошеломительного завоевания оставалось еще много дел. Сначала покоренную часть Алжира оккупировали войска. Маршал Клозель занял Медеа, генерал Бертежен — Оран, Мостаганем, Бон и Бужи. Генерал Трезель создал арабские бюро и передал их в руки наших чиновников по административной, правоохранительной и финансовой части. Однако правительство все еще колебалось, сохранять ли Алжир за собой: оно предвидело значительные расходы, отягощающие бюджет метрополии, и необходимость содержания многочисленного войска. К 1836 году стало ясно, что режим ограниченной оккупации не дает сколько-нибудь серьезного результата и нисколько не решает дела. Следовало что-то предпринять: или уйти, или вступить во владение полностью. Правительство высказалось за последний план. Но тогда против нас поднялся грозный враг. Отвага и энергия его уже были известны; новые успехи с каждым днем увеличивали его влияние. Речь идет об эмире Абд аль-Кадире[359].
Впрочем, в лице генерала Бюжо[360] — впоследствии маршала и герцога Ислийского, самого популярного из наших генералов в Африке — он нашел достойного противника.
Бюжо оказался в равной мере храбрым воином и тонким дипломатом. Однако он совершил тяжкую ошибку, заключив с эмиром в 1837 году договор на Тафне[361] о разделе Алжира[362]. Разбираясь в людях, генерал должен был знать, что Абд аль-Кадир не из тех, кто складывает оружие. Однако Бюжо подумал, что добьется нейтралитета, а получил двухлетнее перемирие. В 1838 году генерал Вале взял Константину, а спустя год эмир возобновил войну — упорную, жестокую, беспощадную. Она прославилась доблестной обороной ста двадцати пяти французов, осажденных в 1840 году в Мазагране двенадцатью тысячами арабов. Затем последовали пленение семьи и свиты Абд аль-Кадира, блестяще захваченных в 1843 году герцогом Омальским, разгром и уничтожение в 1844 году на берегах Исли марокканской армии, прибывшей на помощь эмиру, бомбардировка Могадора и Танжера принцем Жуанвильским, энергичное, но жестокое подавление мятежа берберов во главе с Бу-Маза генералами Сент-Арно и Пелисье, оставившими по себе в тех местах страшную память. Союзники и собственные воины оставили Абд аль-Кадира: каждую минуту наши экспедиционные колонны могли захватить его в плен. При таких обстоятельствах султан 23 декабря 1847 года сдался генералу Ламорисьеру и с тех пор честно держал слово ничего не предпринимать против Франции.
Первое время после 1830 года исследования Алжира оказались теснейшим образом связаны с завоеванием. Ученым приходилось следовать строго за войсками — уйти вперед или уклониться в сторону путешественники не имели возможности, так как европейцам невозможно было находиться среди местных жителей — ярых религиозных фанатиков, сознававших, что поражение их окончательное.
В 1847 году генерал Кавеньяк перешел через шотты[363], а генералы Пелисье, Боске и Сент-Арно опустошили непримиримую дотоле Кабилию, но лишь в 1857 году генералы Рандон, Мак-Магон, Рено и Юсуф ее полностью подчинили. В 1871 году генералы Вимпфен, Шанзи и Осмон подавили страшный мятеж на юге провинции Оран, в то время как генералы Сосье, де Лакруа, полковники Сери и Фуршо победоносно сражались против столь же страшного мятежа в Кабилии. В 1872 году генерал де Галифе занял Эль-Галеа в тысяче километров от города Алжира, а генерал де Лакруа преследовал туарегов на крайнем юге. В 1880 году печально известный марабут Бу-Амема поднял против Франции восстание на юге провинции Оран и благодаря исключительно быстрым передвижениям смог выдержать два года войны. Генералы Детри и Негрие прогнали его в пустыню, но захватить не сумели. Бу-Амеме удалось скрыться в Марокко, где он находится и сейчас вместе с союзником Си-Химан-бен-Каддуром.
Вот краткая история завоевания Алжира Францией в важнейших датах.
Хотя Алжир стал французской территорией, он сохранил свои нравы, обычаи, памятники. В то же время из метрополии он позаимствовал некоторые нововведения, не всегда удачные в своеобразной стране, где контрасты очень сильны, но всегда гармоничны.
«Город Алжир, — пишет Эжен Фромантен[364], главный художник и писатель этой страны, — состоит из двух частей. Французский, или европейский, город занимает прибрежные кварталы вплоть до предместья Ага; арабский не выходит за стены турецкой крепости и, как прежде, теснится вокруг касбы[365], где зуавы[366] заменили теперь янычар[367].
Франция забрала себе все относящееся к флоту и портам, превратила старый дворец беев[368] в губернаторскую резиденцию. Она разрушила темницы, отремонтировала форты, расширила гавань, разделила мечети — часть оставила Корану, другие же отдала Евангелию. На новых торговых улицах Франция сохранила базары, чтобы ремесла, встречаясь друг с другом, слились воедино. Мальный базар, где собирались все нищие, стал театральной площадью, сам театр стоит на огромном откосе — бывшем скате турецкого земляного вала.
Что касается другого города, то людям, которых невозможно уничтожить, оставили ровно столько места, сколько нужно для жилья. И вот он из высокой беседки древних пиратов грустно глядит на отнятое у него море…
Два города соприкасаются, живут в теснейшем соседстве, но не смешиваются; населяющие их народы питают друг к другу лишь неприязнь и недоверие. Не имея возможности нас истребить, арабы избегают и прячутся. Ненавидят они не нашу администрацию, промышленность, торговлю, но нас самих — наше соседство, обычаи, характер, наш дух. Они хотят, чтобы их не трогали, не наблюдали за ними, хотят жить сами по себе — владеть землями без кадастра[369], путешествовать без надзора, рождаться без регистрации и умирать без формальностей.
Всего этого передовая цивилизация не дозволяет.
Пока они — окруженные со всех сторон, не признающие никакого прогресса, безразличные даже к собственной грядущей судьбе — пользуются всей свободой, возможной для ограбленного народа, не имеющего торговли и ремесла. Выживают они благодаря бездеятельности, но находятся почти в отчаянном состоянии.
Город, в котором они живут, подобен бурнусу — грубой бесформенной накидке. Улицы-ущелья, дома без окон, низенькие дверцы, прежалкие с виду лавчонки… Нет ни садов, ни деревьев — лишь кое-где на перекрестке уцепился в щебне чахлый побег винограда или смоковницы. Мечети скрыты от глаз, в бани ходят тайком.
Здешние ремесленники — вышивальщики, сапожники, низкого пошиба ювелиры, торговцы семенами. Изредка встречаются молочные лавки, кофейни, непритязательные булочные, более всего — цирюльни. Что до частной жизни — ее охраняют непроницаемые стены. За тяжелыми дверьми, за железными решетками на окошках скрываются две главные тайны этой страны: движимое имущество и женщины. Женщины здесь почти не выходят из дома, и лица их всегда закрыты; они открывают лицо лишь затем, чтобы перейти из рук в руки от одного араба к другому. Богато арабское жилище или бедно — оно неизменно закрыто, как несгораемый шкаф, ключ от которого всегда у хозяина».
Это описание содержится в письме Эжена Фромантена из Мустафы, датированном 10 ноября 1852 года. Оно все так же верно и живо, как в те времена, когда автор «Года в Сахеле» писал его.
Географические исследования велись с огромным размахом. Прежде всего это были топографические съемки, начало которым положили вместе с завоеванием. Господин Фай[370] сообщает подробности, интересные и красноречивые.
«Триангуляционные работы[371], — пишет почтенный член Академии наук, — спешно проведенные в недавно занятых провинциях, и топографические съемки, выполненные нашими учеными-офицерами на пути следования экспедиционных корпусов, осуществились ценой величайших трудов и опасностей, причем были связаны с военными операциями, так что начинать приходилось с частностей, а общую работу отложить до более спокойного времени, когда страна будет занята окончательно.
Лишь в 1851 году военное ведомство смогло подумать о том, чтобы Алжир получил такую же карту, как Франция, — составленную путем регулярных съемок и основанную на определениях положения опорных точек с высокой точностью.
Были измерены три базиса: в Блиде, Боне и Оране (1854–1867 гг.); с 1859 по 1868 год создана большая сеть из сотни треугольников с запада на восток от Марокко до Туниса. Положение основных географических пунктов: Алжира, Бона и Немура — было определено непосредственно (1874–1876 гг.). По этой сети, которая рассматривается как геодезическая основа для Алжира, проходят триангуляционные работы более низкого разряда, начатые в 1864 году и продолжающиеся до сих пор. Полная и подробная карта алжирского Телля будет закончена к 1894 году.
В марте и в апреле 1870 года французская военная экспедиция, преследуя мятежные племена в провинции Оран, достигла Фигига и некоторых других оазисов в Марокканской Сахаре. Она доставила полезные сведения о местностях, которые еще не посетил ни один европейский путешественник.
С тщательностью и рвением, сто́ящими выше всяких похвал, генерал Аното с 1857 по 1873 год изучал наречия и нравы Кабилии. Он издал кабильскую грамматику, сборник кабильских народных песен и, в соавторстве с советником алжирского суда господином Летурнс, прекрасную научную работу о Кабилии и ее обычаях. У кабилов вершит суд, собирает и распределяет налоги джема’а — деревенское народное собрание. Но каждый человек, каждая семья имеют право возмездия по закону «око за око, зуб за зуб». Марабуты от отца к сыну передают привилегии на замещение культовых должностей и монополию на обучение.
Долгие годы в Алжире не было никакого правления, кроме военного режима. Хорошо это или плохо? Население, еще взбудораженное недавним завоеванием, нуждалось в железной руке, и штатские чиновники, позволительно думать, неважно выглядели бы перед людьми, каждый день обагрявшими свои кинжалы кровью и чернившими ружейные стволы порохом…
Первые арабские бюро были созданы в 1832 году. В их функции входили политическое и административное управление, налоги, полиция, юстиция и надзор над поведением гумов — вспомогательных туземных отрядов. Подавляющая часть бюро строгими, но справедливыми мерами принесли большую пользу, однако иные вызвали негодование, злоупотребление всевластием.
При начальнике арабского бюро появлялся прямо-таки королевский двор. Самые большие арабские вожди шли к нему за разрешением обратиться к высшему начальству. Когда он выходил на улицу, толпы бедуинов бросались целовать край его одежды, а телохранители — шауши — разгоняли народ палками. Начальник бюро был на деле верховным главнокомандующим; всякий посмевший обратиться к кому-то другому скоро узнавал, чего он сто́ит. Ныне военный режим уступил место гражданскому, но не все трудности еще сгладились и, возможно, не все злоупотребления исчезли. Управление нашей алжирской колонией и теперь остается одной из самых сложных проблем. Легко и хвалить и критиковать тому, кто некомпетентен и не несет никакой ответственности. Мы же предпочитаем не предлагать никаких проектов, беспристрастно изложить факты, а суждение предоставить читателю.
«Честь первым устроить сооружение артезианских колодцев в Алжире, — пишет господин Шарль Рише, — принадлежит полковнику Дево. Первую скважину пробурили в оазисе Тамерна в июне 1856 года. В 1880 году арабы владели 434 скважинами, а французы — 59. Так познания и терпение одного человека даровали жизнь пустыне и создали оазисы там, где прежде был лишь песок. Ирригационные работы сделают эту почву плодородной! Сегодня они тем более необходимы, что в 1883 году парламент осудил систему принудительной экспроприации земель туземцев. Вследствие этого необходимо получать большую отдачу от земель, находящихся во владении колонистов.
Против системы бесплатных концессий и государственной колонизации весьма энергично сражались очень авторитетные журналисты. Тем не менее сегодня белыми колонистами заселено уже более пятисот деревень, процветают города Филиппвиль, Буфарик, Сиди-Бел-Абес, Фор-Насьональ. Благодаря артезианским скважинам ежедневно поднимается на поверхность более 25 000 кубических метров воды, а площадь орошаемых земель превосходит 50 000 гектаров. Плотины — подлинные произведения искусства, какова, например, плотина Сиг, — позволяют накапливать речную воду в водохранилищах и в засушливое время года направлять ее на окрестные поля. Наконец, на осушение болот в колонии израсходовали более пяти с половиной миллионов франков.
В Алжире насчитывают 3000 километров шоссейных и 1600 километров железных дорог, 6000 километров телеграфных линий. Для обеспечения прибрежного судоходства действует сорок три маяка.
Чрезвычайно поощряется разведение и обработка альфы[372] — для умелых предпринимателей она может быть источником огромных доходов. Развивается культура эвкалипта; в последнее время приняты серьезные меры для защиты лесов от пожаров.
Имеется двадцать пять железорудных, медных и свинцово-цинковых рудников, на которых занято около 4500 рабочих, многочисленные разработки строительного камня, мрамора и т. п. Охота за кораллами идет на убыль, но по-прежнему существует. Для образования открыто 703 начальные школы, 2 лицея, 9 коллежей, 4 высших учебных заведения на французском языке и 3 медресе (мусульманских университета). Во всех этих заведениях обучается 70 000 европейцев, 10 000 лиц иудейского вероисповедания и 3000 мусульман».
Более красочно это процветание, которого стараются не замечать предвзятые критиканы, описал русский путешественник господин Чихачев:[373] «Алжир во всех отношениях развивается гигантскими шагами. Кто усомнится в этом, приняв во внимание обширную сеть дорог и мостов по всей стране, многочисленные публичные экипажи, следующие во всех направлениях, превосходную безопасность, которая могла бы послужить примером для таких европейских стран, как Италия, Испания или Греция, беспристрастное соблюдение закона по отношению к людям любой национальности и вероисповедания, наконец — замечательный дух веротерпимости, исповедуемый шире и мощнее, чем в большинстве самых цивилизованных европейских стран? Полагаю, я представил неопровержимые доказательства тому, что Франция, вопреки часто высказываемым мнениям по части управления колониями, ни в чем не уступает самым передовым нациям. Алжир в этом отношении непревзойден, и мало какая колония может с ним сравниться».
К несчастью, делу умиротворения, прогресса и цивилизации непрестанно угрожает мусульманский фанатизм, не желающий, несмотря ни на что, складывать оружия. Это началось не сегодня — ведь уже в 1869 году Анри Дювейрье, обладавший великолепным наблюдательским даром, видел и указывал, какими опасностями нашему процветанию угрожает племя Улед-Сиди-шейха и религиозное братство сануситов[374].
Нельзя сказать, чтобы мятежи арабов угрожали общей безопасности страны, однако из-за них гибнут люди, тормозится развитие промышленности и сельского хозяйства страны. Короче говоря, никогда нельзя быть уверенным, что завтра не разразится новый религиозный бунт из тех, которые трудней всего подавить и которые всегда находят серьезную поддержку в Тунисе и Марокко.
Поэтому для всех наших правительств после завоевания Алжира первейшей заботой было влияние в Марокко и покорение Туниса, расположенного у нас под рукой, между тем как его независимость представляет серьезнейшую опасность для Восточного Алжира.
Впрочем, наше влияние в Тунисе началось давно — уже в 1685 году Франция добилась от тунисского бея Мохаммада торгового договора — так называемой капитуляции. В XVIII веке Хасан бен Али основал ныне правящую династию Хасанидов. В 1770 году, при Людовике XV, французский флот, в качестве возмездия за пиратские действия, бомбардировал Порто-Фарину[375], Бизерту и Монастир. В 1800 году Хамуда-бей заключил с Францией новый трактат. Одиннадцать лет спустя этот же государь отделился от Оттоманской империи и подавил военный мятеж. В 1842 году отменили рабство. В 1847 году мы учредили в Тунисе телеграфную службу; в 1877-м и 1878-м построили железную дорогу протяженностью двести километров от алжирской границы до города Тунис. Существует также ветка от Суса до Кайруана, а в дальнейшем новая линия должна соединить столицу с Сусом и Бизертой. Как говорят, в самом ближайшем будущем начнутся чрезвычайно трудные работы: обустройство Гулетты[376], чтобы суда получили доступ к тунисскому порту.
Всем известно, как Франция, воспользовавшись набегами крумиров[377], в 1881 году добилась от бея признания протектората по договору в Бардо[378], затем подтвержденного в Каср-эль-Саиде[379].
С этого времени начинается решительное возрождение Туниса: теперь там установлен французский правопорядок, рекой потекли французские капиталы, составляющие две трети национального достояния, организовано народное просвещение, царят порядок, процветание и безопасность. Кроме того, чиновники военного ведомства очень активно занялись составлением большой карты Туниса, используя географические способности арабов для получения сведений о сопредельных районах, куда нам до сих пор запрещен доступ.
Впрочем, нашим войскам удалось занять священный город Кайруан — некогда обширный, ныне же находящийся в упадке и насчитывающий всего 12 000 жителей. Но славу свою Кайруан сохранил полностью, и еще в 1860 году господин Виктор Герен не смог туда попасть. «Там, — пишет он, — взор муэдзина, призывающего к молитве с высоты минарета, еще никогда не встречал символов иной религии, не поклоняющейся имени Магомета. Целых двенадцать веков кайруанский имам — апостол и толкователь Корана — не видывал служителей Евангелия». Иначе говоря, Кайруан был всегда закрыт для всех, кто не исповедует ислам, и лишь в виде исключения немногим христианским путешественникам удавалось попасть в город.
Кайруан одиноко стоит посреди пустыни, почти совершенно лишенной деревьев и всякой растительности, в ста сорока километрах к югу от Туниса и в пятидесяти километрах к западу от Суса. В дождливые годы — весьма, впрочем, редкие — пустыня под действием благодатной влаги вдруг оживает. Как по волшебству, являются в ней пастбища, привлекающие многочисленные стада под водительством арабских пастухов — таких же кочевников, как древние нумидийцы, обычаи и образ жизни которых они сохранили.
Еще за городом видно несколько завия — часовен, посвященных различным мусульманским святым. Священный город окружен семью предместьями — семью отдельно расположенными кварталами — и зубчатой стеной, фланкированной несколькими встроенными в нее башнями. Четверо главных ворот выходят на площадь. Торгуют более всего скорняжным товаром, а главное ремесло — производство бабушей[380] из желтого сафьяна с особым блеском, который умеют наводить лишь мастера из этого города.
Но для Кайруана более всего характерна сакральность. Его называют Священным городом. Поэтому, как сказано выше, прежде христианин лишь в знак особой милости мог попасть в Кайруан, и ни один иудей никогда не въезжал в его ворота. Со всех концов Туниса сюда приходят караваны, чтобы, так сказать, пропитаться духом ислама. По народному преданию, поддерживаемому в массах имамами, камни большой кайруанской мечети сами собой чудесным образом сложились в здание как раз на ее нынешнем месте. Приверженцы Корана глубоко почитают и часто посещают мечети.
Благодаря французскому завоеванию все преграды, воздвигнутые суеверием, пали как по волшебству, хотя в протекторате строго уважается веротерпимость.
Наш соотечественник господин Фонсен смог посетить Кайруан сразу после его покорения, когда город стал широко открыт для всех неверных.
«Мечеть Брадобрея, — пишет господин Фонсен в путевых записках, — стоит вне городских стен. Вначале вы подымаетесь на квадратную паперть, над которой возвышается минарет, затем — в огороженный двор, куда выходят каморки послушников. Лестница ведет в залу, облицованную фаянсом, под резным, узорчатым, с невероятным тщанием сработанным куполом. Сквозь окна причудливой формы с блестящими витражами проникают разноцветные лучи света. Наконец, вы проходите в погребальную часовню, где покоится священная личность, имевшая некогда честь брить Магомета. Как и все марабутские могилы, гробница накрыта тканями, огорожена решеткой, увешанной множеством амулетов и скорлупой страусовых яиц, а вокруг разостланы ковры.
В большой соборной мечети Джама Кебир[381] покоился и основатель Кайруана, свирепый Окба. Позднее прах его перенесли в окрестности оазиса Бискра в Алжирской Сахаре».
Самый значительный город на побережье — Сус, откуда во множестве вывозится оливковое масло, финики, шерсть, кожи, мыло; эти товары служат предметом вы годных сделок. Земледелие здесь весьма развито и получило бы еще большее развитие, если бы удалось внести некоторые улучшения в извечные методы работы, применяемые местными жителями. Сами они, в общем, не враждебны идеям прогресса, но их умы постоянно обрабатывают мусульманские фанатики-сектанты, проповедующие недоверие и ненависть к христианам и нововведениям. Они задерживают наступление новой эры, пугая новыми налогами, которых арабы боятся как огня.
Дел еще много, очень много! Вот, к примеру, Габес — главный город провинции Арад, важный центр нескольких оазисов и области, которая вскоре должна стать одной из богатейших в Тунисе. Сейчас река Уэд, на которой стоит Габес, при впадении образует бухту, открытую всем ветрам, вход в которую довольно затруднен. Но это поправимо для тех, у кого есть капиталы и способность плодотворно их применять! Довольно исправить дело природы с помощью искусственных сооружений, выполненных по хитроумным замыслам наших инженеров, — и Габес станет портом, доступным для торговых судов. Они привезут сюда наши товары, а в обмен получат выгодные тунисские.
Будем надеяться, что этот проект, своим существованием обязанный частной инициативе, докажет власть предержащим, что улучшение торгового порта в Габесе должно идти рука об руку с улучшением военного порта в Бизерте. Второй порт будет охранять первый и обеспечит как свободу торговли, так и независимость нашей колонии!
ГЛАВА 23
Марокко. — Его упадок. — Закрытая страна. — Фанатизм. — Исследования. — Камилл Дульс. — Пять месяцев у мавров.
Алжир давно покорен. Тунис, по сути, стал французским и быстро шагает к цивилизации. Вся Северная Африка стала бы спокойной и процветающей, если бы не Марокко, куда непрестанно стекаются и откуда исходят убийцы-проповедники, зачинщики мятежей. Между тем Марокко быстро стремится к развалу, как и большая часть мусульманских государств — на наше время приходится крушение большинства из них.
Удивительна и печальна судьба этого последнего обломка некогда славной цивилизации, пережившего свое время, словно надгробный камень! Без усилия мысли уже не представишь себе чудес мавританской культуры. Где времена завоевания Испании, когда арабы находились во главе движения мысли, когда образованнейшие из монархов Европы гордились их дружбой, когда сицилийский король Рожер II[382] призвал знаменитого марокканского ученого Идриси[383], составившего для него всемирную географию и на серебряной сфере начертившего все известные тогда страны мира?
Все это разом рухнуло во тьму веков. Марокко погрузилось в невежество, начало агонизировать и превратилось в пиратское гнездо, которое время от времени подвергается бомбардировкам европейских держав.
Географическое положение Марокко весьма благоприятно для распространения цивилизации, но из-за политики его правительства и, в еще большей мере, из-за фанатизма местных жителей эта страна по-прежнему совершенно нам неизвестна. За исключением побережья, мы изучили ныне «de visu»[384] лишь следующие ее области: дороги, соединяющие столицы Мекнес и Марракеш с портами Танжер и Могадор; путь из Танжера к юго-восточным границам государства через хребет Адрар-н’Дерен или Гору гор, иначе говоря — настоящий Атлас; наконец — области Ангад и Уэд-Гир по соседству с Алжиром и верховья реки Уэд-Дра, текущей далее через Марокканскую Сахару. Между тем по всей средиземноморской округе не найдется страны, столь привлекательной для путешественника — география Марокко едва изучена. Величественный хребет Атласа, смело проведен на наших картах, но его еще не пересекли маршруты экспедиций и геодезических съемок: наука до сих пор не в состоянии даже указать его высшую точку[385]. Сведения о гидрографии не более полны. Так же, по еще более веским основаниям, обстоит дело с изучением местных обычаев и наречий; следов различных исторических эпох, оставивших след на марокканской земле; климата, столь неодинакового в разных частях государства; минерального, растительного и животного царства.
Итак, в конце девятнадцатого столетия, невзирая на чудесные успехи нашей цивилизации, невзирая на близость к Европе и на все усилия, чтобы вывести Марокко из непостижимого застоя, подозрительность правительства и дикие нравы берберов — фанатичных мусульман и неисправимых бандитов — делают страну неким живым анахронизмом, подлинной terra incognita[386].
Для цивилизованных народов открыт один — единственный! — пункт, в котором и находятся все дипломатические и консульские представительства, аккредитованные при султане Марокко. Это Танжер — ничем не примечательный, безликий, нечистый и нездоровый арабский городок, населенный алчными и фанатичными оборванцами.
«Танжер, — пишет господин Жюль Леклерк, — представляет собой нагромождение белых домиков кубической формы с квадратным отверстием, через которое жилище освещается и проветривается, и маленьким бельведером[387] на крыше. Окрестности города очаровательны: кругом живописнейшие холмы и овраги, на горизонте высятся горы, кое-где открывается великолепный вид на синюю с солнечными блестками морскую гладь.
Улицы в Танжере не имеют названий, а дома — номеров. Торговцы сидят в грязных лавчонках без витрин — стекло в Марокко неизвестно, да и было бы, пожалуй, в таком жарком климате ненужной роскошью. Школ множество, и все марокканцы умеют читать».
В городах Марокко живут мавры — смесь берберов с прочими расами. Это изнеженные, суеверные, склонные к интригам, алчные, фанатичные, лживые, коварные, сластолюбивые люди. В Марокко живут евреи, которые занимаются всеми ремеслами, ведут морскую торговлю и держат в руках всю администрацию — но гонимы, не имеют права свидетельствовать в суде и живут в гетто[388]. Берберы, будь то амазирки, рифы, шлсхи или туареги, будь то пастухи, земледельцы или купцы, все — своевольные воинственные разбойники. Арабы живут как кочевники и подчиняются, как и берберы, только своим марабутам и шейхам. У каидов[389], назначаемых султаном в те провинции, где власть его еще признается, заботы всего две: представлять требуемое количество людей и посылать к праздникам как можно больше денег.
Вследствие этого каждый губернатор сам выжимает из населения все соки и позволяет разбойникам грабить. Столь пагубное управление безрассудным и недостойным образом разоряет страну, где плодородие почвы, годной для посевов любых культур, хвалят все путешественники.
Лишь совсем недавно — можно сказать, в наши дни — мы узнали кое-что о Марокко. Господин Нарсис Котт, бывший французский консул, в 1860 году выпустил интереснейшее сочинение о современном Марокко. Господин Баласкоа проехал из Могадора в Марракеш, господин Гателль в Сус и Уэд-Ном, Герхард Рольфс в оазисы Драа и Тафилет. Драммонду Хэю Ричардсону удалось попасть во внутренние районы страны, господин Тиссо провел съемку нескольких важных дорог и открыл множество римских руин. Наконец, покойный французский консул в Могадоре господин Бомье, изучавший физическую, ботаническую, медицинскую и торговую географию Марокко, издал сводный труд о стране.
Кроме того, господин Бомье заметил склонность к путешествиям у еврейского раввина Мардохея Аби Сераура. Это был тот самый человек, который сопровождал австрийского путешественника Оскара Ленца в Томбукту[390]. В благодарность австриец даже не упомянул Мардохея в путевых записках, хотя тот явился для экспедиции нежданным спасителем. Наш консул послал раввина в Парижское географическое общество, где иудея обучили необходимым для путешественника знаниям, дали денег, инструменты и отправили на родину, чтобы он сообщал интересные сведения об этой малоизвестной стране.
Раввин Мардохей оказался достоин столь высокой чести. Он отправился в экспедицию, дошедшую до точки 28° северной широты и 13° западной долготы по Парижскому меридиану — всего в миле от Уэд-Дра, ныне являющейся южной границей марокканских владений.
Мардохей нанес на карту несколько гор к югу от Атласа: Джебель-Тизельме, Джебель-Ида-У-Сагра, Джебель-Ида-У-Талтас, Джебель-Табайют и Джебель-Таска-Левин. Все они образуют как бы ребро, разделяющее два бассейна — Уэд-Ноун и Уэд-Дра. Некогда там процветала самобытная цивилизация, прежде совершенно нам неизвестная. Раввину и никому иному принадлежит исключительная честь открытия памятников таинственной цивилизации. Тридцать четыре эстампа, выполненные Мардохеем, воспроизводящие рисунки древних жителей Марокко, открывают горизонты для истории Северной Африки.
Приблизительная дата этих рисунков определяется по сюжетам, где изображены животные, которые ныне в Марокко не водятся, причем натуральность изображений не оставляет сомнения, что художники видели этих животных своими глазами. Отсюда можно заключить, что их творчество относится к I веку нашей эры, а то и ранее.
Отметим и дипломатическую поездку господина Вернуйе (в 1877 г.), германского посланника в Танжере господина Вебера и очень примечательное путешествие нашего соотечественника господина де Фуко, протекавшее не без опасностей.
В 1883 году виконт де Фуко был в Танжере, в долине Дра, в Могадоре, откуда направился в Сахару и посетил оазис Дра, где под бесчисленными пальмами величественно протекает широкая река того же названия. По обоим ее берегам разбросано множество деревень. Чтобы совершить поездку, виконту пришлось выдать себя за марокканского еврея. Преодолев великие трудности, ему удалось определить координаты нескольких важных точек, в частности — исправить долготу города Тазы.
Наконец, к числу самых интересных и основательных описаний лежащей в упадке империи принадлежит сочинение итальянца Эдмондо Де Амичиса[391]. Он сообщает нам любопытные сведения о неописуемой нищете марокканцев. «Питаются они, — пишет Де Амичис, — скудными плодами дурно обработанной земли; шейхи изнуряют их обременительными налогами. Они отдают десятую часть урожая деньгами или натурой, платят по франку за голову скота и по сто франков в год за участок земли, который можно вспахать двумя быками. Несколько раз в году они делают султану подарки к праздникам, что составляет налог приблизительно в пять франков на шатер. Когда в провинцию приезжает султан, паша или приходит армия, губернатору платятся кормовые. Горе тому, о ком известно, что он человек зажиточный: из такого выжимают все, что только можно. Но, накопив небольшое состояние, всякий зарывает его в землю и, чтобы не лишиться добра, притворяется бедным. Надобно еще давать подарки губернатору при получении наследства, приусадебной тяжбе или чтобы избежать расправы — иначе вас могут уморить голодом».
При такой нищете кочевники, населяющие большую часть Марокко, позорящего наше время, отличаются сильнейшим фанатизмом и кровожадными разбоями!
Чтобы убедиться в этом, достаточно рассказать историю замечательного и ужасного путешествия несчастного Камилла Дульса[392] — молодого француза, недавно столь жалким образом павшего от рук сахарских бандитов. Никогда и нигде — ни в центре Африки близ экватора, ни у каннибалов Южной Африки, ни в австралийских пустынях не было видано таких зверств и такого фанатизма. А ведь все эти злодеи умеют читать и писать!
Камилл Дульс без ошибок говорил по-арабски, основательно знал Коран, в совершенстве изучил мусульманские религиозные обряды. Переодевшись купцом-мусульманином, он произвел своей отвагой такое впечатление на канарских рыбаков, что они согласились высадить его с двумя ящиками разных побрякушек на западном берегу Марокко неподалеку от мыса Бохадор. Дульс очутился в полном одиночестве под палящим солнцем на пустынном, бесплодном, каменистом берегу и поспешил как можно скорей отыскать каких-нибудь людей, с которыми можно было бы о чем-то договориться. Через несколько часов он повстречал четырех полуголых мавров, еле прикрытых грязными шкурами, с нечесаными гривами волос, прядями падавших на плечи, с кинжалами на боку и ружьями в руках. Дульс обратился к ним с приветствием, по которому мусульмане без ошибки узнают друг друга, словно масоны по тайным знакам, однако четверо злодеев набросились на путешественника, сорвали одежды, отобрали пояс со скромным имуществом. Чтобы жертва не сопротивлялась, один из них изо всех сил наступил Дульсу на горло, но он все же пытался высвободиться. Тогда другой рукоятью ятагана разбил ему губы и выбил передние зубы.
На шум схватки явился старейшина шатра, некто Ибрагим Уэд-Мохаммед. «Убивать его ни к чему, — сказал он, — лучше продать в рабство».
И вот, не успев провести полдня в ужасных местах, несчастный путешественник оказался ограблен, избит до полусмерти, почти догола раздет и попал в рабство к жестоким бандитам. При этом еще не миновала опасность лишиться жизни. Хотя Дульс знал арабский и выглядел как добрый мусульманин, мавры упорно допытывались, не христианин ли он на самом деле. Причина подозрений была по меньшей мере странной, особенно если учесть, что в этих местах еще недавно процветало пиратство. «Кто ты?» — спрашивали Дульса. «Я мусульманин из Алжира». — «Мусульмане не плавают по морю; с моря являются только христиане, неверные!» — «Я раб Аллаха. Аллах премудр: я иду Его путями». — «Скажи: нет бога кроме Аллаха, и Магомет пророк Его!» Дульс произнес эту формулу, но кочевники ему не поверили и продолжали угрожать. Если бы француз пришел не со стороны моря, его без колебаний признали бы за мусульманина!
Тем временем бандиты никак не могли договориться между собой о разделе вещей. Наконец один из них, чтобы положить конец спору, с торжеством объявил, что лучше всего прирезать «христианина»! Вновь все ворвались в шатер, накинулись на Дульса, повалили наземь и потащили на улицу. Но французу удалось уцепиться за колышек палатки — в это время вмешался Ибрагим и вновь вступился за несчастного. Не то чтобы он был добрее других — но «христианин» его раб, а раб стоит денег. Лишь маленькая мавританка Элиазиза, дочь Ибрагима, проявила к Камиллу сострадание, хотя тоже считала его христианином: дала ему молока, чтобы он подкрепился.
Наступил вечер. Все прочли вечернюю молитву, а вместе со всеми и Дульс, называвшийся мусульманским именем Абд-эль-Малик. За отсутствием воды, подобие вечернего омовения совершили песком. В восемь часов мавры подоили верблюдов и приступили к единственной за день трапезе — молоко в деревянной чашке, вымытой мочой дромадера[393].
Два ящика с товарами, которые путешественник, как мы помним, взял с собой, он имел осторожность спрятать близ места высадки на берег. Теперь Дульс решил рассказать о них Ибрагиму, рассчитывая в обмен на этот секрет получить милость. Сначала кочевники так же не поверили, как и в его мусульманство. Но жадность все же не давала покоя Ибрагиму с сородичами. Пусть «христианин», решили они, отведет нас к указанному месту. Но чтобы Дульс не завел их в засаду, где прячутся другие христиане, которые перебьют или отведут в рабство мавров, его решили заковать в железо. Путешественнику надели на ноги кандалы с тяжелыми цепями, водрузили на верблюда, рядом посадили человека с ружьем, чтобы тот при первом подозрительном движении пустил «христианину» пулю в голову.
Банда шла долго и наконец обнаружила два ящика с товарами. Все товары были сделаны мусульманами и предназначались для мусульман. При виде ящиков кочевники стали вопить и кривляться, как каннибалы перед пиршеством. Расталкивая друг друга, мавры бросились к добыче. Тем временем, пока Ибрагим с другими главарями орды отошел в сторону на совет, четверо молодых людей набросились на Дульса, связали его, вырыли в песке глубокую яму, столбом поставили туда пленника и закопали по самую голову. Из утонченной жестокости палачи поставили перед ним деревянную доску с водой так, чтобы он видел ее, но не мог дотянуться губами. Потом молодые разбойники ушли, полагая, что Дульс испустит дух прежде возвращения Ибрагима.
Пробил последний час француза. Приготовившись умереть мучительной смертью, пленник из последних сил громко закричал и тем наконец привлек внимание Ибрагима. Еще несколько минут — и все кончится! Увидев, что хозяин идет к нему, Дульс с поистине поразительным хладнокровием стал еле слышным голосом умирающего читать предсмертную молитву мусульманина. Это его и спасло. В умах бандитов произошел переворот. Они остолбенели и, ударяя себя по лбу, заголосили:
— Он не христианин! Горе на наши головы!
Пленника вырыли и вновь отвели в шатер, но кандалы сняли, только когда он ответил на коварные вопросы талеба[394] из Тафилета и прошел экзамен у паломника, побывавшего в Мекке. Паломник и вынес окончательный приговор, объявив, что Дульс — турок и правоверный мусульманин. Тогда ему дали ружье и приняли в племя Ибрагима, называвшееся улад-делим.
С тех пор Камилл Дульс стал вести бродячую жизнь мавров, скитался с ними, питался верблюжьим молоком из миски с тошнотворным аммиачным запахом. Между прочим, он заметил, что эти бандиты весьма умны, довольно образованны (всех учат писать) и в большинстве обладают немалым ораторским даром. В пустыне есть бродячие писцы (толба), шатры которых служат настоящими передвижными лицеями. Там учатся мальчики и девочки тех мест, где эти люди сегодня находятся: ныне одни, завтра другие… Если же толба поблизости не окажется, маленькие кочевники учатся друг у друга: старшие обучают младших писать углем вместо карандаша на табличках, заменяющих бумагу.
Как-то раз после долгого перерыва Дульс отведал мяса — баранины по-сахарски. Мясо освежеванного барана режут на куски и доверху набивают котел с кипящей водой. Кишки и печенку слегка разогревают на углях и тут же съедают. Мясо тоже вынимают из котла, едва оно чуть подогрелось, и бросают по очереди сотрапезникам; каждый ловит кусок на лету и с волчьей жадностью пожирает.
Слово «волчий» здесь не преувеличение: ведь кочевники в отношениях между собой словно специально держатся изречения знаменитого латинского комедиографа: Homo homini lupus est[395]. Вот пример. Племя улад-делим, скитаясь к северу от мыса Бохадор, видит караван. На верблюдах узлы — купцы везут груз фиников из Тиндуфа в Тирис. По докладу разведки, в караване тридцать мужчин, десять женщин с детьми и сорок восемь верблюдов; принадлежит он добрым мусульманам, маврам из племени улад-тидерарин. Людей улад-делим налицо восемьдесят, и они единодушно решают овладеть добычей. Все достают оружие, садятся верхом на верблюдов и с устрашающим воплем бросаются в погоню. Несчастных караванщиков так мало, что они бегут, даже не пытаясь обороняться. Двадцати пяти пленникам тут же перерезают горло, словно баранам, и начинают делить награбленное: верблюдов, палатки и поклажу. Женщин и детей берут в плен, делят между собой по жребию — и разбойники едут дальше, словно ничего не произошло.
«По пути, — рассказывает Камилл Дульс, — мы встретили пять или шесть курганов — могил потерпевших кораблекрушение европейцев, убитых маврами. Каждый проезжавший с проклятьями кидает на холм камень, так что курган с каждым годом растет. Ветер наносит на них немного плодородной земли, и между камнями распускаются цветники. У одной из этих гробниц я тайком преклонил колени. Взволнованно прошептал я над могилой первые слова скорби, благочестиво сорвал голубой цветок и храню его, как святыню…»
Целых полгода жил молодой человек (Камиллу Дульсу было тогда двадцать два года) такой адской жизнью. Вдруг его бывший хозяин Ибрагим решил, что из юноши выйдет совсем неплохой зять. Он предложил ему руку дочери — грациозной и доброй маленькой Элиазизы. Дульсу пришлось согласиться — иначе Ибрагим стал бы смертельным врагом. Но он заметил нареченному своему тестю, что, будучи ограблен, не может заплатить положенного выкупа за невесту. Как тут быть? Дульс задумал уловку, чтобы выбраться на свободу.
— Дай мне верблюда и проводника, чтобы проехать через Сус, — сказал он Ибрагиму. — Марокко я знаю, мне нетрудно будет добраться до дома. А через несколько месяцев я, если Аллаху будет угодно, вернусь тем же путем и привезу тебе все, о чем мы уговорились, и даже больше того.
Ибрагим согласился — для его алчности такая сделка выглядела соблазнительно. Камилл Дульс нежно попрощался с милой мавританочкой. Она его больше никогда не увидела…
После довольно долгого и очень тяжкого путешествия он добрался до Марракеша, где встретил английскую дипломатическую миссию. Дульс узнал, что его долго считали погибшим, но после узнали: он в плену где-то в Сахаре. Газеты Канарских островов объявили, что мавры требуют за него три тысячи золотых выкупа, и наш консул Лакост уже собирался послать к ним одного туземца для переговоров. Англичане доставили Дульса в Могадор, а оттуда он отправился сам объявить господину Лакосту счастливую весть о своем возвращении.
ГЛАВА 24
МУНГО ПАРК
Первое путешествие Мунго Парка. — Второе путешествие. — Катастрофа. — Последователи. — Гибель майора Лэнга.
В 1788 году новые открытия в Африке породили в английском общественном мнении течение, благодаря которому возникла Африканская ассоциация[396] с резиденцией в Лондоне.
В ассоциацию входили люди выдающиеся по богатству, общественному положению, а более всего — по горячему рвению к науке и любви к человечеству. Благодаря высоким взносам и щедрым пожертвованиям своих членов, ассоциация дала новый импульс географическим открытиям. Она придала им регулярность, предписала цели и методы, субсидировала походы.
Первые экспедиции оказались весьма неудачны. Вначале американец Джон Лейдард, посланный от ассоциации исследовать малоизвестный тогда Верхний Египет, умер от желтухи, не доехав даже до Сеннара. Другой ее агент, некто Лукас, бывший поверенный в делах в Марокко, не смог пробраться в Центральную Африку через Триполи и Феццан. Туда же, но через Сенегамбию, в 1791 году устремился третий путешественник, майор Хаутон. Он добился больших успехов — прошел через государства Вулли, Буду и Бамбук. Далее майор отправился прямо в Сахару и там погиб, убитый туземцами.
Ассоциация упорно искала новых исследователей и в лице Мунго Парка нашла нужного кандидата — двадцатичетырехлетнего молодого человека, вскоре ставшего знаменитым. Он родился 10 сентября 1767 года в Фаулсхилзе близ Селкирка в Шотландии. Юношу предназначали к духовной карьере, но он предпочел изучать медицину. Двадцати одного года от роду он блестяще отличился в Индии и был направлен армейским командованием в экспедицию на Суматру.
Мунго Парк обладал всеми качествами, необходимыми для подобного рода трудов: был молод, деятелен, предприимчив, силен и образован. На английском корабле 21 июня 1795 года прибыл в Гамбию, задержался ненадолго в фактории Пизания, где запасся оружием, географическими инструментами и кое-какой провизией и отправился в неизвестность. При нем находилось всего двое негров, лошадь и два осла.
Царь Каарта[397], хорошо встретивший путешественника, не советовал ему следовать в страну бамбара[398], где шла война, но тот все же продолжил свой путь. Мавры-бандиты схватили его, обобрали до нитки, обратили в рабство. Над ним издевались даже дети!
Мунго Парк раздобыл обратно свой компас и еще кое-какие необходимые вещи, после чего сел на собственную лошадь и бежал. Вскоре его опять встретили мавры — и вновь ограбили. Он скитался, умирая от голода, питаясь одной листвой… Наконец, в полном изнеможении Мунго Парк вышел к вожделенным берегам Нигера. Как он и предполагал, река текла на восток. «Я подбежал к воде, — пишет он, — испил ее — и вознес Богу горячие благодарственные молитвы». Это было 20 июля 1796 года — Мунго Парк находился в пути уже тринадцать месяцев.
Он вышел на берег невдалеке от Сегу, столицы бамбара, и собирался, переплыв Нигер на пароме, остановиться в этом городе. Но султан Сегу передал путешественнику повеление расположиться на жительство в соседней деревне, поскольку мотивы путешествия государю были неизвестны. Мунго Парк направился туда, но жители, увидев белого, испугались и отказались приютить. Приближалась гроза. Мрачный и обессилевший путешественник уселся под деревом. Какая-то женщина, возвращавшаяся с поля, пожалела его, взяла лошадь под уздцы и отвела к себе домой. Добрая душа дала путнику поесть, постелила циновку и, напевая песню о злоключениях белого человека, уселась прясть вместе с другими женщинами. «Я до слез был взволнован этой нежданной добротой, — пишет путешественник, — и не мог уснуть. Утром я подарил великодушной хозяйке две пуговицы от камзола (их всего оставалось четыре). Больше я ничем не мог отблагодарить ее…» Два дня спустя царь, дав Мунго Парку на дорогу мешок с пятью тысячами каури (около двадцати пяти франков), приказал ему немедленно идти восвояси.
С удивительным упорством претерпев новые тяготы и лишения, перенеся тяжкую болезнь, надолго задержавшую его в деревне Камала, Мунго Парк 19 апреля 1797 года добрался до Гамбии. 12 июня он отплыл в Англию и вернулся туда, после двухлетнего отсутствия, 22 сентября.
В 1804 году английское правительство, уже без всякого участия Африканской ассоциации, организовало новую экспедицию во главе с Мунго Парком. Выбор его был оправдан блестящим путешествием, о котором мы только что вкратце рассказали. План Мунго Парка, давно им задуманный, одобрили. Он отправлялся — уже не один, с достаточным сопровождением — к тому же самому месту на Нигере, откуда в 1797 году вынужден был вернуться. Далее, построив достаточно большое судно для себя и спутников, он должен был плыть вниз по реке. Устье Нигера в те времена было неизвестно, и о направлении течения существовали самые противоречивые сведения.
Мунго Парк отправился в путь 30 января 1805 года вместе с зятем мистером Андерсоном. В Горе он согласился взять с собой и лейтенанта Мартина. 6 апреля вся экспедиция собралась в Кайи. В тот же день весь караван, включавший тридцать пять человек эскорта и проводника — пастора-туземца по имени Исаак, выступил в путь. Никогда еще в Африке не было столь хорошо организованной экспедиции — и ни одна не оказалась столь неудачной. С первых шагов все оборачивалось против нее. Богатая поклажа возбуждала алчность местных царьков, обильные стада привлекали хищных зверей. Сам караван был составлен из белых, непривычных к местной природе и климату. Кроме того, экспедиции повредил преждевременно наступивший сезон дождей.
Главные испытания для путешественников начались за рекой Фалеме. Едва они ее перешли, как оказались застигнутыми врасплох ужасными ураганами, один страшней другого. Спутники шотландца, ранее никогда не сталкивавшиеся с подобными катаклизмами природы, были ужасно напуганы. «Мне очень льстит, — говорит Мунго Парк, — что при переправе через Нигер нам удалось так легко отделаться. Но потом мы попали в сезон дождей, и я дрожал от одной только мысли, что еще не пройдено и половины пути. В течение трех недель заболело двенадцать человек».
Под воздействием тропических гроз людям невозможно бороться с сонливостью. Поэтому спутники Мунго Парка ложились где попало — то на промокшую насквозь поклажу, то прямо на сырую землю — и отказывались идти дальше. Вскоре не проходило и дня, чтобы смерть не унесла кого-нибудь из участников экспедиции. Местные жители заметили, в сколь бедственном положении она находится, и не преминули прибрать к рукам все, что плохо лежало, — когда тайным вымогательством, а когда даже и открытым грабежом. В деревне Гимбра солдатам пришлось штыками разогнать толпу туземцев, преградивших дорогу.
И все-таки караван вышел к Нигеру. С высоты горной цепи Мунго Парк увидел великую реку, спокойно катившую волны в низине. Вновь его охватила радость, но затем — тревога. «Я подумал, — пишет он, — что на марше мы потеряли три четверти солдат. Более того, у нас совсем нет плотников, чтобы построить лодки, на которых отправимся за новыми открытиями, — и будущее показалось мне чрезвычайно мрачным». В завершение бед сам начальник экспедиции заболел дизентерией, уже унесшей многих несчастных, и надолго задержался в Марабу — городке, расположенном на правом берегу Нигера. Чтобы не терять даром времени, он послал проводника Исаака к султану Сегу по имени Мансонг за разрешением для каравана проследовать через его владения.
Разумеется, посланник отправился в путь с дарами, которые пришлись государю весьма по душе и расположили в пользу экспедиции. Затем последовали нескончаемые, в соответствии с вековым ритуалом, переговоры, в результате которых Мансонг разрешил европейцам остановиться в Сансандинге — городе своего царства, насчитывавшем около двенадцати тысяч жителей. Он пообещал также дать Мунго Парку необходимые лодки, но в конце концов продал за безумную цену лишь одну, и то наполовину прогнившую. Простодушные дети природы прекрасно понимают, что такое коммерция, и великолепно умеют, сговорившись между собой, ограбить иноземцев, вводя их в заблуждение насчет цены товара.
Поскольку Мунго Парку никак нельзя было проявлять несговорчивость, он на все согласился и потом несколько дней занимался ремонтом жалкого суденышка. Когда все приготовили, можно было хоть как-то отправляться в путь — и в этот момент отважного путешественника постигло страшное несчастье. 28 октября 1805 года скончался его друг, родич и верный спутник…
«Прежде ничто из ужасов путешествия, — пишет Мунго Парк, — не смутило моего сердца. Но когда я проводил в последний путь Андерсона, мне показалось, что я вновь остался в африканской глуши один, без друзей…»
Тем не менее мужество шотландца осталось непоколебимым. 14 ноября экспедиция погрузилась на лодку, а 16 февраля отважный путешественник отправился вниз по реке, отдав свой путевой дневник Исааку для доставки в Сегу.
«Я отплываю на восток, — докладывал он английскому правительству, — следуя вниз по течению Нигера с твердым намерением открыть его устье или погибнуть. Если со мной не останется ни одного спутника, если сам буду близок к смерти, я все равно продолжу путешествие. А если я все же не достигну цели, Нигер будет мне могилой».
После этого известий о Мунго Парке не поступало. Затем поползли тревожные слухи, которые с каждым годом становились все настойчивей: заговорили о его гибели. Встревожившись, английское правительство распорядилось — с большим, впрочем, опозданием — об организации поисков. Стало ясно: никто лучше проводника Исаака для этого не подойдет. Его удалось уговорить возглавить предприятие, и 7 января 1810 года Исаак отправился из Сенегала. В конце сентября он прибыл в Сансандинг, где случайно встретил негра по имени Амади Фатума, проводника Мунго Парка в путешествии по Нигеру. Негр, увидев Исаака, заплакал и произнес: «Они все погибли!»
Вот что узнал от него Исаак. Плавание вниз по Нигеру превратилось в беспрерывную цепь сражений. Вопреки миролюбивым намерениям, Мунго Парк был вынужден принимать бой, чтобы расчистить себе путь и защитить спутников.
На всякий случай он все же решил пройти в обход Томбукту — через страну хауса. Договор с Амади Фатума как раз истекал; на прощанье он получил от начальника экспедиции жалованье и великолепные подарки для местного царька. Тот подарки принял, но затем объявил, будто не получил ничего, и даже велел отобрать силой у бедного Амади его небольшие сбережения. Кроме того, негодяй-князек отрядил войска, чтобы ограбить Мунго Парка. Оказавшись в окружении, путешественник, естественно, стал сопротивляться, но борьба была неравная. Чтобы не попасть в плен, Мунго Парк решил броситься в Нигер.
Значительно позже один английский путешественник услышал на самом месте событий из уст очевидца другую версию, согласно которой как раз Амади Фатума и был прямым виновником трагедии. Именно он, получив жалованье, стал утверждать, будто бы не получил, и обратился с жалобой к правителю. Путешественник протестовал, но царек все же хотел заставить шотландца повторно заплатить мошеннику, но Мунго Парк ответил решительным отказом. Путешественника попытались задержать, но он вырвался и силой пробился к лодке. Один из военачальников схватил лодку за корму — Мунго Парк саблей отрубил руку. Завязалась ужасная битва; на град камней и стрел англичане отвечали ружейным огнем.
По словам очевидца, прежде негры относились к белым без особой вражды — многие даже готовы были стать на их сторону, если бы не боялись вождей. Но когда белые пролили кровь, негры рассвирепели и безжалостно истребили весь экипаж лодки.
Существует еще одна версия: будто бы Мунго Парк с товарищами погибли, пытаясь преодолеть пороги Бусса, что находятся под 10°10′ северной широты и 2°30′ восточной долготы от Парижского меридиана. Негры не проявляли никакой враждебности — напротив, они во множестве прибежали на берег и громкими криками пытались предупредить путешественников, что лодка сейчас разобьется о скалистую преграду. Несмотря на предупреждения, суденышко погибло, и всех путников поглотили волны Нигера.
Последователи Мунго Парка оказались столь же неудачливыми. Перечень путешествий за двадцать лет составляет, так сказать, один красноречивый мартиролог.
В 1805 году англичанин Николс, справедливо предположив, что верный путь лежит через залив Бенин, высадился возле Старого Калабара[399]. Все ожидали успеха, но внезапно пришла весть, что Николс умер от желтухи.
В 1809 году еще один путешественник — немец Рёнтген фон Нёйвильд — погиб по дороге в Томбукту. По всей вероятности, его убили свои же носильщики, соблазнившиеся поклажей.
Затем англичане Педди и Кемпбелл вместе с саксонцем Куммером попытались проникнуть в глубь Африки по течению реки Рио-Нуньес. Все трое после страшных мучений погибли в песчаной пустыне.
В 1816 году английский капитан Такки[400], посланный британским Адмиралтейством и Африканской ассоциацией проверить гипотезу, что Нигер и Конго — одна и та же река, бесславно погиб после трехмесячного путешествия вместе с семнадцатью спутниками.
В 1817 году майор Грей попытался повторить несчастную экспедицию Педди и Кемпбелла, но столкнулся с такой алчностью туземцев (возбужденной доходами от прежних экспедиций), что вынужден был сжечь всю поклажу и вместе со спутниками укрыться под защиту пушек французского порта Бакель. Он умер от лихорадки, так и не вернувшись в Англию. Из всех путешественников той поры выжить удалось лишь одному — французу Мольену[401]. Он однажды уже имел необыкновеннейшую удачу — спастись после кораблекрушения «Медузы»[402]. Вместе с одним марабутом, говорившим по-арабски и на многих местных диалектах, Мольен проник в глубину Западной Африки. После мучительного путешествия он открыл в густой лесной чаще каскад из двух прудов, откуда, пенясь, вытекала вода. Это был исток реки Сенегал, или, как говорят туземцы, Черной реки.
После Мольена возобновляется зловещая серия путешествий, завершившихся катастрофой. К числу самых известных и плодотворных принадлежит экспедиция английского майора Лэнга[403], который в 1821 году отправился на поиски истоков Нигера и нашел их.
«С истоком величайшей реки Черной Африки, — сообщает Лэнг, — связано множество поверий. Ширина его всего полтора фута, но утверждают, что всякий, кто попытается перепрыгнуть через ручей, утонет — исток дозволяется лишь перешагивать. Здесь нельзя также брать воду, иначе невидимая сила вырвет у человека из рук калебасу[404] и может даже сломать руку».
У верховья река называется Тембье, что на туземном диалекте означает «вода». В продолжение нескольких миль она течет на север, затем поворачивает на восток и начинает называться Джолибой. Это имя река носит вплоть до Томбукту.
Лэнг сообщает также прелюбопытные подробности о нравах народов, среди которых жил. Например, в их среде обыкновенные занятия мужчин и женщин словно перевернуты наизнанку. Всеми полевыми работами, кроме сева и жатвы, здесь занимаются женщины, а мужчины ухаживают за коровами и даже доят их. Женщины строят дома, штукатурят стены, исполняют обязанности цирюльников и хирургов — мужчины шьют одежду, а то и стирают белье.
В 1826 году майор Лэнг отправился в новое путешествие, стоившее ему жизни. В нескольких днях пути к северу от Томбукту его караван остановили кочевники — по одним сведениям, туареги, по другим, одно из племен, живущих на берегах Джолибы. В нем признали христианина и решили убить; от первого же удара Лэнг упал без чувств, и майора сочли мертвым; слуга его погиб сразу.
Лэнга все же отвезли в Томбукту, где удалось исцелить раны «какой-то мазью, привезенной из Англии», как пишет его простоватый историограф. Лечился путешественник долго. Поскольку в Триполи майору дали рекомендательные письма, а хозяин сам был родом из Триполитании, в городе Лэнга никто не беспокоил. Он мог даже свободно ходить по Томбукту в европейском платье, снимая план города, и в самом худшем случае слышал, как его за спиной называют кяфиром (неверным).
Лэнг прожил в Томбукту довольно долго и решил отправиться через Сегу во французские фактории на берегах Сенегала. Фула[405] пригрозили путешественнику расправой, если он проследует через их земли. Убедившись, что сговориться с этими фанатиками не удастся, Лэнг выбрал путь к северу через Араван и Великую пустыню. В пяти днях пути от Томбукту караван встретился с вождем племени зават, который задержал путешественника под предлогом, что тот без разрешения вторгся на его землю. Он хотел принудить Лэнга признать Магомета[406] Пророком Аллаха и принять ислам. Майор отказался, понадеявшись на покровительство триполитанского паши, давшего ему письма ко всем шейхам пустыни. Черные рабы тут же набросились на Лэнга и удавили.
Убийцы разделили добро англичанина, а тело бросили на съедение воронам и грифам…[407]
ГЛАВА 25
РЕНЕ КАЙЕ[408]
Ранний выбор призвания. — Страсть к путешествиям. — Начало странствий. — От Рио-Нуньес до Томбукту. — Обратный путь через Марокко.
Трогательная особенность французского путешественника, о приключениях которого мы собираемся рассказать, состоит в том, что он начал свою карьеру шестнадцати лет от роду, без денег, почти без знаний, и при том ему удалось предпринять и успешно завершить одну из самых поразительных в анналах географии экспедиций.
Этот путешественник — Рене Кайе.
Он был сыном пекаря, родился в 1800 году в Мозе (департамент Де-Севр), в детстве потерял родителей и получил в своей деревне самое начальное образование — научился только грамоте и письму. Однажды в руки Рене попал «Робинзон Крузо». Книга явилась мальчику откровением; его дух воспламенился жаркой страстью к путешествиям, наполнившей отныне жизнь Кайе. Он знал одну мысль, одно желание: отправиться в дальние края, искать приключения, совершать открытия, следовать славному Мунго Парку, горестную гибель которого оплакивал весь мир.
Кайе раздобыл книги по географии с картами, по которым проследил маршрут британского путешественника, увидел белые пятна — и поклялся заполнить часть этих пятен.
У юноши был опекун — дядя, единственный родственник. Он долго не сдавался на пылкие мольбы мальчика отправиться в путешествие, но тот так просил и умолял, что дядя не выдержал и позволил Рене поехать в Сенегал. Преисполненный решимости, достойной настоящего мужского характера, шестнадцатилетний подросток покинул родной дом, имея в кармане только шестьдесят франков. В Рошфоре он сел на габару[409] «Луара», сопровождавшую «Медузу» — ту самую, на которой плыл Мольен, вскоре открывший исток Сенегала. Кайе добрался до Сен-Луи, отправился на острова Зеленого Мыса, а когда в Сенегале вновь возникла французская колония, несколько месяцев провел на берегах реки Сенегал.
Так он странствовал два года: из Сенегала поехал даже на Гваделупу, вернулся в Бордо, оттуда вновь попал в Сенегал. Закалившись в превратностях бродячей жизни, в начале 1819 года Кайе нашел себе место в экспедиции Партарьена, спутника майора Грея. Она побывала в Кайоре, дошла до страны волофов, пересекла пустыню, вышла к Булибабе — деревне, где живут пастухи фульбе, и направилась к Фута-Торо. После тяжелейшего пути маленький отряд, в который входил Кайе, вышел к Буду, где встретил майора Грея.
Но альмами (царь Буду) заставил путешественников повернуть назад. Французы отделились от англичан. Кайе вернулся на левый берег Сенегала возле Бакеля и спустился по реке к Сен-Луи, а оттуда вернулся во Францию.
Первоначальные странствия послужили Рене как бы послушанием; в них еще больше — если такое возможно — укрепилось его призвание. В 1824 году, взяв с собой немного безделушек, Кайе вновь отплыл в Сенегал с прежним намерением посетить внутренние области Африки. В Сен-Луи Рене удалось добиться от барона Роже (тогдашнего губернатора колонии) правительственного покровительства для экспедиции. Это была моральная поддержка, благодаря которой Кайе уже не чувствовал себя каким-то одиноким авантюристом. Кроме того, губернатор добавил товаров и дал совет пожить какое-то время среди племени бракна, чтобы выучить арабский язык и научиться правильно вести себя с туземцами. Нет сомнения, что именно мудрые советы губернатора позволили затем Кайе совершить дерзкий переход от берегов Сенегамбии до Гибралтарского пролива через Бамбара, Томбукту, Сахару и Марокко.
Стажировка продолжалась два года. Она была действительно необходима, к тому же Кайе за это время удачной торговлей увеличил состояние. Имея в запасе богатый опыт и две тысячи франков, он собрался в дорогу. На тысячу семьсот франков Кайе купил пороха, бумаги, табака, стеклянных вещей, амбры, кораллов, шелковых платочков, ножей, ножниц, зеркал, гвоздиков, три штуки гвинейской ткани, зонтик. Все это весило около ста фунтов. Оставшиеся триста франков он обратил в золото с серебром и зашил в пояс. Кайе взял с собой еще два компаса, оделся в арабское платье, набил его карманы листками из Корана, представился мандинго[410] с берегов Рио-Нуньес как египтянин, возвращающийся на родину, и 20 апреля 1827 года во главе каравана выступил из Каконди.
Только при слове «караван» пусть читатель не представляет себе большого отряда, сопровождающего путешественника подобно экспедиционному корпусу. Вместе с Кайе было пять свободных мандинго, три раба, лично преданный французу пастух из племени фульбе и проводник по имени Ибрагим с женой — итого двенадцать человек. Они двинулись левым берегом Рио-Нуньес, пробираясь через заросли акации неде, в стручках которой содержится крахмалистое вещество. Местные жители употребляют стручки в пищу; Кайе со спутниками тоже полакомились плодами акации, сэкономив дорожные запасы.
Путешествие обещало быть успешным. Фульбе, считавшие Кайе арабом, относились к французу с большим почтением и сочувствием: ведь ему предстоял такой долгий путь…
Наш соотечественник пересек ручей Танкилита (спутники сказали, что это та же Рио-Нуньес), прошел через деревни Ореус, Санкубадьяле, Даур-Кьюар, Кусатари, перевалил через горную цепь, называемую туземцами Лантегове, и 29 апреля прибыл в страну Тума, лежащую между Ирнанке и Фута-Джаллонном[411]. 8 мая Кайе перешел через Ба-Финг[412], или, по-туземному, Черную реку, главный приток Сенегала. Следуя дальше на восток-юго-восток, он 10 мая достиг Тимбо — столицы Фута-Джаллона. Жители этой страны по большей части высоки ростом и хорошо сложены, ведут себя независимо и с достоинством. Цвет кожи у них светло-каштановый, но несколько темнее, чем у кочевых фульбе, волосы кучерявятся по-негритянски, глаза большие, нос орлиный, овал лица несколько удлиненный — одним словом, их тип приближается к европейскому.
Жители Фута-Джаллона — магометане, причем фанатичные, и ненавидят христиан. К тому же они завистливы и склонны к грабежу: обирают всех сколько-нибудь богатых купцов, проезжающих через страну. Они воинственны и искренне преданы родине. В военное время все они без исключения становятся воинами: в деревнях остаются лишь женщины, дети и старцы, совершенно неспособные держать копье и лук. Одеваются они опрятно и любят частые омовения, но волосы издают неприятный для европейца запах, потому что обильно смазаны прогорклым маслом. В каждой деревне есть школа — конечно, самая элементарная. Там почти ничему не учат, кроме Корана: умение бегло читать священную книгу считается аттестатом об образовании.
Тридцатого мая 1827 года Кайе покинул Фута-Джаллон и пришел в одну деревню, где жили мандинго. Там праздновали свадьбу вождя и по этому случаю истребили колоссальное количество баранины с рисом. 11 июня путешественник без приключений добрался до Куруссы — деревни, расположенной на левом берегу Нигера, и с тем же волнением, что некогда Мунго Парк, созерцал легендарную реку. От местных жителей Рене узнал, что здесь Нигер начинает выходить из берегов и воды разливаются по долине на три мили, удобряя почву илом, после чего на ней сеют рис.
Путешественник пересек на пироге реку и, продолжая путь на юго-юго-восток, прибыл в Канкан — город, знаменитый базарами, где в изобилии продается местная утварь, европейские товары, доставляемые с побережья мандингскими караванами. Особенно много там ружей, пороха, кремней, цветного ситца, синей и белой гвинейской кисеи, амбры, кораллов, стекла, скобяных товаров, а больше всего — соли: это главная статья экспорта, самая редкая и ценная. Все купцы пользуются чрезвычайно точными маленькими весами местного производства. Гирями служат исключительно ягоды одного из африканских деревьев — черные и тяжелые. Вес двух таких плодов равен весу золота стоимостью шесть франков.
Шестнадцатого июня 1827 года Кайе покинул Канкан и к 3 августа с великим трудом добрался до Тинне, оставив далеко позади рудный округ Уассула. В Тинне он тяжело заболел: ссадины на ногах растрескались и превратились в зловещие язвы. Более того — его поразила цинга. Одна старая негритянка принялась лечить француза, и лишь благодаря ее преданности он избежал страшной смерти. Положение Рене было подлинно отчаянным, и нужен особый закал души, чтобы в подобных обстоятельствах не пасть духом! Четыре месяца провел Кайе между жизнью и смертью — один в дикой стране, на сырой земле, без всякой постели, если не считать кожаного мешка с поклажей, запертый в полуразрушенной жалкой хибарке, почти без еды — лишь добрая старуха приносила иногда немного риса, чтобы больной не умер с голода.
Пятнадцатого декабря Кайе выздоровел, а 10 января следующего года отправился в Дженне, следуя с караваном мандинго — пятидесяти носильщиков с грузом на голове, тридцати пяти женщин, также с грузом, и восьми вожаков, с которыми шло полтора десятка ослов в поводу. При вожаках находились их жены и рабы, которые несли поклажу и готовили обед на стоянках.
Два месяца Кайе шел на север через жуткие, дикие места, населенные, впрочем, гостеприимными людьми. Наконец 11 февраля он вступил на землю государства Дженне[413]. 11 марта Кайе пересек два рукава Нигера (Джолибы) и пришел в город Дженне, стоящий между обоими рукавами немного выше их слияния. Губернатор города радушно встретил путешественника и позволил поселиться в Дженне. Кроме того, Кайе познакомился и подружился с одним шерифом, который помог продать путнику безделушки и купить местных тканей, пользующихся спросом в Томбукту. Он дал путешественнику лодку, чтобы доплыть до Томбукту, чрезвычайно теплое письмо к одному негоцианту и провизии на дорогу. Кайе подарил шерифу единственный зонтик, показавшийся в Дженне каким-то чудом; шериф ничего другого и пожелать не мог.
Двадцать третьего марта Кайе сел в лодку, нагруженную товарами, продуктами и двумя десятками рабов, которых отправляли на рынок, чтобы продать за обыкновенную для Дженне цену: тридцать пять — сорок тысяч каури, что равняется ста пятидесяти — двумстам франкам.
От города до слияния двух рукавов Нигера расстояние невелико. «Часа в два пополудни, — пишет Кайе в записках, — мы выплыли на простор величественного Нигера, медленно текущего с запада на восток. В этом месте река очень глубока и в три раза шире Сены под Новым мостом. Берега реки совершенно плоски и лишены растительности».
Два дня спустя весь груз перенесли на лодку побольше, входившую в флотилию из шести барок, направлявшихся в Кабра — порт Томбукту. 1 апреля, после пяти недель утомительного плавания, Кайе достиг обширного озера Дебо. Там он заметил три острова, которые в честь короля Франции, его дочери и герцога Бордосского назвал: остров Святого Карла, остров Марии-Терезы и остров Генриха. 12 числа флотилия пришла в Кабра, а на другой день к вечеру Кайе наконец попал в знаменитый таинственный Томбукту — с давних пор единственный предмет его желаний.
Негоциант, к которому у Кайе были письма, превосходно принял француза. Кайе по-прежнему выдавал себя за мусульманина и под именем Абдаллаха мог, хотя подчас и не без больших предосторожностей, ходить куда угодно, удовлетворяя собственное любопытство.
С первого взгляда Томбукту кажется просто скоплением дурно построенных глинобитных зданий. Жара стоит невыносимая, поэтому базар открывается лишь вечером. Кайе увидел на нем много европейских товаров, в частности, французские ружья и стеклянные изделия, а кроме того — амбру, кораллы, серу, слоновую кость и прочее.
Рене сообщает также интересные подробности о населении города, в основном состоящем из негров народа кисур. Там много мавров, ведущих торговлю с Дженне, они быстро богатеют, строят дорогие дома и роскошью ослепляют жителей столицы Западного Судана.
«Царь Томбукту — самый обыкновенный негр, — пишет Кайе, — и ничем не отличается от подданных; жилище его ничуть не роскошней, чем у любого мавританского купца. Впрочем, он и сам купец. Власть передается по наследству. Ни народ, ни чужеземные торговцы не платят царю никаких податей, но дарят подарки. Нет у царя и администрации: он — отец семейства, управляющий своим народом с кротостью и в патриархальной простоте нравов. Государь принял меня при всем дворе. Он восседал на циновке с богатой подушкой. Лет ему на вид пятьдесят пять, волосы курчавые и седые. Рост у него средний, лицо очень красивое, совершенно черного цвета, с орлиным носом, тонкими губами, седой бородой и большими глазами; одежда, как и у всех местных богачей, сшита из европейского материала. На голове у царя была красная феска, обмотанная большим муслиновым тюрбаном.
В Томбукту семь мечетей, из них две большие, и над каждой возвышается кирпичная башня с лестницей внутри. Расположен этот таинственный город, столь долгое время привлекавший мысли ученых людей, посреди огромной равнины, покрытой движущимися белыми песками, на которых растут лишь чахлые кустики. Таким образом, в городе не хватает дров, чтобы удовлетворить нужды ремесленников и кулинарные потребности жителей, число которых достигает двенадцати тысяч, — за дровами рабы отправляются в дальние путешествия и продают на базаре для богатых людей. То же и с питьевой водой. Вообще говоря, главный источник существования для Томбукту — торговля солью, а продукты питания доставляют из Дженне.
Все коренные жители Томбукту — мусульмане и могут иметь до четырех жен. Среди них много хорошеньких; они могут выходить на улицу с непокрытыми лицами и страстно любят украшения: кому не хватает денег на золотое кольцо в нос, вставляют кольцо из красного шелка.
Торговле Томбукту сильно мешают туарики (туареги). Эти дикие кочевники обложили негров данью и грабят подчистую. В Томбукту рабов после захода солнца не выпускают на улицу, чтобы туарики не похитили».
Через две недели — 4 мая 1828 года — Кайе выехал из Томбукту. В итоге путешественнику удалось установить координаты города: 17°50′ северной широты и 6° западной долготы. Он попрощался с хозяином, снабдившим француза провизией и подарившим роскошное полотняное покрывало, нанял верблюда, погрузил на него ткани, закупленные в Дженне, и отправился в путь. В караване считалось шестьсот верблюдов, но вскоре их стало почти полторы тысячи: в пути встречались меньшие караваны и присоединялись к большому.
Кайе рассказывает, что в пути он, помимо карманного компаса, днем сверялся с солнцем, ночью — с Полярной звездой, поистине путеводной для арабов в бесконечных странствиях по пустыне. Они определяют путь без всякого компаса — и никогда с него не сбиваются — по цвету песка, скалам, пятнам травы и другим неуловимым для нас признакам.
Чем дальше к северу, тем безжизненней становилась пустыня, изнурительней жара. 10 мая Кайе увидел место, где два года тому назад лежало брошенное на растерзание хищным птицам тело майора Лэнга, удавленного людьми из своей охраны.
К счастью, путники отыскали для верблюдов немного травы и воды. Эти драгоценные в пустыне животные, пишет Кайе, могут служить людям проводниками: едва их навьючат, как они сами отправляются в дорогу, словно помнят, где находится колодец для стоянки. Караван прошел через ужасную местность Араван и 26 мая вышел к колодцу Телиг, где удалось отварить риса, которого не видели уже неделю. 12 июля вступили на территорию Эль-Гариба, 13-го миновали рощицы финиковых пальм, окружающие Эль-Дра[414], а 29-го прибыли в Тафилалет[415]. 12 августа караван пришел в Фес, два дня спустя Кайе выехал оттуда и в тот же вечер прибыл в Мекнес. 15 числа Рене отправился в Рабат, в котором оказался 18-го. Французский консул, еврей, отказался принять путешественника. Пришлось ехать в Танжер. Там после многодневных напрасных попыток Кайе удалось попасть к генеральному консулу господину Делапору, который радушно принял гостя и поселил у себя в доме.
Двадцать восьмого сентября Кайе сел на шхуну и 10 октября вернулся во Францию. Его путешествие длилось шестнадцать с половиной месяцев, в том числе семь с половиной месяцев в пути. Скажем не без гордости: он стал первым европейцем, посетившим Томбукту (несчастный майор Лэнг трагически погиб)[416].
За это Географическое общество 5 декабря того же 1828 года присудила Кайе Большую премию в десять тысяч франков. Кроме того, путешественник получил орден Почетного легиона и государственную пенсию. В деревне Мозе Кайе избрали мэром, но его здоровье так никогда и не оправилось полностью от тяжких испытаний, и Рене умер тридцати восьми лет от роду.
ГЛАВА 26
СЕНЕГАЛ
Андре Брю. — Миссия Галлиени. — Полковник Борньи-Деборд. — Карон в Томбукту.
Наши отважные нормандские моряки, не ведающие преград, уже в XIV веке вели торговлю с Сенегалом, откуда привозили перец, золото и слоновую кость. Они разведывали торговые пути до самой Гвинеи, а плодами их изысканий потихоньку пользовалась географическая наука. После многих опытов нормандцы пришли к выводу, что лучшее место для фактории — устье реки, и ограничили исследования бассейном Сенегала.
Впрочем, прежде них там побывали португальские мореплаватели (лишь мимоходом) и португальские капуцины[417]. Сколько времени провели там миссионеры, сказать точно невозможно. В конце концов, не выдержав местных климатических условий, они в мучениях скончались, а их проповедь разбилась о равнодушие туземцев, всецело преданных языческим обрядам.
В XVI веке моряки из Дьеппа и Руана основали фактории, достигшие впоследствии процветания. Мы располагаем списком управляющих этими факториями (главная из них — Сен-Луи на острове в устье Сенегала) начиная с 1626 года.
Но все это были мелкие предприятия, основанные, как правило, на недостаточные капиталы; им не хватало единства действий. Положение было исправлено могучей рукой Кольбера[418]. Желая дать мощный толчок французской торговле, Кольбер повсюду создавал большие компании, часто, соответственно суровой и прямой натуре, прибегая к авторитарным методам, и, конечно, не забыл о Сенегале.
Впрочем, нельзя сказать, чтобы все там шло отлично. Так, «город» Сен-Луи насчитывал в те времена двести жителей! В нем был форт с тридцатью пушками, но ни капли питьевой воды. Кольбер умер в 1683 году. Компания еще некоторое время кое-как прозябала — и зачахла. В 1693 году вместо нее была создана другая, известная под именем Парижской компании, во главе со знаменитым Андре Брю[419]. Предписание, в котором Брю давалась безраздельная власть над подчиненными, ссылается на его военный и коммерческий опыт. Где он воевал, неизвестно, торговал же долгое время в Триполи и сообщил много ценных сведений о Триполитании. Кроме того, он обладал — хотя в предписании не сказано — глубоким знанием людей. Вступив в должность, он навел в компании дисциплину и железной рукой управлял народцем мелких торговцев и служащих, привыкших делать, что им вздумается. Со своей стороны, он не жалел ни времени, ни усилий, чтобы расширить и укрепить связи компании. Ради этого он сам возглавил ее экспедиции и отважно искал пути в варварские страны, окружавшие фактории. Он несколько раз поднялся вверх по Сенегалу, чтобы добиться от туземцев права открывать новые фактории. Андре Брю дошел до Бакеля, затем до водопадов Фелу и собрал ценные сведения о дороге от Сенегала до Томбукту. Близ устья реки Фалеме он поставил форт Сен-Пьер, на побережье и вдоль Гамбии — форты Герегес, Биссак, Бутрам, Портанди, Арген, Альбареда, Жоаль и мечтал связать Сенегал с Нигером цепью укрепленных постов.
К несчастью, в действиях своих Брю был не вполне свободен. Подчиненные, конечно, целиком находились в его власти, и даже самые ответственные решения Андре мог принимать, ни с кем не советуясь, — но каждый служащий всегда мог ослушаться управляющего, поступать по собственному капризу, обвинять его во всех грехах и писать доносы. Компания не поощряла больших исследований и запретила различные завоевания. К тому же общественное мнение не интересовалось предприятием, выгоду от которого получали только акционеры, и не требовало отправки в Сенегал королевских войск…
Так или иначе, Брю открыл эру неведомого дотоле процветания. Этому благоприятствовали его энергия, работоспособность, знание людей и выдающееся умение применяться к обстоятельствам вкупе с качествами дипломата.
Андре можно упрекнуть в том, что он сделал важным орудием колонизации водку. Чтобы завязать с неграми торговые сношения, он в изобилии поставлял крепкие напитки и превратил этот товар в очень ценный предмет торговли. Конечно, это не лучшая сторона его деятельности, но он был лишь робким предшественником современных проповедников, которые при помощи тафии[420] пытаются заставить паству хотя бы более или менее тихо сидеть во время проповеди и службы. Да и чем водка Брю безнравственней опиума, которым англичане отравили Дальний Восток, или виски, при помощи которого американцы понемногу уничтожают краснокожих?
Независимо от названного способа колонизации, который поныне в ходу, и даже больше, чем прежде, Андре Брю был выдающимся человеком и организатором. Двадцать семь лет он провел в Сенегале и, покидая его, мог гордиться, что собрал колонию из лоскутков.
К несчастью, затем в течение ста двадцати с лишним лет дело Брю запустили до такой степени, что Сенегал превратился в обузу для метрополии.
В 1758 году, во время Семилетней войны, англичане завладели страной. В 1770 году Сенегал вернул герцог де Лозен. В 1787 году дамель Кайора уступил нам Зеленый мыс и Дакар. С 1784 года колония стала государственным владением и управляется губернатором, назначаемым королем. В 1809 году англичане отобрали у нас Сенегал, в 1817-м — вернули.
С 1817 по 1854 год в Сенегале сменилось тридцать семь генеральных и временных губернаторов — всего лишь по одному в год! Разумеется, в такой чехарде дела шли все хуже и хуже. Несмотря на необычайное плодородие и замечательные продукты, земля была словно проклята. Торговцы приезжали туда, чтобы нажиться и сразу уехать; чиновники не чувствовали себя в безопасности и всеми силами добивались перевода на другое место. Впрочем, по совести говоря, положение этих людей — в большинстве образованных, воспитанных, из хорошего общества — было плачевно. За исключением Сен-Луи, Бакеля, Сенудибу и Горе, мы нигде не числились в хозяевах — да и государем острова, на котором стоит Сен-Луи, считался ничтожный сорский царек. Мавры обирали и презирали нас; негры считали нас людоедами (!!!) и ненавидели. И те и другие пользовались любым случаем выразить ненависть, поощряемые непостижимым нашим долготерпением.
Да и не просто долготерпением: ни один из губернаторов, беспрерывно сменявших друг друга в метрополии, и понятия, кажется, не имел о положении вещей, отчего и не протестовал против ежедневных оскорблений, наносивших урон чести нашего флага.
В частности, Франция платила под видом подарков самую настоящую дань своре чернокожих — законным и незаконным вождям, их прихлебателям и даже рабам! И эта дань, вначале назначаемая туземцам как милость, мало-помалу стала постоянной, санкционированной особыми законами! Пусть хотя бы эти ничтожества имели властный вид! Так нет же — всей одежды-то перья да веревочка, на которой болтается грязный лоскут! Губернаторы разговаривали, как равные с равными, со смехотворными созданиями без достоинства, ума, чести, которым вы бы не доверили чистить башмаки, в то время как наши купцы были вынуждены подчиняться самым нелепым капризам царьков! Тщетно старались относиться к туземцам все добрей и снисходительней — они, упорно пользуясь нашей мягкотелостью, не останавливались перед грабежом и насилием.
Например, французы вообще не имели права плавать вверх по Сенегалу, за исключением жителей Сен-Луи. Но и те, останавливаясь у какой-нибудь деревни, должны были платить «обычные» деньги. Будут они здесь торговать или нет — не имеет значения; сперва надобно уплатить налог. А если от этого пытались уклониться, суда под нашим флагом немедленно арестовывались, а товары конфисковывались. Да и сами «таможенные пошлины», на ходу установленные по прихоти очередного князька, в соответствии с «благорасположением» и алчностью его величества могли быть всегда увеличены вдвое, вчетверо, вдесятеро…
А мы все терпим, с непостижимой кротостью снося каждодневные оскорбления, постоянное хамство, непрестанные угрозы изгнать нас, когда довольно было стукнуть кулаком и провести военную операцию силами четырех солдат морской пехоты с капралом во главе!
Так продолжалось до 1854 года. В тот год марабут Хадж Омар[421] с тукулёрами[422] захватил Бамбук, угрожая французским торговым заведениям. Тукулёры, происходящие от пёль[423] белой расы и негров из тех же мест, в 1802 году основали империю Сокото[424]. Это были противники иного сорта, чем всякие там бамбара, мандинго и йолофы[425]. Требовалось действовать без промедления и губернатор Проте послал в Бакель капитана Фэдерба[426] с лейтенантом Коке. Офицер, ставший позднее одним из героев национальной обороны, привел форт в должный порядок и принудил марабута отступить.
Два месяца спустя Фэдерба назначили командиром саперного батальона и губернатором Сенегала. Под управлением славного воина, обладавшего гражданскими добродетелями и прекрасными душевными качествами, Сенегал поистине стал частью французской земли, любезным и достойным уголком метрополии.
Вот несколько дат, чтобы напомнить важнейшие деяния, предпринятые во время губернаторства Фэдерба, после чего мы перейдем собственно к исследованию Сенегала, подготовленному завоеванием и с ним сопряженному. В 1855 году Фэдерб с пятьюстами человек разбил армию Хадж-Омара, желавшего основать мусульманскую державу и поглотить нашу колонию. В 1858 году губернатор отобрал левый берег Сенегала у мавров трарза;[427] в том же году майор Фарон и капитан-лейтенант Об взяли штурмом форт Гему; в 1859 году Фэдерб аннексировал Бооль, Сине, Салум, Казаманс и возобновил военные действия со старым неприятелем — марабутом; в 1860 году он отбросил этого фанатика в Сегу и завершил покорением тукулёров — пусть временным — борьбу, от исхода которой зависела жизнь и смерть нашей колонии. В 1861 году, в результате похода против кайорского царя Фэдерб покорил его прибрежные земли и аннексировал провинцию Диандер.
В то же время губернатор строил дороги, мосты, телеграфные линии, школы, казармы, форты, проводил опытные посевы индиго и хлопчатника, создал банк, музей, типографию, журнал, короче говоря — могучим дыханием вдохнул в старую колонию новую жизнь.
Одновременно Фэдерб — столь же ловкий дипломат, как храбрый солдат и несравненный администратор, — благоразумно решил завязать отношения с укрывшимся в Сегу Хадж-Омаром: оттуда марабут ничем не мог вредить, но иметь о нем сведения было полезно. Для этого Фэдерб отправил к мятежнику с миссией капитан-лейтенанта Мажа[428] и доктора Кентена. Они отправились в Сегу из Медине 25 ноября 1863 года. Перед самым их прибытием старый марабут при таинственных обстоятельствах скончался. Сын его Ахмаду, позднее доставивший нам столько неприятностей, принял посланников довольно любезно, но с присущим африканцам упорством несколько месяцев не отпускал обратно. Ленивое лукавство этих людей нервирует европейцев и постепенно вовсе выводит из равновесия…
Отважным путешественникам не удалось заключить договора, но они собрали поразительный урожай важных сведений. Результаты их трудов опубликованы в сочинении под заглавием «Путешествие в Восточный Судан», удостоенном большой золотой медали Географического общества.
Любопытные подробности об Ахмаду и окружении, которые сообщают посланники из Сегу, заслуживают права быть воспроизведенными. С первого взгляда господин Маж дал Ахмаду лет девятнадцать — двадцать, хотя на самом деле ему было уже тридцать. Роста он высокого, имел умное выражение лица, но говорил тихо и медленно, слегка заикаясь. Несмотря на высокий лоб и не слишком крупные ноздри, общий тип лица из-за толстых губ и скошенного подбородка был негритянский. Носил он синюю феску и очень свободное бубу[429] с весьма обширным гиба (карманом), надетое поверх белой рубахи тончайшего полотна. В руках держал четки и в паузах среди разговора перебирал их, шепча молитвы. На козьей шкуре перед ним лежали арабская книга, сандалии и турецкая сабля.
За время долгого, по милости Ахмаду, пребывания в Сегу Маж и Кентен смогли убедиться, сколь иллюзорна, вопреки внешней видимости, власть султана в государстве. Последующие события доказали, что они весьма проницательно разобрались в обстановке. Вместо сильного султаната марабут Хадж-Омар построил воздушный замок. После его смерти тукулёрские отряды погрязли в беспрестанных распрях, а их вожди, непримиримые сепаратисты, разорвали вассальные присяги и провозгласили независимость. Верной осталась лишь армия государства Сегу, но в ней было от силы тысяч десять человек и никакой организации. Братья султана оказались отрезанными восставшими белудегу, а буре перешли на нашу сторону. Воцарилась анархия, вероятным исходом которой оказалась скорая гибель и самая банальная аннексия.
С 1865 по 1878 год не произошло ничего примечательного. Губернаторы вновь сменяли один другого. Несомненно, господа Жорегиберри, Пине-Лапрад, Вальер, Бриер де Лиль делали все, что было в их силах, но до заслуг славного предшественника им было далеко. Следует, однако, отметить аннексию Рио-Нуньес в 1867-м и Понго в 1876 году, победу над кайорским царем в 1875-м, договор с Эли, царем трарза, в 1877-м и блистательную экспедицию Поля Солейе в Сегу в 1878-м. Упомянем еще экспедицию Байоля и Нуаро в Фута-Джаллон (1880) — и перейдем наконец к путешествию Галлиени[430], намного превосходящему прежние по значению.
Морской министр адмирал Жорегиберри, бывший губернатор Сенегала, был поражен, с каким трудом осуществляется провоз наших товаров и вообще все наши дела в Судане. У него родилась идея завязать отношения с неграми Верхнего Нигера, чтобы при случае, пользуясь замечательным путем, проникнуть в центр Африки. Организацию подобной экспедиции, требовавшую такта, изобретательности и энергии, поручили губернатору Бриеру де Лилю, который остановил выбор на капитане Галлиени. Этого человека рекомендовали крупные заслуги по службе, выдающаяся способность переносить африканский климат и вообще долгий опыт жизни в Африке. Под его команду поступили лейтенант Пьетри из морской артиллерии, лейтенант Вальер из морской пехоты и военно-морской врач доктор Тотен. Все трое были достойны отважного начальника.
С экспедицией отправился и доктор Байоль, но дошел лишь до Бамако, где Галлиени должен был оставить его в качестве резидента и представителя французского протектората на Нигере.
Экспедиция, носившая совершенно мирный характер, имела многочисленные подарки (в Африке это «sine qua non»[431] для любых соглашений), нагруженные на двести пятьдесят ослов и двенадцать мулов. Охрану послов французского правительства к негритянским вождям составляли около тридцати туземных солдат, стрелков и сенегальских спаги[432]. Невинные дети природы невероятно чувствительны ко всяким почестям, и психологически необходимо, чтобы в моменты официальных встреч наши представители являлись с пышностью, указывающей, что в своей стране это знатные и почтенные люди. Кроме того, капитан (ныне полковник) Галлиени прекрасно знал опасности, грозящие подобной экспедиции по Черному континенту. Из осторожности, которая должна быть свойственна всякому, кто отвечает за живых людей, он спрятал на дне ящиков четыреста — пятьсот упаковок патронов. Последующие события показали: эта мудрая предосторожность спасла экспедицию от той катастрофы, которая постигла небольшую миссию Флаттерса.
Миссия Галлиени отправилась из Сен-Луи 30 января и 26 февраля была в Бакеле, главном городе наших владений на Верхнем Сенегале. Там она пополнила ряды и 7 марта выступила в дальнейший путь. 20 числа она пришла в Кита[433], где Галлиени сразу добился блестящего успеха. Вождь макадиамбугу по имени Токута, самый богатый и влиятельный человек тех мест, беспрекословно подписал договор, по которому нам предоставлялось право в любой момент устроить важное военное и торговое поселение. Этот замечательный человек, в отличие от сородичей, хотел как можно скорее принять наши войска — несомненно, из страха перед Ахмаду, претендовавшим на земли, утраченные его отцом, хотя на них власть султана признавали все меньше и меньше.
Достигнутый успех в Кита без единого выстрела имел первостепенное значение, поскольку и географическое положение этой страны первостепенно. Кита находится в точке, откуда дороги расходятся во все стороны — на Бафулабе и наши фактории на Верхнем Сенегале, на Ниоро и к мавританским рынкам Сахары, на Нигер и Бамако, наконец, на Мургулу и долину Бахой, а оттуда к Буре и золотоносным землям.
Главная миссия, в которую входили Галлиени, Байоль и Тотен, 27 апреля направилась к Бангасси. Перед ней в авангарде шел лейтенант Пьетри с отрядом стрелков; его задачей было вести разведку на дороге и готовить трудные участки пути для вьючных животных. Тем временем лейтенант Вальер, которого, чтобы не возбуждать подозрений мусульманского коменданта, сопровождало всего несколько солдат и переводчик, должен был попытаться пройти к Нигеру через долину Бахой, производя съемку дороги и выспрашивая у местных племен, насколько возможно, самые подробные сведения о добыче золота. Миссия шла быстро, намереваясь успеть до сезона дождей попасть в Бамако — первый пункт, где отважные офицеры, не ведавшие ни голода, ни усталости, хотели видеть развевающийся французский флаг. К несчастью, вскоре отношение жителей Белудегу к путешественникам переменилось без всяких видимых причин — по крайней мере, на взгляд европейцев, которые не всегда могут уловить побудительные мотивы действий этих больших, наивных, легкомысленных и извращенных детей.
Десятого мая экспедиция остановилась в деревне Дио за восемьдесят километров от великой реки. На другой день утром она отправилась дальше. Вдруг, когда проходили через лес масличных пальм, на наших соотечественников без всякого повода со всех сторон накинулись невесть откуда взявшиеся полчища бамбара. Разделенному пополам отряду — Галлиени и Байоль с одной половиной стрелков шли впереди, Тотен с другой — позади — пришлось завязать с неприятелем ожесточенный бой, длившийся не менее часа. Стрелки и спаги показали чудеса храбрости. Они были спокойны, подчинялись командирам, неустрашимо сплотились вокруг них, заняв круговую оборону против ревущей толпы, и, неся огромные потери, открыли мощный ружейный огонь. Как же они тогда радовались предусмотрительности капитана, спрятавшего в ящики запасные патроны! Тридцать храбрецов, почти все раненные, не прекратили беглого огня, поразившего сто пятьдесят бамбара, не считая раненых. Нападавшие, испугавшиеся эффективного огня скорострельного оружия, поняли, что им не справиться с отважным маленьким войском, недвижно стоявшим в клубах дыма, откуда вырывались стремительные разящие молнии, и скрылись в чаще леса. Освободившись, капитан Галлиени тут же поспешил на помощь доктору Тотену. Окруженный пятью сотнями бамбара, тот также вел героическую оборону и потерял почти всех стрелков арьергарда.
В полдень, в изнурительную жару, экспедиция двинулась дальше к Нигеру. Четырнадцать человек из отряда было убито, еще столько же ранено! Весь обоз пропал, почти все животные, кроме нескольких мулов, разбежались. Этих мулов Галлиени велел развьючить и вместо поклажи погрузить на них раненых. Он проследил, чтобы никто из смелых и верных солдат не остался на поле боя.
Экспедиция попала в страшное положение, но никто и на секунду не помыслил об отступлении. Это окончательно смутило и привело в отчаяние бамбара. В ярости они смотрели, как французский отряд направляется к Нигеру, где царствует извечный враг этих негров — султан Ахмаду. А кто знает, оставили бы они в покое экспедицию в случае отступления? Позволю себе усомниться…
Боеспособные солдаты с тридцатью «Шаспо»[434] окружили раненых, уложенных на оставшихся мулов, и направились на восток.
Путь лежал через заросли кустарника и гигантских трав — ни следа, ни тропинки, проводников нет… Местность для похода тяжелейшая, бамбара, прячась за кустами и корнями деревьев, преследовали колонну, беспрерывно беспокоили, стреляли из-за укрытий, и каждый в нашем отряде ожидал: вот сейчас будет последняя, страшная засада…
Тогда капитан Галлиени приказал остановиться: раненые, истощенные потерей крови, не могли больше выносить переход; здоровые утомились, стерли ноги о корни с камнями, шли с большим трудом. Некоторые даже утонули в глубоком илистом ручье, через который пришлось переходить в темноте. Нельзя было определять путь и по звездам — они спрятались за тучами. Чтобы не попасть в ловушку, пришлось остановиться на поляне и ждать, пока тучи разойдутся. Вы представляете себе, что чувствовал начальник миссии, не зная, где он находится, как его встретят в Бамако, что сталось с отправленными вперед лейтенантами Пьетри и Вальером!
Двенадцатого мая в три часа ночи Галлиени отправился дальше, хотя уставшие туземные солдаты говорили: им легче умереть, чем вновь терпеть тяготы и подвергаться опасностям. На пути оказалось обрывистое плато, взобраться на которое стоило неслыханных усилий. За плато началась необъятная долина; над ней плавали клочки тумана, указывая, что где-то невдалеке течет большая река. Пройдя через нее, выбившийся из сил отряд попал в овраг, который, вероятно, вел к Нигеру. Сколько было мук, страданий, опасностей! И вот показалась деревушка, окруженная глинобитной стеной. Увидев белых людей, жители все вышли навстречу с оружием в руках и встали перед калиткой в ограде. Из задних рядов меж тем доносили: бамбара подходят, они полны решимости не упустить добычу. Неужели экспедиция окажется меж двух огней?
Неустрашимый капитан Галлиени один отправился к защитникам деревни. Увидев, что белый человек так смело и доверчиво идет к ним навстречу, туземцы застыли. Офицер рассказал, что случилось накануне — как коварно поступили бамбара с ним, другом Бамако, посланным с дарами и миром. Тогда негры рассказали ему, что он находится во владениях Бамако и они отведут его в город, и отрядили к бамбара глашатая объявить: впредь до новых распоряжений белые находятся под их защитой. Пока не дождутся ответа от вождей Бамако, которые решат, что сделать с пришельцами, их ни в коем случае нельзя трогать.
В восемь часов под охраной десятка деревенских юношей экспедиция двинулась дальше. Перевалив по тяжелейшим дорогам через горы, около часа пополудни пришли в Бамако, где капитан рассчитывал найти заслуженный отдых для раненых, четыре дня и четыре ночи не знавших покоя. К несчастью, жители и особенно военачальники в городе встретили экспедицию как нельзя более прохладно. Они уже знали о том, в каком печальном положении находится ограбленная миссия, и больше всего опасались прогневать бамбара. Таким образом, не только не удалось оставить доктора Байоля резидентом, но и на ночлег пришлось устраиваться в полном отчаянии — на другом берегу Нигера, в Нафадие.
Положение было самое тяжкое, но отважный капитан решился в любом случае выполнить задачу. Он отправил доктора Байоля обратно в Сен-Луи, чтобы с ним вернулись домой сопровождавшие миссию туземцы, поручив также как можно скорей попросить у губернатора подмоги, а сам отправился в резиденцию Ахмаду. В Нанго Галлиени пришлось остановиться и ожидать султанского благорасположения, пришедшего через десять месяцев, протекших в тяжких лишениях и муках. Папаша Ахмаду не любил торопиться! Но терпение храброго офицера было вознаграждено, и 10 марта Ахмаду согласился подписать договор, передающий часть Нигера под французский протекторат.
Двадцать первого марта миссия покинула Нанго и отправилась в обратный путь. С восхищением и изумлением приветствовала она французский флаг над Кита, а 12 мая 1881 года возвратилась в Сен-Луи.
Когда капитан Галлиени разведал ценность пункта Кита — перекрестка пяти дорог, полковнику Борньи-Деборду[435] поручили взять эту область под наш контроль. Кроме того, он должен был разведать возможность проведения железной дороги от Медине[436] (где кончается судоходство по Сенегалу) до Бамако, Манабугу или Дины. С небольшим экспедиционным корпусом из четырехсот двадцати четырех человек полковник выступил в путь 9 января 1881 года. Туземцы племени губоко стали сопротивляться, оскорбляли и попытались помешать построить форт в Кита. В кровавом бою полковник нанес поражение неграм и без дальнейшего сопротивления установил протекторат от Бафулабе до Кита.
После успеха первой кампании полковник Борньи-Деборд в 1881–1882 годах предпринял вторую экспедицию, чтобы продолжить линию фортом в Бадумбе и начать тянуть железную дорогу от Каеса до Кита. 26 декабря 1881 года он с тремястами пятьюдесятью воинами пришел в Бафулабе и сразу же столкнулся с пресловутым Самори. Этот страшный вождь буквально опустошал окрестности, жег деревни, избивал и угонял в рабство жителей. Когда комендант форта Кита отправил ему через одного офицера-туземца протест, Самори арестовал посла, которому, по счастью, удалось бежать. Полковник Борньи-Деборд решил отомстить за оскорбление: безнаказанность могли отнести на счет нашей слабости, что нанесло бы тяжкий ущерб престижу Франции в Судане и, возможно, задержало нас на пути к Нигеру. Хотя у альмами (султана) Самори было две тысячи человек, а у полковника во много раз меньше, негры получили жестокий урок. К сожалению, они его забыли слишком быстро.
Третья экспедиция полковника Борньи-Деборда была намного тяжелей прочих, но и намного плодотворней. Ненасытное честолюбие Самори, дерзкого альмами Уасулу, вновь угрожало нашей безопасности. Решено было жестоко покарать непокорного. 7 января 1883 года экспедиционная колонна выступила из Кита в Бамако. В ней числилось пятьсот сорок два человека под ружьем и семьсот при обозе. Полковник Борньи-Деборд сразу овладел сильной крепостью Мургула, после чего капитан Пьетри отправился с авангардом, готовя дорогу, добывая провиант и пытаясь привлечь на нашу сторону вождей беледугу, три года назад ограбивших миссию Галлиени.
Старый Ноба, вождь деревни Доба, был тогда главным подстрекателем к грабежу. Надменный и несговорчивый старик отклонил мирные предложения капитана Пьетри, надеясь задержать колонну в пути и перебить. Заблуждение длилось недолго и обошлось туземцам дорого. 12 января полковник Борньи-Деборд получил донесение, что старый Доба готовится к войне, и без колебаний решил покарать мятежника раз и навсегда.
Селение Доба расположено в долине и обнесено четырехугольной стеной; дома его — настоящие крепостные казематы — также были соединены между собой глинобитными стенами. Для прохода оставались лишь узкие извилистые улочки, некоторые меньше метра шириной. Полковник занял позицию на открытой местности, выстроил войска к бою в двухстах пятидесяти метрах от села и приказал легкой горной артиллерии открыть огонь.
Перед сражением было слышно, как затворившиеся в Доба гриоты (колдуны) вопили пронзительными голосами песнопения и надсадно кричали, словно петухи. При первом залпе голоса их задрожали и стали потише. После второго наступила тишина. Бамбара дрогнули, но не сдались. Отверстия, пробитые в стенах нашими артиллеристами, служили им бойницами: едва снаряд пробивал дыру, как из нее показывалось черное лицо и ружейный ствол. Наши маленькие горные пушечки сосредоточили огонь — и вот уже открылась брешь шириной девять или десять метров. В четверть одиннадцатого в бой вступила штурмовая колонна: впереди шли стрелки при поддержке морской пехоты. Капитан Комб, командовавший колонной, первый вошел в пролом с отвагой человека, которому ничего не грозит, — и каким-то чудом не получил ни царапины! Защитники, отступившие на миг под нашими ядрами, вновь бросились вперед, открыв убийственный огонь, задержавший, но не остановивший штурм. Колонна пробилась внутрь деревни и закрепилась там. Но каждый дом обратился в крепость, которую приходилось брать приступом. Пули градом свистели вокруг капитана Комба, но он под свирепым огнем четким почерком, свидетельствовавшим о совершенном присутствии духа, писал полковнику записочки, чтобы держать командира в курсе происходящего. Несколько человек взобрались на самые высокие крыши и открыли огонь по местам скопления защитников деревни. Полковник ввел в бой еще одну роту морской пехоты, оставив при себе лишь роту стрелков и батарею артиллеристов. От улицы к улице, от дома к дому — и вот наконец в полдень пройдена вся деревня. Доба наша!
Три недели спустя полковник Борньи-Деборд присутствовал при закладке форта Бамако: несмотря на попытки Самори разрушить наше предприятие, форт начал строиться. Полковник сказал на церемонии товарищам: «Сейчас прозвучит одиннадцать пушечных залпов в ознаменование того, что отныне и навсегда на берегах Нигера развевается французский флаг. Звук наших маленьких орудий не долетит даже до окрестных гор, но эхо его разнесется значительно дальше Сенегала!»
Впрочем, и Самори вскоре убедился, насколько белые сильны, отважны, с ужасным оружием, и, прекратив бесплодную борьбу, сдался на милость победителя. Он признал протекторат Франции и подписал договор, вследствие которого французское влияние распространилось на прекрасные и богатые страны Западного Судана и на весь водный путь по Верхнему Нигеру.
Напомним в двух словах еще об одном важнейшем событии истории французских исследований в Судане. В 1888 году капитан-лейтенант Карон на канонерке «Нигер» достиг знаменитого порта Томбукту! Жители — преимущественно туареги — встречали его негостеприимно, хотя и без открытой враждебности. Они приглашали Карона на берег, но тот, чтобы не попасть в засаду, подобно Флаттерсу, не сходил с корабля. Впрочем, Риайя, глава здешнего государства, под давлением мавританских купцов объявил капитану, что страна закрыта для иностранцев и французам здесь делать нечего. Надо сказать, права этого вождя очень спорны: настоящая власть принадлежит Алимсару, великому вождю туарегов, который со всех товаров, проходящих через Томбукту, берет десять процентов пошлины. Карон вступил в переговоры и с ним, но также без большого успеха.
Великолепная экспедиция капитана Карона заложила основы для создания карты Нигера и географического изучения Западного Судана. Карон продолжил труды первых исследователей этой реки: Мунго Парка (1795), Рене Кайе (1828), Генриха Барта (1853) и капитан-лейтенанта Мажа (1866). Но точные и подробные съемки реки до Карона и не начинались. Даже положение Томбукту с присущей морякам точностью определил именно Карон!
ГЛАВА 27
ДОКТОР РЕПЕН В ДАГОМЕЕ
Дагомейское войско. — Амазонки. — Человеческие жертвоприношения. — Похороны царя Гезо.
Для путешественника есть интереснейшая страна, о которой вспомнили благодаря новейшим исследованиям, — Дагомея[437]. Выдающийся военно-морской врач, доктор Репен, посетил ее в 1853 году, но и тридцать пять лет спустя там все осталось по-прежнему: стародавние обычаи, рабство, женщины-воины, фетиши[438], ужасающие человеческие жертвы, наконец — цари, вечно пьяные от крови и совершенно не приемлющие идей нашей современной цивилизации.
Доктор Репен отправился в Дагомею к царю Гезо с богатыми дарами от французского правительства, чтобы уладить несколько торговых дел. Он сошел на берег в Вида, где было тогда и французское поселение. Это второй по значению город царства; площадь его — не менее семи квадратных лье, население около миллиона человек.
Прежде всего путешественника поразил змеиный храм. В Дагомее змеи — весьма почитаемый фетиш. Круглое здание имеет десять — двенадцать метров в диаметре и семь — восемь в высоту, внутри украшено древесными ветвями. Через две двери в круглой стене свободно проползают туда и обратно местные божества… Змеи, длиною от метра до трех, от природы безобидны. Нередко можно видеть, как они ползут по улице. Тогда туземцы почтительно подходят к ним, с невероятными предосторожностями берут в руки и относят назад в храм. Горе чужеземцу, который по неведению или неосторожности убьет или как-нибудь обидит змею — он поплатится жизнью.
Охрана змей-фетишей поручена неграм, которые живут близ храма в огромном доме и питаются от обильных приношений верующих. По дороге из Вида в Абомей (столицу Дагомеи)[439] стоит еще один змеиный храм, но охраняемый женщинами — они считаются змеиными женами. Наконец, неподалеку от столицы вы проезжаете Кану — священный город, обитель великих жрецов. Там находится храм, где приносят в жертву людей, — небольшой квадратный глинобитный домик, расписанный изображениями фантастических животных…
Абомей — значительный город, имеющий в окружности двенадцать — пятнадцать миль и насчитывающий тридцать тысяч жителей. Его защищает глинобитная стена семиметровой высоты и ров десятиметровой ширины и глубины. Проходят в город по легким деревянным мостикам через ров — такие мостики ничего не стоит убрать или разрушить. Улицы в основном широки и чисты, но малолюдны, поскольку каждый дом стоит посреди отдельного двора, обнесенного глиняной стеной.
Путешественника со спутниками у входа в город встретил некий придворный сановник с пышной свитой и отвел на большую площадь под сенью прекрасных деревьев, где гостей усадили и подали прохладительное. Вскоре явилось множество военачальников с воинами. Они прошли перед путешественниками парадом, причем вожди, при знаках различия, по очереди изображали перед французской миссией бешеную пляску.
«Когда странный парад закончился, — пишет доктор Репен, — отворились ворота дворца, прозвучал артиллерийский салют и громкие вопли, все пали ниц в пыли — и в глубине обширного двора, словно вымощенного человеческими спинами, появился царь Гезо, окруженный женами и гвардейцами-амазонками. Он восседал под большими опахалами на чем-то вроде трона. Сняв шляпы, мы направились к нему. Государь встал, ступил несколько шагов к нам навстречу и, пожав по-европейски руки, знаком пригласил нас усаживаться в расставленные перед троном кресла. По другому знаку руки вождя прежде лежавшие ниц в пыли подняли головы и обступили нас, но с колен, однако, так и не встали».
Царю было лет семьдесят. Роста он был выше среднего, станом еще прям и тверд, одет весьма просто: шелковая повязка, завязанная на поясе, окутывала его плечи. Голову правителя венчала черная широкополая шляпа с золотым шнурком, ноги обуты в шитые золотом и серебром сандалии. Украшений почти не было, лишь большое золотое ожерелье недурной работы, на котором висело что-то вроде ажурной шкатулочки с какими-то ценными талисманами.
По правую руку от государя совершенно неподвижно сидели по-турецки на коврах шестьсот женщин гвардии, зажав между ног ружья, а за ними — охотницы на слонов с закопченными карабинами, одетые в коричневые ткани. По левую находились жены из сераля, всего около двухсот — одни еще совсем девочки, другие в полном расцвете и блеске негритянской красоты; были и пожилые, сиявшие богатыми шелками и украшениями из серебра и золота. Наконец, позади трона стояло несколько фавориток и начальница женской гвардии. Перед повелителем преклонили колени его старший сын Бахаду — загодя назначенный наследник престола — и министры. Путешественники представились царю и после нескольких речей, встреченных кликами толпы, удалились. На другой день состоялась приватная деловая беседа. Затем государь, чтобы дать представление о могуществе, повелел устроить большой военный парад.
Монарх уселся на роскошно украшенный помост, окруженный женами и частью женской гвардии; важнейшие сановники стояли перед ним на коленях. Перед помостом было выставлено двадцать пять — тридцать нацеленных на площадь пушек всевозможных калибров и форм на массивных лафетах; артиллеристки-амазонки держали зажженные фитили. Когда все собрались, по площади прошагала колонна из пяти — шести тысяч человек. Впереди шли музыканты — десятка три. Одни из них дудели в слоновьи бивни, продырявленные на кончиках, издавая хриплые звуки, подобные пастушьему рожку; другие били в барабаны из антилопьей кожи, натянутой на деревянные колоды, выдолбленные, как ступка. Иные сотрясали странным инструментом: пустой высушенной калебасой, обтянутой редкой сеткой, в каждую ячейку которой был вделан овечий позвонок; звук такой калебасы подобен звуку надутого пузыря с сушеным горохом. Еще иные звонили железными палочками в грубые колокольцы; кто-то еще, наконец, свистел в бамбуковые флейты, звук которых терялся в шуме всех оркестров. После парада воины салютовали несколькими ружейными залпами, а затем показали обычные приемы. Они с поразительной скоростью выбегали из строя с ружьем наперевес и с ножом в руке, словно врасплох кидаясь на противника. Отбежав на некоторое расстояние, все они, как один человек, встали и с устрашающим воплем разрядили ружья. Одни воины делали вид, что сносят тесаком голову невидимому неприятелю, и торжествующе несли ее в руках, другие бежали, увлекая за собой противника, чтобы он оказался в окружении всей армии…
Внезапно войско сломало строй и все воины, потрясая оружием, с воплем бросились в бешеную атаку, преследуя разбитого врага. Погоня продолжалась до конца площади, потом дагомейское войско довольно стройно запело победную песнь и застыло перед лицом государя.
Едва они смолкли, как воздух вновь потрясли звуки канонады. Артиллеристки-амазонки заряжали и стреляли, забивая старые пушечки порохом по самое жерло, так что те подпрыгивали, плохо закрепленные на лафетах. Путешественники, сидевшие прямо напротив многошумной батареи, начали побаиваться, как бы в них не угодил какой-нибудь банник, забытый в стволе артиллеристом в юбке… И тут в клубах пыли на площади явилась женская армия — около четырех тысяч амазонок, лучше вооруженных и единообразней одетых, чем мужчины. Их войско состояло из четырех полков. Первый был одет в синие рубахи, перехваченные на талии синим или красным поясом, и белые с синими полосками штанишки до колен. Знаком полка были белые шапочки с изображением крокодила, вышитым синими нитками. Вооружение состояло из мушкетов и коротких, почти прямых сабель в кожаных ножнах с медной инкрустацией (на саблях отсутствовали гарды); рукояти отделаны акульей кожей. Сабли висели на узких кожаных перевязях через плечо, разнообразно вырезанных по краям и украшенных каури либо разрисованных красной краской. Порох в гильзах из высушенных банановых листьев держался на поясе в патронташах из нескольких отделений. На шее висело множество разнообразных амулетов.
Второй полк, числом около четырех сотен женщин, составляли охотницы на слонов. Высокий рост, обмундирование, покроем подобное вышеописанному, но все коричневое, длинные и тяжелые закопченные карабины, с которыми они управлялись весьма легко, придавали отважным воительницам чрезвычайно внушительный вид. На поясе у них висели чрезвычайно прочные кривые кинжалы, а вместо головного убора — причудливое украшение: антилопьи рога на железном обруче вокруг головы, наподобие диадемы.
В третьем полку насчитывалось всего две сотни амазонок, вооруженных короткими мушкетонами и одетых в туники из двух полотнищ синего и красного цветов, похожие на средневековые одеяния. Это были артиллеристки, для которых, по-видимому, не хватило орудий.
Все полки промаршировали в недурном порядке. Потом генеральша, которую можно было опознать по конским хвостам на поясе, дала команду, и начались учения, совершенно подобные тем, что описаны выше, — только все, насколько возможно, делалось еще яростней и самозабвенней.
Трудно описать, прибавляет доктор Репен, что представляла собой эта сцена: раскаленные небеса, вихри пыли и дыма, блеск мушкетов, грохот пушек — и четыре тысячи женщин, упоенные шумом и порохом, скакавшие и корчившиеся с дикими криками, как одержимые…
Наконец, когда порох и силы подошли к концу, понемногу восстановились порядок и тишина. Амазонки встали в строй и заняли места прямо перед повелителем. Настала очередь охотниц на слонов, не принимавших участия в предыдущей сцене. Они встали в круг и поползли на корточках, не выпуская карабинов, к тому месту, где якобы находилось стадо слонов. Когда охотницы добрались до воображаемых толстокожих, они по приказу командирши разом вскочили и выстрелили в воздух, затем бросились на животных с ножами, чтобы прикончить их и отрубить в знак победы трофеи — хвосты. Потом охотницы с песней вернулись на место.
«Но это было еще не все, — пишет доктор Репен. — Праздник был не завершен, пока не пролилась кровь. Дело в том, что у жителей Дагомеи в обычае по случаю любого общественного торжества приносить человеческие жертвы. Царь извинился перед нами, что в настоящий момент он может казнить всего лишь дюжину заключенных, — для таких гостей, сказал он, это слишком ничтожная честь. Но мы сказали, что уйдем, а не будем присутствовать при подобном зрелище.
Так что в этот раз роковой медный чан, стоявший перед повелителем (путешественники давно гадали, каково его предназначение), был обагрен не человеческой кровью. На площадь принесли связанную гиену с заткнутой кляпом пастью. Главные вожди собрались вместе и сделали вид, что совещаются так, если бы в жертву приносилась не гиена, а человек. Гиену приговорили к смерти. Как она ни рычала, как ни пыталась в отчаянье сопротивляться, министр юстиции, соединяющий высокую должность со званием верховного палача, одним взмахом огромной сабли, на которую всегда опирается при ходьбе, отрубил животному голову».
Царь Гезо был не лучше и не хуже предшественников — все в их роду предавались кровавому упоению. Он умер года через два после визита доктора Репена. Достойные доверия миссионеры сообщают ужасные подробности похорон — их здесь стоит привести как картину дагомейских нравов.
Тело монарха положили в гроб из глины, замешанной на крови сотни пленных с последней войны, которых принесли в жертву, чтобы они охраняли монарха в ином мире. Голова покойного почивала на черепах побежденных владык, а землю вокруг гроба в память о царском достоинстве усопшего усеяли обломками скелетов. После этого открыли ворота пещеры и ввели туда восемь придворных танцовщиц с пятьюдесятью солдатами. Всем им дали немного еды; они также должны были сопровождать государя в царство теней.
По обычаю, наследный принц Бахаду восемнадцать месяцев правил как регент от имени покойного отца. Когда срок истек, он созвал в абомейском дворце большое собрание. Из дворца проследовали в погребальную пещеру. Открыли гроб, достали череп покойного государя. Регент взял череп в левую руку, топорик — в правую и громогласно объявил якобы неизвестную народу новость, а именно: царь умер, он же, регент, прежде правил именем усопшего. Услышав мнимую новость, все пали ниц и в знак великой скорби посыпали себя прахом. Но траур был недолог: регент положил череп и топорик, достал из ножен меч и объявил себя царем. Народ, вмиг перейдя от величайшей скорби к буйной радости, начал петь и плясать под оглушительную музыку…
Тогда начались настоящие похороны. В царском склепе замуровали шестьдесят человек, пятьдесят баранов, пятьдесят коз, сорок петухов[440] и множество монет.
Затем солдаты обоего пола начали палить из ружей, а новый властелин совершил пеший обход дворца. Когда он вновь подошел к воротам склепа, под очередной залп зарубили еще пятьдесят рабов. Так повторялось в течение трех недель — но это был лишь первый акт драмы.
Бахаду велел бить в барабан, чтобы возвестить празднование Дня великой дани. Подобная церемония совершается ежегодно, когда посланцы государя и вожди племен приносят повелителю дань, которой он и живет. Утром первого дня праздника на главной площади было предано казни сто мужчин, а в дворцовых покоях — сто женщин. Под мушкетный салют вышел царь, которому знатные люди поклонились и каждый подарил рабов, чтобы принести их в жертву.
Затем Бахаду поднялся на помост, где стояли большие корзины. В каждой сидел живой человек, так, что наружу торчала только голова. Корзины выстроили в ряд перед царем. Тот горячо помолился государственным фетишам. Несчастным, сидевшим в корзинах, развязали правую руку и дали выпить по стакану рома за здоровье повелителя, обрекавшего их на смерть…
После этого корзины одну за другой столкнули с помоста на площадь — и толпа с воем, песнями и плясками бросилась на добычу, как в иных странах дети бросаются на праздничное угощенье. Всякий обыватель, имевший счастье отхватить голову жертве, мог немедленно пойти обменять ее на кое-какую сумму денег.
Когда часть страшного церемониала наконец завершилась, торжественно пронесли оружие и одежды покойного царя Гезо, прошли парадом войска — и все успокоилось. Убивать в Абомее пока больше было некого…
ГЛАВА 28
ПОЛЬ ДЮ ШАЙЮ[441]
Путешествия по Габону. — Гориллы. — Дю Шайю первый царь апинга. — Четыре года странствий. — Хулители. — Второе путешествие.
Одно из самых главных достоинств настоящего путешественника, и даже, пожалуй, самое главное, — это, несомненно, наблюдательность. В самом деле: к чему претерпевать жару и холод, ядовитые миазмы, встречи с дикими животными, вредными насекомыми и свирепыми людьми, если не обладаешь способностью, без которой самое суровое и опасное путешествие будет бесплодно?
Действительно, бывают такие путешественники, которые, почувствовав призвание, пускаются в путь по горам, долам, лесам, пустыням и рекам, наносят на маршрутные схемы широты, долготы и высоты, записывают названия и составляют прекрасные карты, но не умеют видеть вокруг себя множество вещей, которые могли дополнить и освежить их сухие реляции, варварски пересыпанные странными именами и бессвязными звуками.
Дело в том, что они лишены дара наблюдения! Дар этот более редок, чем обыкновенно думают. Он сразу посвящает чужеземца в тайны нравов, обычаев и языков незнакомых племен; благодаря ему путешественник с первого взгляда оценивает облик, продукцию и ресурсы страны. Одним словом, одним мазком, одной чертой он может передать всю жизнь таинственных народов.
Вот почему так часто бывают различны записки двух людей, побывавших в одной и той же стране. Кажется, будто один из них по дороге мучился и добровольно закрывал глаза, в то время как другой жадно впитывал в себя как губка подробности жизни новых земель и воссоздавал их в насыщенном фактами повествовании…
Без сомнения, среди путешественников, одаренных подобным даром, к числу способнейших принадлежит Поль дю Шайю. Тридцать пять лет назад его имя ненадолго прославилось, но, к сожалению, сейчас оно погружается в пучину забвения.
Дю Шайю опередил свое время — тогда еще не было моды на путешествия. Он же был путешественником прирожденным — не терявшим присутствия духа, безупречно отважным, поразительно находчивым. Он умел наблюдать — хорошо наблюдать, как показывает его интереснейшая книга, из которой мы много позаимствуем.
Француз по происхождению и исследователь совершенно неизвестной тогда земли, интересный и, главное, правдивый рассказчик (как ни пытались бы опорочить путешественника), упорный и проницательный наблюдатель диковин неизведанной страны — со всех точек зрения он достоин занять в нашем сборнике важное место.
Отец его некогда владел факторией в эстуарии[442] Габона. Первые годы жизни дю Шайю провел с ним в почти неизвестных местах — правда, незадолго перед тем Франция завела там торговую контору и воздвигла форт. Он изучил язык, нравы и обычаи туземцев, привык к палящему африканскому солнцу и, насколько по силам белому человеку, к тлетворным болотам, непрерывно навевающим страшную лихорадку. Могучий, непьющий, заядлый охотник, он был рожден, чтобы стать исследователем, и стал им.
В октябре 1855 года дю Шайю отплыл из Соединенных Штатов и месяц спустя высадился в эстуарии Габона, недалеко от места, где стояла фактория отца. Прибрежные негры встретили Поля с буйной радостью: они думали, что он вновь приехал торговать. Каково же было их разочарование, когда дю Шайю объявил, что приехал не с безделушками, а с непреклонным желанием путешествовать по стране, о которой они сами рассказывали ему столько чудесных историй, и охотиться по пути на птиц и диких зверей.
Сначала добрые негры подумали, что дю Шайю смеется над ними, но когда с корабля стали сгружать не товары, а снаряжение, необходимое для жизни охотника в пустынных местах, им пришлось поверить. Удивление и беспокойство туземцев не знали границ. Одни из них решили, что дю Шайю лишился рассудка, другие встревожились, как бы он не перебил у них торговлю с внутренними районами. Обступив француза, они наперебой принялись рассказывать всякие ужасы о верховых землях: он-де погибнет в водоворотах, слопают людоеды, леопарды, крокодилы, растопчут слоны, утопят гиппопотамы, заманят в ловушку и разорвут на части гориллы… Но когда дю Шайю убедил туземцев, что не собирается вредить их торговле, что ничьи интересы никак не пострадают от подобного путешествия, — все, кроме немногих преданных друзей, бросили Поля на произвол судьбы. Как шутит сам дю Шайю, вначале он познал упоение славы: все пироги местных жителей словно почетным кортежем сопровождали корабль путешественника. Но вскоре у него осталось лишь две лодочки и восемь гребцов. С ними он добрался вверх по эстуарию Габона до американской миссии в Бараке.
Затем дю Шайю продлил маршруты странствий до верховьев реки Рембо, что течет с Хрустальных гор. Первым изученным им народом были мпонгве, которых мы здесь будем называть габонцами.
Габонские мужчины — среднего роста и с приятными, в общем-то, чертами лица. Они носят каликотовые[443] рубашки английского, американского или французского производства, поверх них — полотняную накидку до самых пят, а на голове шляпу из толстой соломы. Лишь царь имеет право носить шелковый цилиндр — а ведь это верх элегантности не только для негров, но и для цивилизованных народов, включая монархов…
Женщины носят простую юбку до колен; обнаженные руки и ноги унизаны множеством медных колец: иногда на каждой ноге носится по двадцать пять — тридцать фунтов металла! Из-за такого глупого кокетства им становится трудно ходить и приходится ковылять.
И мужчины и женщины очень любят всяческую мишуру и парфюмерию; они выливают на себя изрядные порции всевозможных духов, заботясь лишь о количестве, а не о качестве.
Племя мпонгве, как и многие другие, постепенно уменьшается в числе. Больше, чем лихорадки и даже страшный алкоголизм, в этом виновны полигамия и непрестанные казни по обвинениям в колдовстве. Общество мпонгве подразделяется на многочисленные классы, границы между которыми поддерживаются прежде всего запретом на смешанные браки.
Кажется, мпонгве повинуются четырем главным царям, но когда между ними возникают споры (а это случается часто), необходимо собрать «говорильню», или ассамблею. Тогда все старейшины встречаются между собой и решают вопросы.
Когда дю Шайю был в Габоне, умер один из царей — Гласс. Тотчас раздались траурные крики и причитания; рыдала вся деревня. Любопытно наблюдать, замечает путешественник, как по малейшему поводу, а то и вовсе без повода — не испытывая ни скорби, ни боли — африканские женщины начинают плакать. Бывает, что они проливают потоки слез и в то же время хохочут.
Траур и плач продолжались шесть дней. На второй день усопшего тайно похоронили. Этот обычай происходит от одного горделивого поверья мпонгве: воображая себя самым умным народом в Африке, они считают, будто соседние народы хотят завладеть головой какого-нибудь из их повелителей и сделать себе из монаршьего мозга фетиш, обладающий особенно сильным действием.
В траурные дни деревенские старики приступили к выборам нового государя. Это также тайная церемония. Выборы происходят в особом совещании — настоящем конклаве[444], где есть все — просьбы, посулы, угрозы… Лишь на седьмой день некий счастливец избранник узнает, что повелителем избрали его. В тот раз избрали Н’Жогони, друга дю Шайю. Он был обязан этой честью отчасти высокому происхождению, но более всего — народной любви. Утром седьмого дня Н’Жогони гулял по берегу. Вдруг толпа окружила его и тут же приступила к церемонии, предшествующей коронации.
Церемония способна у кого угодно, за исключением самых отчаянных честолюбцев, отбить вкус к власти. Ревущая, совершенно упившаяся толпа набросилась на избранника с самыми низкопробными площадными ругательствами. Кто плевал ему в лицо, кто изо всех сил колотил кулаками, кто ногами, кто швырялся всевозможными нечистотами. Неудачники, не попавшие в первые ряды, непрестанно проклинали его самого, отца, мать, братьев, сестер, дедушек, бабушек — и так вплоть до самых отдаленных предков. Непривычный наблюдатель гроша ломаного не дал бы за человека, которого так венчают на царство…
Посреди шума и криков дю Шайю уловил несколько слов, которые объяснили ему происходящее. Некий молодец, распоряжавшийся избиением, поминутно орал во все горло:
— Ты еще не государь наш! Сейчас наша воля! Станешь государем, тогда и будешь делать все по своей воле!
Н’Жогони вел себя как подобает мужчине и будущему монарху: хладнокровно и с улыбкой переносил все оскорбления. Полчаса спустя его отвели в жилище предшественника. Там Н’Жогони усадили на трон, где еще несколько минут он оставался мишенью народных проклятий. Но вот все стихло; старейшины из народа поднялись и произнесли формулу, которую все повторили за ними:
— Теперь мы избираем тебя своим государем. Обещаем слушаться тебя и повиноваться.
Наступила полная тишина. Шелковый цилиндр — монаршья регалия мпонгве — был немедленно водружен на голову нового государя, забывшего с этим назначением все предшествующие испытания. На Н’Жогони надели и красную мантию — отныне он мог пользоваться всеми прерогативами власти. Впрочем, ему оставалось еще одно, последнее испытание — и что за испытание! В течение шести дней новый монарх обязан принимать, не выходя из дома, поздравления подданных, которые один за другим приносят присягу верности и упиваются алугу — ромом с изрядной добавкой купороса. Монарх, естественно, тоже участвует в возлияниях, так что в конце концов упивается до чертиков. Наконец заключение нового государя заканчивается, запасы спиртного иссякают… Его величество может наконец выйти из насквозь проспиртованного ritiro[445] и безраздельно властвовать.
Дю Шайю покинул новых друзей и отправился на мыс Лопес к королю. Мыс открыт португальцем и назван в честь Лопу Гонсалвиша[446], а позднее стал французским владением. Это длинная песчаная коса, далеко выдающаяся в море и с каждым годом заметно увеличивающаяся за счет речных наносов. Одним из берегов коса выходит на глубокую бухту окружностью в пятнадцать миль. В нее впадает река Назарет, главный приток которой — знаменитая река Фетиш.
В те времена работорговлю строго запретили, но некоторые негодяи еще занимались ею. Время от времени под покровительством монарха они устраивали охоту на людей, а жертв перевозили под португальским флагом.
Государь радушно встретил дю Шайю в своем Лувре[447] — жуткой трехэтажной постройке. Там Банго содержал гарем, которым немало гордился; кроме того, он был закоренелый пьяница.
По довольно крутой лестнице с хлипкими ступеньками путешественник поднялся на третий этаж, где восседал монарх, окруженный целой сотней жен. Разумеется, разговор шел о работорговле. Мошенник Бонго жаловался: дела идут плохо, вернейшая статья дохода исчезает…
Затем для путешественника устроили пир с плясками, о характере которых лучше не распространяться, и морем алугу — непременного атрибута любых празднеств. Монарху понравилось симпатичное лицо гостя, и он решил не сходя с места выдать за него двух дочерей.
«Я почтительно, но твердо отклонил это предложение, — пишет дю Шайю. — В конце концов вонь в зале стала нестерпимой для моих нервов, а развлечения слишком разнузданными — и я счел за благо тихонько удалиться».
На мысе Лопес официально существовало несколько барраконов[448] — загонов для рабов. Дю Шайю посетил главный из них, который содержал белый человек, португалец!
Снаружи барракон представлял собой огромное пространство, огороженное крепкими кольями высотой около четырех метров, заостренными на конце. За частоколом находились навесы в окружении деревьев, под которыми валялись несчастные невольники — их было не меньше, чем бывает жителей в большой африканской деревне. Рабы-мужчины были скованы по шестеро крепкими цепями, пропущенными через ошейники.
Дю Шайю простодушно, без малейшего возмущения, словно речь идет о чем-то естественном, поясняет:
«Опыт показывает, что это самый лучший способ заковывать рабов. Шесть человек, как правило, не могут единодушно воспользоваться случаем к побегу, так что доказано — все подобные попытки заканчиваются неудачей».
В другом загоне, также огороженном частоколом, находились женщины и дети — их не сковывали, и они могли бродить по барракону как вздумается. Мужчины все были почти голые, женщины обертывали кусок ткани вокруг живота.
За большим трехэтажным домом, где жили белые, стояла больница — довольно хорошо построенное, просторное и прохладное здание. Вдоль стен стояли бамбуковые кровати, поверх которых наброшены циновки.
На улице, под деревьями, стояли огромные котлы, где варили рис и бобы — пищу рабов. В каждом загоне за чистотой и порядком наблюдали несколько надзирателей-португальцев. По временам они отводили негров на море купаться.
Иные из негров были веселы и, казалось, довольны судьбой! У других вид был грустный — они, пишет дю Шайю, «как будто тревожились о грядущей судьбе». Как не тревожиться: ведь они думали, будто белые покупают их, чтобы съесть! Во внутренних районах, где приобретают рабов, полагают, что белые — великие людоеды…
Поздно ночью, в темноте, дю Шайю вернулся домой, где его ожидал неприятный сюрприз.
«Я зажег факел и хотел лечь в постель, но, оглядевшись, чтобы проверить, все ли в порядке, увидал: на моей акоко (бамбуковой кушетке) лежит что-то блестящее и радужное. Вначале я не обратил особого внимания на предмет, едва различимый в неверном свете факела, но вскоре понял: это блестит чешуя огромной змеи! Она свернулась на постели в двух шагах от меня…
Первым моим побуждением было выскочить из дома, но потом я решил убить змею. К несчастью, ружья висели на стене за постелью: змея находилась как раз между ними и мной… Я стоял неподвижно, глядел во все глаза, обдумывал, что делать, и не упускал из виду дверь, чтобы в случае чего быстро исчезнуть. Вскоре я понял, что гостья моя лежит смирно. Тогда, набравшись храбрости, я пробрался между кроватью и стеной, снял со стены ружье — слава Богу, в нем был очень сильный заряд. Я приставил дуло к одному из змеиных колец, выстрелил и убежал.
На шум со всех сторон примчались негры. Они думали, что тут убили человека, и беспорядочной толпой поспешили поймать злодея. Но, увидев, что под ногами у них извивается змея, они исчезли так же быстро, как и появились. Через некоторое время они потихоньку вновь стали собираться — посмотреть, чем закончилось дело. Факел мой, по счастью, не погас, и я смог увидеть пресмыкающееся на земле. Выстрелом в упор я разорвал ее пополам; обе половины еще корчились. Несколькими ударами дубинкой по голове я прикончил змею. Тогда она, к моему изумлению, изрыгнула проглоченную утку. Вероятно, рептилия поймала добычу вечером и улеглась на мою постель спокойно переварить ее…
Милая соседка имела в длину девятнадцать футов. Признаюсь, той ночью мне все время снились змеи — ведь я их терпеть не могу!»
Хотя здесь много миссий и миссионеры очень стараются, мпонгве — язычники. Подданные царя Банго поклоняются пяти божествам, которые теснятся в трех хибарках возле царского дома. Его величество весьма набожно почитает их, а они за это охраняют его от всякого зла.
Панжо — идол-мужчина — женат на Алеке, и они живут вместе. Панжо особенно покровительствует царю с народом. Другой идол-мужчина, Макамби, женат на Абьяле; они занимают другую хижину. Но бедный Макамби совсем безвластен: всю власть захватила Абьяла. У нее в руках пистолет, и она, говорят, в любой момент может убить кого угодно. Негры очень ее боятся! Наконец, есть бог-мальчик Нумба — туземный Нептун и Меркурий, отвращающий беды, приходящие из-за моря, и усмиряющий волны. Нумба живет в хижине один.
Ничего не скажешь — догматы очень просты и доступны самому нехитрому разуму.
Экваториальные боги огромного роста и грубо высечены из камня и дерева. Народ, кажется, весьма почитает их. Дю Шайю предложил за одного из идолов сто франков, но ему сказали, что не продадут и за сто рабов, — иначе говоря, статуи богов вообще не продаются.
Тем временем путешественником, как никогда, овладела старая страсть к охоте. Он попросил у венценосного приятеля Банго разрешения побродить с ружьем по его отдаленным владениям. Государь милостиво согласился и даже дал дю Шайю двадцать пять рабов, чтобы они повсюду следовали за гостем и несли вещи.
Дю Шайю хотел пробраться в неизученные места, простиравшиеся до реки Назарет, и за два дня собрался в дорогу. Его маленький отряд пересек необъятные луга и вышел на сильно пересеченную местность, где высокие холмы вдруг перемежались обрывистыми пропастями, внезапно разверзавшимися под ногами. Внизу, на глубине футов сто и даже больше, можно было увидеть стада в уютных и тенистых оврагах, за которыми высились новые холмы. Ночи обыкновенно были светлые, не туманные, но — удивительное дело — весьма прохладные для Африки: даже лежа рядом с огромным костром, путешественники от холода не могли уснуть.
Наконец дю Шайю со спутниками добрались до Нголы, резиденции вождя племени шекиани по имени Н’Жамбе, вассала царя Банго.
Все женщины Нголы при виде дю Шайю завопили и разбежались кто куда, в отличие от мужчин. Н’Жамбе принял путешественника со всей учтивостью, приготовил хижину и велел принести ужин.
На другой день дю Шайю официально представился вождю и разговаривал с ним. Тот, будучи человеком добрым и великодушным, объявил дю Шайю, что все женщины деревни к услугам почетного гостя Нголы.
«Я отклонил этот дар, — вспоминает путешественник, — и рассказал, что белые люди считают подобное отношение к женщинам дурным. В нашей стране, сказал я, у каждого мужчины только одна жена — больше иметь не дозволено.
Этого они не смогли перенести — все так и завопили от удивления. Женщины первые объявили, что законы у нас очень странные и никуда не годные».
Из-за жестокой мигрени дю Шайю и на другой день остался в деревне. Со всей округи сбегались туземцы смотреть на него, как на диковину (царю, само собой, такое оживление очень нравилось), так как никогда не видели белого человека. Они глядели на путешественника испуганно и вместе с тем как-то глупо. Особенно поражали всех его волосы.
«Хорошо, что я остался в деревне, — пишет он. — Мне, таким образом, представился случай спасти жизнь несчастной женщине, погибавшей под страшными пытками. После обеда я читал, как вдруг услышал отчаянный крик. Я спросил, что случилось. Вождь наказывает жену, ответили мне — и кто-то добавил, что, быть может, еще не поздно попытаться спасти ее.
Я побежал к дому вождя, где увидел зрелище, от которого кровь застыла у меня в жилах. Перед верандой к толстому столбу привязали обнаженную женщину. Ноги были разведены в стороны и привязаны к колышкам поменьше; шея, талия, ноги и лодыжки обмотаны толстыми веревками, со страшной силой закрученными на палках. Когда я подошел к несчастной, на ней от страшного трения уже лопалась кожа. При зрелище присутствовала огромная толпа, которой такое было не в диковинку. Я подошел прямо к вождю, взял за руку и умолял ради любви ко мне не лишать жизни злосчастное созданье. В это время палачи немного отпустили веревки: они, похоже, были за отмену казни. Но вождь медлил: ему было трудно отказаться от мщения и поэтому ушел в дом. Я последовал за ним и пригрозил: если женщину не отпустят, я немедленно уеду. Вождь наконец решился и сказал:
— Я тебе ее дарю, развяжешь сам.
Я тут же бросился на улицу и, будучи не в силах развязать, разрезал страшные путы ножом. Бедняжка была вся в крови, веревки уже впились в живое мясо — кровь так и хлестала из открытых ран… Но раны были неопасны. Я возблагодарил в сердце своем Господа, что спас ей жизнь… Тотчас я отправился к вождю и взял с него обещание не наказывать более эту женщину и спросил у нее самой, в чем она провинилась. Она призналась, что утащила у мужа шитый бисером поясочек и подарила любовнику. Нечего сказать, ужасное преступление!»
Вождь был все еще не в духе. Чтобы развеселить его, дю Шайю решил переменить разговор и поговорить об охоте, в том числе о подвигах разных знаменитых стрелков. Между прочим путешественник показал вождю птичку на вершине огромного дерева и объявил, что убьет ее. «Это невозможно!» — вскричал Н’Жамбе. Дю Шайю так и знал — негры ведь стреляют плохо. Тогда он послал за ружьем, прицелился, выстрелил — и несчастная птичка под рукоплескания пораженной толпы камнем рухнула вниз…
Дю Шайю прожил в Нголе долго. Его охотничья коллекция что ни день росла после удачных походов. Он решил не идти к реке Назарет, раздал новым друзьям в благодарность за гостеприимство весь табак и попрощался с Н’Жамбе.
Прежде чем вернуться к рассказу о жизни на мысе Лопес, дю Шайю сообщает прелюбопытные подробности о жизни малоизвестного племени шекиани. Он первым посетил его и лучше, чем кто-либо, познакомился с ним. Вот в основных чертах рассказ Поля.
Шекиани и союзные им племена населяют территорию на побережье и внутри страны, простирающуюся на восемьдесят с лишним морских миль. Просторы их земель испещрены многочисленными деревнями, но ни одна не является главной, объединяющей — более полной децентрализации быть не может. Но все они называют себя шекиани, оберегая национальную идентичность.
Роста негры среднего, цвет кожи у них несколько светлей, чем у большинства жителей Экваториальной Африки. Они воинственны, коварны, очень любят заниматься торговлей и, строго говоря, большие жулики. Не лишены шекиани и смелости. Они страстные охотники, привычны к жизни в лесу, подвижны, ловки, быстроноги и умеют с помощью любых хитростей подобраться к добыче. Как и многие другие африканцы, мужчины не любят земледелия — это занятие оставляют на долю женщин и рабов.
Как правило, у шекиани бывает несколько жен. Племя весьма чтит подобный обычай, возведя его в ранг политического института. Похоже, что главный интерес мужчины здесь — породниться со сколь можно большим числом семейств как своего племени, так и соседних, чтобы расширить торговые связи, влияние и доверие. С другой стороны, из-за легкости нравов происходят почти все их ссоры и войны. Мужчины постоянно заводят интрижки с чужеземными женщинами. Если их застигнут на месте преступления — либо убивают несчастного, либо тяжко расплачивается вся страна.
Кроме того, девочек здесь часто выдают замуж в столь юном возрасте, что они теряют способность к материнству — одна из причин, по которой шекиани, как и многие другие племена, постоянно уменьшаются в числе. Детей сватают лет трех-четырех от роду, а то и прямо от рождения, а в восемь — девять лет, если не раньше, девочка уже приходит к мужу. Иногда они рожают тринадцати — четырнадцати лет, но зато рано и стареют, большая часть умирает бесплодными в ранней молодости.
Мужья здесь верностью не отличаются, жены тоже невысоко ценят честь и нередко ведут довольно-таки бурную жизнь. При этом прелюбодеяние считается тяжким преступлением и карается штрафом, соответствующим стоимости имущества преступника. Многих мужчин, если им нечем заплатить, продают в рабство. Иногда виновный откупается тем, что какое-то время работает на оскорбленного супруга, иногда дело заканчивается самоубийством.
Одна из жен у каждого шакиани считается главной, как правило, та, кого он взял первой. Прелюбодеяние с этой женой карается особенно строго; тот, кто уличен в нем, по меньшей мере навечно продается в рабство. Когда муж берет себе другую жену — часто маленькую девочку, — новая супруга поступает под начало и надзор к главной, пока сама не повзрослеет. Мужчина может жениться и на рабыне, однако дети ее хотя и будут лично свободными, но не получат у племени того почета и влияния, что сыновья от свободных женщин. Часто жены бегут от мужей — по причине жестокости или по иным — в соседние деревни. Не выдать беглянку — дело чести, и отсюда также происходят многие войны.
Браки совершаются крайне просто и без всяких формальностей: невесту просто передают в обмен на подарок, зависящий от богатства жениха и его родни. Однако церемония всегда сопровождается оглушительным кошачьим концертом нестройных инструментов и потоками помбе, пива из сорго. Его наливают в огромное корыто, из которого все и лакают, как животные.
С женами здесь, как и во всех диких племенах, обходятся весьма сурово. Мужчины принципиально возлагают на них самые тяжелые работы. Количество детей, особенно мальчиков, весьма важно для престижа главы семейства, поэтому плодовитые женщины в большом почете. В довольно частых случаях, когда муж стар и немощен, законы весьма снисходительны к матери: у нее не спрашивают, каким чудом происходит приращение потомства…
Наконец дю Шайю вернулся к старому приятелю Банго. Венценосный пьяница, несмотря на крепкий организм, заболел, как и дю Шайю: у Поля случилось сильное воспаление ног. Пришлось оставить вольные странствия по африканским просторам: хорошо, если он мог отойти ненадолго от дома подстрелить какую-нибудь птицу.
Однажды дю Шайю заметил, как неподалеку от его убогого жилища из барракона вышла колонна негров и направилась к другому краю леса. Когда они подошли ближе, путешественник увидел: две шестерки скованных через ошейники невольников под присмотром надзирателя с бичом несли какой-то груз. Поль сразу догадался, что это был труп раба. Покойного отнесли к опушке и положили прямо на землю, затем, все так же под надзором, негры вернулись обратно в темницу.
Дю Шайю пошел взглянуть на труп, к которому уже слеталось воронье. Под ногами у путешественника что-то хрустнуло. Он взглянул на землю и увидел, что стоит посреди черепов, — по неосторожности он наступил на скелет какого-то бедолаги, давно обглоданный зверями и птицами. И куда ни глянь — кругом такие же скелеты… На этом месте их складывали давно — смертность в барраконах ужасна.
За кустами белели целые груды скелетов. Когда мыс Лопес еще был большим невольничьим рынком, сюда швыряли как попало множество трупов.
Затем дю Шайю посетил место последнего упокоения свободных людей — оно было полной противоположностью зловещему оссуарию[449] несчастных жертв работорговли. Кладбище находилось напротив царской резиденции в прекрасной роще, где некоторые деревья были великолепны и достигали огромной высоты. Тела не хоронили под землей: они стояли под деревьями в больших деревянных гробах. Один из гробов развалился, так что можно было увидеть скелет. Иные останки, словно бежав из дощатой тюрьмы, лежали на земле подле гробов. Повсюду белые кости и груды праха…
Вокруг останков нескольких девушек лежали еще их медные кольца и браслеты. Сокровища, вместе с которыми похоронили какого-то богача, рассыпались вместе с ним. Кое-где лишь блеск украшений из меди, железа или слоновой кости в кучке праха указывали, что здесь был погребен человек.
Дю Шайю вошел под сень самых густых деревьев и направился к гробнице царя Пассола, брата Банго. Гроб стоял на земле, окруженный большими сундуками с сокровищами покойного монарха. Между и поверх сундуков были навалены груды всевозможной утвари: зеркал, кувшинов, блюд, горшков, железных стержней, медных и бронзовых звонков и прочих предметов, которые государь пожелал унести с собою в мир иной.
Кроме того, вокруг царской могилы лежало множество скелетов — не менее сотни. Это конечно же были рабы, убитые вместе с государем, чтобы в загробном царстве он явился среди прочих африканских властителей с достойной свитой…
Оправившись от болезни и хорошо отдохнув, дю Шайю распрощался с мпонгве, вернулся в Габон и спрятал в надежное место коллекции.
Затем демон дальних странствий вновь овладел им. Дю Шайю отправился на остров Кориско набрать отряд для путешествия на реку Муни.
Гористый и лесистый остров Кориско расположен в бухте того же названия между мысами Сан-Хуан и Эстейрас и имеет около двенадцати миль в окружности. Деревни расположены вдоль по берегу; население, принадлежащее к племени мбенга, много времени уделяет торговле. На острове есть три поселения миссионеров.
Двадцать седьмого июля 1856 года дю Шайю отправился вверх по Муни в сторону деревни Дайоко. Как и большинство рек побережья, Муни течет среди мангровых деревьев, но чем дальше вверх, тем более болотистыми становятся берега. К ночи экспедиция приплыла в затончик, на берегу которого и стояла Дайоко, и шумом разбудила всю деревню. Мужчины схватили старые мушкеты и изготовились к бою на случай отражения вооруженного нападения. Отвага их тем больше заслуживает похвалы, что стояла непроглядная тьма.
Узнав, кто к ним приехал, жители пришли в восторг и разожгли большой костер. Явился, потирая глаза, сам царек Дайоко. Он оказался очень рад, что придется не сражаться с врагом, а принимать гостя.
Началось знакомство — долгая, утомительная церемония, принятая у африканских племен. Общество уселось в кружок и потребовало рассказа о всех малейших происшествиях, случившихся от начала пути.
На другой день дю Шайю первым делом поторопился испросить у вождя разрешения на дальнейший путь и взять людей для охраны. Старый вождь сначала упрямился, но дю Шайю убедил его, что помышляет не о торговле, но лишь об исследовании новых земель и об охоте.
Вскоре он отправился дальше, и через пять-шесть переходов добрался до земель мбудемо — воинственного племени, живущего в хорошо укрепленных деревнях. Они вечно дерутся друг с другом, причем, что удивительно, всегда находят союзников при помощи грубой уловки, в которую никто не верит, но которая срабатывает безотказно.
«Например, — пишет дю Шайю, — два племени затеяли ссору, но одно из них нуждается в подкреплении. Что делать? Оно тайно посылает своего человека в деревню, не имеющую к их делам ровно никакого отношения, кого-нибудь убить. Вы, естественно, думаете, что люди из этой деревни будут мстить за убитого? Как бы не так! Тут-то и начинается самое интересное: убийцы заявляют, будто совершили преступление потому, что их оскорбило другое племя. Тогда, по африканскому обычаю, обе деревни объединяются и идут в поход на общего врага. Иначе говоря: чтобы найти союзников, одна деревня убивает людей в другой, а они вместе наказывают третью! Их принцип таков: обидчик отвечает полностью за все последствия своих действий».
Путешественник недолго пробыл среди этих людей, о нравственности которых получил подобные сведения. Узнав, что невдалеке видали следы гориллы, он сорвался с места и со всей поспешностью устремился в погоню — охота на чудовищную обезьяну всегда считалась делом невозможным, но дю Шайю мечтал о ней. И вот он увидел следы на земле…
«Мы пошли по приметам, — пишет он, — и вскоре увидели много отпечатков лап столь вожделенного животного. Я увидел их в первый раз. Не могу передать, что я испытал при этом. Я сейчас окажусь лицом к лицу с чудовищем, о свирепости, силе и хитрости которого у туземцев ходят легенды, в цивилизованном мире почти неизвестным, — животным, на которое белый человек еще никогда не охотился! Сердце мое колотилось так, что я боялся, как бы его стук не спугнул гориллу. Я поистине страдал от предвкушения!
Мы медленно шли через густые кусты, не смея дохнуть, чтобы не выдать себя. Вдруг я услышал необыкновенный нестройный вопль, похожий не то на человеческий, не то на дьявольский, и разглядел, как четыре молодые гориллы пустились бежать в лесную чащу. Мы выстрелили, но не попали. Потом я вновь увидел гориллу, однако она, к несчастью, стояла за деревом и я не мог стрелять. У нас не хватило сил гнаться за проворными обезьянами, и мы вернулись в лагерь».
На другой день дю Шайю отправился в лес, надеясь подстрелить какую-либо дичь: из-за нерасторопности спутников он остался совсем без еды. Внезапно ему навстречу попался воин племени фанг[450] с двумя женами.
Место было глухое, дю Шайю шел один… Он поневоле насторожился, но вдруг увидел, что дикарь со спутницами буквально обезумели от ужаса. Руки у негра задрожали так, что щит с грохотом упал на землю. Бедняга в ужасе разинул рот, не зная, как ему быть; губы посерели, глаза застыли и выкатились из орбит. У африканца было три дротика — один он уронил, а с прочими от испуга позабыл, как обращаться.
Женщины сначала уронили на землю корзины, которые несли на голове, а потом, полумертвые от страха, повалились сами. Так дю Шайю и убогие дети природы долго глядели друг на друга. Француз ласково улыбнулся и вообще постарался выказать любезность, но дикари, никогда не видавшие улыбки белого человека, приняли ее за смех людоеда, отправившегося за свежатиной. Они в полной панике искали, в какую бы трещину в земле им провалиться.
К счастью, послышались голоса спутников дю Шайю. Фанг понял, что с белым человеком идут негры, пришел в себя и пригласил маленький отряд к себе на стоянку. Вскоре фанг совсем успокоился, а после стакана водки и вовсе подружился с путешественником. Он рассказал ему новость, от которой сердце дю Шайю так и затрепетало: лес так и кишел гориллами!
День клонился к вечеру. Охоту пришлось отложить на завтра. Дю Шайю не мог глаз сомкнуть: волновался, как школьник перед экзаменом…
«Мы вышли на рассвете, — пишет он, — и забрались в самую что ни на есть густую, неприступную чащу — там мы надеялись найти убежище животного, с которым я так хотел сразиться. Час за часом шли мы вперед, но ни малейших следов горилл не обнаружили: кругом все те же крикливые обезьянки да кое-где — птицы.
Вдруг Мьенге, один из спутников, тихонько прокудахтал — этим сигналом туземцы пользуются, когда случается что-нибудь неожиданное. В тот же миг прямо перед нами затрещали ветки — это была горилла! Я понял это по гордому виду своих людей… Они тщательно осматривали ружья — вдруг порох ссыпался с полки? Я на всякий случай тоже проверил ружье, и мы осторожно двинулись дальше.
Ветви все трещали и трещали. Мы шли на цыпочках в полном молчании. По спутникам было сразу видно, что ввязались в серьезное дело… Наконец за густыми кустами мы увидели, как качаются ветки и молодые деревца: зверь вырывал их с корнем, добывая себе на корм плоды и ягоды.
Мы поползли дальше, соблюдая такую тишину, что было слышно наше дыхание. Вдруг лес огласился ужасным ревом. Кусты раздвинулись — и перед нами возник огромный самец гориллы. Он пошел через заросли на четвереньках, но, заметив нас, встал и дерзко поглядел нам в глаза.
Мы были от него шагах в пятнадцати. Никогда не забуду эту встречу!
Роста в нем было футов шесть, плечи огромны, грудь чудовищна, сила рук неимоверна. Глубоко посаженные серые глаза дико блестели, а в его оскале было нечто дьявольское.
Ничуть нас не испугавшись, он стоял на месте и бил себя огромными кулаками в грудь, бухавшую, как гигантский барабан, и непрестанно рычал.
Рык гориллы — самый поразительный и странный звук из всех, что можно слышать в лесу. Он начинается с отрывистого лая, как у разъяренного пса, и постепенно переходит в звук, в точности подобный раскатам дальнего грома, — когда я слышал крик гориллы где-нибудь вдалеке, мне часто казалось, что гремит гром.
Кажется, что рык исходит не изо рта и гортани, а из огромных полостей в груди и в чреве — так он глубок и звучен.
Не шевелясь мы готовились к обороне, а глаза гориллы все разгорались. Редкие волосы на макушке у зверя встали дыбом и зашевелились, он обнажил могучие клыки и вновь страшно зарычал. В этот миг он напомнил мне какое-то зловещее сонное видение или одно из тех фантастических существ, полузверей-полулюдей, которыми художники населяют адские пределы.
Он подошел на несколько шагов, остановился и вновь страшно взревел, двинулся дальше, шагах в десяти от нас опять встал и продолжил реветь… В это время мы выстрелили и убили его наповал. Стон животного был подобен и звериному и человеческому. Он упал ничком на землю, несколько минут конечности в напряжении конвульсивно дергались, и наконец все стихло: смерть взяла свое. Тут уже я мог вдоволь наглядеться на огромное тело. Роста в горилле было пять футов восемь дюймов; мускулатура рук и груди говорила о недюжинной силе».
Одержав нетрудную в общем-то победу и получив вожделенное чучело, дю Шайю отправился в деревню фангов.
Путешественник хотел своими глазами убедиться в том, о чем давно слышал, но не хотел верить: в людоедстве фангов. Любопытство Поля было удовлетворено, и даже слишком. Едва он вошел в деревню, как увидал следы крови. Дю Шайю сразу показалось, что это кровь человеческая, но он все еще сомневался. Вскоре все сомнения отпали: он встретил женщину, которая преспокойно, словно баранью ляжку с базара, несла человеческую ногу.
Вся деревня, особенно женщины и дети перепутались появления дю Шайю. Пока он шел по длинной аллее, по сторонам которой там и сям валялись человеческие скелеты (дю Шайю решил, что это главная улица), перед ним все разбегались по домам.
Наконец он дошел до главного дома, из которого слышался громкий ропот. Позже он узнал, что там как раз ели человека и ругались между собой, потому что пищи на всех было мало…
Вскоре все фанги сбежались посмотреть на белого. Представили его и царю.
Вид царя-людоеда, пишет путешественник, был свирепым и неприятным. Совершенно голое — если не считать пояска из древесной коры — тело было покрыто грубыми рисунками красной краски; татуировка покрывала и лицо, и грудь, и тело, и живот. Правитель был увешан амулетами, вооружен с головы до пят и носил на ногах медные кольца, звеневшие при ходьбе. Борода состояла из нескольких сплетенных жестких торчавших вперед косичек, украшенных жемчугом, зубы заострены и выкрашены в черный цвет. «Словно могила разверзлась!» — сказали бы вы, увидав, как он открывает черную пасть.
Царя сопровождала супруга — самая уродливая женщина, какую только можно увидеть. Она также была почти обнажена: всей одежды на ней была повязочка, крашеная, как и у царя, в красный цвет. Тело царицы покрывали малопонятные рисунки; кожа, вечно открытая дождю и ветру, стала пористой и шершавой. На ногах у нее были огромные железные кольца, а в ушах медные серьги двух дюймов в диаметре.
Стоявший рядом с путешественником важного вида негр объявил царю: он-де привел духа, проехавшего много тысяч миль через «Великие воды» специально к фангам. В восторге от такой чести, царь велел супруге как можно скорей приготовить жилье для столь важного гостя.
Без дальнейших промедлений дю Шайю отвели в новое жилище. По пути он с любопытством разглядывал деревню. Она была совсем еще новая и состояла из единственной улицы длиной около километра с крохотными домиками из древесной коры, крытыми пальмовыми листьями. Наружу выходили через крышу; окон в плетеных стенах не было. В одной и той же комнате ели, спали, готовили; тут же хранили запасы: к потолку были подвешены куски дичины и копченой человечины… Надо сказать, деревни здесь хорошо укреплены: огорожены крепкими частоколами и ночью охраняются стражей — даже днем чужеземцам строго запрещено появляться здесь.
Дю Шайю провели в отведенную ему хижину через всю деревню, и на каждом шагу он наблюдал ужасные следы антропофагии: целые груды человеческих костей, перемешанных с останками животных…
После такой тошнотворной прогулки путешественнику плохо спалось на кое-как сколоченной из досок походной постели…
Утром к нему с визитом явился царь в полном боевом снаряжении и раскраске. Заново покрашенное красной краской тело повелителя было все увешано амулетами и фетишами, охраняющими от дурного глаза, стрелы и пули. Три дротика, пук отравленных стрел, щит из слоновьей кожи составляли вооружение монарха. Дротики имели железный зазубренный наконечник и напоминали гарпун. Стрелами служили простые тонкие бамбуковые палочки, не более фута длиной, лишь слегка заостренные с одного конца. Они несут смерть всему живому: довольно, чтобы вытекла одна капля крови… Ядом служит сок одного растения, в который окунают стрелы; высохнув, они краснеют на острие. Никто не знает лекарства от ран, нанесенных этой столь безобидной с виду палочкой, — смерть наступает через несколько мгновений. Во время войны дикари иногда втыкают эти стрелы в землю, высунув острие на дюйм или на два. Стоит врагу чуть-чуть поцарапать босую ногу, как он падает замертво, моментально пораженный ядом! Фанги пользуются также трехфутовым охотничьим ножом и острым метательным топором.
Как мы знаем, фанги являются людоедами, но зато свято чтут супружескую верность, в отличие от мпонгве, их соседей. Дочерей они строго стерегут и не выдают замуж до достижения ими определенного возраста. Брачные церемонии, разумеется, крайне грубы и служат поводом для столь же грубых развлечений.
Как везде, жених должен выкупить невесту. Хитрый отец невесты стремится продать ее как можно дороже, причем запрашивает плату тем выше, чем больше страсти видит в будущем зяте. Часто проходят годы, прежде чем человек может выкупить жену. Выше всего у фангов ценятся медные браслеты, белый жемчуг и медные блюда.
Перед свадьбой друзья новобрачных в течение нескольких дней собирают и копят множество еды, особенно копченого мяса слона и пальмового вина. Когда все готово, собирается вся деревня. Без всяких церемоний — просто как на публичной распродаже — отец передает невесту жениху. Счастливая чета в праздничном уборе. Жених надевает плюмаж из ярких перьев, тело натерто маслом, зубы — черные и полированные, словно эбеновое дерево, на боку висит большой нож. Если жениху посчастливилось убить леопарда или другое какое животное — он заворачивается в его шкуру. Невеста одета гораздо проще — по правде сказать, совсем не одета. Но для торжественного случая она надевает все медные и бронзовые браслеты, какие только у нее есть, а в курчавых волосах у нее блестит множество белых жемчужин…
Когда все в сборе и супруга вручена нареченному, начинается большой пир, продолжающийся иногда несколько дней. Там объедаются антилопьим мясом, свининой, слониной, буйволятиной, упиваются помбе и пальмовым вином — до отвалу, пока из ушей не польется, пока не иссякнут силы и провизия…
Фанги верны в браке, но они многоженцы. Кроме того, суеверны: невероятно почитают свои амулеты и фетиши, которыми увешаны все от мала до велика. Согласно обычаю, их освящает колдун племени.
Амулеты состоят из маленького мешочка, подвешенного на шее или у пояса, а также из железной цепочки, перекинутой через левое плечо. Мешочки сделаны из кожи редкого животного, а лежат в них кости другого редкого животного. В главной деревне каждого фангского рода в святилище стоит колоссальный идол; по временам весь род является поклониться ему.
Дю Шайю хотел продолжить путь дальше на восток, в глубь континента, и обратился к фангскому царю, чтобы тот дал ему людей для сопровождения. Но царь отказал, объяснив, что соседние племена сейчас воюют и всякий, кто появится в одной деревне, сильно рискует стать мишенью для отравленных стрел их врагов из другой.
Дю Шайю хотел было пренебречь опасностью, но, поразмыслив и наведя справки, призадумался. Ведь он был целиком во власти фангов, которые, несмотря на расположение к Полю, весьма любили человечину. Вкусы капризны — как бы неграм не пришла в голову фантазия полакомиться мясом белого человека…
Так что дю Шайю решил вернуться назад к морю, но другой дорогой. Он перешел через реку Нойя — приток реки Муни — и попал в страну мбишо. Это племя весьма похоже на жителей побережья, но гораздо грязней. Однажды, когда на деревенской площади дю Шайю свежевал и разделывал добычу, его обступили женщины, и путешественник был вынужден бежать от нестерпимой вони.
Вернувшись в Габон, дю Шайю подлечился и собрал все необходимое для нового путешествия в страну комми, расположенную к югу от мыса Лопес. Он отплыл 5 февраля 1857 года, а 13-го после трудного плавания достиг устья реки Фернандо-Вас.
Когда дю Шайю сошел на берег, его сразу же окружили почестями. Два царька так усердно спорили за право приютить гостя, что чуть было не передрались между собой. Верх одержал царь Рампано; другому, по имени Сангале, француз, чтобы прекратить спор, подарил бочонок рома. Сангале подобная учтивость так тронула, что он хотел отречься от престола в пользу белого человека, но Дю Шайю отказался.
Избавившись от короны, Поль сел на пирогу и поплыл вверх по Фернандо-Вас, по пути встречались целые стада гиппопотамов. Наконец он остановился в деревне Аньямбья. Вождь прекрасно встретил путешественника.
Несколько дней спустя дю Шайю принесли живого детеныша гориллы!
Он рассказывает:
«Не могу передать своих чувств при виде звереныша! Его тащили на веревке по деревне, и он отчаянно брыкался. Один этот миг вознаградил меня за все тяготы и лишения путешествий по Африке. Детенышу было года два-три, роста два фута шесть дюймов, но обладал свирепостью и дикостью, как взрослый.
Я чуть не расцеловал охотников! Они поймали малыша в окрестностях деревни. Вот как было дело. Их было пятеро, и они тихонько шли к деревне лесом вдоль берега, как вдруг услышали крик, который сразу узнали, — это детеныш гориллы звал мать. Они пошли на крик. Зов прозвучал еще раз. Сняв ружья с плеч, они пробрались в заросли, где сидел малыш. Затаив дыхание, они раздвинули кусты и увидели зрелище, необыкновенное даже для негров. Детеныш сидел на земле вместе с матерью и ел какие-то чуть пробившиеся из земли стебельки. Негры решились выстрелить — и кстати: старая самка как раз заметила людей. Пришлось стрелять. Гориллу смертельно ранили.
При звуке выстрела детеныш бросился к матери, крепко-накрепко обнял и спрятался у нее на груди. С криками торжества охотники бросились на малыша, но тот быстро пришел в себя и, бросившись к дереву, с немыслимой ловкостью вскарабкался на верхушку и принялся дико рычать.
За поимку живого зверя можно было рассчитывать на щедрую награду… Мои люди ломали голову, как его достать: стрелять не хотелось, но иначе он мог их покусать. Наконец охотники решили срубить дерево и, пока маленькое чудовище потеряет ориентировку, набросить ему на голову накидку. Так и сделали. Все же горилленок сильно укусил одного из охотников в руку, а другого в ляжку.
Звереныш был еще совсем мал и ростом, и годами, но очень силен, и ярость ничем нельзя было укротить. Он непрестанно брыкался, так что невозможно было его взять с собой. В конце концов детенышу надели на шею рогатку: так он не мог убежать и держался на некотором расстоянии. В таком виде его и привели.
Вся деревня всполошилась. Звереныша вытащили из пироги — он рычал, стонал и свирепо озирался. Весь вид маленького пленника говорил, что поймай он кого из нас, тому не поздоровится!»
Дю Шайю хотел приручить малыша и сделал ему большую клетку — но ничто не сломило обезьяньей натуры, даже голод! Вскоре детеныш умер от истощения и конечно же от тоски по невозвратно утраченному родному лесу…
Животного похоронили по всем правилам погребального искусства. После этого дю Шайю решил поохотиться на гиппопотамов. Дело было нетрудное — мы уже говорили, что в тех местах толстокожие водились во множестве.
Поздно вечером путешественник вместе с одним из охотников по имени Ингола отправился на реку. Они ожидали несколько часов. Все это время гиппопотамы где-то ворочались в реке, храпели, плескались… Наконец, к радости охотника, один из них вышел на берег и принялся мирно щипать травку.
Дю Шайю и Ингола выстрелили одновременно, и смертельно раненный зверь рухнул наземь.
Этот успех привел в восторг всю деревню — в ней не хватало мяса, и каждый теперь предвкушал чудовищное пиршество. Мясо бегемота вкусом напоминает говядину; волокна грубее, зато нет жира. Это очень здоровая и вкусная пища — любимая еда негров.
Гиппопотамы водятся в большинстве африканских рек. Неуклюжее тяжелое животное замечательно прежде всего огромной головой и несоразмерно короткими ногами. Самец гораздо больше самки; в расцвете сил толщиной он бывает равен слону. Самые толстые бегемоты на ходу волочатся брюхом по траве.
Короткие толстые ноги бегемота приспособлены к тому, чтобы ходить в тростниках по речному илу и ловко плавать в воде. По грязи эти животные ходят довольно быстро, так как ноги заканчиваются четырьмя толстыми короткими растопыренными пальцами.
Прочная и шершавая шкура взрослого гиппопотама имеет в толщину от дюйма до полутора. Обычная пуля пробивает шкуру лишь в нескольких местах, где потоньше, — за ушами, около глаз. Ее цвет грязно-желтый, на брюхе розоватый.
В реках гиппопотамы предпочитают днем лежать в местах со слабым течением — вот почему они так любят большие озера Центральной Африки. Любят они и соседние луга; по ночам уходят пастись довольно далеко от берега — лакомятся гвинейской травой. И еще одно их замечательное свойство: они всегда идут назад той же дорогой, какой пришли, по ней же идут на следующий день — и так постоянно.
В течение второй половины 1857 года дю Шайю неутомимо странствовал, объехав страну комми и окрестности Бигано — резиденции друга его царя Рампано. За все это время с ним случилась лишь одна неприятность — довольно сильная дизентерия, вскоре, впрочем, побежденная могучим организмом путешественника. Он рыскал по округе в поисках новых этнографических материалов и любопытных предметов для коллекции по естественной истории — коллекции воистину замечательной. Между прочим, он не без риска для себя поймал пару больших шимпанзе и препарировал их так искусно, что из путешествия привез домой неповрежденные чучела.
В феврале 1858 года дю Шайю отправился вверх по Фернандо-Вас, чтобы исполнить давнюю мечту — посетить царя Кенгесу, правившего в Гумби в верховьях реки.
При встрече путешественнику устроили триумф — оглушительно звучали приветственные клики и выстрелы. Все жители бросились к берегу навстречу дю Шайю и с великой пышностью отвели гостя к месту, назначенному для официального приема.
«Царь Кенгеса, — пишет дю Шайю, — тотчас, сияя, явился пожать мне руку. Это был пожилой, поседевший, высокий худощавый человек. Суровые манеры обличали в нем смелость и волю — и царь действительно обладал ими. Он тотчас объяснил мне, что не надел праздничных одежд из-за траура по брату, умершему два года тому назад.
В ответ на приветствие Кенгесы я подозвал его маленького сына, которого царь посылал в качестве заложника. Царь подошел ко мне, и я сказал так, чтобы все слышали:
— Ты прислал ко мне сына как поруку в моей безопасности. Я ничего не боюсь. Я люблю тебя и на тебя полагаюсь. Я уверен, что ты сотворишь благо мне и спутникам моим. Я возвращаю тебе дитя — и без него я не сомневаюсь в нашей дружбе.
Затем я напомнил царю, что он обещал мне дозволить и даже помочь посетить внутренние области его государства. Он подтвердил обещание, подарил мне великолепный дом с большой верандой и, обернувшись к подданным, объявил:
— Перед вами мой белый друг! Он приехал ко мне издалека; я посылал за ним, чтобы пригласить к себе. И вот он здесь. Не делайте никакого зла тем, кто сопровождает его, не говоря о самом госте. Угождайте им, приносите еду. Паче же всего — не воруйте у них. Горе вам, если вас уличат в этом, — всех продам в рабство».
На том аудиенция окончилась. После столь гостеприимной встречи дю Шайю волен был передвигаться куда угодно, и благосклонность царя с первого дня осталась неизменной.
Путешественник прожил в Гумби до 13 августа 1858 года, воротился в Габон, а 10 октября приехал назад в Гумби и стал подбирать людей, чтобы отправиться в поход на восток от деревни. В это-то время ему довелось присутствовать при сцене жуткого колдовства.
Умер некий достойный человек по имени М’Помо. Как водится, смерть приписали волшебству злого колдуна. Немедленно из соседней страны вызвали знаменитого чародея, два дня и две ночи справлявшего самые непристойные церемонии.
На третий день все умы возбудились до крайности. Тогда чародей всех созвал на площадь для решительного испытания.
«Все мужчины и юноши, — передает дю Шайю, — были с оружием: кто с копьем, кто с тесаком, кто с ружьем или топором — и на всех лицах было одно безумное желание кровавой мести преступникам. Все племя дышало невыразимым бешенством и ужасающей жаждой человеческой крови.
Впервые мой голос звучал втуне, впервые ни одно ухо не услышало меня… Видя, как оборачиваются дела, я грозил, что царь накажет тех, кто совершит убийство в его отсутствие, — но увы! Меня опередили. В самый день смерти М’Помо к Кенгесе было тайно отправлено посольство за дозволением убить уличенных в преступлении. Несчастный царь боялся колдовства, а меня рядом с ним не было. Он, не думая, отвечал, что с виновными следует беспощадно расправиться. Я понял, что все мои усилия тщетны, что кровавое дело свершится, — и смиренно решился стать скорбным свидетелем последующих событий.
По знаку колдуна ропщущая толпа вдруг смолкла и застыла. Молчание продолжалось с минуту. Его нарушил лишь пронзительный голос чародея:
— В доме таком-то (следовало подробное описание дома и его местонахождения) живет очень черная женщина. Она околдовала М’Помо!
Не успел он закончить, как вся толпа, словно свора хищных зверей, ринулась к указанному месту. Там схватили несчастную женщину по имени Окандага — сестру одного из моих проводников, которую крепко связали и потащили к реке. Затем толпа вернулась к чародею.
Когда несчастную Окандагу тащили мимо, зная, что бессилен ей помочь, я хотел скрыться, но она заметила меня, и я услышал отчаянный крик:
— Шайи! Шайи! Спаси меня!
Что за мука! Я хотел было броситься в глупую толпу и вырвать у нее жертву — но к чему послужил бы этот слепой порыв? Масса была так электризована, так обезумела, что и внимания на меня не обратила бы… Я бы лишь пожертвовал собой без всякой пользы для обреченной. Спрятавшись за дерево, я — мог ли подумать такое? — в бессилии горько плакал!
Толпа вновь утихла, и вновь послышался хриплый голос зловещего чародея:
— В доме таком-то (вновь описание дома) есть старуха — она тоже околдовала М’Помо!
Тупая свирепая толпа устремилась туда и схватила племянницу царя Кенгесы — почтенную старую женщину.
Когда одержимые с угрозой на устах и в глазах обступили ее, она гордо поднялась, невозмутимо посмотрела им в лицо и, отстранив негров движением руки, произнесла:
— Я выпью мбунду (отраву), но горе моим обвинителям, если останусь жива!
Ее также отвели к реке — впрочем, не связывая. Она покорилась всем требованиям палачей без единой слезы, без единой мольбы…
В третий раз воцарилась тишина в деревне, и в третий раз прозвучал голос чародея:
— Есть женщина — мать шестерых детей; она живет на плантации в стороне восходящего солнца. Она тоже околдовала М’Помо.
Вновь раздались вопли — и несколько минут спустя к реке уже тащили одну из царских рабынь — прекрасное и весьма уважаемое создание, ранее знакомое мне.
Чародей, окруженный толпой, отправился к реке и загробным голосом произнес обвинение каждой из женщин.
Окандага, объявил он, несколько недель назад просила у М’Помо — он был ей родня — соли, но соль здесь большая ценность, и М’Помо отказал. Тогда она затаила на него зло, околдовала и погубила. Племянница царя была бесплодна, а у М’Помо были дети; из зависти она околдовала его. Наконец, царская рабыня попросила у М’Помо зеркало, и он отказал ей; из мести она его погубила.
Все эти дурацкие обвинения народ встречал дикими озлобленными криками. Даже близкие родичи несчастных жертв должны были участвовать в этом! Каждый старался превзойти соседа в бесчинстве, чтобы в общем безумии его холодность не была замечена и не навлекла беду.
Через несколько минут женщин погрузили в пирогу; с ними сели колдун, палач и еще несколько человек. Забили в тамтамы и приготовили яд. Чашу взял старший брат покойного. Вокруг пироги с осужденными плыло еще несколько лодчонок, в которых находились вооруженные воины.
Отравленное зелье поднесли вначале рабыне, затем царской племяннице и Окандаге. Толпа между тем вопила:
— Пусть убьет их мбунду, если они виновны! Пусть не причинит вреда, если невинны!
Никогда в жизни не видел столь потрясшего меня зрелища! Ужас леденил мне кровь, но глаза не в силах были оторваться от происходящего. Кругом царило гробовое молчание. Вдруг рабыня упала. Не успела она коснуться дна пироги, как палач взмахом тесака отрубил голову. Настал черед царской племянницы, и кровь ее окрасила воды реки. Несчастная Окандага тем временем шаталась, пытаясь бороться с действием яда. Тщетно! Она тоже упала, и голова покатилась в реку.
Дальше — одна беспорядочная толчея и мельканье топоров… Не успел я глазом моргнуть, как все три тела были изрублены в мелкие кусочки и выброшены в воду. Затем толпа разошлась по домам и воцарилась полная тишина».
Дю Шайю еще оставался в деревне, но с тех пор ни слова не сказал с людьми, принимавшими деятельное участие в казни трех несчастных. Им было крайне неприятно, что белый человек не обращает на них никакого внимания; они пытались извиниться — но напрасно. Он твердо решил показать, как отвратительно их поведение, и сдержать свою угрозу — не иметь с ними более ничего общего!
С тяжелым чувством от происшедшего путешественник 22 октября покинул Гумби и через неделю оказался в стране ашира. С великим изумлением, как и везде, местные жители увидели человека с белой кожей и гладкими волосами! Царь подарил ради встречи коз, бананов, кур, сахарного тростника и двух рабов и велел народу заботиться о «Духе».
Долина Ашира, пишет дю Шайю, одно из красивейших и приятнейших мест во всей Африке. Ее орошает множество маленьких ручейков, вокруг стоят горы, покрытые роскошными лесами. Долина усеяна чистыми, превосходно содержащимися деревеньками, которые состоят по большей части из одной длинной улицы.
Кожа здешних жителей совершенно черна; женщины отличаются прекрасной фигурой. Несмотря на отчетливо негритянский тип лица, некоторые из них обладают грацией и непринужденностью, не свойственной, казалось бы, африканским дикаркам».
Долгое время дю Шайю не видел ни одного раба — он уже было подумал, что эта блаженная страна избавлена от столь ужасной язвы. Француз спросил царя и узнал, что рабов здесь много, но, услышав о прибытии белого человека, они в ужасе убежали на плантации и схоронились там, не подавая признаков жизни.
Бедняги воображали, будто дю Шайю явился отвезти их на побережье, откормить, увезти в страну белых людей и съесть!
Женщины ашира, как почти во всех африканских племенах тех мест, занимаются обработкой земли. Надо сказать, что они весьма предприимчивы, любезны, приятны в обращении и обладают великолепным здоровьем. Там не практикуются преждевременные браки, роковым образом ведущие к вырождению и исчезновению племени. Вследствие этого ашира по большей части крепки телом и разумом.
Дю Шайю решил отправиться в глубь континента, и ашира вдруг насторожились: они всегда боятся, что кто-то перебьет у них торговлю. Но путешественнику удалось успокоить туземцев. Он получил царское благословение и отправился на восток от страны ашира, к апинджи.
В тех местах уже давно разнеслась весть о близком приходе белого человека, так что дю Шайю встретили с недвусмысленными изъявлениями величайшей радости. Туземцы твердо веровали, что наш путешественник может сделать сколько угодно жемчуга, ситца, медных котлов, ружей, пороха… Они надеялись воспользоваться случаем и поживиться всем этим. Старейшины деревни собрались, долго совещались и отправились наконец к дю Шайю с такой просьбой: сделать завтра к утру гору жемчуга высотой с дерево (они указали, какое), чтобы они сами, жены и дети взяли сколько нужно.
Нелепая просьба! Естественно, дю Шайю отвечал, что это невозможно. Они удалились сильно разочарованные и решили, что «Дух» просто не хочет снизойти к их простодушному молению…
Но апинджи не обиделись на путешественника: вскоре, к своему огромному изумлению, дю Шайю оказался удостоен кендо (знак царской власти у апинджи) — своеобразного грубого колокольчика на длинной кривой железной ручке.
Церемония состоялась в присутствии огромной толпы, громкими криками изъявлявшей одобрение. Вождь племени обратился к дю Шайю:
— Ты — Дух, никогда нами не виданный. Мы смиренные люди перед тобой. Мы много слышали о таких, как ты: они приходят из неведомой земли. Мы не надеялись тебя увидеть. Ты царь и господин наш; останься у нас навсегда. Мы любим тебя и исполним твою волю.
Речь окончилась, и вновь раздались крики. Затем началось веселье — принесли пальмового вина, и народ стал развлекаться в соответствии с чином венчания на царство. «С этого дня, — пишет путешественник, — я мог бы называться дю Шайю I, царь апинджи. Полагаю, немногие государи восходили на трон на основании столь всеобщего народного волеизъявления!».
Мужчины и женщины апинджи подпиливают себе зубы, что придает лицам страшный, кровожадный вид. Женщины, кроме того, имеют татуировку, которая представляется верхом элегантности. Они рисуют себе широкие полосы от макушки по шее к плечам, затем наискось к груди, а на уровне желудка эти полосы под острым углом соединяются. Кроме того, они наносят полукруглые полосы на спине и на животе — и чем больше женщина разрисована, тем красивей считает себя. Ходят они почти нагими, лишь едва прикрыты двумя лоскутками материи, в то время как мужчины зачастую носят пышные одежды. Из-за такого обычая здешние женщины потеряли последние остатки стыда, еще сохраняющиеся у других племен.
В стране апинджи путешествие дю Шайю и завершилось. Он заболел и долго вынужден был оставаться в постели. Тогда в нем внезапно с немыслимой силой проснулось желание вновь повидать родину. Впервые этого закоренелого путешественника поразил приступ ностальгии… и он решил немедленно уехать.
Шестнадцатого января 1859 года дю Шайю отправился в дорогу, а 10 февраля прибыл в факторию Биагано. Прошло четыре долгих месяца, прежде чем показался корабль. Наконец в первых числах июня путешественник с невыразимой радостью сел на маленький бриг, доставивший его в Америку. Он вновь обрел возлюбленную отчизну, друзей, которых не чаял увидеть, и восстановил сильно подорванное здоровье…
Поль дю Шайю путешествовал целых четыре года!
Вскоре путешественник опубликовал подробный отчет о своей великолепной экспедиции. Заявления дю Шайю возбудили весьма живое любопытство — но и только. Глупцы, никогда не покидавшие своего прихода, возопили о неправдоподобии; кабинетные ученые оспорили подлинность открытий; естественнонаучные наблюдения критиковали, мягко говоря, небеспристрастно, этнографическим не верили, а путешествие в глубь Африки и вовсе сочли басней!
С великолепным достоинством и презрением дю Шайю не обращал внимания на подобные вопли. Он был убежден: когда за ним последуют новые путешественники, общественное мнение обратится на его сторону. События доказали полную правоту дю Шайю, утверждения которого давно уже формально подтверждены.
Сам Поль в ответ на насмешки лишь решил безотлагательно доставить из Габона доказательства правоты и отправился в новое путешествие, чтобы подтвердить результаты предыдущего.
На этот раз он хорошо снабдил себя недостававшими в прошлый раз приборами и инструментами. 6 августа 1863 года дю Шайю сел на корабль в Грейвзенде и 6 октября оказался близ устья Фернандо-Вас.
Главной его целью было, вновь следуя по реке, проникновение в глубь Африки еще дальше, чем в прошлый раз. Кроме того, Поль хотел с астрономической (иначе говоря, с научной) точностью определить положение открытых им мест и новыми опытами подтвердить справедливость своих опубликованных наблюдений об этих землях.
Он встретил по большей части тех же царей и племенных вождей, с которыми был прежде знаком. Они были очень рады вновь увидеть белого друга и не меньшую радость испытали от великолепных подарков, которые он привез для них. В результате дю Шайю легко добрался до страны ашанго — племени, живущего к востоку от апинджи.
По дороге дю Шайю повстречал следы обитания диких карликов, которых туземцы называют обонго. Услышав неточные и преувеличенные описания, путешественник усомнился в их существовании. Однажды он вышел к кучке необыкновенно маленьких домиков, очень низких и круглых, как цыганские шатры. Самая высокая их часть над дверью достигала лишь четырех футов, ширина была также четыре фута. Хижины были построены из гибких прутьев, согнутых арками и воткнутых концами в землю — самые длинные посередине, к краям постепенно короче, — и покрытых листвой. Дырочки, служившие дверьми, тоже были заткнуты свежесрезанными ветками.
Дю Шайю подошел с величайшей осторожностью, чтобы не устрашить жителей, как говорили, весьма робкого нрава. Проводники его в знак дружбы несли в руках нити жемчуга. Но предосторожность оказалась тщетной — все мужчины уже сбежали. Дю Шайю обнаружил лишь трех старух, совсем молодого юношу, не успевшего скрыться вместе с остальными, да несколько детей, схоронившихся в одной из хижин. Путешественник смог подойти к странным созданиям лишь потому, что страх сковал все их члены… Он смерил рост туземцев: как оказалось, он едва превышал четыре фута.
Цвет кожи обанго грязно-желтый, лоб необычайно низкий и узкий, а скулы весьма велики. Вся их одежда — лоскуток ткани. Они одарены удивительным умением ловить зверей в ловушки и добывать рыбу в реке. Излишки дичи и рыбы продают соседним племенам, а в обмен получают кухонную утварь, бананы, зерно и железные орудия.
Недоброжелатели дю Шайю оспаривали и это открытие, но в последние годы оно было блистательно подтверждено де Бразза и Стенли.
В новом путешествии дю Шайю опять изучал повадки горилл, и его прежние мнения об этом животном несколько переменились. Он признал, что гориллы ходят более крупными стадами, чем полагал ранее. Лишь к старости гориллы привыкают к более уединенному существованию и начинают жить парами, а старые самцы — иногда даже и в одиночку.
Туземцы редко решаются напасть на этих поразительных зверей. Лишь самые отважные охотники решаются на подобное опасное предприятие, причем им нужно ружье с очень длинным стволом. Охотник прячется за куст и неподвижно ожидает гориллу. Животное, по обыкновению, идет прямо на человека, но сначала хватает ружье за ствол и сует себе в пасть, чтобы перекусить могучими челюстями. Только тут охотник нажимает на спусковой крючок! Выстрел в упор разносит зверю голову.
Двадцать первого июня дю Шайю прибыл в большую деревню ашанго, называемую Муау-Комбо. Там преждевременно и трагически закончилась его экспедиция. Вначале путешественника приняли очень холодно и даже недружелюбно, но ему удалось преодолеть неизбежные в путешествиях по Африке затруднения. Все уже наладилось, и после нескончаемых переговоров дю Шайю готов был идти дальше, но вдруг случилось роковое событие, прервавшее путешествие, а самому Полю едва не стоившее жизни.
Как-то случайно один из людей дю Шайю убил жителя Муау-Комбо, и невольное убийство привело в смятение всю деревню; раздались зловещие звуки военных тамтамов. Туземцы повели себя угрожающе. Дю Шайю собрал семерых спутников, ободрил, разделил между ними поклажу, раздал порох и патроны, доверил все самое ценное — путевой дневник, фотографии, натуралистические коллекции и прочее. Себе Поль оставил научные инструменты.
Первым делом надо было выйти на лесную дорогу, опередив туземцев, — иначе они отрежут путешественникам выход и к тому же настроят против них жителей других деревень.
«Впрочем, — пишет дю Шайю, — на миг я подумал, что дело можно уладить миром. Мой проводник докричался наконец до деревенских вождей и старейшин, так что те поверили: гибель их соплеменника была всего лишь несчастным случаем, и я заплачу в двадцатикратном размере. Затем я поспешил принести много жемчуга и тканей и разложил товар посреди улицы как выкуп за убитого. Один из старейшин, несколько успокоившись, сказал даже:
— Хорошо! Мы поговорим и все обсудим.
Военный барабан умолк.
Но увы! Солнце из-за туч блеснуло лишь на мгновенье. В ту же секунду из-за домов выбежала женщина; она вопила и рвала на себе волосы. По непостижимой случайности тем же выстрелом, которым убили несчастного негра, убили и первую жену того самого вождя, который готов был примириться с нами! Пуля, пройдя навылет через голову африканца, пробила и тонкую стенку хижины…
Мир стал невозможен. В мгновение ока все переменилось. Поднялся общий крик: «Война! Война!»; все мужчины схватили луки и копья.
Увидев, что на примирение шансов нет и вот-вот начнется смертельная схватка, я дал приказ отступить. Не успели мы дойти до леса, как на нас обрушился град стрел. Одна из них попала мне в руку и до кости впилась в палец.
К счастью, наши преследователи находились в не совсем выгодном положении: чтобы натянуть тетиву и прицелиться, им приходилось останавливаться — и на петляющей тропинке они часто теряли нас из виду. С другой стороны, нам вскоре также пришлось замедлить шаг. Люди мои вначале держались неплохо, но вскоре испугались, разбежались по лесу и минут десять я никакими криками не мог собрать их. Чтобы легче бежать, они побросали все свертки в кусты… Как тяжко мне было видеть, что все ценнейшие фотографии, инструменты, чучела животных, записки, карты, бутылки с лекарствами и спиртным — столько ценностей, столько дорогих воспоминаний — что все это гибнет! Плод многих месяцев тяжких трудов пропал, пропал безвозвратно!»
Погоня была долгой и упорной. Несколько раз, чтобы избавиться от верной гибели, дю Шайю был вынужден отстреливаться из ружья. Он был ранен еще раз: стрела угодила ему в бок, и, если бы ее не задержал кожаный пояс, без сомнения, рана оказалась бы смертельной.
Наконец после безумного бегства выбившийся из сил и умиравший от голода маленький отряд дю Шайю добрался до дружественных мест, где непреклонным преследователям пришлось остановиться. Дю Шайю несколько дней передохнул у старого друга Кенгесы и вернулся к побережью.
«Не могу выразить, — пишет он, — с какой радостью здешний народ встретил нас целыми и невредимыми! В первый же вечер, когда я гулял один по прибрежной лужайке, сестра одного из моих проводников со слезами на глазах благодарила меня за доброту к брату… Меня глубоко тронуло простое и откровенное изъявление благодарности.
Весьма сомнительно, что мне удастся вернуться в эту страну, где я столько сил положил ради расширения круга наших познаний. Но воспоминание о ее жителях никогда не изгладится из моей памяти».
В устье Фернандо-Вас бросил якорь какой-то корабль, направлявшийся в Лондон. Дю Шайю с удовольствием воспользовался оказией и в конце 1865 года сошел на британский берег.
ГЛАВА 29
КАПИТАН БЕНЖЕ[451]
От Нигера до Гвинейского залива.
Франция долго не проявляла интереса к дальним экспедициям. Но в последние два десятка лет — после постигших бедствий — она вернула себе славное место, издавна занятое ею в анналах великих открытий. В итоге мы, некогда со всех сторон теснимые нашими соперниками, ныне можем с чувством законной гордости объявить, что наша держава занимает первое место не только в Азии благодаря экспедициям Гарнье, Дюпюи, Нейса, Пави, Лебона, отца Гука, Бонвало, Бро де Сен-Поль-Лиа, Марша и многих других; не только в Америке благодаря Винеру, Туару, Крево, Шаффанжону, Кудро, Монье, Ординеру — но и прежде всего в Африке, где отличились де Бразза, Галлиени, Пьетри, Вальер, Тотен, Дульс, Жиро, Солейе, Мизон, Карон, Тривье, Бенже… Я перечислил только первых пришедших в голову современников!
Иностранцы прежде могли (впрочем, в течение очень недолгого срока) толковать о закоренелом домоседстве французов — как будто французы в иные времена сделали недостаточно, чтобы позволить себе ненадолго почить на лаврах! — но теперь вынуждены признать, что мы совершенно воспряли ото сна и имя нашим исследователям — легион.
Воины сухопутных и морских сил, чиновники, простые граждане, увлекаемые страстью к открытиям — все они состязаются друг с другом в терпении, силе воли, отваге, щедро расточают силы, здоровье, самую жизнь; все они скромно, достойно и неутомимо идут вперед ради славы древней галльской отчизны, ради того, чтобы повсюду почитался ее трехцветный стяг.
Мирные завоеватели, недруги всяческого насилия, спокойные, скромные, сдержанные, инстинктивно владеют чисто французским умением расположить к себе первобытные народы. Именно через них открывается благодетельное влияние Франции и прокладываются новые пути, по которым любой путешественник и коммерсант сможет следовать без боязни, в уверенности обрести повсюду лишь друзей.
Ибо пускай другие прокладывают себе дорогу на Черный континент ружейными залпами! Девизом всех настоящих и будущих Дювейрье, Солейе, Бразза, Бенже остается: «Мир и свобода».
И вот когда пришла пора завершить длинную череду рассказов об Африке, я ощутил некоторое сожаление, что общий план труда побуждает меня оборвать ее, почти не рассказав о моих соотечественниках — последних по времени, но не по заслугам.
Тогда я сказал себе: «Пусть пострадает соразмерность заранее намеченного плана! Прежде чем отправить читателей на Северный полюс, я еще продолжу африканскую серию рассказами о некоторых отважных и добрых французах!»
Начнем с капитана Луи Гюстава Бенже.
Ему было не более тридцати двух лет, и всего он достиг сам — благодаря труду и способностям. Восемнадцати лет он записался добровольцем в егерский полк, унтер-офицером учился в училище Сен-Мексан, в 1880 году стал младшим лейтенантом морской пехоты. В 1881 году отправился в Сенегал и там провел без перерыва шесть лет — почти исключительно в походах в глубь материка. Вернувшись во Францию, стал адъютантом генерала Фэдерба, великого канцлера Почетного легиона, и несколько месяцев провел в Париже. Затем Бенже вновь затосковал по Сенегалу и, вернувшись к его рекам, болотам, лихорадкам, тайным опасностям, начал готовить большую экспедицию, выдвинувшую его в первые ряды современных путешественников.
Предоставим слово самому путешественнику, вмешиваясь лишь тогда, когда чрезмерная скромность повествователя не дает верного представления о заслугах исследователя.
«Я сам просил, — говорит Бенже, — чтобы министр иностранных дел и заместитель министра колоний поручили мне эту миссию. В то время я был адъютантом генерала Фэдерба, который взял меня к себе за некоторые лингвистические работы, опубликованные по возвращении моем из Сенегала. Да будет мне позволено прежде всего выразить, сколь драгоценна была мне поддержка незабвенного генерала Фэдерба — славного прежде губернатора Сенегала, — благодаря которой мне удалось получить и исполнить миссию, к которой я стремился.
Миссия состояла в посещении области между Верхним и Нижним Нигером, заключенной между маршрутами Рене Кайе и Барта. Лишь эти два путешественника смогли прежде дать кое-какие сведения о занимающей нас местности.
Я уже побывал в трех экспедициях в Сенегал и Французский Судан[452] и долго жил среди коренных жителей тех мест. 20 февраля 1887 года я отправился в Дакар, взяв с собой все, что полагал необходимым для путешествия (я предполагал, что оно продлится года полтора — два).
Перечень предметов, которые я взял сверх геодезических приборов, одежды, лекарств, карт и бумаг, всякого заставит улыбнуться — он доказывает ребяческий вкус туземцев. Вот что, к примеру, было в моем багаже: зеркала, ножи, бритвы, ножницы, висячие замки, медные цепочки, стеклянные шарики, бисер, кораллы всех сортов, шапки, шейные платки, серьги и прочие украшения из накладного серебра, сабли, ружейные кремни, кошельки, проволока, мыло, духи, синька в горошинах, бумага, детские игрушки, всевозможные ткани — и дешевые, и шелковые, — шнурки, пистолеты, амбра, рыболовные крючки, иголки и прочее, и прочее, и прочее…
Вместе с моим снаряжением и палаткой все это весило девятьсот килограммов.
Из оружия у меня было два ружья Гра, охотничье ружье, револьвер и общим счетом две тысячи шестьсот патронов с картечью и пулями.
При помощи сенегальского губернатора и всех моих друзей в этой колонии я поднялся вверх по реке на четыреста миль — до Мофу на шаланде, шедшей за пароходом на буксире, а далее до Бакеля. Дальше мне пройти не удалось, ибо в это время года (март — апрель) вода стоит слишком низко.
В Бакеле я набрал себе отряд и, пользуясь бескорыстной помощью нескольких добрых волофских купцов и почтовых чиновников, нашел восемнадцать ослов для перевозки поклажи. Людей я набрал частично там же, частично в Каесе и Медиру при помощи полковника Галлиени и его подчиненных, служащих во Французском Судане.
Итак, со мной отправился мой слуга Диаве и девять негров.
Диаве — славный парень, профессиональный охотник — служил мне уже и в прежних моих походах в Судане, так что я его прекрасно знал. Он почти не говорил по-французски — только я один мог понять его. На нем покоились все мои надежды. Остальных туземцев я прежде не знал, но, должен признать, они служили с неизменной преданностью. Одни из них вернулись домой прежде меня, чтобы передать письма, другие вместе со мной морем доехали из Гран-Бассама[453] во Французский Судан через Сен-Луи.
От Бакеля до Бамако путешествие прошло без приключений. Дорога там защищена укрепленными фортами, и путешественник может ехать так же безопасно, как во Франции.
Полковник Галлиени снабдил меня превосходными рекомендательными письмами на арабском языке, но в Бамако мне пришлось задержаться на несколько дней, чтобы изучить политическую обстановку в тех странах, куда я направлялся…»
Это было поистине мудрое решение, оно доказывает, как превосходно капитан Бенже был готов вести исследования в весьма труднодоступной части Африки, проникнуть туда пытались уже давно и тщетно.
В этой части Африки политика играет огромную роль. Там плетут такие же интриги, как в нашей просвещенной Европе, только в иных масштабах, и черные деспоты ничуть не уступают белым монархам в подозрительности, коварстве, бесстыдстве, желании оторвать кусок у соседа и прочих любезных свойствах пастырей народов.
Поэтому нашему офицеру надо было прощупать почву, чтобы не совершить с самого начала какую-нибудь ошибку, погубившую предшественников.
Перед Бенже было два пути. Один вел через владения Самори, другой — через земли Ахмаду, знаменитого султана Сегу. Бенже имел основания не доверять Ахмаду: в 1860–1861 году он надолго задержал Мажа и Кентена, а в 1881 дурно принял миссию полковника (тогда еще майора) Галлиени. Капитан решил идти к Самори: с тех пор, как мы заключили с ним договор, тот вел себя достаточно дружелюбно. Кроме того, главной целью Бенже был Конг. Дорога к нему через земли Самори была короче, и капитан рассчитывал добраться по ней до реки без особенных затруднений.
К несчастью, мудрый план осуществился не так успешно, как можно было думать, исходя из априорных соображений.
Самори отправился на войну с соседом Тьебой и осадил его столицу Сикасо. Невозможно даже представить себе, как овладевает негритянскими царями демон войны, какая жажда крови побуждает их истреблять друг друга!
Капитан Бенже едва отошел на двадцать миль от Бамако, когда люди Самори остановили француза под тем предлогом, что они не могут своей властью дать разрешение на дальнейший путь.
К Самори, под стены осажденного города, был послан гонец, и капитан долгий месяц томился со спутниками, ожидая его возвращения. Более того, пока гонца не было, местные вожди, вначале отнесшиеся к Бенже равнодушно, начали выказывать столь явную неприязнь, что путешественник счел за благо вернуться в Бамако. В самом деле, достаточно было пустяка, чтобы погубить все дело.
Луи Гюстав вновь переправился через Нигер, но уже несколько дней спустя вернулся гонец с письмом от Самори — очень кратким, но дававшим позволение следовать через земли альмани.
С этим фирманом капитан Бенже в третий раз переправился через реку и дошел вдоль берега Бауле[454] без сколько-нибудь значительных происшествий — не считая тех, что случаются со всяким путешествующим в тех местах.
Бауле — первый в той стороне приток Нигера.
Едва остановившись на берегу, Бенже, к великому изумлению, получил послание от Самори. Тот без обиняков, с откровенностью человека, понуждаемого необходимостью, открыл капитану, что осада продвигается отнюдь не блестяще. Вследствие этого, не отдавая себе никакого отчета в силах Бенже и не веря в исключительно мирный характер миссии, Самори просил капитана прислать на подмогу тридцать человек и пушку.
В столь щекотливом положении наш офицер показал себя настоящим дипломатом. Он подумал, что будет неправ, если не поддержит союзника Франции хотя бы морально, и решил использовать свое положение официального французского посланника, чтобы заключить с Тьебой почетный мир. Поэтому Бенже решил сам отправиться в Сикасо. К тому же при этом он получал возможность оценить силы негритянского царя, которого почитали всемогущим и который некогда причинил нам много неприятностей.
Капитан Бенже со всем отрядом — десять человек и восемнадцать ослов — пошел берегом Багое[455] к месту под названием Бенокобугула на дороге в Теутпелу. Оттуда он немедленно отправился в Сикасо вместе с верным Диаве и еще одним слугой.
«Война и голод, — пишет он в отчете, — превратили обширную область в настоящую мясорубку. В деревнях никто не живет, повсюду лежат трупы. В первый же день я увидел десять — пятнадцать мертвых тел, не считая тех, что выдавали себя запахом из придорожных кустов. Затем трупы исчислялись уже сотнями. Под каждым кустом, в каждой хижине разрушенной деревни лежали тела — где побелевшие скелеты, где умирающие. На берегу каждой речки из-за нехватки мостов и лодок происходили схватки, в которых гибли слабые и больные, неспособные добыть себе место на единственном зачастую суденышке. Несчастные не в силах были переплыть в это время года очень глубокие и бурные потоки и оставались умирать на берегу…»
Сам капитан, хотя в то время был очень силен, а сопровождали его люди умелые и преданные, с большим трудом пересекал реки, на берегах которых кучами валялись раненые, больные, умирающие от голода… Приходилось снимать всю поклажу, раскладывать порциями по пять — десять килограммов в огромные калебасы; люди переплывали реку, толкая их перед собой. Посудите, как это было тяжко, утомительно, сколько отнимало времени! Но терпение — главная добродетель путешественника, а капитану Бенже терпения было не занимать.
Обоз с провизией для осаждающей армии, прошедший дней пятнадцать — двадцать, был в удручающем состоянии. Бедняги, шедшие с ним, для пропитания в день имели лишь по нескольку зерен кукурузы или дикие клубни, которые ели сырыми, и едва заглушали голод, однако вызывали страшную дизентерию, быстро приводившую к смерти.
Наш офицер дошел до Сикасо за семь дней форсированного марша — вы получите представление о его выносливости, узнав, что каждый переход продолжался пятнадцать часов!
Сикасо — город, насчитывающий пять или шесть тысяч жителей, окруженный солидным поясом укреплений, состоящих из глинобитной стены с грубо выстроенными башнями вместо бастионов. Укрепления, конечно, весьма примитивны, однако для негритянских войск почти неприступны: ведь у них нет ни артиллерии, ни стенобитных античных орудий. Поэтому осаждающий, чтобы овладеть городом, рассчитывает главным образом на голод или измену.
Осада грозила сильно затянуться, тем более что Тьебе удалось весьма искусно расширить кольцо укреплений и таким образом избежать полной блокады. Вследствие этого он мог пополнять провиант даже с меньшим трудом, чем Самори. Последний, заметно удалившись от операционной базы, был вынужден иметь при себе всю армию, в то время как противник держал в городе ровно столько людей, сколько необходимо для обороны. Время от времени — довольно часто, примерно раз в неделю, — Тьеба, свободно сносившийся со своей страной, приводил свежий отряд из дальней деревни и производил мощные атаки на один из аванпостов Самори. Пост, как правило, уничтожался, всех людей перебивали, и отряд возвращался домой: воины вновь становились мирными земледельцами и работали ради собственного пропитания и снабжения осажденного города.
Увидев подобные военные предприятия, невольно вспомнишь Троянскую войну…
Армия Самори насчитывала около двенадцати тысяч человек, из которых от силы половина имела кремневые ружья. Кроме них, там были гриоты[456], рабы, работники, притащившие с собой жен и детей… От кавалерии осталось всего тридцать пять лошадей, отощавших, как скелеты.
Войско набрали кое-как, оно состояло из совершенно разрозненных отрядов, каждый под командой своего вождя. Построения производятся под несколькими сигналами трубы или тамтама; кое-где видны белые флаги — не столько знамена, сколько обозначения места сбора. «Впрочем, — замечает капитан Бенже, — неграм в этих местах почти незнакомо присущее цивилизованным народам чувство чести знамени: негр никогда не умрет за него…
Нет ничего любопытней и мрачней ночи в этом негритянском лагере. Часов в десять — одиннадцать вечера по сигналу тамтама все люди Самори начинают дружно выть, как хищные звери, — если не знать, что это такое, то, пожалуй, испугаешься. Едва они замолкают, как люди Тьебы громко и очень дружно кричат: “Хо!” Сразу слышно, что их много и этот звук исходит из груди настоящих мужчин.
Время от времени весь лагерь беспорядочно вскакивал по тревоге: стоит только поймать шпиона или воришку, попытавшегося обокрасть товарища, как поднимается страшный шум, все начинают палить из ружей — и хотя вы среди союзников, за вашу безопасность никто не поручится.
Как я ни старался исполнить роль посредника между Самори и Тьебой, все было тщетно. Самори был тщеславен и горд; он твердил каждый день, что вернется домой только с головой Тьебы…»
Капитан Бенже сделал все, чтобы добиться мира, и наконец решился уехать. Он всячески просил Самори дозволить отъезд и помочь добраться до Конга. Но Самори не желал ничего слышать: он хотел до бесконечности удерживать Бенже при себе, чтобы устрашить Тьебу одним присутствием французского офицера. Притом Самори ловко распространял слухи, будто отряд Бенже — лишь авангард огромной армии белых, идущей на подмогу.
Капитан ничего не добился от Самори и через посредничество сына его Карамоко — молодого человека, побывавшего, как известно, во Франции. Самори не сдавался и на доводы сына.
Тогда капитан Бенже возвысил тон. Он сильно рисковал, идя на ссору с монархом-дикарем, и благодаря решительному поведению сумел наконец избавиться от замаскированного заключения, в которое угодил благодаря эгоизму Самори. Что бы с ним было, останься капитан до конца злосчастного похода! Он ведь завершился лишь год спустя, причем к великому позору Самори, который вынужден был снять осаду, потеряв большую часть людей умершими от голода, болезней и ран или проданными в рабство (чтобы на вырученные деньги купить лошадей).
Капитан с двумя слугами отправился вперед без всяких средств. В Беногобугу он встретил свой отряд, который в его отсутствие разложился и страдал от голода. С величайшим трудом Бенже добыл провиант, причем сам, как последний из погонщиков ослов, довольствовался скудной порцией — двести пятьдесят граммов риса в день.
В конце концов Луи Гюстав убедился, что на Самори рассчитывать нечего — тот лишь беспрестанно хитрил и обманывал. Бенже покинул его владения и направился на Тенгрелу. Не желая воздать отважному капитану за усилия, предпринятые, чтобы избавить его от позора у стен столицы Тьебы, Самори без проводников и почти без провианта отпустил француза в пустынную страну, где не было никаких дорог, кроме тропок, заросших беспорядочной растительностью. Чтобы не пропасть в гигантских травах пятиметровой высоты, где человек теряется, как букашка в поле пшеницы, приходилось идти гуськом, не ступая ни шагу в сторону и ориентируясь по компасу. Каждый шаг давался с бесконечным трудом.
Но это было еще ничего — отважного путешественника ожидали еще более многочисленные и тяжкие препятствия. Прежде всего — как пройти из владений Самори во владения Тьебы? Одна мысль об этом приводила в содрогание: ведь чернокожие не признают нейтралитета — для них существуют лишь друзья и враги. Что же решит Тьеба? Ведь у него есть все основания считать врагом французского офицера, который еще вчера был гостем Самори. Если вспомнить, как мало ценят чернокожие тираны человеческую жизнь, намерение капитана Бенже следует признать по меньшей мере дерзким. Как ни опасно было столкнуться с кровожадным дикарем, опьяненным своим небольшим успехом, наш офицер, не раздумывая, отправился вперед. В первую очередь он рассчитывал на знание языка манде[457] — таким образом он мог сам, не прибегая к помощи глупых или плутоватых переводчиков, изложить свое дело.
Луи Гюстав вышел из Тион-хи с двумя проводниками — здоровыми парнями, которые бросили его у деревни Тинчиниме, не доходя мили до Тенгрелы. Сразу после этого деревенский старшина, не желая ничего слушать, приказал путешественнику повернуть назад немедля — иначе на него нападут с оружием. Бедный Бенже под проливным дождем повернул назад вместе со спутниками и животными, промокшими и утомленными двадцатипятикилометровым переходом. Они шли целую ночь, а утром оказались на полянке среди гигантских трав, где можно было немного передохнуть.
На другой день караван вернулся в Тион-хи.
«Мои беглые проводники, — рассказывает капитан, — вернулись в Тион-хи еще ночью и рассказали, будто едва успели убежать, услышав, что нам собираются перерезать горло. Увы! Несчастный белый человек, говорили они, и девять его спутников наверняка теперь лежат зарезанные…
Этот слух быстро разнесся, оброс подробностями и достиг наконец наших постов на Нигере, а там и Франции. Именно из-за подобного происшествия слух о нашей смерти прошел в Париже и огорчил бедную матушку: шесть месяцев она носила траур по мне».
Капитан благоразумно остался в Тион-хи. Ему удалось добиться дружбы местных жителей и лишь затем, две недели спустя, переправиться через Багое и устроиться в Фуру, в землях сенуфу[458]. Этот народ отличается умом; он населяет государства Тьебы, Фоллоны, Тенгрелы и даже часть Уородугу. Как ни удивительно, туземцы, несмотря на частое общение с подданными Самори — манде, не знают их языка, а говорят на совершенно особом, понятном только им, почти односложном. Они искусные земледельцы, добрые скотоводы и к тому же — хорошие ремесленники, умеющие обрабатывать металлы и лепить сосуды из глины. Гончарные изделия изящны и замечательно расписаны; кастрюли, сковородки и котелки, выкованные из одного куска железа, говорят о хорошем вкусе и ловкости.
Религиозные обряды, развлечения и церемонии необычны и носят отпечаток подлинной оригинальности. Причудлив похоронный обряд: скорбь выражается по меньшей мере странным образом. Как только приходит весть о смерти, в деревне, где жил покойный, и в окрестностях начинают палить из ружей, рекой льется просяное пиво, деревенские музыканты — своего рода дикий деревенский орфеон[459], страшно нестройный, играют как можно громче, чтобы шумом звуков заглушить горе тех, кто плачет об усопшем. Музыкально-алкогольная вакханалия происходит прямо рядом с трупом, которому также приносят еду и питье, и продолжается несколько дней — сколько выдержат пьяницы и музыканты. Затем траурный праздник заканчивается, покойника обряжают в белый саван, завертывают в циновку, и двое сильных мужчин кладут его на голову и отправляются предать земле. Перед ними с воплями идут женщины и машут в такт коровьими хвостами.
Капитан Бенже провел в Фуру четыре недели, чтобы дать отдых спутникам и чтобы соседние племена привыкли к его присутствию и таким образом был подготовлен дальнейший путь. Мы уже сказали, что передвижение по этим местам непременно требует терпения. По счастью, Бенже имел много всяческих предметов для обмена. Раздавая со щедростью подарки, он сумел завоевать симпатии туземцев и обеспечить себе их содействие. Тогда он отправился дальше.
Прежде всего Луи Гюстав желал не останавливаться у Тьебы. Поэтому он шел форсированными переходами и сумел быстро дойти из Фуру до Фоллоны, где правил царь Пеге. Шесть дней спустя после выхода Бенже был уже у стен его столицы Ниелле. К несчастью, суеверный, как и все негры, Пеге приписал смерть Тидьяни плаванию наших канонерок, а смерть вождя Фуру — тому, что капитан ушел от него. Из этого он заключил, что у белых дурной глаз, и отказался принять путешественника: как бы самому не отправиться на тот свет.
Но в глубине души Пеге был добрый человек. Как ни настраивали царя колдуны, он не желал зла капитану и много раз являл ему свое благорасположение. Каждый день он присылал французу провизию и справлялся о здоровье. А здоровье Бенже сильно пострадало от страшного бича этих мест — желтухи. Пеге даже был столь любезен, что рекомендовал нашего путешественника Ямори-Ваттаре, одному из вождей в стране Конг[460], в пяти переходах от Ниелле.
Несмотря на болезнь, капитан отправился в дорогу. Между Фоллоной и государством Конг он встретил реку, которая текла на юг. Вначале он принял ее за приток Вольты[461], но вскоре убедился, что это был рукав Комое, впадающей в Гвинейский залив у Гран-Бассама. Исток реки находится километрах в пятистах к востоку от Бамако, почти на той же широте. Там, где ее пересек капитан, это красивая река шириной метров сорок, а глубиной в сухой сезон около метра. Она служит границей между землями сенуфу и скоплениями племен различного происхождения, говорящих на совершенно несходных языках. Это несчастные люди, сбежавшиеся сюда со всех сторон под натиском более цивилизованных соседей и нашедшие в общей беде убежище в каменистой бесплодной местности. Там и живут они — бедно, но спокойно. У мбойнов — одного из этих отверженных племен — вся одежда мужчин состоит из соломенной остроконечной шляпы с маленькими полями, напоминающей традиционный колпак Пьеро[462]. Фантазия женщин изобрела себе жандармское кепи (тоже из соломы); уступая требованиям приличия, они носят еще пучок листьев и украшения: вставляют в нижнюю губу палочку синего стекла или же просто листок. Это невероятно некрасиво и неудобно.
По рекомендации Пеге Ямори-Ваттара очень хорошо принял капитана и дал в проводники до Конга сына Сабану. Чтобы попасть туда, надо было перейти главное русло Комое — реки, текущей до Гран-Бассама, — и преодолеть еще семь переходов в юго-восточном направлении. Эта часть пути прошла без затруднений. Путешественники приближались к Конгу — предмету живейшего вожделения капитана Бенже. Вот уже по неоспоримым признакам он стал угадывать близость большого города: лес повсюду вырублен, выкорчеваны даже кусты! Кругом — плоская равнина, истощенная десятилетиями постоянной обработки без удобрений. Нигде ни холмика — а главное, ни следа знаменитого Конгского хребта, доверчиво нанесенного на карты завороженными или дурно осведомленными географами. Вскоре Сабана указал капитану на юг: за километр от них виднелась полоса хлопковых деревьев и финиковых пальм, а в просветах — минареты и громоздящиеся террасами крыши домов. Это был Конг.
«Ровно через год после моего отплытия из Бордо, а именно 20 февраля 1888 года, я въехал в город на простом воле. Народ вокруг не проявлял ни вражды, ни приязни — ему было просто любопытно видеть белого человека. На крышах, на улицах, на деревьях, на площадях — всюду было полно людей; они дрались между собой за лучшее место. Лишь благодаря дюжине здоровых молодцов — рабов градоначальника, разгонявших хлыстами народ с узких улочек, по которым я следовал, мне удалось дойти до небольшой площади. Там наш отряд остановили.
Под двумя большими деревьями на базарной площади среди тысячи человек сидели: по правую руку — царь Карамохо-Уле с друзьями, по левую — градоначальник Диаравари со своими людьми. Все они хранили полное молчание, были чисто и пристойно одеты и сидели на циновках и покрывалах.
Зрелище имело в себе нечто грандиозное, этому так способствовали и восточные костюмы, и черные лица с седыми бородами — подлинно собрание патриархов! Я был представлен царю и градоначальнику, после чего Карамохо-Уле отвел меня в дом рядом со своим дворцом и предоставил в распоряжение несколько человек, тщетно пытавшихся оградить меня от любопытства публики.
Огромная надоедливая толпа покинула мой дом лишь за полночь. Но и несколько дней спустя мне приходилось терпеть весьма стеснительное подчас любопытство этих людей. Я шагу не мог ступить, чтобы меня не окружила тысячная толпа, не отступавшая даже в таких местах, куда обыкновенно ходят в одиночку. Они никогда не видали белого и желали видеть его как можно ближе… По счастью, все это продолжалось не более недели — столь чрезмерное внимание начало, право же, становиться утомительным.
Утро второго дня я провел в визитах к местным властям — имаму и шестерым начальникам городских округов. Днем царь Карамохо-Уле и прочие начальники — все мусульманские книжники — просили меня изложить прилюдно, что привело меня в Конг.
Сначала я рассказал им о Франции, о наших поселениях на Нигере, об укрепленных постах, созданных, чтобы защитить купцов, путешествующих от Сенегала к Нигеру.
— Французам, — сказал я, — давно известно о городе Конге. Мы знаем также, что жители его миролюбивы, деятельны, умеют торговать и именно они развозят по всему Нижнему Нигеру европейские товары. Поэтому наше правительство решило отправить к вам посла, чтобы завязать более тесные отношения.
Мне поручено также узнать, какие из наших товаров, тканей, оружия и прочего более всего вам нужны, чтобы я рассказал об этом нашим промышленникам и они бы знали, что следует отправлять сюда по Нигеру или из Гран-Бассама. Но прежде чем грузить корабли, нам следует знать также, что мы можем получить в обмен на наши товары. Для этого я должен пожить несколько дней здесь, посетить другие торговые города на Нигере, особенно Масси. Затем я вернусь сюда и испрошу разрешения на обратный путь домой через Бондуку и Кринжабо, если возможно.
Далее меня «интервьюировали» о войне Самори, подозревая, не его ли я шпион. Разумеется, мою невиновность легко было доказать. И вот Карамохо-Уле так отвечал мне:
— Твои слова правдивы, христианин. Мы все поняли, что ты говорил нам, — благодарю тебя от имени всей страны. Я рад, что ты доказал свою невиновность, и убежден, что белый человек занимается только честными делами. Раз ты прошел через всю нашу страну, значит, такова воля Аллаха. Не нам с ней спорить. Аминь!
Градоначальник Диаравари добавил:
— Считай Конг городом своего отца, можешь остаться здесь сколько захочешь. Когда ты решишь покинуть нас, я дам тебе охранную грамоту — с ней ты можешь ездить повсюду под нашим покровительством».
Так как эти объяснения давались публично, при большом стечении народа, следует предположить, что не все доброжелательно относились к проживанию капитана Бенже в Конге. Как и во всех больших мусульманских городах, часть жителей здесь образованна, веротерпима и гостеприимна, но есть и невежественные, грубые, жестокие фанатики, с которыми нельзя не считаться: они составляют большинство. Возбужденные врагами властей — такие всегда найдутся, — они попытались натравить чернь на капитана, как только стало известно о его приезде. Как он узнал впоследствии, фанатики решили впустить Луи Гюстава в город, а ночью напасть и зарезать.
Дошло до того, что трем старцам из царского рода Ваттара пришлось, устраняя опасность для французского путешественника, собраться ночью на совет. Почтенные старцы решили приложить все усилия, чтобы успокоить толпу. Если допрос белого человека, сказали они, не даст полного удовлетворения, убить его будет еще не поздно. Лишь ясность ответов отвела от Бенже смертельную опасность, уничтожила все подозрения и сделала француза неприкосновенным гостем Конга.
Хотя капитан Бенже страстно желал посетить Конг и претерпел тяжкие испытания, чтобы добраться до него, но вид большого африканского города, который он лицезрел первым из европейцев, не произвел на путешественника того впечатления, как на иных Нигер или Томбукту. Он, конечно, сознавал, что разрешил интересную географическую проблему, что разделался с мнимыми Конгскими горами, что установил точное географическое положение города. Но дело в том, что никто из туземцев не говорил здесь с пафосом, присущим жителям Томбукту…
Конг, или Пон, оказался точно таким, каким капитан его себе и представлял. Это — большой неогражденный город, беспорядочно застроенный глинобитными домами под плоскими крышами, с извилистыми улочками, расходящимися от квадратной площади со стороной двести метров, на которой проходит базар. Жителей в городе около пятнадцати тысяч — все ревностные мусульмане, умеют читать и писать, могут толковать Коран, но не становятся от этого фанатиками, как фульбе и арабы. В городе пять больших мечетей с минаретами и еще несколько меньших, но столь же усердно посещаемых верными.
Карамохо-Уле — глава государства, а Диаравари, которому подчинены семь начальников наиля — городских округов, исполняет, так сказать, должность мэра Конга. В городе есть еще имам — религиозный начальник, управляющий делами культа и ведающий вопросами образования. Оно здесь развито весьма сильно, хотя несколько необычно по форме.
Здешние мусульмане весьма веротерпимы, равно почитают Моисея, Христа и Магомета и утверждают, что все три учения ведут к одному Богу, что все три религии представлены людьми великого достоинства и нет причины объявлять одну из них лучшей, чем другие.
С другой стороны, в Конге процветает торговля. На базаре можно купить не только продукты, но и промышленные изделия из Европы, доставленные с побережья, многочисленные продукты местного сельскохозяйственного и кустарного производства: табак, красители, хлопок, орехи кола, корзины, посуду, индиго, кожаные изделия, ножи, оружие, золото. Покупки оплачиваются каури — всем известными ракушками, занимающими сравнительно много места, и золотым песком, более удобным в обращении и имеющим по всей стране одну цену. В Конге делают бумажные ткани, ценимые по всей стране до устья Нигера и даже до Золотого Берега[463] и страны ашанти[464]. Они превосходного качества, окрашены индиговыми красками местного производства.
В окрестностях Конга выращивают также коней. Капитан Бенже купил одну лошадь за круглую сумму — восемьсот франков, представленную, впрочем, кучей самых разнообразных предметов. При случае капитан с патриотической гордостью замечает, что наш каликот туземцы берут с большей радостью, отдавая справедливое предпочтение перед английскими и немецкими аналогичными тканями.
Двенадцатого марта пребывание нашего отважного путешественника в Конге подошло к концу. Он послал двух человек с вестями в Бамако (они прибыли через четыре месяца), а сам с рекомендательными письмами, которые для мусульман почти священны, покинул владения Карамохо.
Во время путешествия он исследовал значительную часть течения Комое, открыл несколько притоков Вольты, прошел через страну тьефо и пришел к бобо.
Страна этого племени довольно невелика. Столица его — Бобо-Диуласо, городок с тремя-четырьмя тысячами жителей. Но значение Бобо-Диуласо больше, чем можно было подумать, основываясь на этой цифре, главным образом потому, что он находится между Конгом и Дженне. В нем всегда будет около тысячи проезжающих, привозящих соль, чтобы купить в обмен орехов кола, тканей, золота. Главный товар здесь — соль.
Базар Бобо-Дьюласо подобен базару в Конге: на нем продаются те же товары и по той же цене. Привозятся они из Кинтампо, Конг-Буны, Дженне, Софурулы и Уагадугу. Отличительная особенность этих мест — обилие бродячих брадобреев и маникюрщиков. Брадобреи устраиваются на площадях, на перекрестках, ходят к клиентам на дом. Твердой таксы у них нет. За скромную плату — от десяти до двадцати каури — они скоблят щеки и черепа, а затем, чтобы исцелить порезы, мажут их пальмовым маслом. Операции, исполняемые маникюрщиками, стоят меньше страданий и денег. За четыре каури парнишки, вооруженные скверными ножницами местного производства, стригут ногти на руках и на ногах, а все обрезки возвращают клиентам, которые тщательно зарывают их в землю[465].
Чтобы попасть в Уахабу — резиденцию самого значительного мусульманского вождя Дафины, капитану Бенже по дороге из Бобо-Диуласо пришлось проехать через государства Ньенеге, Бодо-Диула и Соммо.
Путешественник в здешних местах на каждом шагу сталкивается с совершенно особыми трудностями: местные жители суеверны до безрассудства. Для этих несчастных всякая незнакомая вещь — фетиш, всю жизнь они трепещут от страха, боятся дурных примет. Стоило капитану бросить по дороге клочок бумаги на землю, стоило туземцам увидеть его стол, складной стул — их тотчас охватывал ужас. Луи Гюстава обвиняли чуть не в колдовстве, подозревали в дурном глазе — и французу великих трудов стоило объясниться: хорошо, если неверно понятый вопрос, неосторожный жест, вырвавшееся слово не приводили к тому, что он был вынужден идти обратно!
Так он терял драгоценное время, крайне медленно продвигаясь вперед. Скольких трудов стоило преодолеть невероятную обидчивость, которая в любую минуту могла привести к убийству!
Зато Бенже посчастливилось найти исток Вольты. Река образована слиянием двух рек, каждая шириной двадцать метров. Затем Вольта течет по дуге, а далее направляется на юг, орошая золотоносные земли гурунси и ньенеге.
Прежде капитану встречались плодородные страны. Великолепно принятый вождем Уахубу, капитан, получив у хозяина рекомендации к моси[466], живущим в Боромо, на берегах Вольты, сумел убедить последних сопровождать отряд до первых деревень, которые встретятся за страной гурунси[467]. Теперь же он попал в область, разоренную ордами грабителей хауса и замберма. Не было больше полей проса, сорго и земляного ореха; не было злаков и финиковых пальм — лишь дикие заросли, заглушившие прежние посевы, дающие неприступное убежище бандитам. Повсюду разбойники, анархия, нищета и смерть. Капитану Бенже с превеликим трудом удалось успокоить спутников, возбужденных страшными историями, которые они слышали каждый день.
Сам он часто был болен, почти всегда терпел лишения. Ему требовалось величайшее спокойствие, чтобы уберечься от измен или слабости и внушить людям уверенность, которой не было и в нем самом. Да и как было не бояться? Ведь в этих местах при каждой встрече надо готовить оружие к бою — у одной стороны заряжены ружья, у другой отравленные стрелы на тетиве — и стараться держаться подальше от встречных, не то неосторожное слово или движение приведет к неминуемой катастрофе.
Конец пути по опасным землям был весьма тяжким и ознаменовался печальным для маленького отряда происшествием, лишившим его средств на дорогу. Во время проливного дождя люди кириписи, воспользовавшись недолгим замешательством часовых, ночью увели четырех ослов. После этого каждый человек не только вел в поводу двух ослов, но еще тащил на голове двадцать пять килограммов груза, а сам капитан перекинул тюк такого же веса через седло своей лошади.
И вот из глубин души нашего отважного офицера вырывается крик:
«Когда мы увидели первые хижины моси — для нас это был настоящий праздник!»
После множества тягот, неприятностей и страданий он пришел в Банему, где жил Букари-Ноба, брат царя моси, наследник престола. Луи Гюстава ждало замечательное гостеприимство, по-настоящему царский прием, какой только может негритянский вождь устроить белому человеку. Все явилось в изобилии: не только еда, которой объедался отряд после стольких лишений, но и много такого, чего люди Бенже и не видали. Букари-Ноба вел себя воистину по-джентльменски и пригласил гостя принять участие во множестве самых утонченных развлечений.
Брат правителя, Ноба-Саном, царь моси, тоже принял француза великолепно. Все предвещало нашему офицеру, что сердечные отношения с моси будут продолжаться и дальше, но тут пришла весть, что немецкий военный отряд, вышедший из Того, поднимается по Вольте. Негры Уагадугу, не зная, что и подумать о столь необычном обилии белых, внезапно почувствовали угрозу в подобном нашествии и прервали только что начатые переговоры о подписании торгового договора, предложив капитану вернуться назад, во владения Букари-Нобы.
Капитана весьма раздосадовала подобная помеха — совершенно непредвиденная и непреодолимая. Ему пришлось отказаться от любовно выпестованного плана смелого марша к Либтако, где он хотел продолжить труды Барта. Вместо этого Бенже вновь спустился по Солаге через Гурму[468] и Буссангси. Но жизнь путешественника полна таких неприятностей, и встречать их должно с душевной стойкостью. Отважный капитан так и поступил.
Бенже прожил у моси от силы месяц, и благодаря необыкновенному дару наблюдательности ему удалось составить совершенно верное представление о богатствах этих мест. Страна моси лежит на роскошной равнине, где равно поразительные плоды приносят и скотоводство и земледелие. Впрочем, сельское хозяйство развивается здесь в ущерб ремеслу, произведения которого ограничиваются небольшим количеством плетеных корзин да еще белым полотном, продаваемым по чрезвычайно скромной цене.
Главное занятие моси — скотоводство, особенно разведение лошадей и ослов. Кони здесь великолепны, упитанны, выносливы, статью напоминают наших драгунских; как правило, они и ухожены столь же тщательно, как у нас. Доходит до того, что к каждой лошади приставляют особого конюха, который должен кормить коня до отвала зерном, давать лизать соль и чистить по всем правилам, принятым в Европе. Что касается ослов, которых так хвалит доктор Барт, они оказались гораздо ниже своей славы — несравненно менее выносливы, чем фута-джалонские ишаки, которых мавританские купцы продают нам в Бакеле и Медине.
«К Букари-Нобе я отправился почти что опальным, — пишет капитан Бенже, — и боялся, как бы он не встретил меня недружелюбно. По счастью, этого не случилось — наша вторая встреча оказалась не менее теплой, чем первая. Он был даже настолько любезен, что подарил мне прекрасную пегую лошадь и трех женщин двадцати — двадцати пяти лет от роду, изъявив желание, чтобы я их взял в жены.
Мне, холостяку, сразу стать троеженцем — это было, пожалуй, чересчур. Я поделился с Букари-Нобой сомнениями, и он согласился, чтобы девушек я выдал бы замуж за трех своих верных слуг.
Без всяких административных или религиозных формальностей, вроде оглашения брака, я тем же вечером поженил спутников, дав им в подарок немного тканей и стекляшек, да еще еды на свадебный пир.
Девушки стали прекрасными женами и не породили в нашем лагере никакого раздора. Когда мы расставались, они в знак благодарности за столь удачное сватовство обещали назвать своих первенцев в мою честь».
Вторично покинув гостеприимное жилище Букари-Нобы, капитан Бенже столкнулся с новыми затруднениями: даже за цену нескольких рабов он не нашел проводника, который твердо обещал бы провести его через страну гурунси. В конце концов наш капитан отправился на свой страх и риск, с рекомендациями, годными лишь на первых два перехода, потому что от города Валвали в стране мампруси[469] мусульман уже не встретишь…
Итак, Бенже пришлось без посторонней помощи медленно идти по недружелюбной, а то и открыто враждебной стране. На девять обычных переходов ему пришлось потратить восемнадцать дней — столь негостеприимны были жители, на каждом шагу являвшие намерение ограбить или задержать капитана. Всякий день случались тревоги, не дававшие маленькому отряду ни отдохнуть как следует, ни запастись провизией. Питались только просом и рисом с небольшим количеством копченого мяса прежде убитого буйвола.
Едва экспедиция подходила к какой-нибудь деревне — крыши тут же ощетинивались вооруженными людьми, угрожавшими путешественникам и ожидавшими лишь случая, чтобы на них напасть: глухая оборона несколько раз чуть было не превращалась в яростную атаку. Воины-дикари покидали жилища и следовали за путниками, словно волки, готовые в любую минуту растерзать отставших.
В завершение бед окрестности изобилуют потоками, переправляться через которые необычайно трудно, так как лодок совсем не было. Приходилось шлепать по грязи, развьючивать ослов, сушиться, навьючивать вновь — короче говоря, к уже привычным хлопотам прибавились новые.
Лишь на восемнадцатый день, казалось, трудности закончились — капитан с отрядом достиг восточного рукава Вольты[470], на котором стоит мусульманский город Валвал. Больному, совершенно обессиленному Бенже пришлось остановиться там на целых сорок пять дней, чтобы прийти в себя и восстановить силы для продолжения предприятия. По счастью, у мусульман Валвала капитан встретил братскую поддержку и самую бескорыстную помощь: его хозяин с имамом даже посылали людей за два часа пути от города купить для путника молока и масла.
Между тем пришел сезон дождей. Он плох для любых путешествий — даже негры в это время безвыездно сидят дома. Но капитан так спешил попасть в Салагу, что пустился в путь, едва оправившись, невзирая на тропические ливни. Каждый лишний день, посвященный собственному здоровью, казался ему напрасной тратой времени; он торопился как можно скорей изучить торговлю Салаги, а также (на что, впрочем, было мало надежды) отправить о себе вести во Францию.
Салага и впрямь поддерживает оживленнейшие сношения с нашими колониями на побережье Гвинейского залива. Это не мешает ей быть одним из самых грязных городов на целом свете — омерзительная цепь зловонных луж, где валяются всевозможные нечистоты и гниют трупы животных.
Не диво, что здесь нет питьевой воды: в дождливый сезон колодцы отравляются нечистотами, в сухой — пересы хают. Воду приходится возить за четырнадцать километров из ручья, вполне соответствующего необычному названию: Воровской ручей.
Вследствие этого на рынке в Салаге всегда торгуют дровами и водой, а более всего — солью, которую туземцы ценят выше всех товаров. Соль привозят в Салагу по Вольте, а оттуда караванщики развозят ее в Линтампо, Буле, Бонну, Манго… С другой стороны, из Аккры в Салагу поступают товары европейского производства. Наряду с солью главный предмет местной коммерции, особенно в сухой сезон, — орехи кола. К несчастью, войны с ашанти прервали выгоднейшую торговлю — сбыт колы, — и хауса, которые занимаются ею, вынуждены теперь ездить лишь в Кинтампо и Бондуку.
Нечего и говорить, насколько вредна жизнь среди вонючих помоек Салаги. Не только белые, но и негры, менее восприимчивые к действию миазмов, заболевают от этой нечистоты. Капитан со спутниками также вдоволь надышались болезнетворными испарениями и благословили окончание дождей.
Как капитан Бенже и собирался, из Салаги через Порто-Ново он отправил письмецо во Францию. Благодаря попечению управляющего колонией господина Либрека д’Абека, оно пришло по адресу и, несмотря на краткость, успокоило родных и друзей капитана.
Наконец Бенже оставил мерзкий город Салага и по правому берегу Вольты отправился в Кинтампо — город в провинции Коранза. После сезона дождей вся местность на несколько миль вперед оказалась затоплена. Ценою множества трудов и тягот капитан достиг наконец Ку-Кросу, откуда идут дороги в Окуаву. Но и эта дорога представляла тогда бесконечный ряд болот, заросших густой травой, и лесов, растущих на вязкой пористой тине; она хлюпает под ногами, вы тонете в ней, спотыкаетесь, животные скользят и падают… По пять-шесть километров людям приходится тащить груз на спине — невыносимый труд! Между тем ослы даже без поклажи едва-едва могут пройти через неимоверные трясины.
Но в переходе через ужасную местность было и некоторое утешение для путешественника. Из почвы, насыщенной влагою, с поразительной мощью произрастали изумительные растения. Взор капитана, которому наскучила рахитичная, чахлая флора земель гуджа[471], мампруси и дагомба[472], наслаждался ими. Кроме того, Бенже повстречал здесь хауса — предприимчивый народ, любящий торговлю не меньше, чем манде из Конга. Он путешествовал вместе с ними и собрал о них много прелюбопытных сведений. Далее в отчете Луи Гюстав вновь говорит о местах, поразивших его красотой:
«Многие места здесь восхищали не только меня, но и моих негров. То и дело по пути попадаются быстрые ручейки, берега которых поросли дивным тенистым лесом. Солнце не в силах проникнуть через эту зелень. Перед вами то заросли папоротников, то висят гигантские лианы с листьями всевозможных размеров, а кое-где вы чувствуете себя совсем как в тихом уголке какого-нибудь симпатичного французского леса, и лишь роскошная стеркулия (дерево кола) возвращает вас к реальности. Здесь господствуют бомбакс, пальма ронье и еще одно дерево с белесоватым стволом; высота стволов до нижних веток — метров двадцать или тридцать, крона же теряется высоко над сводом других деревьев.
На каждом шагу хочется остановиться, но провианта и фуража, к сожалению, не хватает, повсюду пронизывает сырость, а муравьи не дают покоя, не говоря уже о кишащих в лесу змеях.
Кинтампо расположен в ополье, посреди одного из этих лесов и окружен великолепными банановыми и другими плантациями — в руках европейцев это место обратилось бы в рай. Город насчитывает около трех тысяч жителей — хауса, ашанти, манде, лигуи, дагомба, моси и котоколи[473]. Главные статьи торговли составляют кола и краски — их продают в Бобо-Диуласо в обмен на пленных, золото и ткани, поступающие затем в земли ашанти. Ткани привозят сюда и из Салаги вместе с конгской солью и маслом из Се.
В качестве европейца, а главное, благодаря знанию языка манде, я всюду проходил свободно: даже в тех местах, где за проход берут пошлину, с меня обычно не требовали ничего».
Маршрут капитана становился все длиннее и длиннее. Из Кинтампо в Бондуку он хотел было пройти кратчайшей дорогой — той, что идет по правому берегу Вольты через Фугулу, пересекая реку Тэм. Но, подобно всем злосчастным африканским землям, где так дешево стоит человеческая жизнь, места эти были опустошены бичом войны. Поэтому Бенже оказался вынужден повернуть в земли диамара, дважды пересек Вольту и тогда только попал в Гаман, он же Бондуку. Впрочем, он отклонился с пути отнюдь не без пользы — путешественник открыл важный горный массив, преграждающий дорогу главному руслу Вольты и заставляющий реку изменить меридиональное направление на широтное.
В этих горах нет ни золотых, ни железных копей. Они сложены своеобразным гранитом, переслоенным черными и серыми песчаниками. Их высота на глаз не превышает семисот метров.
На берегах Вольты капитан Бенже узнал новость, преисполнившую радости: две недели назад в Бондуку прибыл француз, посланный разыскать его! В понятном восхищенье, мгновенно забыв все — усталость, лишения, болезни, — он поспешил, удвоив продолжительность переходов, в Бондуку… и с большим огорченьем узнал: соотечественник уехал пять дней тому назад. Капитана давно не было, и о нем поступали тревожные слухи, а вести от него приходили редко; никто не знал, где он странствует. Все это возбудило и серьезно обеспокоило общественное мнение во Франции. По инициативе достопочтенного любителя наук из Ла-Рошели, господина Вердье, благородно оплатившего половину расходов, было решено послать спасательную экспедицию, чтобы снабдить капитана новыми товарами, а если у него нет уже никаких средств — помочь вернуться на побережье. В экспедицию входило сорок пять человек, из них двадцать вооруженных. Правительство, оплатившее половину расходов, доверило возглавить ее господину Трейш-Лаплену[474], который в 1887 году, будучи французским резидентом, уже совершил путешествие в Инденье и Бетье, а потому превосходно знал места, прилегающие к побережью неподалеку от Асини[475] и Гран-Бассама.
Господин Трейш-Лаплен отправился с побережья в августе месяце, в Бондуку пришел в октябре. Лишь изредка ему удавалось получить сведения — крайне недостаточные — о том, куда направился из Конга капитан Бенже. Не зная, что делать, он решил, во всяком случае, не терять времени и сам отправился в Конг — то ли чтобы встретить капитана там (туземцы уверяли, будто Бенже намерен туда вернуться), то ли чтобы отправиться к нему навстречу, когда сам что-нибудь разузнает.
Со своей стороны, капитан, утомленный перенесенными лишениями и форсированным переходом, счел необходимым задержаться в Бондуку — прийти в себя, изучить местную торговлю и попытаться установить связь с господином Трейш-Лапленом.
Все население Бондуку не превышает трех-четырех тысяч жителей, однако тамошняя торговля европейскими товарами весьма значительна. Эти товары поступают из Санви, из Инденье и Аброна, из Асини и Гран-Бассама, от ашанти и из страны сахуэ на Кейп-Кост. Кроме того, многих привлекает сюда орех кола — главный, как мы знаем, предмет туземной торговли наряду с солью; с Верхней Камоэ и Вольты стекаются сюда за драгоценным товаром купцы. Покупки до сих пор еще оплачиваются каури, но эту неудобную и не имеющую ценности в других местах валюту все более вытесняет золотой песок, для расчетов которым все носят с собой небольшие весы с коромыслом, магнит — вытягивать из драгоценного металла крупицы железа — и перышко, чтобы удалять оттуда другие инородные тела. Гирями служат причудливые штуковины из дерева, меди, кости, железа и рога. Все они, однако, имеют общую меру с туземной единицей веса — миткалем.
Миткаль равен четырем граммам. В Алжире до колонизации эта мера служила для взвешивания духов и драгоценных металлов. Миткаль золота стоит двенадцать франков. Для оплаты меньших цен — вплоть до долей франка — в ход идут твердые семена с довольно равномерным весом: например, двадцать четыре семечка хлопкого дерева или сорок восемь зерен «растительного коралла»[476] довольно точно соответствуют упомянутой мере в четыре грамма.
Когда нужно оплатить более значительные покупки, в ход идет и более крупная мера, равная четырем миткалям. Она называется «барифири» — искаженное французское «barre de fer» (железный слиток). Кусок железа определенного размера как раз и равняется четырем миткалям золота.
Далее в увлекательном сообщении, сделанном в Географическом обществе, капитан Бенже передает:
«В этих местах повсюду много золота, но сколько его находится в обращении — точно оценить не могу: боюсь завысить или занизить его количество. Могу, однако, утверждать: не проходило дня, чтобы на моих глазах не расплачивались золотом — и в доме моего хозяина, где всегда были иностранцы, и в других домах, и даже на улице.
Золото носят обычно в тряпице, перевязанной ниткой, или в футлярах, сделанных из перьев грифов и снабженных деревянными затычками.
Кроме песка, довольно часто встречаются и самородки весом от одного до восемнадцати граммов. У меня самого был самородок весом сорок четыре грамма, а у моего хозяина стотридцатиграммовый. Продать его мне он не соглашался ни за какую цену: самородок достался хозяину от предков.
Меня больше ничто не задерживало в Бондуку, и я решил как можно скорее добраться до Конга, который от Бондуку отстоит на девятнадцать дней пути. Поскольку последняя моя лошадь сдохла, тяжелейший путь мне предстояло одолеть пешком. За два года жизни в этих краях я дошел до полного измождения и боялся, что на дорогу у меня не хватит сил. Но желание и воля нагнать француза, посланного за мной, так взбодрили меня, что я проделал весь путь за одиннадцать дней».
До Комоэ капитан шел той же дорогой, что и господин Трейш-Лаплен, но затем переменил маршрут и уклонился к северу. Так он сделал полезное дело — посетил золотоносные земли Саматы. Шахты добытчиков расположены там так близко друг от друга, что идти приходится с величайшей осторожностью. Но путешественнику не удалось увидеть промывку и обработку золотоносного кварца. В это время года в округе нет ни капли воды, вследствие чего наступает вынужденная безработица, конец которой кладет лишь сезон дождей.
Говоря одним словом, золото есть здесь повсюду, даже на Конгском плато[477], на высоте семьсот метров, в кварцевых жилах. Там даже пробовали начать разработки, но вскоре забросили, так как большую часть года не хватает воды.
Совсем измучившись, капитан Бенже 8 января 1889 года после одиннадцатимесячного отсутствия возвратился в Конг, где и встретил господина Трейш-Лаплена. Последний, узнав о скором прибытии капитана, выслал ему навстречу лошадь и хотел уже сам идти навстречу, когда Бенже вдруг появился сам.
«Под влиянием неописуемого чувства, — рассказывает господин Бенже, — я пал в объятия достойного соотечественника, который, едва оправившись от последствий долгой жизни на африканском берегу, вдруг вызвался пойти мне на выручку. Кроме запаса товаров, он привез мне известия о матери и друзьях, быстро заставившие меня позабыть о тяготах и лишениях.
Через несколько минут после нашей встречи сторонний наблюдатель принял бы нас за давних знакомцев — непосредственность, свойственная африканским жителям, вмиг сдружила нас.
Умолчу о всех визитах и поздравлениях от конгских вождей и народа, бурно радовавшегося моему возвращению. Этому помогло написанное по-арабски письмо, которое я им прислал из Салаги: оно привлекло ко мне общие симпатии и последних недругов сделало сторонниками моего дела.
Прием, оказанный мне, и свободный доступ в город господина Трейш-Лаплена стали лучшими залогами того, что все население здесь полностью поддерживает наше дело.
Люди здесь не забыли имени Франции, которому я с таким терпением учил их в первый свой приезд, и все указывало мне, что предложение заключить договор непременно будет благосклонно принято. За одиннадцать месяцев этот вопрос, благодаря кампании, которую вели оставленные мною в Конге друзья, значительно продвинулся.
Несколько дней спустя я подписал с Карамохо-Уле договор, по которому его государство поступало под наш протекторат, наша торговля получала преимущественные права перед всеми другими странами, а французские купцы и миссионеры получили дозволение селиться здесь.
Этот договор вместе с тем, что за несколько месяцев до того подписали в Бамако капитан Сетан и Тьеба, а также с тем, что подписал господин Трейш-Лаплен в Бондуку, соединял наши поселения на Верхнем Нигере с владениями на Золотом Берегу!
Государство Конг очень велико — простирается на три градуса как долготы, так и широты (от 8°30′ до 12° северной широты). Таким образом, наши владения на Золотом Берегу отступили от Дженне на двести пятьдесят километров и включают теперь страну манде в Конге, Тьефо, Дохо-сье, Бобофинг, Тагуару, Ньенеге с частью округов Паллага, Пахалла, Бигури и Лоби».
Капитан Бенже был чрезвычайно доволен, что счастливо завершил щекотливое и трудное дело с подписанием договора, и немедленно отправил в Бамако четырех людей с женами. Этот маленький отряд взял с собой донесение во Францию и коллекцию местных костюмов, чрезвычайно любопытную с этнографической точки зрения. Достойно замечания, что и письма, и костюмы, и люди прибыли в целости, сохранности и добром здравии, что доказывает, какую симпатию умел внушить к себе капитан. Его людей повсюду встречали превосходно — даже вожди иногда дарили им подарки.
Вскоре капитану вместе с господином Трейш-Лапленом также пришел черед оставить Конг и распроститься с добрыми неграми, оказавшими путешественникам столь радушный прием. Господин Бенже особо отмечает, сколь необычайно трогательно было расставанье.
«Как последний знак симпатии, — пишет он, — эти славные люди дали нам письма и рекомендации; они даже встали до зари, чтобы проводить нас до первого ручья к югу от города. Нам пришлось обещать, что мы либо сами вернемся, либо пришлем соотечественников, а они говорили, что примут гостей как нельзя гостеприимнее. Наконец, я увез с собой их здравицы президенту Республики и всем, как они выражались, “старейшинам Франции”».
В последний раз покинув Конг, капитан отправился к югу и решительно вступил в земли джимини. Там он имел счастье собрать много новых материалов об этой столь интересной и связанной с Конгом неразрывной дружбой стране. Он кое-что узнал об ее истории — записал список важнейших вождей — и познакомился с народами, власть которых некогда простиралась от Конга до нижнего Комоэ.
Ныне эти племена пришли в упадок; от них осталось теперь пять частей: пахалла, набе и зазере принадлежат к той этнографической ветви, откуда происходят жители Бондуку, Буны и бауле; тагуасы, наряду с миорон, близки к семье сьере, а фаллафалла отосятся к группе комано.
С большой радостью путешественник убедился, что люди джимини весьма миролюбивы, общительны и живут в добрых отношениях с соседними племенами.
Их ремесла находятся в цветущем состоянии; они умеют прекрасно ткать покрывала из хлопка, а также особую полосатую бело-голубую ткань — тоже из хлопка, — которая может смело конкурировать с белыми полотнами моси. В связи с производством крашеных тканей, которые выменивают на привозимые с севера соль и железо, здесь процветает еще культура хлопка и индиго. Как еще один весьма ценимый товар следует назвать орех кола, привозимый из стран анно и бауле. Эта страна анно, непосредственно граничащая с джимини, у туземцев известна под самыми разными названиями, что подчас сбивает путешественников с толку. Например, манде называют ее Мангуту — Чащоба Манго, — причем имя Манго для главного ремесленного центра страны тоже дали манде: местные жители называют его Гоненедаха или Грумания.
Из-за такого обилия названий для обозначения одного и того же места, никоим образом не связанных между собой, капитану пришлось вести долгие и тщательные разыскания, иногда же случались невероятные недоразумения. Он уже сталкивался с этим и раньше, по дороге из Дагомбы в Бондуку. Там каждая деревня кроме туземного — настоящего — имени имела название на языке хауса и на языке манде, данное купцами из этих стран.
Господин Бенже с обычной добросовестностью изучил страну Анно. Она длинной узкой полосой тянется от Джимини до Инденье вдоль левого берега реки Комоэ, отделяющей Анно от Баробо, государства арджума.
Здесь живут как кочевые (или, вернее, странствующие, ибо они всегда возвращаются домой) купцы, так и оседлые земледельцы. Купцы происходят из манде племени диула[478], земледельцы — га, исконные местные жители. Есть еще здесь поселения аньи[479], племени одного корня с жителями земель кринжабо, сахуэ, инденье, бауле[480] и абру.
Поскольку рельеф страны Анно весьма разнообразен, а следовательно, разнообразна и растительность, эту область следует признать обладающей большими сельскохозяйственными, ремесленными и минеральными ресурсами. Любопытно, что каждое племя здесь выбирает свой род занятий. Диула занимаются торговлей, разъезжают повсюду, ткут ткани, красят индиго и выменивают как их, так и товары, произведенные га. Последние — по инстинкту и вкусу земледельцы — разводят дерево кола (Sterculia acuminata) и масличную пальму; этой работой они занимаются с методичностью и упорством, поразившими капитана. Деревья га высаживают с идеальной регулярностью — не будь они столь разнообразны и пышны, вы бы приняли их за прекрасно ухоженный сад в Европе. Покуда мужчины изо всех сил занимаются полевыми работами, женщины прядут ананасную пряжу — ее покрасят в красный, желтый и синий цвета и вывезут в дальние края для вышивки узоров на одежде. Эти края — главное место разведения «дерева дураков», приносящего большой доход. Кору тщательно разминают колотушкой (разумеется, ободрав с дерева), и она становится очень прочным и качественным материалом, из которого делают мужское и женское платье, колпаки, мешки, скатерти.
Что касается аньи, они главным образом занимаются старательством золота. Добыча ведется двумя способами: промывкой песка и поиском самородков.
Промывка золотоносного песка производится исключительно в сезон дождей, ибо эта работа требует много воды. В сухой сезон потоки иссякают и золотоискатели ищут в кварцевых жилах обогащенные гнезда золота. Кажется, промысел этот довольно прибыльный. Во всяком случае, благодаря ему ужасные деньги каури выходят из употребления и заменяются золотым песком, более удобным при расчетах и куда менее громоздким.
Вожди джимини и анно прекрасно встретили господ Бенже и Трейш-Лаплена — правители заверили путешественников в добрых намерениях, объявили, что желают жить в наилучших отношениях с Францией, готовы помочь купцам приезжать в их страну. В конце концов они подписали договоры, аналогичные конгскому, также с признательностью принимая французский протекторат.
Все многомесячные и многолетние странствия по Западной Африке понемногу подорвали могучее здоровье капитана Бенже. Нельзя безнаказанно сносить столь суровые тяготы и долгие лишения, да еще в придачу неизбежный для путешественника неправильный режим. Отважный офицер совершенно утратил способность ходить — его пришлось нести до Комоэ в гамаке. Господин Трейш-Лаплен чувствовал себя немногим лучше. Итак, двум товарищам пришлось отказаться от горячего желания отправиться на запад к реке Аттакру, чтобы совершить по ней путешествие в пироге и составить лоцию.
Плаванье на пироге по Комоэ оказалось не легче остального путешествия — по дороге случилось множество происшествий, о которых сейчас слишком долго рассказывать. Из-за порогов и стремнин путешественникам приходилось проводить в пироге на солнцепеке целые дни (!). Более того — им ни разу не удалось совершить дневной переход на одной и той же пироге. Деревни здесь почти все враждуют друг с другом, и лодочники не смели заходить на участок реки, принадлежащий соседям. Поскольку же деревни стоят очень тесно, товарищам по три, по четыре раза на дню приходилось менять суденышки с гребцами.
В здешних краях существует один нелепый обычай: земляки несут солидарную ответственность — все отвечают за действия одного. Например: некто, живущий в верховьях реки, задолжал кому-то, обитающему ниже по течению. И вот если любой житель верховой деревни, будь он хоть совершенно посторонний должнику, попадет случайно в низовую деревню, его непременно возьмут в заложники с конфискацией всех товаров до полной уплаты долга. Воображают, будто такая солидарность способствует торговле и взаимным отношениям!
В таких условиях понадобилось целых три недели, чтобы достичь деревни Беттие, расположенной милях в шестидесяти к северу от Гран-Бассама. Вождь деревни, умница Бенье-Комье, прислал изможденным путешественникам ящик галет и несколько бутылок вина. Несколько стаканов благородного напитка — возлюбленного чада старой Франции — вдруг взбодрили товарищей и, как весело замечает капитан, немало поддержали дух.
«Этот вождь, — продолжает отважный исследователь, — который еще в 1887 году вошел благодаря господину Трейш-Лаплену в число наших верных союзников, принял нас весьма радушно и предоставил в наше распоряжение собственный дом — нечто вроде двухэтажного шале[481], выстроенного на европейский манер, с верандой и балконом. Две довольно удобные кровати позволили нам немного отдохнуть, пока мы готовились плыть дальше вниз до Алепе. Там нас должна была ждать французская канонерка “Алмаз”, несущая службу на Комоэ ниже Алепе и приводящая к повиновению беспокойные племена вокруг лагуны Эбрие.
Путь от Беттие до Моламолассо мы частично прошли по суше, поскольку русло Комоэ так загромождено обломками скал, что пироги не могут пройти по нему даже в паводок.
От Моламолассо мы плыли к Алепе с четырех часов утра до полуночи. И вот показался светлый силуэт “Алмаза”. С весьма радостным чувством ступил я на палубу небольшого французского судна… По приказу капитана старший боцман переворошил весь камбуз[482], чтобы как можно лучше принять нас.
На другой день после этого радостного события судно направилось вниз к Гран-Бассаму. За час до прибытия я спустился в каюту. Около полудня, к великой радости, я увидел наконец в иллюминатор, как морские волны плещутся о берег и над факторией Вердье развевается наш родной национальный флаг. В фактории я встретил самый радушный прием и самое щедрое гостеприимство, какие только можно пожелать. Я был изможден до последней степени, но добрый прием способствовал поднятию моего духа, и я смог безопасно перенести морское плавание — иначе из-за слишком резкого контраста оно могло бы плохо для меня кончиться…
Еще несколько недель — и вот я в Сенегале, во Франции, в Париже!»
Это великолепное путешествие, которое, как мы уже говорили, выдвинуло капитана Бенже в первые ряды путешественников нашего времени, было исключительно плодотворно не только с точки зрения чистой географической науки, но и с промышленно-торговой, столь важной для процветания нашей страны.
Неустрашимый путешественник все видел, все записал, все запомнил. С несравненной ясностью и отчетливостью — нельзя не удивляться им у солдата, которому могли быть чужды подобные качества, — он предоставил дотошнейший отчет о местных ресурсах, нуждах, произведениях не хуже, чем торговый агент, съевший собаку на подобных делах.
Одна часть его отчета так полна и говорит о столь здравой и верной способности суждения, что я не могу противиться удовольствию в самом сжатом виде пересказать ее.
Разделив мысленно все огромное пространство, которое обошел господин Бенже, на четыре зоны с севера на юг, мы получим:
1. Область, прилегающую к Томбукту — там, где проходит воображаемая граница, отделяющая от черной расы белую, представленную арабами. Это область равнин с превосходными пастбищами; арабов там мало. Жители питаются кускусом из проса и сорго. Фрукты — финики и папайя. Технические культуры — хлопок и индиго. Здесь выращивают скот на продажу: быков, баранов, ишаков, лошадей.
2. Вторая зона, с более пересеченным рельефом, может быть разделена на возвышенности и низменности. На возвышенностях возделывают просо и сорго, добывают железную руду. На низменностях диким образом растут прекрасные деревья, в частности, баобаб и масличное дерево. Культуры — рис, кукуруза, табак.
3. Чем дальше продвигаешься к югу, тем роскошней становится растительность. Туземцы здесь возделывают ямс, хлопок, индиго, табак, сажают дерево кола, орехи которого, как мы знаем, суть лучший предмет меновой торговли наряду с солью. Почти везде очень много золота.
4. Четвертая зона, расположенная между третьей и морем, — сплошная стена почти непроходимого леса. Проход приходилось прорубать саблями. Туземное население питается маниокой, бананами, кукурузой. Эта область дает много золота, пальмового масла и кофе.
Из беглого перечня следует, что вся страна в высшей степени благоприятна для сельского хозяйства, то есть для выращивания не только африканских продуктов, но и европейских, которые здесь можно акклиматизировать — особенно тех, которые при малом объеме имеют высокую ценность. Отдача будет огромна, а прибыль неисчислима, ибо сила растительности здесь поистине неимоверна.
В путях сообщения недостатка не будет. В самом деле, что нужно местным жителям? Иметь по безопасным дорогам доступ к побережью, чтобы обменять золото на наши товары или пустить нашу мануфактуру к себе.
Так как Конг и Дженне — два важнейших торговых центра, нашим коммерсантам необходимо снабжать товаром именно эти два города: либо посылать негритянских торговцев, либо переманивать людей из Дженне в Бамако, а из Конго в Гран-Бассам. Это элементарно и не требует лишних доказательств.
А возможно ли это? Вполне! Проложив надежные дороги в глубь материка, мы, так сказать, притягательной силой неведомого вынудим туземцев внутренних районов материка прийти в наши фактории — ведь люди там лучше одеты, носят украшения и живут богаче. Кроме того, африканцы увидят склады и захотят купить товары, которые бродячий купец не взял бы с собой, опасаясь не найти сбыта.
Племена, столь недавно ставшие известными, симпатизируют нам и хорошо чувствуют, что рано или поздно (скорее рано, чем поздно) войдут в общение с цивилизованными нациями. Как только мы увидим, что они нам не враждебны, следует воспользоваться их расположением и мирным путем покорить.
«Это нетрудно», — говорит капитан Бенже и бросает в заключение призыв к нашей молодежи, взоры которой все более и более обращаются к дальним краям, где жизнь легка и вольна, труд благодарен, свобода неограничена.
«Направимся к Сенегалу, — говорит он, — к берегам Гвинеи! Создадим там конторы и будем поддерживать наилучшие отношения с нашими новыми союзниками.
Больше всего я хотел бы видеть, что молодых людей поощряют отправиться в дальние края, — это лишь послужило бы славе и благоденствию Франции. Конечно, такие походы не проходят без тягот, но дают и много удовлетворения. Сколько юношей, прозябающих во Франции, могли бы там сколотить состояние и одновременно принести пользу родной стране!
У каждого, конечно, свое представление о счастье, но неужели те, кто прежде меня и подобно мне на долгие годы оставили все, чтобы увеличить нашу славу и запас географических познаний, не счастливы?
Конечно да! И я думаю, это не худший род счастья, ибо лучший способ почувствовать жизнь — переносить лишения!»
Примечания
На русском языке публикуется впервые.
(обратно)1
Рассказ Л. Буссенара о путешествиях Г. Стенли сверен с русским изданием: Генри Стенли. В дебрях Африки. Москва, 1958.
(обратно)2
Кондотьер — предводитель вооруженного отряда разноплеменных наемников, характерного для политической жизни Италии XIV–XVI веков и нередко существенно влиявшего на исход политической борьбы.
(обратно)3
Конкистадоры (исп. «завоеватели») — отряды разношерстных авантюристов, устремившихся после плаваний X. Колумба в Новый Свет в надежде на быстрое обогащение; отличались невиданной жестокостью. При этом проявляли недюжинную выносливость, искусную военную выучку и отменное личное мужество (некоторые из них к тому же совсем не лишены были любознательности).
(обратно)4
Автор ошибается: Стенли родился 28 января 1841 года.
(обратно)5
Конфедератами в США в годы Гражданской войны 1861–1865 годов называли жителей южных штатов, сторонников выхода из федеративного государства и образования независимой от промышленного Севера конфедерации.
(обратно)6
Битва под Питерсбергом — осада федеральными войсками («северянами») городка Питерсберг (с июля 1864 г. по 2 июля 1865 г.), в котором были окружены последние силы армии конфедератов («южан»). Капитуляция окруженных войск конфедератов означала конец Гражданской войны в США.
(обратно)7
Хэнкок Уинфилд Скотт (1824–1886) — генерал федеральной армии, выдающийся военачальник времен Гражданской войны.
(обратно)8
Чейены — индейский народ из группы алгонкинов. Под «экспедицией» автор, очевидно, понимает неспровоцированное нападение на лагеря мирных чейенов в Эш-Холоу и Сэнд-Крик, где армейские части перебили женщин и детей.
(обратно)9
Кайова (или киова) — самое воинственное племя на юге прерий; их язык близок к языку индейцев-пуэбло.
(обратно)10
Абиссиния — принятое в Европе вплоть до середины XX века название Эфиопии.
(обратно)11
Вулсли Гарнет Джозеф (1833–1913) — английский фельдмаршал (в то время только генерал). В Эфиопии он не был, поскольку служил тогда в Канаде, а в Африку его перевели только в 1873 году. Английскими войсками, высадившимися в Эфиопии в декабре 1867 года, командовал генерал Роберт Нэпир (1810–1890), также впоследствии ставший фельдмаршалом, герой многих колониальных войн. После эфиопской кампании был прозван Нэпиром Магдальским.
(обратно)12
Негус Теодрос — император Эфиопии Теодрос II (правил в 1855–1868 гг.). До провозглашения императором носил имя Каса. Сын мелкопоместного феодала из Куары, которому в 1853 году удалось захватить власть и два года спустя провозгласить себя императором («негус негешти» — букв.: «царь царей») объединенной Эфиопии. Покончил с собой в день взятия англичанами крепости Магдалы и через 3 дня после решающего поражения его войск.
(обратно)13
Магдала — крепость в Эфиопии, взятая англичанами 13 апреля 1868 года.
(обратно)14
Изабелла II — до провозглашения королевой (в 1833 г.) носила имя принцессы Марии-Луисы (1830–1904). В 1868 году в результате народного восстания была свергнута с престола, после чего началась двухлетняя гражданская война.
(обратно)15
Мартинес-Кампос Арсенио (1831–1900) — испанский государственный и военный деятель, впоследствии маршал.
(обратно)16
Хедив — титул правителя (вице-короля) Египта, присвоенный правительством Османской Турции в 1867 году Исмаил-паше.
(обратно)17
Речь идет о посещении мест боев Крымской войны 1853–1856 годов.
(обратно)18
Сорго — однолетнее травянистое растение семейства злаков; культура разнообразного использования (зерновая, кормовая и техническая). Солома сорго используется в качестве сырья для производства бумаги, картона, веников и т. д.
(обратно)19
Доброе утро (англ.).
(обратно)20
Роулинсон Генри Кресуик (1810–1895) — известный английский востоковед, крупнейший специалист по истории древней Ассирии. Член Лондонского географического общества с 1844 года, дважды избирался президентом этого общества: в 1871–1872 и 1874–1875 годах.
(обратно)21
Похоже, автор ошибся: знаменитого географа по фамилии Риперт (Riepert) в Германии не было — по крайней мере, самые солидные по объему биографические справочники о человеке с такой фамилией не упоминают. Возможно, Л. Буссенар имел в виду Риттера, но в таком случае речь идет не о прославленном на весь мир Карле Риттере, признанном классике географической науки, умершем в сентябре 1859 года, а о его куда менее известном однофамильце и тезке — теологе, библиотекаре и географе, жившем в 1804–1878 годах.
(обратно)22
Лорд Гренвилл — Джордж Левесон-Гоуэр, граф Гренвилл (1815–1891), министр иностранных дел в кабинете либерала Уильяма Гладстона в 1870–1874 и 1880–1885 годах.
(обратно)23
Уошберн Элихью Бенджамин (1816–1887) — американский конгрессмен и дипломат.
(обратно)24
К 27 апреля относится последняя запись в дневнике Ливингстона. Умер великий исследователь утром 1 мая 1873 года.
(обратно)25
Камерон Верни Ловетт (1844–1894) — морской офицер, путешественник по Африке. В 1876 году за африканские исследования получил золотую медаль Географического общества; автор книг о путешествиях по Черному континенту.
(обратно)26
Англо-ашантийские войны — захватнические войны Англии против государства Ашанти. Истории известно 7 войн — с 1805 по 1896 год. В результате Ашанти попало под английский протекторат. В данном случае автор говорит о 6-й англо-ашантийской войне (1873–1874 гг.).
(обратно)27
Во Франции в течение длительного времени географическую долготу измеряли от Парижского меридиана, а не от Гринвичского, как это было принято в остальном мире. Разница составляет около 2°10′.
(обратно)28
Карабин — укороченная и облегченная винтовка.
(обратно)29
Мажордом — дворецкий, старший лакей, управляющий богатым домом.
(обратно)30
Burdo A. Stanley, sa vie. (Примеч. автора.)
(обратно)31
Смирненский ковер — ковер, изготовленный в малоазийском городе Измир (Смирна), расположенном на побережье Эгейского моря и являющимся одним из ведущих центров ближневосточного ковроткачества.
(обратно)32
Феска — головной убор в виде усеченного конуса; часто снабжается шнуром с кисточкой; распространенный головной убор военных и гражданских чиновников Османской империи, особенно в Африке. Назван по имени марокканского города Фес.
(обратно)33
Статуя Рамсеса — одна из статуй фараона Рамсеса II, высеченных у входа в пещерный храм древнеегипетского владыки в Абу-Симбеле, на юге страны. Каждая из четырех скульптур сидящего царя достигает в высоту 20 м.
(обратно)34
Фивы (древнеегипет. Уасет) — одна из древних столиц Египта в XXI и XVII–VII веках до н. э.
(обратно)35
Гордон (Гордон — «Китаец») Чарлз Джордж (1833–1885) — о нем автор подробно рассказывает в последующих главах.
(обратно)36
Эмин-паша. — См. последующие главы.
(обратно)37
Униоро — одно из государств по восточному берегу озера Альберта.
(обратно)38
Мута-Нзиге — это название часто встречается на старых картах Африки. В данном случае речь идет об озере Эдуарда, открытом Стенли в 1876 году; жители Униоро называли это озеро Мвутан-Нзиге.
(обратно)39
Согласно древнегреческому мифу, после многих лет безуспешной осады Трои греки решили прибегнуть к хитрости: они притворились, что отводят от города войска, а перед воротами Трои оставили огромного деревянного коня — будто бы в подарок. Горожане беспечно ввезли сооружение в город, а ночью спрятавшиеся внутри деревянной скульптуры воины неслышно вышли и открыли ворота неприступной крепости для своих вернувшихся сотоварищей. Так была взята Троя.
(обратно)40
Правильно: Кабо-Реги; на местном наречии его титул назывался «мукама».
(обратно)41
Маньема — многочисленное племя банту, населявшее среднее течение реки Луалабы.
(обратно)42
Стенли-Пул (букв.: Заводь Стенли) — в русской географической литературе этот бассейн в окрестностях нынешней Киншасы (столицы Демократической Республики Конго), обычно называют озером Стенли.
(обратно)43
Саворньян де Бразза Пьер-Поль Франсуа Камилл (1852–1905) — родом итальянец, происходит из окрестностей Рима. В 1874 году поступил на службу во французский военный флот, принял французское гражданство. По различным районам Африки путешествовал около 30 лет; умер в Дакаре, возвращаясь из очередной экспедиции. О своих странствиях не опубликовал ни одной строчки.
(обратно)44
С 1879 по 1884 год.
(обратно)45
Хауса — народ в Судане (проживает на севере Нигерии, в Камеруне, Республике Нигер и других соседних странах). Общая численность — 24 млн. человек. Внешний облик различных групп хауса неоднороден, хотя в целом их всех относят к негроидной расе. Язык хауса входит в чадскую группу афразийской семьи и делится на ряд диалектов.
(обратно)46
Кабинда — одна из этнических групп народа конго (баконго), населяющего Демократическую Республику Конго, Анголу, Габон и другие страны Экваториальной Африки. Общая численность — около 7 млн. человек.
(обратно)47
Мехмед-Али (или Мухаммед-Али; 1769–1849) — албанец родом, турецкий военачальник, захвативший власть в Египте в 1805 году и удерживавший ее до самой своей смерти. В 30-е годы XIX века вел войны с турецким султаном, пытаясь добиться независимости Египта, но после вмешательства англичан потерпел неудачу и был вынужден подчиниться султану.
(обратно)48
Махди — по религиозным представлениям мусульман: спаситель, мессия. Здесь речь идет о Махди Суданском (настоящее имя — Мохаммед-Ахмед; 1848–1885), руководителе крупнейшего народного антиколониального восстания в Восточном Судане (1881–1898 гг.), направленного против владычества египтян и поддерживавших их англичан.
(обратно)49
Кордофан — одна из центральных провинций Судана (современной Республики Судан), расположенная на левобережье Нила.
(обратно)50
Токар — небольшой суданский городок близ побережья Красного моря.
(обратно)51
Дарфур — одна из западных провинций Судана, некогда — самостоятельное государство. Под «экваториальными» понимаются провинции Бахр-эль-Газаль, Верхний Нил и Экваториальная.
(обратно)52
Хартум пал 26 января 1885 года.
(обратно)53
Бахр-эль-Газаль — река в Судане (длиной 214 км), которая после слияния с рекой Бахр-эль-Джебель образует реку Бахр-эль-Абьяд (Белый Нил). Точно так же называется провинция на юго-западе современной Республики Судан.
(обратно)54
Бари — народ нилотской группы, входящей в негрскую расу; живет по берегам Белого Нила. Общая численность — около 600 тыс. человек; говорят на языке кутук на бари. Подразделяются на несколько племенных объединений.
(обратно)55
Динка (или дженг) — народ нилотской группы, проживающий в Южном Судане, на левом берегу Белого Нила; относится к негрской расе. Общая численность 2,5 млн. человек; говорят на языке динка.
(обратно)56
Юнкер Василий Васильевич (1840–1892) — русский путешественник, медик по образованию. Совершил три больших путешествия по Черному континенту: в 1873–1875 годах посетил страны Северной Африки, в 1876–1878 и 1879–1886 годах проводил исследования в Центральной Африке; почетный член Русского географического общества. Из Хартума вместе с дневниками Эмин-паши добрался до Занзибара. Книгу о своих путешествиях выпустил на немецком языке; в 1949 году на русском языке вышел ее сокращенный перевод.
(обратно)57
Маккиннон Уильям (1823–1893) — шотландский путешественник и колониальный администратор.
(обратно)58
Альбион — поэтическое название Англии.
(обратно)59
Стэрс Уильям Грант (1863–1892) — офицер британской армии, в Африке с 1886 года, участник нескольких экспедиций, погиб на обратном пути из Катанги.
(обратно)60
Бартлот Эдмунд Масгрейв (1859–1888) — офицер британской колониальной армии.
(обратно)61
Джемсон Джеймс Слиго (1865–1888) — британский натуралист, путешественник, погибший от лихорадки; его африканский путевой дневник издан в 1890 году.
(обратно)62
Пэрк Томас Хизл (1857–1893) — военный врач по профессии; много путешествовал по Африке.
(обратно)63
Фирман — султанский указ или постановление в Османской империи.
(обратно)64
Матади расположен в 165 км от океана.
(обратно)65
Баптисты — приверженцы одной из разновидностей протестантизма. Протестантизм — одно из трех, наряду с католицизмом и православием, главных направлений христианства.
(обратно)66
Отряд Стенли подошел к Ямбуйе 14 июня.
(обратно)67
В книге Г. Стенли «В дебрях Африки» общий состав отряда определен в 389 человек.
(обратно)68
В дневнике Стенли говорится лишь о ранениях, полученных участниками экспедиции. Некоторые из раненых позднее умерли, как это видно из дальнейшего изложения.
(обратно)69
Угарруэ — так туземцы называли араба по имени Уледи Балиуз, под начальством которого находилось несколько сот вооруженных воинов. Однако ставка его, как отмечал 31 августа в своем дневнике Стенли, находилась в восьми днях пути от места стоянки экспедиции. До этой ставки американец добрался только 16 сентября.
(обратно)70
На самом деле река называется Итури.
(обратно)71
В оригинальной версии дневника — пять долларов.
(обратно)72
В дневнике Стенли это выступление отнесено к 19 сентября.
(обратно)73
14 октября Джефсон привез кукурузу, и каждому белому досталось по 12 чашек кукурузных зерен, что спасло европейцев от голодной смерти.
(обратно)74
Неточность автора: в дневнике Стенли указано, что из Ямбуйи выступило 389 человек; учитывая оставленных в разных местах больных, начальник общее число оставшихся в живых определял в 268 человек. Таким образом, за 139 дней пути «мы потеряли 121 человека».
(обратно)75
Так у Буссенара; Стенли называет этого князька Мазамбони.
(обратно)76
Название лагеря «Бодо» переведено Стенли как «Миролюбивый».
(обратно)77
Тунгуру — селение близ озера Альберта.
(обратно)78
Ирония автора здесь неуместна: 11 мая Джефсон заболел желтой лихорадкой; не вполне оправившись от болезни, он не мог продолжать путь и был оставлен на попечение Эмин-паши.
(обратно)79
Автор ошибается: согласно дневнику Стенли, Эмин-паша нанял для него 130 носильщиков из племени мади.
(обратно)80
По словам Стенли, из 56 человек, в живых остались 30. Из этих «30 печальных скелетов» 14 человек умерли по дороге, да одного оставили в Ипото. Таким образом, до форта Бодо дошли только 15 человек. Однако гарнизон форта Стенли нашел «в довольно приличном виде».
(обратно)81
По более современным антропологическим исследованиям, средний рост акка составляет 140 см.
(обратно)82
В дневнике Стенли сообщает, что 17 января он отправил письма Эмин-паше и Джефсону с извещением о своем прибытии на берег озера. Джефсон появился в лагере Стенли 6 февраля, а одиннадцать дней спустя пришел караван Эмин-паши.
(обратно)83
Караван Стенли выступил к Занзибару, в общем направлении от Кавалли на юго-восток, 10 апреля. Число находившихся в караване людей достигало 1510.
(обратно)84
В этот день караван Стенли встретился с германским поручиком Рохом Шмидтом, комендантом небольшого форта на станции Мпуапуа; ни о какой разыскной партии путешественник в своем дневнике не упоминает.
(обратно)85
Малезия — под этим названием европейские географы XIX — начала XX века понимали Малайский архипелаг, включая Большие и Малые Зондские, Филиппинские и Молуккские острова, а также множество более мелких островных групп; иногда сюда же причисляли острова западной части Тихого океана — всю Меланезию и отдельные микронезийские архипелаги.
(обратно)86
Кохинхина — устаревшее (с колониальных времен) название южной части Вьетнама; современное название — Намбо.
(обратно)87
Сенегамбия — старое название французских владений в Западной Африке, между реками Сенегал и Гамбия. Большая часть этих земель вошла впоследствии во французскую колонию Сенегал (ныне — независимая Республика Сенегал).
(обратно)88
Бувье Эжен Луи (1856–1944) — видный французский зоолог; во время написания книги — профессор Музеума, позднее — президент Французского зоологического общества и Французского энтомологического общества, участник океанографических экспедиций, с 1926 года — президент Парижской академии наук.
(обратно)89
Эме Антуан Мари Огюст (1839 — после 1893) — морской офицер и исследователь Габона; его отчет об африканском путешествии опубликовали в 1864 году в «Бюллетене Парижского географического общества».
(обратно)90
Мальтбрен Виктор Адольф (1816–1889) — французский географ.
(обратно)91
Ружье «Гра» — однозарядная винтовка системы «Гра» образца 1874 года, разработанная капитаном (впоследствии — генерал; 1837–1901). Использование латунных гильз позволило применить боек и устранило возможность прорыва пороховых газов при выстреле.
(обратно)92
Пахуины — другое название этнической группы фанг (см. гл. XXIX).
(обратно)93
Батеке (теке, дзинг; самоназвание — тио) — народ группы банту, проживающий в приграничных районах современных государств Конго и Демократическая Республика Конго. Общая численность — около млн. человек.
(обратно)94
Тюильри — королевский дворец в Париже, построенный в 1564 году, уничтоженный пожаром в 1871 году.
(обратно)95
Сюзерен — в средневековой Европе так назывался земельный собственник, являвшийся государем по отношению к зависимым от него феодалам.
(обратно)96
Современное название этого города — Киншаса. Сегодня — столица Демократической Республики Конго.
(обратно)97
Джве — река, впадающая в Конго напротив Киншасы.
(обратно)98
Примерно в 150 км северо-западнее Браззавиля начинается река Ниари, левый приток Квилу.
(обратно)99
Лоанго — поселок на берегу Атлантики в современной габонской провинции Квилу, примерно в 20 км северо-западнее города Пуэнт-Нуар.
(обратно)100
Фунт — здесь: английская единица веса, равная 453,6 грамма.
(обратно)101
Сорбонна — популярное название Парижского университета, данное по одному из старейших его коллежей, основанному священником Робером де Сорбоном (1201–1274).
(обратно)102
Шербюлье Виктор (1829–1899) — французский романист и публицист швейцарского происхождения.
(обратно)103
Гарпагон — главный герой комедии Мольера «Скупой».
(обратно)104
Лопес — мыс в современной провинции Приморское Огове (Республика Габон), к северу от устья реки Огове; близ него расположен Порт-Жантиль.
(обратно)105
Орден Почетного легиона — высшая награда Французской Республики. Учрежден 19 мая 1802 года. Орденом награждаются как военные, так и гражданские лица.
(обратно)106
Давид Ливингстон родился 19 марта 1813 года в Шотландии, в небольшой деревушке возле городка Блентайр, в семье мелкого торговца.
(обратно)107
Вергилий (70–19 до н. э.) — великий древнеримский поэт, автор эпической поэмы «Энеида», посвященной подвигам царевича Энея, мифического родоначальника римлян.
(обратно)108
Гораций (Квинт Гораций Флакк; 65–8 до н. э.) — великий древнеримский поэт, автор многочисленных од, сатир и посланий; крупнейший из античных теоретиков поэтического искусства.
(обратно)109
Бостон Томас (1677–1732) — шотландский религиозный мыслитель.
(обратно)110
Уилберфорс Генри Уильям (1807–1873) — католический писатель и журналист, редактор религиозного журнала «Catholic standard» («Католическое знамя»).
(обратно)111
Дик Томас (1774–1857) — религиозный мыслитель и писатель.
(обратно)112
Англиканская церковь — государственная церковь Англии; одна из протестантских церквей. Ее обряды и организационные принципы ближе к католической церкви, чем у других протестантских церквей.
(обратно)113
Пресвитериане — умеренные пуритане (как назывались с XVI века сторонники кальвинизма, одного из главных направлений протестантства, в Англии и Шотландии), первоначально — приверженцы партии, выражавшей интересы крупной лондонской буржуазии. Как религиозное течение пресвитерианство сохранилось в Англии, Шотландии и США.
(обратно)114
Индепенденты — наиболее радикально настроенная часть пуритан. В период Английской буржуазной революции — политическая партия, выражавшая интересы средней торгово-промышленной буржуазии и части обуржуазившегося дворянства.
(обратно)115
Имеется в виду англо-китайская война 1840–1842 годов.
(обратно)116
Буссенар ошибается: с Робертом Моффетом Ливингстон познакомился еще в Лондоне, осенью 1840 года. В Куруман Ливингстон прибыл 31 июля 1841 года.
(обратно)117
Брак с Мэри Моффет был заключен в 1844 году.
(обратно)118
В дальнейшем авторский текст сверен с книгой Д. Ливингстона, которая в русском переводе вышла в 1955 году под заглавием «Путешествия и исследования в Южной Африке». При необходимости в текст Буссенара внесены изменения.
(обратно)119
Бечуаны — старое название народа тсвана, входящего в языковую группу народов банту, насчитывающего в настоящее время около 4 млн. человек и населяющего государство Ботсвана, а также пограничные районы ЮАР и Зимбабве. Известны также под названиями чуана и западные сото; язык — сетсвана (сечуана).
(обратно)120
Термитник — разновидность гигантского гнезда, заселенного колонией термитов (белых муравьев); наземные части термитника отличаются самыми разнообразными (порой — причудливыми) формами и могут достигать в высоту до 15 м.
(обратно)121
Макололо — народность, входящая в народ суто (басуто), основное население государства Лесото; как и все суто, относятся к негрской группе народов банту.
(обратно)122
Буры (гол. «крестьяне») — переселенцы из Нидерландов, обосновавшиеся начиная с XVII века на юге Африки. Сейчас потомки буров выделяются в особую нацию африканеров. Африканеры живут главным образов в ЮАР, численность их достигает 3 млн. человек; говорят на языке африкаанс, представляющем собой смесь диалектов нидерландского языка, ряда западноевропейских языков и некоторых местных, африканских языков.
(обратно)123
Балонда (правильно: балондо) — этническая общность, распространенная в Анголе и относимая обычно к народу ньянеке, входящему в группу банту.
(обратно)124
Нжамби — один из князьков племени чибокве.
(обратно)125
Маниок — род растений семейства молочайных. В пищу употребляют корни растений.
(обратно)126
«Здесь пар издает шум» (на языке народности макололо).
(обратно)127
Баобаб (Adansonia digitata) — дерево семейства бомбаксовых. Одно из самых толстых деревьев — окружность ствола достигает 25 м, высота обычно составляет 12 м, в редких случаях достигает 18 м. Живет до 5 тыс. лет, хотя некоторые ботаники ставят столь почтенный возраст под сомнение, поскольку годовые кольца у баобабов отсутствуют.
(обратно)128
В дневнике Ливингстона размеры водопада Виктория определены несколько иначе: ширина 1000 ярдов, что соответствует 914 м (позднее исследователь уточнил ширину реки в районе водопада, определив ее в 1860 ярдов), высота — 100 футов, или 30,5 м [позднее — 310 футов, тогда как ширина теснины после водопада определена в 15–20 ярдов (13–18 м)].
(обратно)129
Д. Ливингстон считает, что разлом тянется на 30–40 миль, а вовсе не километров.
(обратно)130
У макололо, как пишет Ливингстон, есть и другое название водопада — Шонгве; значение этого названия исследователь установить не мог (он колебался между словом «горшок» и выражением «кипящий котел»). Видимо, вариантом этого названия было более древнее — Сеонго (Чонгуэ), что можно перевести как «радуга», «место радуги».
(обратно)131
Мегатерий — ископаемое млекопитающее, гигантский наземный ленивец с туловищем, достигавшим в длину 6 м. Его костные останки найдены в Северной и Южной Америке.
(обратно)132
Это вовсе не так: муха цеце является переносчиком трипанозомы, возбудителя сонной болезни у человека.
(обратно)133
Северная протока дельты Замбези, о которой здесь идет речь, у Ливингстона названа Муту.
(обратно)134
Рассказ Л. Буссенара об очередном путешествии знаменитого шотландского исследователя сверен с русским переводом отчета об этой экспедиции (Д. Ливингстон, Ч. Ливингстон. Путешествие по Замбези с 1858 по 1864 годы. Москва, 1956); в необходимых случаях в авторский текст внесены изменения.
(обратно)135
Обследование дельты Замбези проходило под руководством топографа экспедиции морского офицера Френсиса Скида.
(обратно)136
Первые 20 миль (считая от устья) Конгоне течет по мангровым джунглям, где преобладают различные виды мангровых деревьев, то есть растений с дыхательными корнями, поднимающимися над почвой и обеспечивающими дыхание, а также с ходульными корнями, служащими для укрепления в илистой почве.
(обратно)137
Индиго — органический синий краситель, получавшийся прежде из тропического кустарника индигоноски.
(обратно)138
Сажень — старинная мера длины; во французских военно-морских силах при измерении глубин применялись либо малая сажень (равная 5 футам, или 152 см), либо большая сажень (6 футов, или 183 см).
(обратно)139
Мёрчисон (устар. — Мурчисон) Родерик Импей (1792–1871) — известный английский геолог, который в это время был председателем Королевского географического общества.
(обратно)140
Фут — единица длины в системе английских мер; равен 30,48 см.
(обратно)141
Сам Д. Ливингстон пишет несколько иначе: «Яйцо варилось… примерно столько времени, сколько нужно, чтобы сварить в обыкновенном кипятке».
(обратно)142
Д. Ливингстон упоминает лишь о кольцах диаметром два дюйма, то есть 5 см.
(обратно)143
Коди! — Ну, конечно! (на языке манганджа)
(обратно)144
Ботокуды (боруны) — почти целиком истребленное индейское племя, жившее в прошлом в Восточной Бразилии. К середине XX века уцелела (в резервациях) только незначительная часть ботокудов.
(обратно)145
Мушкет — ручное огнестрельное оружие с фитильным замком. Впервые появилось в начале XVI века в Испании; имело калибр около 20 мм, вес — 8–10 кг. В конце XVII века вытеснено кремневыми ружьями.
(обратно)146
Клоака — место, загрязненное нечистотами (по названию канализационной канавы в древнем Риме).
(обратно)147
Барды — странствующие поэты и певцы у древних кельтов, живших главным образом на территории современных Ирландии и Шотландии.
(обратно)148
Миля — имеется в виду английская сухопутная (уставная, статутная) миля, равная 1609 м.
(обратно)149
Самоназвание батока — батонга («независимые»), а также баленджи.
(обратно)150
Буссенар ошибся. В книге великого путешественника упоминается племя бауэ (ба селеа), часть народа батока; представители этого племени в обиходе нередко называли себя «паэнда пези», что Д. Ливингстон перевел как «ходящие голышом».
(обратно)151
Менестрель — средневековый поэт-певец и музыкант (преимущественно — во Франции).
(обратно)152
Аполлон — древнегреческий бог-целитель, бог-прорицатель, почитавшийся и как покровитель искусств, в том числе поэзии. Позднее стал отождествляться с богом солнца.
(обратно)153
«Одиссея» — древнегреческая эпическая поэма о странствиях и злоключениях одного из героев Троянской войны Одиссея, имя которого стало нарицательным при упоминании об опасных, полных всевозможных приключений путешествиях.
(обратно)154
В своем втором путешествии Ливингстон более точно измерил ширину Замбези («немного больше 1860 ярдов», т. е. около 1700 м), высоту водопада, оказавшуюся «вдвое больше, чем у Ниагарского» (около 360 футов, или 108 м), а также размеры ущелья реки ниже водопада.
(обратно)155
«Адский камень» (pierre infernale) — французское название ляписа (азотнокислого серебра), применявшегося в медицине как прижигающее средство (отлитым в палочки или в растворе). Ливингстон и доктор Кэрк с помощью Мамире, дяди вождя, «попробовали наружное применение ляписа и дали внутренний раствор углекислого камня».
(обратно)156
Как уже упоминалось, Ливингстон умер 1 мая 1873 года.
(обратно)157
Серпа-Пинту Алешандри Алберту да Роша (1846–1900).
(обратно)158
Лузитания, т. е. Португалия, получила название от племени иберов, населяющих юго-западную часть Пиренейского полуострова (большую часть современной Португалии).
(обратно)159
Ирландия до 1949 года считалась подвластной Англии территорией.
(обратно)160
Следует осторожно относиться к выпадам автора по отношению к англичанам и возвеличиванию им противников Великобритании.
(обратно)161
Счастье покровительствует смелым (лат.) — строка из эпической поэмы «Энеида» римского поэта Вергилия.
(обратно)162
От Парижского меридиана. (Примеч. перев.)
(обратно)163
Кимбанди (правильно: кимбунуду) — народ группы банту, проживающий в Анголе. Общая численность составляет около 2 млн. человек. Окружающим народам больше известны как «амбунуду».
(обратно)164
Каури — раковины были одной из древнейших меновых ценностей, заменявших многим народам мира звонкую монету; каури — туземное название раковин моллюсков вида Сургеа, с давних пор служивших заменителями металлических денег сначала на побережье Средиземного моря, а потом — и во внутренних районах Африки.
(обратно)165
Лучази — народ группы банту, проживающий в Анголе и Замбии; общая численность — около 200 тыс. человек.
(обратно)166
Антилопа кишобу — судя по описанию, речь идет об одной из водяных антилоп (род Kobus), скорее всего — о водяном козле (Kobus allipsiprymus).
(обратно)167
Баротсе — одно из названий народа лози (самоназвание: луйяна, «речные люди»), относящегося к группе народов банту. Живут главным образом в Замбии, их современная численность — 700 тыс. человек; говорят на языке лози.
(обратно)168
Матабеле — народ группы банту, живущий на юго-западе современного Зимбабве; численность около 1,5 млн. человек.
(обратно)169
Автор ошибается. Разрывные нитроглицериновые пули в 70–90-е годы XIX века не существовали (они практически не применяются и в современном стрелковом оружии), так как нитроглицерин взрывается даже при слабом ударе. Скорее всего, речь идет о разрывных пулях дум-дум, имевших крестообразный надрез или полость в головной части. Применение дум-дум запрещено Гаагской конвенцией 1899 года.
(обратно)170
Крааль — тип поселения у скотоводческих народов Юго-Восточной Африки. Хижины в краале расположены по кругу, центр которого служит загоном для скота; селение обнесено общей загородкой.
(обратно)171
Гуано (исп. guano) — залежи высохшего в сухом климате помета морских птиц. Используется как ценное органическое удобрение.
(обратно)172
Речь идет об одном из двух братьев д’Аббади — Антуане Томсоне (1810–1897) или Мишеле Арно (1815–1893). Братья получили известность после путешествий по Эфиопии; большую ценность представляли их труды по физической географии и языкознанию, обоих избрали академиками.
(обратно)173
Бёртон Ричард Френсис род. в 1821 г., ум. в 1890 г.
(обратно)174
Шартон Эдуар Тома (1807–1890) — французский литератор и политический деятель, основатель иллюстрированного журнала, посвященного путешествиям, «Тур дю монд» («Вокруг света»).
(обратно)175
Спик Джон Хеннинг (1827–1864) — исследователь Африки, открывший истоки Нила; дневники его путешествия к истокам великой реки были опубликованы в 1863 и 1864 годах.
(обратно)176
Тамаринд (тамаринд индийский) — дерево семейства бобовых с длинными съедобными плодами, находящими применение также и в медицине (как слабительное); разводится повсюду в тропиках.
(обратно)177
Сикомор — дерево из рода Ficus семейства тутовых высотой до 40 м. Культивируют из-за съедобных плодов.
(обратно)178
Жвалы (или мандибулы) — первая пара челюстей у ракообразных, многоножек и насекомых.
(обратно)179
Огнеземельцы — южноамериканские индейцы, жители Огненной Земли. В XVIII–XIX веках европейцы считали их одним из самых примитивных народов нашей планеты.
(обратно)180
Гоанцы — жители тогдашней португальской колонии Гоа на юго-западном побережье Индии.
(обратно)181
Белуджи — народ, живущий в Пакистане, Иране, Афганистане, а также в Туркменистане и Таджикистане; общая численность около 4,5 млн. человек (из них — около 3 млн. живут в Пакистане). Относятся к индосредиземноморской расе большой европеоидной расы.
(обратно)182
Кускус — традиционное блюдо кочевых арабов: поджаренная на растительном масле смесь муки (крупы) и мяса, скатанного в мелкие шарики.
(обратно)183
Паланкин — закрытые носилки в форме кресла или ложа.
(обратно)184
Турнюр — модная в конце XIX века принадлежность женского платья: подушечка, подкладывавшаяся под платье сзади ниже талии для придания фигуре пышности (то же название носила широкая юбка, предназначенная для ношения с такой подушечкой).
(обратно)185
Индийская армия — территориальное подразделение британских колониальных войск.
(обратно)186
Ассагай — метательное копье с укрепленным на нем железным наконечником, которое достигает в длину двух метров.
(обратно)187
Гофмейстер — придворная должность в Германии, в XIX–XX веках — почетный чин; придворный чин и должность в России (XVIII — начало XX века). Гофмейстер управлял придворным хозяйством, ведал дворцовым церемониалом и штатом придворных.
(обратно)188
Имеется в виду Соединенное Королевство Великобритании и Ирландии.
(обратно)189
Кафура — современное название этой реки — Кафу.
(обратно)190
Принц Уэльский — с 1301 года это титул наследника английского престола.
(обратно)191
Бейкер Самюэл Уайт род. в 1821 г., ум. в 1893 г.
(обратно)192
Джеймс Брюс (1730–1794) исследовал исток Голубого Нила в 1771 году.
(обратно)193
Медуза Горгона — персонаж эллинской мифологии, единственная смертная среди трех сестер Горгон, крылатых чудовищ, принявших женский облик; считалось, что взгляд Медузы превращает все живое в камень. Согласно мифу, Персей обезглавил Медузу, глядя в свой медный щит на ее отражение.
(обратно)194
Миазмы — испарения, которые, по старинным народным поверьям, вызывают заразные болезни.
(обратно)195
Как было позднее установлено, из озера Альберта вытекает так наз. Альберт-Нил, но не он является истоком великой африканской реки. Теперь за исток принимается впадающая в озеро Альберта река Кагера.
(обратно)196
Шиллуки (самоназвание — чоло) — один из нилотских народов Восточного Судана. Общая численность около 370 тыс. человек. Говорят на языке шиллук.
(обратно)197
Вулидж — одно из восточных предместий тогдашнего Лондона.
(обратно)198
Речь идет о восстании тайпинов, настоящей крестьянской войне, охватившей в 1850–1864 годах значительную часть Китая. Повстанцам удалось даже создать собственное государство со столицей в Нанкине. Однако в конце концов правительственной армии, пользовавшейся кадровой и материальной поддержкой западно-европейских государств и США, удалось подавить восстание.
(обратно)199
Мандарин — данное португальцами название чиновников феодального Китая. В современной отечественной и иностранной научной литературе слово «мандарин» не употребляется.
(обратно)200
В данном случае речь идет об одной из юго-западных провинций Судана.
(обратно)201
«Махди» переводится с арабского языка как «руководимый Аллахом», «посланник Аллаха» или «мессия».
(обратно)202
Бонго — группа племен, входящих в состав суданской народности багирми; иногда рассматривается как самостоятельная народность. Численность — 130 тыс. человек; язык относится к нило-сахарской семье.
(обратно)203
Мудир — чиновник, стоявший во главе египетской провинции (мудирии).
(обратно)204
Сеннар — город в центральной части Судана, на берегу Голубого Нила (в современной провинции Голубой Нил), центр одноименного округа, населенного главным образом народностью фунги. В XVI–XVIII веках — центр Сеннарского султаната.
(обратно)205
Стюарт Герберт (1843–1885) — генерал-майор британской армии; воевал в Индии, Египте, на юге Африки, в Судане.
(обратно)206
Ф. Левайан родился в Нидерландской Гвиане в 1753 году. Его основной научный труд носит название «Птицы Африки»; шесть томов сочинения выходили в свет в 1796–1812 годах. Кроме того, путешественник издал двухтомное описание своих работ в Африке (1790 и 1796 гг.; объединенное пересмотренное издание — 1819 г.).
(обратно)207
Автор ошибается: крайней южной точкой Африки является мыс Агульяш (Игольный), расположенный к юго-востоку от мыса Доброй Надежды под 34°50′ ю. ш. и 20° в. д.
(обратно)208
Готтентоты — низкорослые племена койсанской этнической группы; коренное население Южной Африки, почти уничтоженные неграми-банту и европейскими колонистами.
(обратно)209
Кафры (от араб. — «кяфир» — «неверный», язычник) — название, данное арабскими торговцами населению юго-восточного побережья Африки, состоящему в основном из негров-банту.
(обратно)210
Намакваленд — область в юго-западной Африке, некогда населенная готтентотами-намаква, расположенная по обе стороны от реки Оранжевой. Меньшая ее часть, простирающаяся к югу от реки, получила название Малого Намакваленда и стала частью британской Капской колонии (впоследствии — Капская провинция ЮАР). Земли к северу от Оранжевой были названы Большим Намаквалендом (ныне в составе Намибии), в конце XIX века они были захвачены немцами и вошли в состав Германской Юго-Западной Африки.
(обратно)211
Эльдорадо — страна, богатая золотом и драгоценностями, которую испанские завоеватели искали в XVI–XVII веках в Южной Америке. В переносном смысле — страна сказочных богатств.
(обратно)212
Каперами назывались моряки, занимавшиеся с ведома, а то и с прямого разрешения правительства своей страны захватом во время военных действий неприятельских торговых судов или же кораблей нейтральных государств, перевозящих грузы для неприятеля.
(обратно)213
Зарядный картуз — пакет из быстро сгорающей ткани для боевого заряда к артиллерийскому выстрелу при безгильзовом заряжании.
(обратно)214
Мертвый штиль — полное безветрие (на море).
(обратно)215
В описываемое время использовались не металлические, а бумажные патроны.
(обратно)216
Клавесин — старинный клавишно-струнный щипковый музыкальный инструмент, один из предшественников фортепиано.
(обратно)217
Констанц — город в Германии, на правом берегу Рейна, близ выхода реки из Боденского озера.
(обратно)218
Автор имеет в виду прежде всего античные статуи богини любви Венеры (греч. Афродиты), которые легли в основу греко-римского канона женской красоты.
(обратно)219
Музеум — парижский музей естественной истории, преобразованный в 1794 году из Парижского ботанического сада.
(обратно)220
Пятого мая 1789 года в условиях острого политического кризиса накануне Великой Французской революции в Версале открылись заседания Генеральных штатов (высший орган сословного представительства). 17 июня 1789 года депутаты третьего сословия объявили себя Национальным собранием, 9 июля — Национальное собрание провозгласило себя Учредительным собранием, ставшим высшим представительным законодательным органом Франции (уступило свое место 1 октября 1791 года вновь избранному парламенту — Законодательному собранию).
(обратно)221
Дреймен (англ. drayman) — ломовой извозчик.
(обратно)222
Нимврод (также — Нимрод, Немврод) — легендарный герой и охотник, упоминаемый в библейской книге Бытия (гл. 10, ст. 8–12). Его призвание охотника вошло в пословицы.
(обратно)223
Негоциант — оптовый купец, ведущий крупные торговые дела, главным образом с коммерсантами других стран.
(обратно)224
Наталь — британская колония на юго-востоке Африки, где в августе 1824 года было основано первое английское поселение в Южной Африке. В 1843 году Великобритания аннексировала Наталь. В 1856 году администрацию колонии переподчинили кейптаунским чиновникам. Сейчас Наталь — одна из провинций ЮАР.
(обратно)225
Ковбой (англ. cowboy, от cow — корова и boy — парень) — в Северной Америке пастух, стерегущий стада верхом на лошади.
(обратно)226
Мастодонт — гигантское ископаемое млекопитающее, близкий родственник современного слона.
(обратно)227
Канна — (Buselaphus oreas) — животное из ряда коровьих антилоп; в старину называлась также «элен».
(обратно)228
Оранжевая Республика, Трансвааль — во время написания книги были независимыми бурскими республиками; в настоящее время — провинции ЮАР.
(обратно)229
Имеется в виду два нареза в канале ствола.
(обратно)230
Кваггa (Equus quagga) — один из родов тигровых лошадей; близкая родственница обычной зебры, обитавшая в Капской колонии, Натале, и к северу от Калахари и в некоторых других районах Южной Африки. Последние дикие квагги уничтожены в 1878 году в степях Оранжевой Республики. Последняя квагга умерла в 1882 году в зоосаду Амстердама.
(обратно)231
Бохиния — дерево подсемейства цезальпиниевых семейства бобовых. Названо в честь швейцарских ботаников французского происхождения Жана Боэна (1541–1613), автора ботанической энциклопедии «Универсальная история растений» и Гаспара Боэна (1560–1624), автора одной из первых классификаций растений.
(обратно)232
Полка пороховая — часть фитильного или кремнёвого замка, на которую насыпался так наз. затравочный порох для производства выстрела.
(обратно)233
Андерсон — скорее всего автор имеет в виду известного британского ботаника Александера Андерсона (ум. в 1811 г.), проработавшего долгие годы в Вест-Индии. Но британская история знает и других путешественников, носивших эту фамилию: живший в XVII веке Джордж Андерсон посетил Персию, Индию и Китай, издав в 1690 году книгу о своих странствиях (на нем. яз.), Уильям Андерсон (умер в 1778 г.) — натуралист, участник второго кругосветного плавания Дж. Кука (1772–1775), Джеймс Андерсон (ум. в 1809 г.) — ботаник, служащий британской Восточно-Индийской компании.
(обратно)234
Ламартин Альфонс Мари-Лу де (1790–1869) — выдающийся французский политический деятель и журналист.
(обратно)235
В середине XIX века Турция (Османская империя) владела значительной частью Балканского полуострова.
(обратно)236
Тога — верхняя одежда древних римлян, род плаща или мантии; изготовлялась обычно из шерсти.
(обратно)237
Царь царей — перевод официального титула эфиопских монархов «негус негешти». В европейской и отечественной литературе эфиопского государя обычно величали императором.
(обратно)238
Абиссинцами европейцы называли всех жителей Эфиопии без различия национальностей. На самом деле негус был амхаром.
(обратно)239
Гаучо — аргентинский крестьянин, житель пампы.
(обратно)240
Ньюфаундленд — порода крупных служебных собак-водолазов.
(обратно)241
Годжам — эфиопская провинция к северо-западу от столицы страны Аддис-Абебы.
(обратно)242
Рас — титул эфиопского феодала, крупного землевладельца, осуществлявшего всю полноту власти на принадлежащей ему территории. Раса можно сравнить с удельным князем на Руси XII–XVI веков.
(обратно)243
Нубийцы — народ, живущий по берегам Нила, на севере Республики Судан и в южном Египте.
(обратно)244
Драгоман — переводчик при дипломатических представительствах и консульствах стран Ближнего и Среднего Востока.
(обратно)245
Бурнус — шерстяной плащ арабов-кочевников, снабженный капюшоном.
(обратно)246
Имеется в виду Великая Французская революция 1789–1794 годов.
(обратно)247
Копты — часть египетского народа, исповедующая особую разновидность христианства. Общая численность — около 1,5 млн. человек. Говорят на арабском языке, но в культовых целях используется коптский язык, восходящий к древнеегипетскому.
(обратно)248
Лье — старинная французская мера длины, обычно приравнивается к 4 километрам.
(обратно)249
Труверы — средневековые северофранцузские странствующие поэты-певцы.
(обратно)250
Нэпир Роберт Корнелис (1810–1890) — будущий фельдмаршал, прозванный за эфиопскую победу Нэпиром Магдальским.
(обратно)251
Гидрография — отрасль физической географии, занимающаяся изучением и описанием отдельных водных объектов, а также их совокупностей в определенных районах.
(обратно)252
Свилеватость — волнистое, витое расположение волокон в стволе дерева.
(обратно)253
Фашода — ныне это селение, расположенное на левом берегу Белого Нила, называется Кодок.
(обратно)254
Ниам-ниам (ньям-ньям) — народ, проживающий в Восточном Судане к юго-востоку от Дарфура, в долине Белого Нила и в бассейне реки Бахр-эль-Газаль. «Ниам-ниам», что означает «всепожирающие», прозвали их соседи. Самоназвание — сандехи.
(обратно)255
Диуры — шиллукское племя, эмигрировавшее на север Восточного Судана. Люди этого племени славились как отличные земледельцы и кузнецы.
(обратно)256
Мериленд — штат на северо-востоке США.
(обратно)257
Аллювиальные земли — земли, образованные в результате вековых отложений речных наносов.
(обратно)258
Латерит — глиноподобная кирпично-красная или бурая горная порода, состоящая из гидратов глинозема и окиси железа с примесью кварца; продукт выветривания в областях с тропическим и субтропическим климатом.
(обратно)259
Для готтентотских женщин характерны жировые отложения в области ягодиц (так называемая стеатопигия).
(обратно)260
Омонимы — одинаково звучащие слова разного значения.
(обратно)261
Эдем — согласно библейской легенде, земной рай, местопребывание человека до грехопадения.
(обратно)262
Антропофагия — людоедство.
(обратно)263
Альбинизм — отсутствие у организма нормальной для данного вида пигментации.
(обратно)264
Георг Швейнфурт скончался в Берлине 19 сентября 1925 года. Основные печатные труды путешественника (на немецком языке): «К исследованию флоры Эфиопии» (1867), «В сердце Африки» (2 тома, 1874), «Африканское искусство» (1875), «На нехоженых тропах Египта» (1922), «Африканские путевые записки» (1925). Кроме того, в 1888 году Швейнфурт принял участие в издании писем Эмин-паши.
(обратно)265
Полное имя путешественницы — Александрина Петронелла Франсиска.
(обратно)266
Л. Буссенар ошибается: Александрина Тинне родилась 17 октября 1835 года.
(обратно)267
Ориент — здесь: Ближний Восток.
(обратно)268
Мизантропия — человеконенавистничество.
(обратно)269
Феллахи — крестьяне-земледельцы в арабских странах.
(обратно)270
Амазонка — наездница (от имени мифического народа, состоявшего будто бы только из женщин-воительниц и жившего, согласно эллинским сказаниям, в Малой Азии).
(обратно)271
Блистательная Порта (или просто — Порта) — неофициальное название Османской (Турецкой) империи.
(обратно)272
Рольфс Герхард род. в 1831 г., ум. в 1896 г.
(обратно)273
Мальтийцы — основное население острова Мальта; в прошлом веке мальтийцы охотно эмигрировали в Алжир и Тунис. Бон — алжирский порт.
(обратно)274
Штойднер Герман род. в 1832 г., ум. в 1863 г.
(обратно)275
Хойглин Теодор фон род. в 1824 г., ум. в 1876 г.
(обратно)276
Смирна — современный Измир.
(обратно)277
Константинополь — западноевропейское название Стамбула.
(обратно)278
Феццан (Феззан) — историческая область в Ливии. Входил в состав средневековых арабских государств, но пользовался значительной автономией.
(обратно)279
Кукава — на большинстве старых отечественных и зарубежных карт этот город называется Кука. Такое же название дано и у Буссенара, однако в настоящее время чтение топонима приближено к местному произношению. Город основан в начале XIX века выходцем из Феццана Мухаммадом аль-Амином аль-Канами, женившимся на одной из борнийских принцесс и захватившим власть в стране.
(обратно)280
Борну — африканское государство, впервые упоминаемое в XIV веке и достигшее наивысшего могущества в XVI веке. Им управляли султаны из династии Сайфия, выходцы из Канема. Династия угасла в 1854 году, и страной стал править «шейх» Умар (Омар). В конце XIX столетия территорию Борну разделили между Великобританией, Францией и Германией.
(обратно)281
Вадаи — государство в Центральном Судане (на территории современного Чада), возникшее в начале второго тысячелетия новой эры и существовавшее до начала XX века.
(обратно)282
Бойрманн Мориц фон род. в 1835 г., ум. в 1863 г.
(обратно)283
Голландские справочные издания датой смерти Александрины Тинне называют 1 августа 1869 года.
(обратно)284
Нахтигаль Густав (1834–1885).
(обратно)285
Багирми — мусульманский султанат в Судане (на территории современной Республики Чад), с конца XVIII века постоянно находившийся в вассальной зависимости то от Борну, то от Вадаи. В настоящее время входит преимущественно в состав провинции Шари-Багирми Республики Чад.
(обратно)286
Борку — страна оазисов и степей на границе Сахары и Центрального Судана, к северо-востоку от озера Чад, с населением около 10 тыс. человек; оккупирована французскими войсками под командованием полковника Ларжо в 1913 году.
(обратно)287
Феллата — прозвище, данное жителями Борну, народам канури, пёлям (фульбе) и употреблявшееся по отношению к представителям этой обширной этнической группы во всем Восточном Судане. Несколько позже оно распространилось и на фульбе, живущих в Западном Судане.
(обратно)288
Сюзерен — в Западной Европе в эпоху феодализма так назывался земельный собственник, являвшийся государем по отношению к зависимым от него вассалам.
(обратно)289
Орехи гуру — плоды дерева колы (стеркулии).
(обратно)290
Муррая (правильно: меррея) — деревцо или кустарник с попеременно расположенными перистыми листьями и с метельчатыми соцветиями; назван в честь английского ботаника Дж. Меррея. В жарких странах культивируется Murraya exotica.
(обратно)291
Мезембриантемум (фикоид) — растение с противолежащими или попеременно расположенными листьями, с концевыми или расположенными вдоль продольной оси цветками; несколько напоминает некоторые виды кактусов.
(обратно)292
Каучуковое дерево — общее название деревьев, дающих каучук (без уточнения вида).
(обратно)293
Масляное дерево — ахра (Achras sapota), дерево, несколько напоминающее лавр, достигающее высоты 20–25 м. Характеризуется белым латексом (клеточным млечным соком) и съедобными плодами величиной с лимон. Другое название — сапотиловое дерево. Родина — Антильские острова, но культивируется повсюду в тропиках.
(обратно)294
Сейба (бомбакс, хлопковое дерево) — дерево из семейства бомбаксовых (Bombax seiba), дающее «капок», или шелковистые волокна, которыми набивают подушки и спасательные пояса. Растет в тропиках повсеместно, хотя родина его — тропическая Америка. В Африке сейба по величине превосходит все остальные деревья, достигая в высоту 45 м, в окружности ствола — 12 м. В некоторых местах ее называют «шелковичным хлопчатником»; этим названием охотно пользуется и автор в оригинале.
(обратно)295
Гифена (Hyphaene thebaica) — растение с разветвленным стволом и веерными листьями, высотой до 12–15 м; отличается тяжелой древесиной, из-за чего культивировалась еще древними египтянами. Растет в Северо-Восточной Африке, главным образом на песчаных почвах в долинах рек.
(обратно)296
Жужуба (Zizyphus) — род тропических деревьев и колючих кустарников; всего отмечено 65 видов. Здесь, видимо, речь идет о сенегальской жужубе, на которой живет суданский шелковичный червь. Из съедобных плодов жужубы приготавливают хмельной напиток.
(обратно)297
Ричардсон Джеймс (1806–1851) — член Английского общества противников рабства; в 1845 году путешествовал по Алжиру и Триполитании; экспедиция к озеру Чад была его вторым африканским путешествием; умер от лихорадки.
(обратно)298
Овервег Адольф род. в 1822 г., ум. в 1852 г.
(обратно)299
Аир — горный массив в Южной Сахаре (высшая точка 1944 м) в центральной и северной части современной Республики Нигер.
(обратно)300
Куртизанка — в Древнем Риме так назывались привилегированные женщины легкого поведения. В Европе нового времени — синоним проститутки.
(обратно)301
Слоновая болезнь — правильно: слоновость, или элефантиазис; заболевание, характеризующееся резким и стойким утолщением кожи и подкожной клетчатки.
(обратно)302
Канури — население Борну, продукт смешения негров с арабами и фульбе; в этногенезе участвовали и другие пришлые народности: хауса, тува и прочие. Как единый этнос сложились в Борну (XIV–XVII вв.); сейчас проживают в Нигерии, Чаде, Камеруне. Общая численность 4,7 млн. человек. Их язык (кануро) относится к нило-сахарской языковой семье.
(обратно)303
Фулани — одно из названий народа фульбе.
(обратно)304
Нупе — народ в Нигерии, относящийся к негрской расе; язык относится к конго-кордофанской семье.
(обратно)305
Г. Барт в 1868–1886 годах издал десять книг о своих путешествиях. В 1985 году на русском языке вышла книга об этом путешественнике: Геншорек В. Двадцать тысяч километров по Сахаре и Судану (Москва, «Наука»).
(обратно)306
Асклепия — ваточник (Asclepia).
(обратно)307
Баланит — дерево (Balanites aegyptiaca) с колючими ветками и сахаристыми плодами; у египтян известен как «пустынный финик».
(обратно)308
Секвестр — запрещение, налагаемое на какое-либо имущество органами государственной власти или ограничение права собственника распоряжаться этим имуществом.
(обратно)309
Канем — область к северу и северо-востоку от озера Чад. Как самостоятельное государство, управляемое султанами, существует с VIII века. В XVI веке было присоединено к Борну.
(обратно)310
Адамава — историческая область на севере современного Камеруна; частично заходит в Нигерию и Центрально-Африканскую Республику.
(обратно)311
Йола — город на востоке современной Нигерии.
(обратно)312
Денгем Диксон (1786–1828) — английский офицер, участник битвы при Ватерлоо, с 1821 года путешествовал по Африке; умер в Сьерра-Леоне, где он занимал пост губернатора.
(обратно)313
Базальты — вулканические горные породы, бедные кремнеземом (как говорят геологи, «основного состава»); обычно имеют черный цвет.
(обратно)314
Стеркулия — дерево кола (Sterculia acuminata).
(обратно)315
Элаис (правильно: элеис) — французское название гвинейской масличной пальмы (Elaeis guineensis), плоды которой дают пальмовое масло и зерна, идущие в кулинарное потребление. Пальмовое масло используется в мыловарении.
(обратно)316
Ламантины — семейство морских млекопитающих животных отряда сирен; здесь идет речь об африканском (или сенегальском) ламантине (Trichechus senegaliensis).
(обратно)317
Здесь речь идет о так называемом географическом лье, равном 4,444 км; таким образом, указанное автором расстояние составляет около 578 км. Английская сухопутная миля равна 1609 м, соответственно, 360 миль соответствуют примерно 579 км.
(обратно)318
Медресе — мусульманское учебное заведение, воспитанники которого получали наряду с религиозным образованием и некоторые практические сведения из области светских наук, например, медицины.
(обратно)319
Сераль — дворец (тур.). Здесь имеются в виду его обитатели, т. е. придворные чернокожего повелителя.
(обратно)320
Лендер Ричард Лемон (1804–1834) — в 1825–1827 годах вместе с X. Клаппертоном путешествовал из Лагоса в Сокото; в 1830 году путешествовал по Нижнему Нигеру. В 1832 году опубликовал дневник о своих странствиях по Нигеру. Был смертельно ранен в схватке с туземцами и умер на острове Фернандо-По.
(обратно)321
Клаппертон Хью (1788–1827) — совершил два путешествия по Африке: в 1822–1825 годах от Триполи до Кукавы и Сокото (совместно с Диксоном Денгемом и У. Аудни), в 1825–1827 годах из Лагоса до Сокото (совместно с Р. Лендером). Результаты работ опубликовали Д. Денгем и Р. Лендер.
(обратно)322
Томбукту расположен в 12 км от берега Нигера (при самом низком уровне воды в реке).
(обратно)323
Здесь имеется в виду город Зиндер на юге современной Республики Нигер, близ границы с Нигерией, а не одноименный город на реке Нигер.
(обратно)324
Кацина — город на самом севере современной Нигерии.
(обратно)325
Возможно, это — пустыня Азава.
(обратно)326
Современный Бирнин-Кебби на реке Сокото, притоке Нигера.
(обратно)327
Современная Камба на границе Нигерии и Республики Бенин.
(обратно)328
Это предсказание не сбылось. Самым крупным городом в данном регионе в XX веке стал Ниамей, столица Республики Нигер, расположенная на левом берегу реки Нигер, прежняя Дунга.
(обратно)329
Дори — городок на севере современной республики Буркина-Фасо.
(обратно)330
Шериф (араб. «благородный») — здесь: почетное прозвище потомков Пророка Мухаммада, составлявших в средние века один из слоев аристократии в мусульманских государствах.
(обратно)331
Дювейрье Анри (1840–1892). Его книга «Северные туареги» вышла в свет в 1864 году.
(обратно)332
То есть между 2° и 10° вост. д.
(обратно)333
Берберы — согласно современным научным представлениям, берберами называется группа народов, населяющих главным образом страны Северной Африки, в частности — Центрального и Западного Судана, общее число которых составляет около 6 млн. человек. Берберы являются древнейшим населением Северной Африки. Появление названия связано с арабским завоеванием в VI–VII веках, когда победители всех «неарабов» стали идентифицировать, подобно античным эллинам, одним словом, произведенным от древнегреческого «варвары».
(обратно)334
По представлениям современных этнографов, туареги (самоназвание — имошаг) считаются самостоятельным народом, говорящим на томашек, одном из языков берберской группы.
(обратно)335
Тартария, или Страна татар — распространенное в Западной Европе вплоть до начала XX века название Восточной Азии к северу от китайской границы.
(обратно)336
Галлы — древнеримское название кельтов, коренных жителей Северо-Западной Европы, населявших территорию современной Франции, Северной Италии, Швейцарии, Бельгии, Люксембурга и Голландии.
(обратно)337
Речь идет о феске. См. примеч. 32.
(обратно)338
Темассинин — ксар (так арабы называют крепость, укрепленный замок феодала, укрепленное место вообще), расположенный в одном из сахарских оазисов на юге Алжира, примерно в пятистах километрах южнее Уарглы; в колониальное время принял название выстроенного поблизости французского укрепления Фор-Флаттер; в настоящее время называется Завия-эль-Кала.
(обратно)339
Аджеры (аджерцы) — группа туарегских племен, в наши дни известная как кель-аджер. Эти племена живут на крайнем юго-востоке Алжира, в районе горной системы Тассилин-Адджер.
(обратно)340
Шамбаа (самбаа; васамбаа) — народ группы банту, проживающий в основном на северо-востоке современной Танзании относятся к негрской расе; численность — 930 тыс. человек; говорят на наречии, входящем в восточную группу языков банту.
(обратно)341
Туареги-хоггары — группа туарегских племен, населяющих нагорье Ахаггар, имеющее и другое название — Хоггар. В наши дни эта этническая группа известна как кель-ахаггар.
(обратно)342
Каймакам (тур.) — должностное лицо турецкой администрации, уполномоченный губернатора.
(обратно)343
Ксур — общее название горных цепей в южной части Сахарского Атласа, но так же называются на местном диалекте «ксары», укрепленные жилища феодалов.
(обратно)344
Туат — область в центральной части Сахары, через которую проходит один из древних караванных путей, соединяющих средиземноморское побережье с Суданом, древнейший центр оазисного земледелия; объединяет около 20 оазисов.
(обратно)345
Могадор — важный порт на атлантическом побережье Марокко; его арабское название — Эс-Сувейра («Красивая»).
(обратно)346
Ага — здесь: титул младших и средних офицеров в султанской Турции.
(обратно)347
Гейр — река, истоки которой показаны на карте Птолемея близ Глубокого ущелья Гарамантов и болота Нуба, а устье — к западу от Карфагена.
(обратно)348
Птолемей Клавдий (70–147) — крупнейший античный ученый, астроном и географ; его основной труд «Великое строение» дошел до нас только в арабском переводе.
(обратно)349
Тритон — морской залив или озеро, помещавшееся античными географами в северной части Сахары; впервые упоминается в «Естественной истории» Плиния Старшего.
(обратно)350
Космология — учение о Вселенной как о связном едином целом и о всей охваченной наблюдениями области мира как о части Вселенной.
(обратно)351
Гир — река, стекающая с южных склонов Высокого Атласа, пересекающая пустыню Хамада-Гир и теряющаяся (под названием Саура) в песках Сахары.
(обратно)352
Стало быть, эта экспедиция шла с запада на восток, вдоль южных склонов Сахарского Атласа и русла Уэд-Джеди, почти параллельно средиземноморскому побережью.
(обратно)353
Себха — солончак, периодически заливаемый паводковыми водами. Поверхность себхи чаще всего покрыта соляной коркой, иногда выдерживающей вес груженого верблюда. Под этой коркой находится вязкий минеральный рассол, попав в который человек или животное погибают в считанные секунды, поскольку собственными силами выбраться из бездонной соленой бездны невозможно.
(обратно)354
Марабут — в средние века так назывались аскеты, готовившие себя к войне за мусульманскую веру и жившие в особых укрепленных лагерях (рибатах). Позже марабутами стали называть мусульманских святых, культ которых чрезвычайно широко распространился в Северной Африке.
(обратно)355
Теджана — название духовного ордена произведено от арабского слова «таджаннана» (сходить с ума, лишаться рассудка).
(обратно)356
Оно носит название Тадемаит.
(обратно)357
Могаддем (литературно правильный вариант — «мугаддам») — предводитель, глава, начальник.
(обратно)358
Дей (тур. day) — дядя по матери. В североафриканских провинциях Османской империи это слово получило новый смысл и стало титулом офицера янычарского корпуса. В Алжире с 1671 года дей осуществлял высшую исполнительную власть, заменив пашу, султанского представителя. Сначала избирался армейскими офицерами, потом — главарями пиратов. К числу привилегий дея относилось назначение начальников провинциальной администрации. Последний дей Хусейн правил с 1818 года и был свергнут в 1830 году.
(обратно)359
Абд аль-Кадир ибн Мухьи ад-Дин (1808–1883) — султан арабов (с 1832 г.); по окончании войны с колонизаторами (1832–1847) интернирован во Франции до 1852 года, потом уехал на Ближний Восток и с 1855 года жил в Дамаске.
(обратно)360
Бюжо Томас Роберт род. в 1784 г., ум. в 1849 г.
(обратно)361
Тафна — река на западе Алжира, близ марокканской границы.
(обратно)362
По этому договору Абд аль-Кадир получал власть над всей страной, кроме портов и прибрежных городов.
(обратно)363
Шотты — берберское название солончаков, частично занятых солеными озерами; то же, что и себхи.
(обратно)364
Фромантен Эжен (1820–1876) — французский художник и писатель, один из представителей модного направления в искусстве, называвшегося ориентализмом (от слова «ориент» — «восток»). В 1846, 1848 и 1852 годах путешествовал по Алжиру. Рисунки и впечатления от странствий составили две книги — «Одно лето в Сахаре» (1857, русск. перев. 1985, 1990), «Год в Сахеле» (1859; русск. перев. вышел в 1990 г. в книге, называвшейся «Сахара и Сахель»).
(обратно)365
Касба — крепость, цитадель.
(обратно)366
Зуавы — стрелки французских колониальных войск, которых на севере Африки набирали частично из местного населения, частично — из европейцев, родившихся на территории Алжира и Туниса.
(обратно)367
Янычары — турецкая регулярная пехота, появление которой относится к XIV веку, когда ее ряды пополнялись преимущественно за счет взятых в плен и выращенных в неволе христианских юношей; ликвидирована в 1826 году.
(обратно)368
Бей — здесь: титул суверенного правителя, теоретически вассального по отношению к турецкому султану.
(обратно)369
Кадастр — систематический свод сведений, составляемый периодически или путем непрерывных записей наблюдений над соответствующим объектом.
(обратно)370
Фай Эрве-Огюст-Этьен-Альбан (1814–1902) — французский астроном и геодезист, с 1847 года член французской Академии наук, с 1876 года президент Бюро долгот в Париже.
(обратно)371
Триангуляцией называется метод определения положения опорных точек земной поверхности в целях создания карт и для проведения топографических съемок. Триангуляция заключается в измерении на местности системы треугольников, вершинами которых являются определяемые точки, находящиеся — в зависимости от разряда триангуляции — на расстоянии от 2 до 25 км друг от друга. Проведя измерения стороны (базиса) одного из треугольников и горизонтальные углы всех треугольников, вычисляют взаимное положение всех точек.
(обратно)372
Альфа (Stipa tenacissima) — трава; известна и под другими названиями: «ковыль алжирский», «эспарго».
(обратно)373
Чихачёв Петр Александрович (1808–1890) — русский географ и геолог, почетный член Петербургской академии наук, Русского географического общества и многих других академий и научных обществ. Бо́льшую часть жизни провел за границей. По Алжиру и Тунису путешествовал в 1878–1879 годах.
(обратно)374
Сануситы — члены мусульманского братства санусия, основанного в Мекке в 1837 году алжирским марабутом Мухаммадом ибн Али ас-Сануси (1787–1859). Выступали против европейского влияния, ратовали за возврат к чистоте ислама, принимали активное участие в антиколониальной борьбе. Наибольшего влияния братство добилось на территории современной Ливии.
(обратно)375
Порто-Фарина — порт в удобной, далеко вдающейся в сушу бухте на северо-западе Тунисского залива. Современное название — Гар-эль-Мельх.
(обратно)376
Гулетта (Ла-Гулетта) — аванпорт города Туниса. Современное название — Хальк-эль-Уэд.
(обратно)377
Крумиры (хрумиры) — племя, возникшее в результате смешения арабов и берберов. Живет в горной части Туниса, близ алжирской границы.
(обратно)378
Бардо — загородный дворец тунисских беев в западном предместье тогдашнего Туниса; сейчас входит в городскую черту. Во дворце размещается государственный музей Алауи.
(обратно)379
Каср-эль-Саид — крепость на берегу Тунисского залива, примерно в 15 км на северо-восток от г. Туниса. Договор о протекторате был подписан 12 мая 1881 года и подтвержден 8 июня 1883 года договором в Эль-Марсе, соседнем с Каср-эль-Саидом городе.
(обратно)380
Бабуши — туфли без задника и каблука.
(обратно)381
Мечеть Сиди Окба, построенная в IX веке и неоднократно перестраивавшаяся, последний раз — в XVII веке.
(обратно)382
Рожер II (ок. 1095–1154) — норманнский завоеватель, ставший в 1130 году первым монархом Сицилийского королевства.
(обратно)383
Идриси (Абу Абдаллах Мухаммед аль-Идриси; 1100–1165) — арабский географ и путешественник, посетивший Испанию, Северную Африку и другие страны. В 1154 году жил у короля Рожера, посвятив гостеприимному хозяину географический трактат «Развлечение того, кто пламенно жаждет».
(обратно)384
Визуально, взглядом (лат.).
(обратно)385
Речь идет о Высоком Атласе, самой западной части горной системы Атласа; ее высшая точка — гора Джебель-Тубкаль (4165 м) — находится к югу от Марракеша.
(обратно)386
Неизвестная земля (лат.).
(обратно)387
Бельведер — здесь: надстройка над зданием.
(обратно)388
Гетто — городские районы, отведенные для принудительного поселения определенной расовой, профессиональной или религиозной группы населения.
(обратно)389
Каид — так в Северной Африке называется высокое должностное лицо, соединяющее исполнение функций судьи, начальника гарнизона и сборщика налогов.
(обратно)390
Маршрут путешествия О. Ленца пролегал из Рабата до Томбукту, далее — на Ниору и Каес, потом по реке Сенегал и заканчивался в Сен-Луи.
(обратно)391
Де Амичис Эдмондо (1846–1908) — известный итальянский писатель, в молодости был офицером; посетил немало стран, оставив почти после каждой поездки интереснейший, великолепный художественно оформленный том. Книга путевых очерков Э. Де Амичиса о Марокко вышла в 1876 году.
(обратно)392
Дульс Камилл (1864–1889; убит, видимо, проводниками-туарегами).
(обратно)393
Дромадер — одногорбый верблюд.
(обратно)394
Талеб — здесь: человек, изучавший догматику ислама в духовном училище.
(обратно)395
Человек человеку волк — выражение из комедии римского писателя Тита Макция Плавта «Ослы».
(обратно)396
Официальное название этой основанной в 1788 году общественной организации — Ассоциация для содействия открытию внутренних частей Африки.
(обратно)397
Каарта — древнее государство народа фульбе на правом берегу реки Сенегал, в XIX веке ставшее частью султаната Сегу, в 1891 году было завоевано французами.
(обратно)398
Бамбара́ — народ группы мандинго, относящейся к негрской расе; проживает в основном на территории современной Республики Мали (ок. 2,7 млн. чел.), отдельные группы бамбара — в Кот-д’Ивуаре, Гвинее, Гамбии и других соседних странах.
(обратно)399
Старый Калабар — река, впадающая в залив Бенин; рядом расположен Новый Калабар, самый восточный рукав дельты Нигера. По двум упомянутым рекам эта часть побережья Гвинейского залива называлась прежде Калабарским берегом.
(обратно)400
Такки Джеймс Кингстон (1776–1816) — капитан III ранга Королевского военно-морского флота; в 1815 году был поставлен командующим экспедицией на реку Конго; умер от истощения.
(обратно)401
Мольен Гаспар Теодор (1796–1872) — кроме путешествия в Западную Африку, посетил Колумбию, Индию и Китай; долгие годы был консулом Франции на Гаити и Кубе.
(обратно)402
Второго июля 1816 года французский фрегат «Медуза» (точнее — «Медуз»), везший в Сенегал четыре сотни солдат и матросов, наскочил на мель. Шлюпок на экипаж и всех пассажиров не хватило, поэтому около 150 человек погрузились на спешно сколоченный плот, не взяв с собой достаточного запаса воды и пищи. Несчастные, став игрушкой океанских течений, вскоре стали испытывать ужасные муки голода под испепеляющими лучами тропического солнца. Когда через много дней к плоту потерпевших кораблекрушение подошел бриг «Аргус», в живых осталось всего 15 терявших последние силы страдальцев.
(обратно)403
Лэнг Александр Гордон род. в 1796 г., ум. в 1826 г.
(обратно)404
Калебаса (от исп. calabaça) — примитивный сосуд, выделанный путем удаления мякоти из плодов ряда тропических растений семейства тыквенных с последующим высушиванием их; употреблялся в хозяйственных целях.
(обратно)405
Фула — одно из названий народа фульбе, живущего в ряде стран Западной Африки. Общая численность фульбе в настоящее время составляет около 7 млн. человек. По антропологическому типу фульбе (известные также как пёль и под другими названиями) резко отличаются от окружающего негроидного населения. Происхождение этого народа до сих пор остается загадочным, когда-то его даже считали потомком одного из колен Израиля. В наши дни большинство ученых считают фульбе особой этнической группой, родственной эфиопам.
(обратно)406
Магомет — устарелое (тюркизованное) имя основателя мусульманской религии Мухаммада, последнего из пророков, посланных Богом людям. Это имя было в ходу у европейцев вплоть до начала XX века.
(обратно)407
А. Лэнг прибыл в Томбукту 18 августа 1826 года и оставался в городе до 26 сентября того же года. Через двое суток после выступления из Томбукту он был убит.
(обратно)408
Кайе Рене Огюст род. в 1799 г., ум. в 1838 г.
(обратно)409
Габара — здесь: транспортное судно.
(обратно)410
Мандинго — самоназвание группы народностей, живущих в Западной Африке и говорящих на языке малинке. Во французской литературе это название используется для обозначения группы близко родственных народов, живущих в верхнем течении рек Нигер и Сенегал: малинке, бамбара, диула.
(обратно)411
Фута-Джаллон — возвышенное плато в западной части Гвинейской Республики. Так же называлось государство фульбе, возникшее в конце XVII века и завоеванное французами в 1896 году.
(обратно)412
Ба-Финг (в современной орфографии Бафинг) является одним из истоков Сенегала; вместе с Бафингом длина последнего составляет 1430 км.
(обратно)413
Дженне — город на реке Бани, в современной Республике Мали. Основан не позднее XIV века и был важным центром средневековой империи Мали, затем переходил в руки все новых и новых завоевателей, играя неоднократно роль столицы небольшого удельного княжества, пока не был захвачен в 1893 году французами, после чего стал обычным торговым городом.
(обратно)414
Дра — плато на юго-западе современного Алжира, близ алжиро-марокканской границы.
(обратно)415
Тафилалет — область на юго-востоке Марокко.
(обратно)416
Считается, что первым европейцем, посетившим Томбукту, был флорентиец Бенедетто Деи (1418–1492), путешествовавший по многим странам Азии и Африки и оставивший после себя записки, очень ценные в историко-бытовом отношении. Именно на основании этих записок идентифицированы различные упоминаемые путешественником города, в числе которых и Томбукту.
(обратно)417
Капуцины (ит. cappuccini — «люди в капюшонах») — так называли монахов ордена святого Франциска Ассизского, капюшон на рясе у которых был несколько шире, чем у прочей братии, и отличался заостренным концом. В самостоятельную группу оформились в начале XVI века (булла папы Климента VII от 13 июля 1528 г.), но окончательно отделились в 1619 году.
(обратно)418
Кольбер Жан Батист (1619–1683) — французский государственный деятель, долгие годы бывший министром финансов у Людовика XIV.
(обратно)419
Брю Андре (1654–1738) — в Сенегале был в 1697–1702 и 1714–1720 годах как директор Сенегальской компании (именно таково было ее официальное название).
(обратно)420
Тафия — тростниковая водка.
(обратно)421
Хадж Омар (ок. 1797–1864) — политический деятель Африки; совершив паломничество в Мекку (ок. 1820 г.), получил почетный и редкий тогда в Африке титул «хаджи». Вернувшись на родину, основал военно-религиозную общину («завия»), с помощью которой захватил власть, сделав столицей крепость Дингирай; безуспешно пытался объединить мелкие государства Западной Африки; погиб в борьбе с восставшими мусульманами-фульбе.
(обратно)422
Тукулёры (встречаются и другие варианты названия: тукулоры, токолоры; самоназвание — халь-пуларен, то есть «говорящие на пулар») — народность, живущая в среднем течении Сенегала (в современных республиках Мавритания и Сенегал), представляющая собой смесь пёль и мавров с неграми. Общая численность — около 250 тыс. Говорят на языке пулар (один из диалектов языка фульбе), в Сенегале — и на языке волоф.
(обратно)423
Пёль — одно из названий народа фульбе (см. примеч. к предыдущей главе).
(обратно)424
Сокото — государство в Центральном Судане, созданное Османом дан Фодио и завоеванное в 1903 году англичанами (в наши дни — одна из провинций Нигерии).
(обратно)425
Йолоф, они же — джолоф — другие названия живущего в Сенегале народа волоф (совр. численность ок. 2 млн. человек).
(обратно)426
Фэдерб Луи Леон Сезар (1818–1889) — офицер инженерных войск, впоследствии ставший генералом; служил в Алжире, на Гваделупе, в Сенегале, губернатором которого был в 1854–1865 годах, после чего переведен в Алжир; автор ряда печатных трудов, в том числе посвященных Африке; во время франко-прусской войны 1870–1871 годов командовал Северной армией, успешно защищавшей северные области страны от вторжения неприятеля.
(обратно)427
Трарза — конфедерация кочевых мавров на правобережье реки Сенегал (на юге современной Мавритании). Общая численность — около 80 тыс. человек. В 1902–1903 годах были покорены французами.
(обратно)428
Маж Абдон Эжен (1837–1869) — исследователь Верхнего Сенегала.
(обратно)429
Бубу — большая свободная рубаха, использующаяся африканцами в качестве верхней одежды.
(обратно)430
Галлиени Жозеф Симон (1849–1916) впоследствии стал маршалом Франции, в 1915–1916 годах был военным министром; в Западной Африке служил в 1879–1893 годах; автор «Исследовательской миссии в Верхний Нигер» (1885) и «Двух компаний в Судане» (1890); участвовал также в колониальных войнах в Тонкине и на Мадагаскаре.
(обратно)431
Непременно, обязательно (лат.).
(обратно)432
Спаги — французские колониальные кавалерийские части в Северной Африке.
(обратно)433
Кита — город в современной Республике Мали, примерно в 200 км северо-западнее Бамако.
(обратно)434
Шаспо — скорострельная винтовка образца 1866 года (калибр 11 мм.), названная по фамилии изобретателя А. А. Шаспо (1833–1905).
(обратно)435
Борньи-Деборд Гюстав род. в 1839 г., ум. 1900 г.
(обратно)436
Медине — селение к югу от Каеса, ниже водопада Фелу.
(обратно)437
Дагомея — в настоящее время Республика Бенин.
(обратно)438
Фетиш — обычный предмет, обожествляемый сторонниками «первобытных» верований; предмет слепого поклонения. У сторонников анималистских верований, каких до сих пор немало сохранилось в странах Черной Африки, фетишем часто служило какое-нибудь животное.
(обратно)439
Абомей — город, основанный в начале XVII века династией аджа, был столицей могущественного царства народа фон вплоть до французского завоевания; теперь — главный город Центрального департамента Республики Бенин.
(обратно)440
Петух у дагомейцев, так же как у их соседей ашанти, считается вещей птицей. По конвульсиям, сотрясающим тело петуха сразу после отсечения головы, жрецы делают предсказания, получающие силу непререкаемого закона. Порядок церемонии остается неизменным. Помощник держит птицу за лапы, тогда как жрец хватает голову и отсекает одним ударом. Потом птицу роняют на землю. Если она в конвульсиях приблизится к человеку, вопрошавшему оракула, то это считается благоприятным знаком. (Примеч. авт.)
(обратно)441
Шайю Поль Беллони дю (1837–1903) — американский путешественник, потомок французских переселенцев.
(обратно)442
Эстуарий — широкое устье реки при впадении ее в море.
(обратно)443
Каликот (от названия индийского города Калькутты — Calicut) — тонкая хлопчатобумажная ткань.
(обратно)444
Конклав — так называется в римско-католической церкви общее собрание кардиналов для выбора нового папы, проходящее при закрытых дверях. Выходить из совещательного помещения участники собрания не имеют права, пока не будет сделан выбор.
(обратно)445
Убежище, уединенное место (ит.).
(обратно)446
Гонсалвиш Лопу — португальский мореплаватель конца XV века. О нем не сохранилось почти никаких сведений, кроме того, что он когда-то достиг мыса на побережье Гвинейского залива. Мыс сначала был назван его именем, впоследствии стал называться мысом Лопес.
(обратно)447
Лувр — дворец французских королей в Париже.
(обратно)448
Барракон — «это название придумано португальцами в их азиатской колонии Макао для обозначения сборных помещений, где китайские кули (низкооплачиваемые неквалифицированные рабочие) ожидают распределения на работы». (Примеч. авт.) Самое слово «барракон» означает сарай для хранения садовых инструментов или барак, а на жаргоне португальских моряков — тент.
(обратно)449
Оссуарий — вместилище для костей покойника: ящичек, статуя и т. д.
(обратно)450
Фанг — группа народов банту, проживающая в Камеруне, Габоне и Экваториальной Гвинее; подразделяется на множество народностей и племен.
(обратно)451
Бенже Луи Гюстав род. в 1856 г., ум. в 1936 г.
(обратно)452
Французский Судан после обретения независимости стал называться Республикой Мали.
(обратно)453
Гран-Бассам — порт к востоку от Абиджана, в устье реки Комоэ.
(обратно)454
Бауле — исток реки Бани, одного из крупных правых притоков Нигера.
(обратно)455
Багое — приток реки Бауле.
(обратно)456
Гриоты — люди особой касты: музыканты и певцы. Они живут на общественный счет, обыкновенно презираемы всеми прочими неграми и вступают в брак только друг с другом. Женитьба на дочери гриота считается неравным браком. (Примеч. капитана Бенже.)
(обратно)457
Манде — одно из названий национальной группы мандинго (см. выше).
(обратно)458
Сенуфу — народ, живущий на севере Кот-д’Ивуара, а также в соседних районах Мали и Буркина-Фасо и относящийся к негрской расе. Общая численность — 2,8 млн. человек. Сенуфу говорят на близкородственных языках, входящих в конго-кордофанскую семью.
(обратно)459
Орфеон — здесь: струнный клавишный инструмент, в котором звук образуется при задевании струн специальным колесиком.
(обратно)460
Во времена Бенже (1888) это был достаточно крупный город на севере современной республики Кот-д’Ивуар, однако после разграбления войсками Самори город захирел и быстро потерял свое значение.
(обратно)461
Приток Вольты — здесь и дальше имеется в виду река Черная Вольта.
(обратно)462
Пьеро — традиционный персонаж народного французского ярмарочного театра. В XIX веке — отчасти под влиянием итальянского народного театра — этот персонаж стал изображать меланхоличного влюбленного неудачника. На сцену Пьеро выходил в высоком остроугольном колпаке.
(обратно)463
Золотой Берег — тогдашняя английская колония; с обретением независимости стала называться Ганой.
(обратно)464
Ашанти — часть народа акан, принадлежащего к гвинейской группе негрской расы. Проживают в центральных районах Ганы; общая численность ашанти составляет около 3,5 млн. человек. Говорят на языках аквапим и ачем, являющихся диалектами языка тви (чви).
(обратно)465
Туземцы верили, что недоброжелатель, завладев отрезанными ногтями, волосами, может наслать на их владельца порчу.
(обратно)466
Моси — народ негрской расы, живущий в Буркина-Фасо, Гане и Кот-д’Ивуаре; общее их количество составляет около 6,5 млн. человек; говорят на языке мори (моле), относящемся к конго-кордофанской группе.
(обратно)467
Гурунси (груси) — группа народов негрской расы, живущих на севере Ганы и в Буркина-Фасо; общая численность примерно 800 тыс. человек; подразделяются на несколько подгрупп и говорят на близко-родственных языках, относящихся к подгруппе гур конго-кордофанской семьи.
(обратно)468
Гурма — название двух стран Западной Африки. Здесь имеется в виду государство народа гурма на территории нынешней республики Буркина-Фасо со столицей Фада-Н’Гурма; под французский протекторат перешла в 1897 году.
(обратно)469
Мампруси (самоназвание мампулуси и мампеле) — народ негрской расы, проживающей на северо-востоке Ганы и юго-востоке Буркина-Фасо; общая численность — около 150 тыс. человек; говорят на языке мампулугу, относящемся к конго-кордофанской семье.
(обратно)470
Под «восточным рукавом» автор понимает реку Белую Вольту, которая, сливаясь с Черной Вольтой, текущей с северо-запада, образует реку Вольту.
(обратно)471
Гуджа — народ гуанг (известен также под названиями гонжа и гонджа; самоназванье — нгбанья), принадлежащий к группе акан, относящейся к негрской расе. Язык относится к конго-кордофанской семье. Гуджа живут на территории Ганы. Общая численность — около 500 тыс. человек.
(обратно)472
Дагомба (самоназвание дагбамба) — народ негрской расы, населяющий север Ганы. Численность — 500 тыс. человек. Язык относится к конго-кордофанской семье.
(обратно)473
Котоколи — другое название народа негрской расы тем, живущего в Того и смежных районах Бенина и Ганы; общая численность достигает 2 млн. человек; говорят на языке, относящемся к подгруппе гур конго-кордофанской семьи.
(обратно)474
Трейш-Лаплен Марсель (1861–1900) — французский негоциант и чиновник колониальной администрации.
(обратно)475
Асини — точнее: Хаф-Асини в устье реки Тано на крайнем западе Ганы.
(обратно)476
«Растительный коралл» — бобовое дерево (Pterocarpe), распространенное в тропических странах, отличается тем, что древесина его, поначалу белая, со временем краснеет.
(обратно)477
В середине XIX века предполагали, что параллельно побережью Гвинейского залива во внутренних областях Западной Африки тянется горная цепь, которой присвоили название Конг. Позднее этот предполагаемый объект идентифицировали с массивом Фута-Джаллон.
(обратно)478
Диула — народ группы мандинго, живущий на юге Мали и в пограничных районах Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуара; насчитывает около 500 тыс. человек.
(обратно)479
В настоящее время аньи рассматриваются как составная часть народности бауле-аньи, которая вместе с ашанти, составляет народ акан гвинейской группы негрской расы.
(обратно)480
Бауле — здесь: народ группы акан негрской расы, проживающий в южной и центральной частях Кот-д’Ивуара. Численность приближается к 1 млн. человек.
(обратно)481
Шале — небольшой домик или горная хижина в Швейцарии.
(обратно)482
Камбуз — кухня на судне.
(обратно)
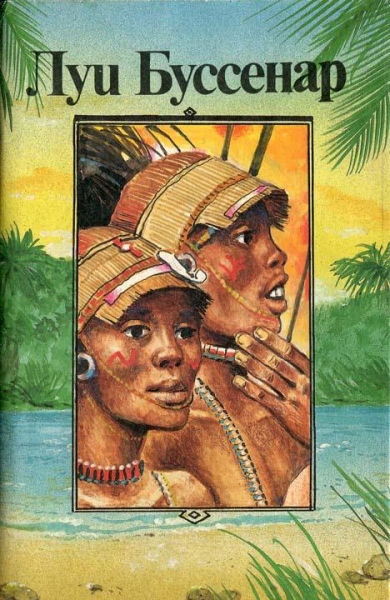


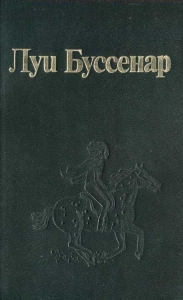

Комментарии к книге «Приключения знаменитых первопроходцев. Африка», Луи Анри Буссенар
Всего 0 комментариев