Мариэтта Шагинян Зарубежные письма
Аркадию Исааковичу Райкину с теплым чувством благодарности за его большое и доброе искусство.
Два слова от автора К IV изданию
К сожалению, я не смогла собрать в этом томе всех своих заграничных путешествий, особенно в остальные, кроме ГДР и Чехословакии, социалистические страны, — отчасти потому, что пребывание мое в этих странах было слишком коротким для содержательного описания. Зато выполняю свой долг перед читателями двумя дополнительными очерками — «Поездкой в Швейцарию», включающей три «письма», и статьей «В библиотеках Европы», — не столько, впрочем, статьей, сколько воспоминаниями о моих длительных работах в этих библиотеках.
Я ездила за рубеж не просто как туристка и даже не как журналистка, а с очередной необходимостью поработать в той или иной библиотеке для подготовлявшейся книги. В то время как турист или журналист с блокнотом в руках лихорадочно объезжали «достопримечательности», записывая увиденное и услышанное, я мирно сидела — тоже с блокнотом и карандашом — в тихих читальных залах, записывая и конспектируя прочитанное.
Почти во всех библиотеках пришлось мне поработать, и притом подолгу. В лондонской Ридинг-рум Британского музея — дважды, с разными задачами; в Париже, во Французской Национальной библиотеке — дважды; в знаменитой венецианской библиотеке на острове Сан-Джорджо; в библиотеке консерватории во Флоренции; в двух библиотеках Рима и в архивах Ватикана, а также в архивах библиотек Болоньи, Милана, Пармы, Неаполя, Вены; Праги, Брно и других городов Чехословакии — по одному разу. И всякий раз это было необходимо для задуманных мною книг. В году 1973-м необходимость погнала меня в хорошо знакомую, исхоженную и изъезженную в ранней молодости Швейцарию, где пришлось около месяца поработать в цюрихской библиотеке.
Может быть, именно этот особый характер моих зарубежных поездок сказался отчасти и на содержании «Зарубежных писем», на включении в книгу маленьких монографий о культуре стран, очерк которых я даю в мимолетных и кратких зарисовках. Включение таких монографий как бы развивает и дополняет подтексты моих «писем» об искусстве, науке и литературе данной страны.
Мариэтта Шагинян
1977 г.
На «Волге» по Франции
Вы можете двадцать лет прожить в Париже — и не будете знать Францию.
СтендальI. Дорога как таковая
Знать страну — это значит уметь ее представить себе, закрыв глаза. Всю целиком, объемно и зримо, географически и живописно, в отдельных частях и контурах. Так я могу, например, представить себе Британские острова от шотландских озер до седой пены волн у скалистого берега Лэндс-Энда. Но, к стыду своему, несколько раз побывав в Париже, я совершенно не знала Франции, не могла мысленно охватить ее. Понятно поэтому, когда легла передо мной огромная карта и нужно было выкроить из нее автомобильный маршрут на восемь дней, меня охватила просто бандитская жадность: целых девяносто департаментов, один другого интересней, и два морских порта, равные департаментам!
Карандаш побежал зигзагами, охватывая куски побольше. Но спутник мой сразу пресек эти зигзаги. Он провел две линии. Сверху вниз, от Парижа до Лазурного берега, и снизу вверх, от Лазурного берега через Марсель до Парижа, оставляя между этими двумя линиями только очень узкое пространство, хотя нигде не давая им слиться или пересечься. Нам предстояло по этому плану проехать из бассейна рек Сена — Уаза в долины рек Сена — Марна, ехать вдоль Йонны, Соны, Луары, Эна, подняться в Верхнюю Савойю, спуститься в долину Изера и «дорогой Наполеона» вниз, вниз, вниз, через Приморские Альпы на Лазурный берег. А из Ниццы — берегом Средиземного моря в Марсель, а из Марселя — долинами Роны, Дрома, Алье, Луары — назад в Париж. Сделать как бы пробную вырезку из центрального тела Франции, с севера на юг, — очень интересную, но ограниченную вырезку, оставив на будущие времена весь север и все провинции, выходящие на Бискайский залив, Ла-Манш и течение Гаронны.
Пока это все оговаривалось и вычерчивалось с записью предполагаемых ночевок в городах с совершенно незнакомыми мне названиями, механик приводил в порядок нашего «доброго коня», то есть лошадиные силы ужо не молодой советской «Волги», служившей своему парижскому хозяину верой и правдой целых пять лет. Неисчислимо много раз приходилось мне переживать это чувство, лучше которого на свете пет: чувство транспорта у дверей, торопящего к отъезду, когда вы оглядываетесь в комнате, оторвавшись от прошлого, не забыли ль чего, но вас уже нет в этих четырех степах, как еще нет и в том неведомом, куда вы сейчас ринетесь, словно пловец в океан.
Была середина августа. Париж был мертв и необыкновенно тих, очень тиха и чинна улица до Бурдоннэ, где стоял мой отель, — и через сонные утренние улицы каникулярного Парижа весело побежала наша советская «Волга». Но окончание летних каникул, ввергших столицу Франции в мертвую дремоту, для ее автострад и шоссейных дорог, да и для провинций, означало необыкновенное оживление. Тысячи и десятки тысяч «дачников», проводивших летнее время в горах или на море, целыми караванами возвращались вспять, — машины самых разных марок, нагруженные сверху, как возы с сеном, самым неожиданным «инвентарем» — опрокинутыми носом вниз лодками, ружьями и удилищами, мебелью и спальными мешками, — мчались одна за другой с невероятной скоростью, волоча за собою целые домики на колесах с занавесками на окошках. Не успели мы выехать через Орлеанские ворота на чудесную французскую автостраду, как начался мой первый урок поездки, знакомство с самими дорогами Франции.
Французские департаменты называются большею частью по имени своих рек; эти реки, широкие и полноводные, разветвленные притоками, которые часто не отличишь по ширине от самих рек, куда они впадают, но только дали свои названья частям страны, но послужили как бы прообразами такому могучему фактору экономики, как шоссейные дороги. Льется меж берегов аккуратное серебро реки, грациозно петляя; и с такой же мягкой грацией, таким же аккуратным потоком льются серебряные ленты дорог, исчерчивая всю Францию. Авторуты — как полноводные реки; и автострада, идущая от Парижа, — как целая система с восходящими и нисходящими, гладко отделанными боками-берегами, с пересеченьями и петлями перекрестков, эстакадами-мостами, ни дать ни взять та же Луара или Рона. И вместо с плывущим потоком дачников я впервые увидела грандиозные камьоны — французские грузовики, похожие на колоссальные пароходы, часто в два сквозных этажа, — несущие в себе восемь легковых автомобилей, четыре в два ряда наверху и четыре внизу. Надо это видеть, чтоб уверовать в такие летучие грузовики, развивающие вдобавок немалую скорость, словно гигантские товарные вагоны, оторвавшиеся от поезда.
Удивительна беспечность, с какой ведут свои машины шоферы на этих дорогах, не пугаясь огромного количества аварий, о которых каждый день пишут газеты. Вот кучка рабочих на шоссе, чинящих что-то. Они в необычайно ярких желтых куртках, светящихся, как огненные пятна, — что это? Форма дорожников, производящих работы? Нет, эти яркие куртки — сигналы, чтоб их увидели издалека, не наехали, не задавили.
Предосторожности приняли и мы. Восемь дней по пятнадцать часов в машине, когда езда превращается в нечто вроде балансированья акробата на проволоке, потребовали от нас добавочных мер. Мой спутник вел машину в четыре глаза и четыре руки. Его жена сидела с ним У руля, и оба делили между собой два школьных предмета: прилежание и внимание. Много, много раз избегала наша «Волга» аварий благодаря внимательным, вовремя сделанным предупреждениям, которые жена успевала давать мужу.
Говоря о дороге в целом, нельзя но сказать еще об огромном множестве бензостанций всевозможных фирм и наименований. Кроме классического Шелла, мелькали мимо конкурирующими группами разные Антары, Эссо, Азуры, Тотали, Мобили.
А вот с рекламами получается, как говорят у нас, неувязка. Кто ездил верхом, знает обычай лошади: входя на водопой в реку, стать повыше другой лошади, чтоб пить более чистую воду. Реклама тоже стремится забежать вперед, стать «повыше» других. По, пролезая вперед, прямо вам в глаза, она думает больше о себе, чем о вашем удобстве, и в этом, мне кажется, основной порок дорожных реклам на Западе. Допустим, что рекламируется «большой парижский базар» в Бурге. Начинается реклама за десятки километров до Бурга. По старой привычке путешественника, вы принимаете надпись за въезд, за анонс, извещающий близость города Бурга и его базара. Но проходят пять минут, десять, пятнадцать, полчаса — ни Бурга, ни базара. И это на каждом шагу. Огромная надпись: курорт Эвиан. Вы приготовились въехать в него. Ан нет. В курорте Эвиане ждет вас «трезвая вода и сумасшедшее вино», а сам курорт Эвиан за тридевять земель и вам не по дороге. Невольно чертыхаешься, — а ну его, этот Эвиан, и с водой и с вином!
Но если рекламы дразнят вас, заставляя переживать встречи с ними чисто теоретически, то сами изделия рук человеческих, кустарная и легкая промышленность — все, чем богата и славится данная местность, бросается вам навстречу сплошными конкретными массами, — только смотри, нюхай, щупай, покупай. Бургундская керамика, от большущих ваз и кувшинов до маленьких блошек и плошек, не дожидаясь, когда вы свернете к ней с дороги, сама подошла к вам, расположившись чуть ли не у самого асфальта под тентами и без тентов, рядами, кучами, великим множеством. Вы сразу схватываете ее тона и формы, цвет блеклого неба, серо-зелено-фиолетовые морские краски и этот французский вкус к извилистой линии, к нюансу, такой безошибочно изящный вкус…
Купите или не купите, но вы уже узнали эту керамику и не смешаете ее ни с какой другой. Знаменитое царство духов, но превзойденных по качеству еще нигде в мире, совсем но требует специальных ваших заездов в провансальские города, в столицу парфюмерии Грас. Она опять тут, ярмарочными палатками унизавшая справа и слева дорогу, — выходите из машины, нюхайте, трогайте и даже «дегустируйте», нажав пульверизатор. Местные плетеные корзиночки возле Ниццы буквально бегут вдоль дороги, преследуя вас; оливковое масло, альпийский мед, душистые подушечки сухой лаванды, прославленная нуга Монтелимара, все сотни сортов ее, — только что не кидаются под колеса вашей машины. И вы начинаете чувствовать французскую дорогу, по которой так легко скользит автомобиль, как важную часть французской экономики, выполняющую, помимо чисто дорожной, еще две функции — «пропагандистскую», в тысячах и тысячах реклам, и рыночную — в тысячах и тысячах торговых палаток. Стремленье местных товаров к обочинам дорог похоже, может быть, на древнюю тягу торговли к берегам рек.
Эпиграфом к моей поездке я взяла слова Стендаля. Он написал их за четыре года до смерти. Ему тогда было пятьдесят пять лет, он растолстел, стал носить очки, за плечами его лежали исхоженные, изъезженные дороги Англии, Италии, Австрии; он побывал с армией Наполеона в Москве, видел московские пожары; и уже созданы были такие вещи, как «Красное и черное», «О любви». Словом, это был зрелый, сложившийся, закруглившийся Стендаль. И вдруг издательство предложило ему поездить по родной стране и написать книгу о Франции. Тогда-то и родилась одна из самых интересных его книг, «Записки туриста», откуда я и выбрала цитату для моего эпиграфа. Казалось бы, нелепо видеть пособие для современной поездки в книге, написанной около ста тридцати лет назад. Но сам Стендаль сделал еще более «нелепую» вещь: для своей собственной поездки он взял себе гидом книгу, написанную две тысячи лет назад, когда Франция была еще только Галлией. Эта книга — Записки (верней, комментарии, если переводить дословно) Юлия Цезаря к Галльской войне.
Дело в том, что в путешествии (особенно для нас, людей нового на земле общества) очень важно правильно и выпукло (стереоскопически) чувствовать время. Неверное чувство времени может привести к неверным философским и политическим выводам. Люди моего поколенья, например, были воспитаны на чувстве «гибели Европы», исторической дряхлости старой западной культуры, — об этом вещал Шпенглер в «Закате Европы». И было это совершенно неверно, — стареют общественные системы, заменяясь новыми, а культуры остаются жить, как не стареет Гомер в восприятии человечества.
Юлий Цезарь помог Стендалю, видевшему бесчисленные античные памятники, оставленные римскими воинами на французской земле, очень близко, очень придвинуто к его времени почувствовать далекое прошлое. А близко почувствовать прошлое — значит правильно ощутить исторический возраст родной страны: не так уж она стара, эта Франция, еще вчера бывшая Галлией. И Стендаль, ездивший под видом торговца железом «то в коляске, то верхом», нигде не забывавший заглянуть в местную промышленность и ее экономику, а но только описывать природу и памятники; Стендаль, донесший до меня сквозь цокот копыт своей лошади по булыжникам французских улиц также и тяжелый шаг сандалий римских легионеров, — тоже сдвинул передо мной столетия. Он помог мне разглядеть прошлое как нечто очень недавнее, необходимо присутствующее на выпукло-синхронном восприятии целого — и дал почувствовать еще очень молодой, очень, в сущности, недавний возраст Европы…
В пути нам все время давался этот урок молодости современной Франции, хотя, казалось бы, должно было получиться наоборот. Во множестве встречавшиеся античные памятники — развалины крепостных стен, обрывки акведуков, воронки цирков, языческие храмы, триумфальные арки — как-то житейски-практично соседствовали с романскими, ранне- и позднеготическими памятниками, ренессансными дворцами. Житейски-практично потому, что, стоя рядом, словно верстовые столбы летящей дороги времени, они одинаково жизненно важны для населения, как постоянный и верный кусок хлеба на службе у современного бога Европы, туризма. Туристами живут отели и бензоколонки, дороги и дорожная торговля, показ «памятников» и вождение по ним, да и сами эти «памятники» живут, живут и не собираются выйти на пенсию, перейдя под сомнительную сень «охраны памятников». Они — почти каждый из них — используются под самые современные мероприятия, посещаются тысячами людей не как памятники, а именно как жилые помещения. В античных и средневековых цирках, храмах и замках по всей Франции устраиваются концерты, выставки, театральные представления. Возле ажурно прекрасных дверей собора в Бург-ан-Бресе мы застали выставку картин Утрилло; в древнем замке на савойском озере Аннеси — современнейший показ только что созданных Сальватором Дали акварелей к «Божественной комедии» Данте; в античном театре-цирке города Оранж, как и в папском знаменитом дворце Авиньона, — ежевечерние чисто французские зрелища «Звук и свет», — подробно обо всем этом позднее. И так решительно повсюду современность живет бок о бок с прошлым, она экономически эксплуатирует его, она приучает народ видеть в нем не только историю, но и продолжение истории, — а такая живая память — это не память старости, это память молодости, когда вы несете свое прошлое целиком с собой.
Вот первые беглые впечатления, получаемые путником от французской дороги как таковой.
II. Бургундия
Для тех, кто выезжает из Парижа на юг, мимо величественного льва, лежащего у Орлеанских ворот, маршрут вначале один: предместья; остающиеся в стороне ленинские места (Лонжюмо, — о нем в самом конце поездки!); розовые сады; элегантный аэродром Орли; ноля кукурузы, небольшой лиственный лесок — до поворота с автострады к прославленной деревушке Барбизон и дворцу Фонтенебло.
В Барбизоне гладкая парижская равнина чуть начинает холмиться. Здесь, в уютных виллах, превращенных сейчас в музеи-мастерские, жили и работали художники-реалисты прошлого века Жан-Франсуа Милле и Теодор Руссо, подобно нашим передвижникам отвернувшиеся от ложноклассических сюжетов своего времени и начавшие писать: первый — жанровые сценки крестьянского труда; второй, основатель «интимного пейзажа», — мягкий элегический мир окружающей его природы, населенный сельскими жителями. Поблизости от этих вилл — кусочек оригинальной природы, прогулка на серые скалы, выступающие своими круглыми панцирями из земли, как спинки больших черепах; барельефы портретов Милле и Руссо на одной из скал, обязательные киоски с открытками и сувенирами и начало леса Фонтенебло с уходящей о глубь его непроезжей дорогой.
Для начинающего свое путешествие по Франции впервые все это очень интересно, прежде всего тем, что можно назвать «культом ателье живописцев», широко во Франции распространенным: какое бы живописное местечко ни попалось вам, обязательно, словно подтверждая происхожденье самого слова «живописный», будут там виллы-ателье художников, посещаемые, показываемые, придающие славу местности.
Но я, хоть и отправилась в свой путь впервые, была уже отравлена ядом стендалевской иронии. С некоторым скептицизмом восприняла я и серые скалы, и дворец Фонтенебло, к которому мы подъехали из Барбизона, памятуя слова Стендаля из его «Записок»: «Скалы Фонтенебло просто смешны. Только преувеличенные рассказы о них ввели их в моду… Лесистые места также очень жалки». Еще более непочтительно, с убийственной меткостью, выразился Стендаль о дворце Фонтенебло: «Дворец Фонтенебло весьма плохо расположен, в самой низине. Он напоминает словарь по архитектуре: все как будто налицо, а между тем ничто не волнует». Без особого волненья заглянули мы в сад Дианы, отдали положенную дань теням Франциска I и Людовика XV в знаменитом «зало прощаний». По поволноваться перед оградой Фонтенебло нам все же пришлось, хотя и не по архитектурному поводу.
Начав привыкать к нашему доброму коняге — верной старой «Волге», я как-то антропоморфически, чтобы не сказать «каниноморфически», восприняла ее грациозный аллюр, когда она, протискиваясь на стоянки среди туристских машин, словно обнюхала носом багажник одной из них. Что-то было знакомое в этой одной… да ведь она тоже оказалась «Волгой», — «Волгой» среди десятком «ситроэнов», «мерседесов», «аустино», «шевроле», «роллс-ройсов»! Но только на этой второй «Волге» местом рождения стоял Брюссель. Мы узнали, что в Бельгии ость сборочный завод, где фирма Бони собирает нашу «Волгу». Как, значит, экономично придумали наши конструкторы скромные формы советских машин, если «Победа» вторично родилась в Польше, а «Волга» собирается в Бельгии! За Фонтенебло начался наш первый серьезный этап пути. Теперь мне предстояло увидеть Францию настоящую, Центральную Францию, охватывающую чуть ли не четыре департамента — Йонны, Кот-д’Ора, Соны и Луары и Эна, носящую старое почетное имя Бургундии. Машина, уступая дорогу «лихачам», перегонявшим нас с быстротой ветра, скользила — почти вплывала — из долины реки Сены в долину реки Йонны. Казалось бы, какая может быть особенная разница между соседками-реками, текущими под одним небом, на одной широте? Но разница подошла сразу, словно мы окунулись в благоуханный бассейн. Огромный простор распахнулся перед нами с тою особой зеленью, какую сравниваешь с изумрудом, — резко-зеленая трава, зеленые кроны рощ, словно мокрые, завившиеся после мытья и непросушенные волосы русалок. Справа от нас зигзагами петляла Йонна; слева, невидимый глазу, лежал Бургундский канал; впереди пересекал весь департамент Соны Центральный канал, а еще дальше нас ждал неведомый Эн. Вода, вода, влага в небесных тучках, влага в зелени, словно вся Бургундия — не что иное как одна обширная пойма, один нескончаемый заливной луг.
По справочнику Бургундия — район сельского хозяйства. Подобно тому как в Ленинграде Иван Петрович Павлов поставил необычный памятник Собаке — помощнице в открытии условного рефлекса, — в Бургундии вас тоже встречает необычный памятник — черная статуя Коровы. Это почти единственная здесь корова, предпочитающая стоять, а не лежать. Еще в Голландии меня, привыкшую к нашим бродячим стадам, непривычно поразили луга с лежащими на них коровами, а тут, в Бургундии, они тоже лежат, от сугубой сытости, от чрезмерной калорийности лугов с их выхоленной, жирной травой, от густоты ароматов в воздухе, от тяжести переполненного вымени, — белые, крупные, с рыжеватиной на блестящей шерсти.
Но именно здесь, в этой стране молока и мяса, я столкнулась с новым для меня экономическим разнообразием «профиля». Мы привыкли в наших огромных пространствах районировать хозяйство широкими мазками кисти: леса так уж леса, целые массивы леса с порубкой, заготовкой, сплавом; животноводство — так уж в размерах гигантских, как нескончаемые стада на Алтайских горах, на границе пустыни Гоби, где-нибудь на склонах Арагаца в Армении; землепашество — так уже целина до горизонта или бесконечные волжские поля… Промышленность — и едешь час, два, три по Уралу или Донецкому бассейну, видя в окне горы угля, руды, шлака, вышек и труб. А уж если степь, так чеховская степь, без конца, без краю. Мы как-то но привыкли «ломать» наши профили контрастами, использовать местную природу и археологию. А бургундский сельскохозяйственный район совершенно неожиданно для туриста оказывается по соседству с сердцем французской металлургии — одним из самых крупных заводов в Европе, знаменитым Лё-Крёзо. Этот завод совсем близко на Центральном канале, в двух шагах от «черной коровы». Лё-Крёзо — не «модерн», не порожденье нашего века, хотя там и создается нечто очень новое, — он современник демидовского Урала.
Если сельское хозяйство Бургундии соседствует с металлургией, корова с мартеном, то в каком же окружении находится сам Лё-Крёзо? Взглянув на карту района, мы видим вокруг него городки с незнакомыми названиями: Отён, Шалон-на-Соне, Турнюс, Брансьон. Незнакомыми они, впрочем, останутся для вас, путника по дорогам Франции, ненадолго. Дорожные столбы с рекламами, плакаты на стенах, объявления в газетах кричат вам на каждом шагу, что их нельзя пропустить на пути к югу, что это гордость нации.
С общим типом таких городков-музеев мы познакомились еще при самом въезде в Бургундию, в Сансе, который почему-то, вопреки правилам французской орфографии, произносится не «Сан», а «Санс». В Сансе собраны сразу: античность (в библиотеке манускриптов есть занимательный костяной образец переплета с языческими изображениями), средневековье (церковь XII века) и Ренессанс (музей крупного мастера Ренессанса, тамошнего уроженца Жана Кузена).
По городки-музеи вокруг «сердца металлургии» заставляют вас позабыть о Сансе. Каждый из них поражает чем-то необычным. В Отёне — от языческих времен пристально смотрит на вас стена загадочного храма Януса тремя круглыми окнами-дырами, как тремя глазами, и от христианских времен — с непередаваемой силой высеченный барельеф простоволосой, как русалка, библейской Евы в соборе XII века. А в городке Брансьон просто нельзя не посмотреть старинную фреску воскресения из мертвых, где из гробов, как из больших чанов, поднимая в знак неожиданного прихода в гости руки жестом «а вот и мы!», вылезают голые люди одного и того же молодого возраста.
Возле Шалона-на-Соне родился знаменитый физик — один из создателей фотографии, Никифор Ньепс, — и в шалонском музее вы узнаете об этом отставном лейтенанте, как в самом начале прошлого века он проявлял свои пластинки в лавандовом масле — том самом лавандовом масле, какое прославило французскую парфюмерию.
В Турнюс, городок с древним римским названием и о великолепнейшим памятником французского зодчества XII века, церковью св. Филибера, мы приехали уже к вечеру, заночевать. Успели только бегло осмотреть собор. В его строгих, прямых очертаниях и в его симметрии есть что-то жесткое, и так же прямолинейна и жестка его мадонна из кедрового дерева, похожая на простоватую труженицу крестьянку, с простоватым великовозрастным крестьянским парнем, Христом, на коленях. На закате засветился перед нами знаменитый зеленый витраж «Распятие», единственный но необычайной для XII века утонченности и изяществу. Глаза у нас слипались, и мы оставили все остальное на завтра.
Пролетая десятками километров по стране, чтоб увидеть ее всю за какую-нибудь неделю, нельзя рассчитывать на подлинное углубленное узнавание. И все же — какое богатство впитало за день наше взбудораженное воображение! Века и люди и дела этих людей прошли перед нами на цепочке времени: древний мир, отложивший свои тысячелетние следы; христианство с его мыслями, устремленными к небу, особенность и характер французской ранней готики, не похожей ни на немецкую, ни на английскую; Ренессанс — с его любовью к земной красоте; начало века больших открытий в науке, девятнадцатого… Красота — и та нить времени, которую зовут историей, и люди-творцы, неутомимо создающие материальный и духовный мир, как пчелы в улье нашей планеты Земли… Оттого что Так много сохранилось следов их непрерывной деятельности, вы вдруг начинаете конкретно представлять себе слово «человечество» не суммой всех тех, кто живет сейчас, сию минуту, а суммою всех живших в веках и обреченных жить в будущем, — и таким молодым кажется вам сегодняшний день, такой молодой земля Франции.
Вы думаете еще и о великом подспорье для воспитания и обучения человека — в этих материальных следах на земле, памятниках искусства и культуры, биографиях больших творцов и охране их лабораторий, мастерских, жилья. Вздохнешь невольно: в каком загоне у нас иные великолепные деревянные памятники русского Севера, чудные старые здания Костромы, Углича, как нелегко проехать туда и осмотреть их…
Так в один день, школой познания и вкуса, нигде не утомительной, потому что разнообразной, пронизав воображенье и мысль остротой впечатлений, прошел перед нами отрезок Центральной Франции с ее сельским хозяйством, тяжелой промышленностью и бессмертной красотой памятников. И все это на фоне удивительной природы — выхоленных речных долин, мягких холмов, серебряной лепты реки и кудрявых рощ, словно взятых с поблеклого старинного гобелена.
III. Верхняя Савойя
Вы просыпаетесь раным-рано. Типичная французская гостиница с кроватью, где можно уложить четверых, с горячим душем за занавеской. Внизу — шум уборки, двиганье стульев, хлопанье дверей, — вам готовят обычный завтрак: кофе, кусочек масла, ложка джема на тарелочке, неизменные круасан — легкие, как воздух, слоеные подковки. Мы в городе Турнюсе, и, прежде чем двинуться дальше из Бургундии, надо посмотреть знаменитое турнюсское аббатство, побывать в музее Грёза, побродить по утреннему городу, который только еще просыпается. В нем немногим больше шести тысяч жителей, а чуть не на каждом углу отели и остывшие за ночь, опыленные и окропленные дождем машины туристов.
Иду с некоторой неохотой в музей Жан-Батиста Грёза, родившегося в Турнюсе в 1725 году и, видимо, очень чтимого; с неохотой, потому что в невежестве своем я соединяла с его именем только так называемые «головки», нечто очень сентиментальное и красивенькое, то, что англичане называют «pretty-pretty». И какой неожиданный шок в музее! Вместо салопного сентименталиста — тонкий и умный друг Дидро, настоящий тенденциозный художник революции, убежденный реалист, преданный натуре, пропагандирующий своей кистью нравственные начала, крепкую семью, тот очищающий дух, каким дышали первые работы энциклопедистов и первые дни революции. А главное — какой мастер глубокого, реального портрета! Если б не Грёз, не было бы у нас подлинного образа Дидро, кстати сказать, давшего восторженный отзыв о творчестве Грёза. Не было бы образов Дантона, Робеспьера, Глюка. А перед его собственным автопортретом стоишь долго — вся эпоха французского материализма глядит из этих умных глаз с чуть скептическим прищуром, из этой доброжелательной, хотя и не ждущей добра от других, невеселой улыбки. Грёз — не сентиментальная, а скорее трагическая фигура. Задвинутый великолепным Давидом, он умер в нищете, не признанный той самой революцией, чьи материалистические истоки хотел подхватить и воспеть…
Нам предстоит свернуть с нашей проторенной магистрали Париж — Марсель в сторону Альп и, вместо спуска все ниже к морю, подниматься все выше и выше, к границе Швейцарии, в Верхнюю Савойю. Но до поворота еще далеко. Еще впереди — Бург-ан-Брес, город по сравнению с маленьким Турнюсом столичный, и мы влетаем в него прямо на площадь, славящуюся своим филигранным собором.
До сих пор впечатления наши не шли дальше XII–XIV веков французской готики, очень прямолинейной, очень суровой и солидной в симметрии своих сводов и окоп, зубцов и башен. Но здесь в фасаде собора — нечто совершенно непохожее, мы лицом к лицу с веком XVI, со стилем, французами названным «стиль готик флямбуайян», — несколько напыщенный эпитет, переводимый как стиль блестящий, пламенный. Словно рука крючком связала этот замысловатый фасад, похожий на кружево с завитушками или на костер с огненными языками. Такова знаменитая церковь де Бру в Бурге, место паломничества тысяч туристов.
Тут же, чуть ли не в здании самой церкви, гастрольная выставка картин Утрилло. Дальше — этнографический музой. Хотя старинные французские провинции делятся сейчас на десятки департаментов, население каждой из них сохранило свои старые названия (бургундцы, провансальцы, нормандцы, савояры, дофинезцы и т. д.); оно ревниво бережет в музеях исторические подробности своего быта, одежды, обычаев, и даже маленький Бург-ан-Брес рассказывает вам в музее о «бресистах» и всех отличиях этих «бресистов» от жителей других городов.
Мы знаем еще одну достопримечательность старой Бургундии на пороге расставанья с нею. По общепринятой традиции французская кухня считается лучшей в мире; но и в лучшей есть свое лучшее: местность Брес рекламируется как царица французской гастрономии. Ресторанов здесь множество — прямо перед фасадом церкви; туристы уносят из них салфетки, подстаканники, сувениры с надписью, удостоверяющей, что вы ели и пили в Бресе. И мы, поддавшись гипнозу, тоже вошли в один из них и в меру наших средств напились чаю с яблочным пирогом, действительно вкусным.
Вот теперь начинается новый этап пути. Верная «Волга», гудя, берет высоту, карабкается по зигзагам выше и выше, пересекает густо-зеленую реку Эн, — и уже вьется Эн, как уползающий змей, где-то внизу. В разрезе дороги — дымное очертание далеких белоголовых гор. В воздухе вместо бургундской влаги мелкими иголочками начинает покалывать вам сердце первая горная сухость, напоенная запахом осени.
За зигзагом узкого ущелья, в двадцати километрах от курорта Нантуа, навстречу вам вдруг стремительным броском возникает из скалы каменная фигура женщины. Машина замедляет ход на мосту, перекинутом над Эном на большой высоте. Мы сходим на мокрый асфальт и под мелким, как пыль, дождиком подходим к статуе. Надпись:
ГДЕ Я УМИРАЮ — ВОЗРОЖДАЕТСЯ РОДИНА.
АрагонТут, на горной высоте, памятник семистам погибшим партизанам и солдатам (маки) армии Сопротивления. Маленькие, бесчисленные могилки вокруг. Сколько надписей самых разных национальностей! Рядом с французом Пьером Жоли — итальянец Мануэль Паламино, араб Калифа бен-Мухаммед бен-Лорби, латинский шрифт чередуется с арабским. И еще больше могилок неведомых, безымянных. Это уже история сегодняшнего дня, и она создана скульпторами Ноэми Альбером и Робером Жэном монументально, как создавали средневековые их предки.
Хорошо стоять здесь, на горной высоте, в мельчайших брильянтиках горного дождепада. Но время двигаться дальше. И мы опять летим, а если глядеть на нас с самолета — ползем по зигзагам горной Юры, вверх, в самое небо, и с каждым зигзагом — новые прелести, растворенные в необъятных просторах гор. На дороге в своих желтых куртках-сигналах работают уже марокканцы, смуглые люди, посылающие нам белозубую улыбку. Слева медленно, как привидение, встает стена тумана, густого, плотного, как картон. Он заслонил от нас снежную цепь Альп, заслонил вершину Монблана. Разъезд: налево сорок четыре километра до Женевы, направо — столица Верхней Савойи, Аннеси, с ее знаменитым но красоте горным озером. II мы поворачиваемся спиной к Женеве.
Что я знала о Верхней Савойе, прежде чем увидеть ее воочию? Есть такой роман Поль де Кока, писателя, обиженного ни за что ни про что скверной репутацией, хотя этот «милый Поль де Кок», «прелестный и разнообразный» (слова Белинского), дал нам в своих романах, как никто, поэтичнейшие картины французской провинции, — так вот, есть у него роман «Маленький савояр». В нем рассказывается, как ежегодно сотни мальчуганов от семи-восьми до двенадцати лет спускались с вершин голодной и нищей Савойи, неся за плечами лесенки, — для нехитрого приработка в Париже: они были трубочистами, лазали, как черные черти, своими худыми тельцами по парижским дымовым трубам и за гроши чистили их. Вот это единственное я и знала о Верхней Савойе, и, когда со стыдом призналась в этом встреченному мною в Аннеси французу, он серьезно ответил мне: «Ну что ж, не так давно было все это».
Не так давно Верхняя Савойя была бедной горной страной, посылавшей своих ребят на приработки. А сейчас французские книги по современной экономике, языком, очень далеким от веселого языка Поль де Кока, пишут, что «Верхняя Савойя показывает (affiche) динамизм, весьма превышающий среднюю норму». В переводе на человеческие понятия это значит, что, занимая во Франции сорок шестое место по числу населения, она стоит на втором (втором!) месте по числу автомобилей в течение последних пяти лет. Из них по количеству частных машин, принадлежащих жителям, она занимает третье место. В последние годы получено множество заявок на телефоны, открыто много почтовых отделений. И если девять лет назад Савойя жила главным образом сельским хозяйством, то сейчас отличные дороги, близость Женевы, близость с Италией (туннель под Монбланом) и три плана ее индустриализации — в годы 1947–1953 (сразу после войны), 1954–1957 и 1958–1961 — сделали ее высокопромышленным, урбанизирующимся краем.
Попробуем трезво проанализировать эту официальную справку.
Сорок шестое место во Франции по количеству населения… Это значит, что Верхняя Савойя разрежена, как ее горный воздух, — очень, очень мало населена. И в этой скромной, «разреженной» плотности населения — второе место по количеству автомобилей. Но ведь не эти же бедные крестьяне в национальных одеждах савояров владеют автомобилями, не эта часть населения доминирует в приведенной статистике? И тут припоминается мне еще один график, самый красноречивый: «Но количеству собираемых налогов Савойя вышла в глобальном отношении на девятое место». И опять спрашиваешь себя — ведь не эти же труженики, подвозящие в ручных тележках лесное топливо к своим избушкам, не они же, коренное население, платят настолько большие налоги (с каких доходов?), что вывели свой бедный горный край на девятое место «в глобальном» масштабе?
Даже если судить только по статистике самих буржуазных экономистов, необыкновенный «динамизм» развития Савойи обогащает тех, кто владеет и туризмом, и дешевой гидроэнергией, и фабриками, и заводами. Ну, а как маленькие савояры, дети этих гор, этой красоты и прелести самой Савойи? Далеко ли ушли они от своих предков, покидавших горький дымок родного очага, чтоб чистить дымные трубы Парижа? Не очень.
Да и остались ли еще милые домики савояров и черномазые мальчишки-трубочисты? Неужели только тысячами «сувениров», продаваемых в сотнях лавок: домики с глазком, в который, поворачивая трубу, можно видеть несколько снеговых панорам Савойи; куколки-трубочисты с черными мордочками и прикрепленной за плечами картонной лесенкой? Но вот «фабрика, изготовляющая домики» — уже не игрушечные. Значит ли это, что крестьяне получают сейчас свои живописные «шалэ» в массовом виде, фабричным способом?
Высоко в горах, куда трудно было забраться, афиши оповещают о гастролях китайского цирка и «известного певца Тино Росси». Задолго до Аннеси — целая россыпь. новостроек, нескончаемые белые дома, рекламы всяких строительных «сосьете». Слева, в долине, уже все полно, все застроено, сердце сжимается за Верхнюю Савойю, ее красоту, ее горы. И все же, когда вы въезжаете в Аннеси, вы невольно вскрикиваете от неслыханного богатства красок, для которого слов не хватает.
В Аннеси я чуть не начала, по старой памяти, стихи писать: в голове у меня пела и пела коротенькая мелодия «каждая встреча — разлука», мелодия вечного странничества. Город с его каналами, отведенными от озера, и островком, на котором стоит старинный замок, бывший когда-то, в своих подвалах, тюрьмой, — похож на Венецию, но так, как румяный, кудрявый подросток похож на бледную и призрачную девушку Боттичелли. Озеро, огромное, густо-синего цвета, исчерчено белыми, желтыми и алыми парусами. На каналах, словно кто-то рассыпал охапку белых лилий, группами плывут лебеди. На горизонте вокруг — далекие хребты, хребет за хребтом, до снежных вершин в самой последней дали. Крыши домов в городе, черепица на башне замка — кирпично-красного цвета, и ало-красного цвета гвоздики на газонах, в ящичках по карнизу железной ограды замка, в высоких чашах, заменяющих клумбы, тенистого парка на берегу озера.
По главное, чем гордится Аннеси и полна память его жителей, — это старая часть города и старый собор: в этом соборе, где хранится знаменитое полотно Караваджо, пол мальчиком в хоре Жан-Жак Руссо. Неподалеку, в доме № 13, была музыкальная школа, где Руссо, большой музыкант, приобщился впервые к музыке. И любви приобщился Жан-Жак в этом городе ярких красок. Знакомый по тысячам изображений, рядом со старым жильем епископа стоит Дом мадам Варрен. Кто читал «Исповедь» Руссо, знает, чем была мадам Варрен для подростка, жившего под ее «материнской» опекой. Все в этих уличках, в этих домах, сохранивших свой облик XVIII века, встает исповедью Руссо, музыкой Руссо, как над строгим латинским Турнюсом веяло духом Грёза.
Расставаться с Аннеси все же пришлось, и мы опять мчимся, забираясь все выше в горы, к любимому месту лыжников, местечку Межев. Мчимся мимо домиков савояров, их крохотных деревушек, все более бедных, все менее искусственных на вид. Наивно раскрашенные ставни — розово-зеленой полоской и голубым горошком; под примитивными навесами заготовляются на зиму дрова; но косогору ходит косилка. Мы проезжаем строящуюся плотину Арли, а жителей почти не видать, — и, может быть, тень Руссо помогает мне обратить свою мысль от магической красоты природы к этим убогим маленьким жилищам, лепящимся по горным склонам, а в памяти встают графики, о которых я упомянула выше.
IV. Дофине́
Из верхней точки Верхней Савойи нам нужно было спуститься, но, правда, не очень спуститься: все в те же альпийские долины, с теми же снежными вершинами на горизонте, с бурной рекой, только — другой рекой, любимицей Стендаля, Изерой, в ее раннем течении, где она еще бьется о камни, бросаясь вниз. И внизу, разлившись, превращается в полноводную красавицу, одну из самых интересных рек Франции — кормящую и красотой своей, и энергией своих вод богатую провинцию Дофине́.
Если Савойя показательна для послевоенной экономики Франции «динамизмом» своего развития, то провинция Дофине еще показательней Савойи, хотя в цифрах это и не сразу заметишь: Савойя начинала с азбуки, с первой страницы, из нищей горной страны превращаясь во внушительную налогоплательщицу. Дофине начинала с середины, богатея и возрастая на более утрамбованном фундаменте. Но если вы всерьез захотите узнать «прекрасную Францию» и пропутешествовать по ней не беглым взглядом туриста, а более пристальным, запоминающим взглядом доброго знакомого, вам надо изучить эти две провинции, быть может самые яркие в блестящем ожерелье французских земель.
Я была по-особому заинтересована в знании Дофине. Если можно заочно влюбляться в города, я была со школьной скамьи влюблена в Гренобль, столицу Дофине, очарованная самим звучаньем ее имени, сочетающим музыку и благородство. Понятно, что в Париже я прежде всего «бегала все книжные магазины, надоедая продавцам просьбами дать что-нибудь специально о Гренобле. Меня снабжали толстим «голубым гидом» о провинции Дофине; мне предлагали великолепные альбомы с видами Французских Альп и рекламами «телеферик», воздушных дорог, где с помощью кабинки и могучего троса вы можете попасть на вершины, раньше считавшиеся недоступными, вплоть до самого Монблана. Альбомы пестрели панорамами площадок и ресторанов, по-домашнему устроившихся на этих ледяных вершинах, куда раньше, с человеческими жертвами, добирались герои-альпинисты в своих сапогах с железными «кошками». Была такая телеферик и в Гренобле — семьсот метров длины по воздуху, пролетаемых и кабинке четыре с половиной метра в секунду. И все это, честно говоря, интересовало меня очень мало, все это было как раз для «беглого взгляда туриста».
Тогда я поехала в «Юманите». В большом мрачноватом здании, похожем на все типографии мира, на старые здания газет и издательств и у нас, и на Флит-стрит в Лондоне, и в той особой атмосфере деловитости, лаконичности, темпа, товарищества, к какой привык советский газетный работник, — я сразу почувствовала себя как дома. Руководимая моим спутником с этажа на этаж, я попала наконец в узкий мир многоящичных полок, где хранились «досье» всего, что только может понадобиться газетчику. И люди вокруг меня были как наши — милые, сердечные девушки, лохматые мужчины с совершенно знакомыми лицами, протабаченные и не спеша делавшие все очень срочно, как мастера на заводе. Словом, это была газета. Привычная, хорошая газета, где с плеч человеческих спадает ненатуральность, накидываемая на себя в чужих странах, — и просовывается вдруг наружу ваш собственный характер. Я тоже проявила характер. Я совалась и просила, требовала и рылась, ускорила вокруг себя темпы, словно была в Москве, покуда наконец не появились передо мною захватывающе интересные вещи. Во-первых, экономическая газета «Эко», со статьей о Гренобльском районе — Мориса Морен-Марту; во-вторых, брошюра об иностранных рабочих во Франции, из серии «Заметок (notes) и документальных исследований», № 3057; в-третьих… но о «в-третьих» попозже.
Я уселась за столик возле окна, согнав, видимо, его хозяина; шли часы — мне казалось, они летят. Я так спешила конспектировать драгоценный материал, что читала и записывала сразу, с листа, как играют «с листа» музыку, — псе было интересно и совершенно ново. Передо мной логически разворачивался тог процесс «концентрации производства», о котором мы наизусть знаем, хоть и но видим его перед глазами. А тут весь пейзаж — лучше, конкретней, зримей, чем в великолепных альбомах. Необычайная комбинация: самый центр Альп, столица, внедренная в горную цепь, у слияния Драка и Изеры (по старой гренобльской мифологии — Дракона и Змеи). Сюда спускаются горные склоны, здесь скрещиваются дороги, рождая рынок. Сто лет назад маленький провинциальный Гренобль славился одним производством — перчатками. Знаменитые гренобльские перчатки: они вывозятся, их натягивают на руки в других странах. Конкурируют с ними разве только чешские перчатки откуда-нибудь из горного Нейдека… Но проходит сто лет. И большой столичный Гренобль стал центром металлургии. Дракон и Змея вышибли для него из своих зеленоватых вод белую энергию: на Изере уже девять гидроцентралей, производящих каждая по два миллиарда киловатт-часов в год, на Драке — двенадцать гидроцентралей, дающих каждая по миллиарду киловатт-часов в год. Возникают имена предпринимателей, ставших во Франции безликими, нарицательными. Когда называют их в справочниках, они сопровождаются своеобразным титулом «группа» — группа Нейрпик, Мерлен-Жерен, Катерпилляр…
И вот столица Изеры, прижатая одним берегом реки к скале, начинает пухнуть, раздуваться вширь от растущих заводов, от которых, как от гигантских кактусов, отпочковываются ветви и веточки. Парижские «кактусы» тоже тянутся к дешевой энергии Гренобля. Не хватает места — и возникает удивительное общество: «Комитет по экспансии». Оно «предлагает» крупному капиталу несколько маленьких городов в Гренобльском районе, готовых принять в свои стены тяжелую индустрию. Вообще, читая статьи но экономике Запада, натыкаешься на порождение нынешней стадии крупных монополий — множество всяких обществ, комитетов, комиссий. Приказывать они не могут, но они «предлагают» и «указывают». Парижские банки тянутся вслед за предприятиями, оседают в Гренобле, съедают местные банки, имевшие дело со скромными производствами бумаги, дешевой вискозы, текстиля, продуктов питания. Чем крупней и концентрированной становится капитал, тем лихорадочней тянется он к максимальной прибыли, — это как «реки стекают в море», как лист поворачивается к солнцу. Какую книжечку написал бы об этом Ильин!
По вместо Ильина — мне приходится тут обратиться к сухой прозе ученого доклада. В конце 1964 года в новом университете Гренобля, на заседании, посвященном «проблемам Гренобльского района», выступил известный французский экономист Жан Жиар. Его речь ярко осветила то, что происходит в промышленности Гренобльского района.
«Я хочу со всей силой подчеркнуть две существенные черты этой промышленности, — сказал он в начале своего доклада. — Первая черта — это ориентация на мирные цели, не только потому, что тут нет военных заводов, но и потому, что гренобльская индустрия была направлена исключительно на первичную продукцию для реальных нужд общества. Вторая черта — это экспорт… и посмотрите, что сделали сейчас из этих двух черт крупные монополии»[1].
Если в первые годы промышленного роста район производил главным образом оборудование для гидростанций, турбины, «гамму всех видов машин и механизмов, сопровождающих развитие электрической мощи», наконец — полупроводники («Всеобщая компания полупроводников» выпускала двадцать миллионов транзисторов в год), — то уже к 1964 году стала расти химическая промышленность, но которой Гренобльский район вышел на одно из первых мест во Франции.
«Я должен обратить ваше внимание, — говорит Жан Жиар, — что гренобльская индустрия претерпела в последние годы очень важное изменение». В опубликованном в 1960 году плане развития района «превозносится развитие вокруг Гренобля электронной, гидравлической и ядерной индустрии; в рапорте, представленном на Втором конгрессе альпийской экономики в апреле 1963 года, отмечается большое развитие индустрии электронной, ядерной и научно-изыскательской (Les Recherches), а уже в 1964 году «Комитет по экспансии» объявляет планом развития Гренобля электроники, атом и химию. Химия заняла место гидравлической промышленности, хотя возможности для развития гидроэнергии в районе далеко не исчерпаны».
Такое же резкое изменение претерпела и вторая черта гренобльской экономики — экспорт. К примеру, группа Мерлен-Жерен вывозила свою продукцию в девятнадцать стран. В 1961 году оборот ее выразился в восемнадцати с половиной миллионах новых франков. По уже через год, в 1902 году, он достиг тридцати миллионов новых франков. Стихийный рост экспорта происходит и в других группах. За счет чего? Жан Жиар отвечает: за счет изменения поставок в сторону военной продукции. У Мерлен около двадцати процентов экспорта сейчас идет на военные заказы; у Согрэа гидравлические изыскания принесены в жертву изысканиям в области атомных подводных лодок, «полярисов»; у Нейрпик турбины уступили место танковым башням (tourelles de chars); Катерпилляр получил заказ на бульдозеры для атомных баз на Тихом океане, «поскольку бульдозеры были одним из решающих элементов победы 1945 года».
И Жан-Жиар заключает: «Индустриальная промышленность, глубоко мирный характер которой я отметил выше, изменила этот характер в сторону его милитаризации»[2].
Так исказился благородный профиль района. И это искажение мирного лица Гренобля соответственно отражается на программах университета, на положении средней школы, удорожании жизни, ухудшении интеллектуального творчества, ограничении исследовательской тематики — словно большая темная туча закрыла синее небо над Греноблем. А ведь этот город, дорогой для французского искусства и науки, ко всему прочему еще и красивейший среди Альп, — сердце альпийского туризма!
Тут я закончила чтение речи Жана Жиара. Восемнадцать страниц петита, — а за окном уже стало темно, люди вокруг меня начали задвигать ящики, снимать рабочие нарукавники, тянуться к вешалке. Конспектировать не осталось времени, но речь мне нужна была до зарезу, нужна под рукой, для работы, для сворки. Тщетно выглядывала я силуэт машинистки или хотя бы манишку, покрытую клеенкой. Где она, куда девалась? С нетерпением в голосе я стала настойчиво повторять: «Ну, пожалуйста, ну хоть через день, через два дня, — сколько времени надо, чтоб машинистка отстукала восемнадцать страничек?» И тут меня ожидал большой конфуз. Товарищ, уже собравшийся уходить, сказал что-то о технике. Переспросил: «Машинистку, чтобы снять копию?» — тоном, каким встретил бы Просьбу нанять извозчика, чтоб ехать в Америку. Он подошел к чему-то, похожему на ящик, и взял у меня из рук брошюру. Пять минут я стояла и смотрела, как он накладывает ее на плоскость, снимает страницу за страницей, и ровно через пять минут получила в руки всю речь Жана Жиара, восемнадцать страниц петита.
Такие машины есть и у нас. Но их нет ни в одной редакции, ни в одном издательстве, где мне приходится работать. И не без горечи вспомнила я, как издательские типографии требуют от писателя непременно первый экземпляр перепечатки книги на машинке, журналы тоже требуют первый, газеты тоже требуют первый; и если вы проводите вашу книгу через все три канала, вы ее трижды перепечатываете, на что уходит множество дней и денег. Какой смысл иметь новейшие машины в стране, если не стремиться утилизировать их практически, размножать их широко?
Но читатель, наверное, немилостиво думает обо мне сейчас. Под рубрикой «Дофине» я поднесла ему свой визит в редакцию «Юманите», а где же это самое Дофине?
Привычная «Волга» несет нас туда, — сперва высоко на перевал, чудом каким-то избегая аварий от мчащихся навстречу машин; потом — зигзагами вниз, в бесконечный простор альпийских лугов, мимо девочек, продающих эдельвейсы. Неуловимо изменился пейзаж, горы отступили, но не ушли. Стало жарко, и мы увидели новые деревья — тополя, оливы. Мягкий, с первым налетом юга, воздух. Появились коровы, но они но лежат, как в Бургундии, а разбредаются в горы за лакомыми травками, и на шее у них позвякивают колокольцы: это чтоб легче было пастуху найти их. Чаще попадаются деревеньки, совсем не похожие на савойские: вытянутые рядами вдоль узкой главной улицы, — каменные дома серого цвета, с облуплен-ной штукатуркой (сколько такой облупленной штукатурки по всей Франции и в самом Париже!), с такими же серыми ставнями и простой, прямо квакерской, церквушкой: белый квадратик, осененный совсем невысоким, деревянным крестом.
Пересекаем колею — идет откуда-то электричка, один-единственный вагон, но в два этажа. Рядом с нею бежит тоже одна-единственная лошадка, везя двухэтажный воз сена. Вдалеке над ущельем — замок. Внизу, вдоль дороги, все чаще и чаще корпуса новостроек, высокие стены заборов, а на заборах надписи углем и мелом: «Американцы, вон из Вьетнама!», «Долой войну!», «Мир Вьетнаму!»
Так наплывает на нас предместьем огромного индустриального центра столица Дофине, город Стендаля и Берлиоза — благороднейший город Гренобль.
V. Гренобль
Если начинать с самого центра, с маленькой площади перед ратушей, то на первый взгляд и небольшой скверик, и среднего исторического возраста ратуша того строительного стиля, который не сразу примечаешь ни по его старине, ни по его новизне, и солидные и тоже не очень видные постройки вокруг — это покажется обыкновенным провинциальным городом буржуазного типа. Но вы в самом сердце, в первом дыхании, в первой строке Великой французской революции. Здесь, именно здесь французский гражданин, представитель третьего сословия, почувствовал, что зазвонил колокол времени, требуя его выхода на сцену истории.
Мы не учили об этом в своих учебниках. Нам запомнились парижские даты, парижские здания и события — «жё дё помм», «Бастилия», — но «игра в мяч» и залы для игры в мяч находились не в одном Париже. В замке Визилль под Греноблем тоже есть зал для игры в мяч. Есть даже своя «Бастилия» — так названа крепость на горе, куда вы взлетаете по воздушно-канатной дороге в какие-нибудь три-четыре минуты. И почти за год до всенародного восстания в Париже, когда 14 июля 1789 года была взята народом тюрьма Бастилия, — именно здесь, в Гренобле, в его ратуше, 14 июля 1788 года, грянула увертюра к будущей симфонии революции.
Взгляните на очень старую черную доску на внутренней стене дворика гренобльской ратуши. Она говорит, что именно в этот день «в десять часов утра муниципалитет, собравшийся в ратуше вместе с виднейшими гражданами Гренобля, принял памятное постановление, подготовившее ассамблею в Визилле, и открыл французскую революцию». В зале для игры в мяч замка Визилль (где сейчас летняя резиденция президента) было провозглашено требование выборности провинциальных Штагов, свободы и самоуправления, всего того, что открыло в конце XVIII века широкую дорогу роста и деятельности буржуазии. Так излетела в Гренобле первая ласточка событий, спустя год происшедших в Париже.
Перекликаясь через сто семьдесят семь лет с чугунной доской, оповещающей о приходе на сцену истории нового действующего лица, буржуа, — тут же, со стены ратуши, у входной ее двери, смотрит на вас другая надпись. Она современна. Она внушительна. В ней всего несколько слов (подобных тем, какие встречаешь на креслах первого ряда в провинциальных театрах, когда их бронируют для высоких лиц): «Место для автомобиля господина мэра». Никому другому ставить машину не полагается на это место, охраняемое надписью. Невольно сопоставляя две эпохи, чувствуешь, как плотно укрепилось третье сословие на французской земле и внушительно держит оно за собой свое место.
Да, город Гренобль сейчас — крупнобуржуазный город, но есть в нем еще кое-что, невольно заслуживающее уважения. Хотя он и стал центром колоссального сосредоточивания промышленности, местом экспансии французского капитала; хоть и сгрудились вокруг него силы крупнейших трестов и монополий; хоть и переметнулись сюда банки, превращая этот город красоты и природной прелести, город Альп и альпийского туризма в центр кипения денежных страстей, — но город Гренобль не потерял от этого памяти. Как ни один другой город Франции, Гренобль четко помнит свое происхождение, верней, начало своих буржуазных свобод — революцию — и постоянно напоминает о ней туристу.
Одно из первейших мест, куда должен зайти турист, — это музей Гренобля, второй во Франции после Лувра по качеству собранных в нем сокровищ живописи. Я всюду бывала в музеях, покупала каталоги — и только в одном, гренобльском, нашла напоминание о том, как и когда начались лот эти городские музеи живописи, открытые дли народа. Великая французская революция дала их своим гражданам, свезя сокровища из королевских дворцов, откуда изгнаны были принцы крови, из графских поместий бежавших эмигрантов и добавив к ним собрания «князей церкви», богатейших лиц духовного сословия. Рассказывай об этом, каталог напоминает, каким огромным толчком для культурного развития народа сделалась французская революция.
Музей нельзя не посмотреть в Гренобле, а посмотрев — нельзя забыть. Помимо того что в нем собраны огромные богатства (едва ли не лучший Рубенс, четыре великолепных Сурбарана, лучшие образцы Каналетто и Гварди, характернейшие полотна французской, фламандской, итальянской школ начиная с XVI века, а из французских импрессионистов такие шедевры, как «Портрет Мадлены Бернар» Гогена, «Читающая женщина» Матисса, «Ребенок с куклой» Пикассо), он замечателен еще тем, как размещены и показываются его богатства. Не знаю, есть ли у музея «фонды», куда он прячет свое второстепенное; но замечательно, что посетителю он не навязывает этого второстепенного и не обрушивает на восприятие человеческое непереносимых сразу количеств.
Охватить все собранное в нем можно за один день, чтоб потом возвращаться, уже зная, кто притягивает вас сюда еще и еще. Хронология — вещь объективная. Вы начинаете видеть, как думали и чувствовали мастера XVI, XVII, XVIII веков, какими страстями жили их эпохи и как глубоко сумело отразить эти страсти гениальное искусство. Вы видите, как постепенно язык живописи становится лаконичнее и в то же время шире, мягче, неожиданней в передаче уже близкого вам времени, как меняется этот язык в XX веке. Музей разворачивается хронологически до самых последних «революций в искусстве», как говорит каталог; от детализированной передачи «натуры» четыре столетия назад, страстных поисков дать этой «натуре» высказаться, зажить, полней выразиться в последующие столетня — и до знаменитой фразы Матисса, которую он так часто любил повторять: «Глядя на картину, надо забыть, что она изображает»; от портретов художника XVI века — до Поля Клее, Модильяни, Франка Куики. И вдобавок к своему постоянному собранию он дает место уже совсем нынешнему дню, экспозиции картин польского художника Востана, помеченных годами 1964–1965.
Нам ничего не навязывается при этом. Учитесь смотреть и понимать сами, руководствуясь тем инстинктом прекрасного, какой — пусть в самом зачаточном виде — живет у всего живого. Но об одной картине мне хочется сказать два слова. Я совсем не знала испанца Сурбарана, родившегося в XVI и жившего в первой половине XVII века. И перед его большим полотном «Поклонение царей» долго стояла и снова к нему возвращалась, потрясенная психологической глубиной каждого лица на этой картине, и особенно двух лиц — царя и младенца Христа.
Старый хитрый грешник, повинный, наверно, во всех семи грехах и особенно в предательстве, насилии, жестокости, изворотливости, — в парче и горностаях, на коленях, согбенный, бочком поднял свой ласкательно-умиленный профиль, чем-то похожий на Ивана Грозного, каким его дают в живописи, но еще больше своей бородкой, улыбочкой, плешиной — на Федора Карамазова, — и смотрит, смотрит, бочком снизу вверх, на младенца Христа, как смотрел, должно быть, Федор Карамазов на Алешу. Дитя — безгрешное — все простит, все искупит. А младенец мудро глядит вниз на старого «Карамазова» в царской мантии. Так видеть людей в XVII веке!
Из музея — по набережной Изеры, наслаждаясь с каждым своим шагом красотами реки и подошедших к ней справа гор, я прошла к узкой площади, где находится университет Гренобля. Серое, невыразительное здание; подальше — трехэтажное, старенькое. Голуби сидят на карнизах. А крупнейшие изысканья делаются тут — в «центре научных поисков», в институте политических знаний, на факультете экономики и права, в «центре документации»… Среди определений научных профилей слово «центр» у французов встречается так же часто, как у нас слово «отдел».
И дальше — опять страничка из прошлого, благородная память Гренобля о революции.
Возвращаясь к улице Бельград, где мы остановились, я миновала угол улицы Монторж, очень коротенькой, но известной каждому туристу: здесь, в гостинице «Трех дофинов», в комнате № 2, останавливался Наполеон на своем пути в Париж во время знаменитых «Ста дней». Но память Гренобля хранит эту комнату и улицу Монторж не только из-за Наполеона. Сюда пришел к Наполеону молодой смелый греноблец — судья Жозеф Рей. Здесь, глядя в глаза императору, бежавшему с острова Эльба, чтоб вторично покорить себе Францию, молодой судья произнес не очень длинную речь — около пятидесяти строк. Жозеф Рей приветствовал Наполеона от имени города Гренобля; он сказал, что Франция любит его, восхищается им как великим человеком и полководцем; но она не любит и не желает иметь диктатора, создавшего новое дворянство и опять «оживляющего старые злоупотребления», сметенные революцией. Речь эта была в тот же день напечатана в двадцать тысяч оттисков и роздана жителям Гренобля, — вот что связано с короткой улицей Монторж и гостиницей «Трех дофинов».
Мне предстояло, миновав эту улицу, пойти на другую окраину, где помещается музей Стендаля, пламенного патриота своего родного Гренобля, постоянно вспоминавшего о нем в укор нелюбимому и остро им критикуемому Парижу, — Парижу, который он назвал становящимся «день ото дня все безобразнее».
Музей Стендаля в этот час был пуст. И опять пришлось мне подивиться, как много может сказать мертвое собрание документов, если есть время пересмотреть их в постепенном, хронологическом разворачивании. Я не стану тут приводить содержание музея. У нас много читают и много издают Стендаля, и советский читатель знает его жизнь. Но музей помогает глубже осмыслить его значение: при жизни этот замечательный писатель совсем не был ни знаменит, ни популярен, ни даже читаем, и далеко не все его книги были напечатаны, а напечатанные выходили в свет не легко: прославленные в те годы братья писатели смотрели на него скорей как на любителя, а не профессионала. Другой великий греноблец, родившийся в департаменте Изеры, Гектор Берлиоз, презрительно обмолвился о нем в своих мемуарах один-единственный раз, назвав его «каким-то консулом, писавшим много глупостей о музыке»[3]. А между тем этот офицер и незначительный дипломат, консул в маленькой Чивита-Веккиа, собрал чуть ли не с первых публикаций вокруг себя такой избранный круг глубоких почитателей, добился такой высокой оценки, как мало кто из его современников. Музей учит вас понять, как и почему это могло произойти.
Огромное количество приведенных о нем отзывов, выдержек из речей и писем показывает, какую могучую революционную роль сыграла проза Стендаля во французской литературе. Наперерез высокой риторике, национальному красноречиво, постоянному пафосу, романтической условности, приподнятости, многословию с французским снобизмом внешней лаконичности — встала простота, здравость, трезвость суждений Стендаля, то мыслящее свойство французского гения, которое, казалось, было утрачено со времен Паскаля и Дидро. Своей страстью к натуре, к природе вещей, к точной передаче действительного в человеке и обществе, страстью, граничившей с жестоким натурализмом, Стендаль нашел отклик у французов-мыслителей, французов-реалистов, по мнению которых он совершил подлинную революцию во французской прозе, а может быть, и не только французской. Ярче открывается в музее и еще одна важная особенность Стендаля: его любовь к научным аналогиям, к хозяйству и экономике и к физиологической основе душевных явлений.
Стало совсем темно, когда я вышла наконец из музея Стендаля, который хотелось бы назвать «семинаром по Стендалю». Я свернула в ближайшую улицу и — остановилась (чуть не написала «как вкопанная»). Прямо передо мной вздувалась от ветра афиша кино. Буквы на ной были не латинские. Они шли справа палево витиеватыми запятыми и точками арабского шрифта. Арабская афиша в городе Гренобле, по соседству от двух важных музеев — Стендаля и провинции Дофине!
А вокруг меня постепенно оживлялась улица, народ повалил откуда-то, переговариваясь на странном языке. В лица были совсем не французские — смуглые, почти черные, мрачноватые… Алжирцы! Не где-нибудь на далекой окраине, а почти в самом центре, по соседству — Да, но соседству от гигантского образца архитектурного модернизма, так называемой башни Ротшильда «Веркор». Построенная на 28 этажей, 150 квартир со всеми городскими качествами «люкса», вплоть до своего микроклимата, эта башня «Веркор» смотрит сверху вниз на странную, страшную улицу, где даже огни горят как-то приглушенно. Говорят, вечером сворачивать туда не рекомендуется, — там досужих людей не любят.
Прошлый раз я рассказала о промышленной экспансии Гренобльского района. Экспансия требует рабочих рук. Только в конце 1962 года во Францию влилось многим больше семисот тысяч человек одних итальянцев. Из них свыше сорока тысяч пришлось на Гренобль и Гренобльский район. А португальцы? Алжирцы?
Вскоре после моей поездки специальный корреспондент «Юманите» захотел посмотреть, как живут рабочие в Гренобле, где числилось свыше 4000 пустых квартир в роскошных новых домах. Его статьи прошли в трех номерах газеты, начиная с 14 сентября, — читать их страшно, особенно когда видишь перед собой Гренобль, красавицу столицу, арену зимних Олимпийских игр 1968 года, выбранную с учетом ее громадных природных, культурных и исторических преимуществ. Журналист, не довольствуясь статистикой, проверил все цифры собственными ногами. Он обошел мокрые, темные, вонючие жилища, ходил в подвалы, поднимался на чердаки. Вот одна комната без удобств, без печки, где живут 17 итальянцев. Железные их кровати сдвинуты рядком, чемоданы стоят на прибитых к стене досках, платье развешано на веревках, протянутых от стены к стене. Когда половина жильцов протискивается к столу поесть, другая половина ждет, — всем сразу не хватает места. За свою койку в комнате каждый платит по 25 франков в месяц предприятию Дард, на стройке которого они работают. Предприятие Дард снимает эту комнату у ее хозяина за 100 франков в месяц. И, получая с 17 рабочих 425 франков, оно ежемесячно кладет себе в карман 325 франков прибыли.
Журналист картинно заключает: эксплуатация не только дневного труда рабочих, но и ночного их сна. Не одни итальянцы, — французским рабочим семьям не лучше: 225 семейств (в некоторых но 12 душ) вообще не имеют жилья и ютятся у добрых знакомых; 17 семейств — в шалашах; 9 — в пещерах; 27 — в дачных вагончиках (roulottes); 101 — на сеновалах, в сараях, на чердаках. Он не делает вывода. Он только помещает в своей статье фотографию модернистической башни Ротшильда — на углу улицы, где ютится этот рабочий люд, — люд, руки которого, освященные бесконечным трудом, строили красоту земли, строили этот гордый город, самый прекрасный среди альпийских городов.
Я гляжу на него с высоты кабинки, возносящей меня на гору Бастилию. Синяя Изера вьется внизу между зеленых берегов; прямой зеленой аллеей перечеркивают город бульвар Гамбетта, проспект Жана Жореса; где-то там, темным пятнышком, видна прохожим чугунная доска, прибитая к каменной стене. А на доске — слова о том, как муниципалитет Гренобля, подобно дирижеру, воздевшему свой жезл над оркестром, смело поднял свой голос над всею Францией и — по точному выражению надписи — «открыл Поликую французскую революцию».
VI. Дорога Наполеона — Лазурный Берег
Казалось бы, нам предстояла самая легкая, самая бездумная и приятная часть пути, которым десятки тысяч туристов наслаждаются ежегодно, да и мы не без мечтательности представляли себе этот путь: с альпийских высот через царство мировой французской парфюмерии — к синему огню Средиземного моря, к югу — югу, о котором когда-то воскликнул Тютчев:
О, этот Юг! О, эта Ницца!.. О, как их блеск меня тревожит![4]Но за лихорадкой горячих слов следует тоскующее двустишие — и оно не подошло к нашему путешествию:
Жизнь, как подстреленная птица, Подняться хочет — и не может…Не подошло потому, что Тютчев писал это в скорби по умершей жене. А мы охали в необычайном, повышенном интересе к жизни. Мысли наши неслись по пути, мешая отдыху. Да и как было отделаться от этих мыслей! Шел юбилейный год — особый юбилейный год, и французы хотели или не хотели, но вспоминали его на каждом шагу того самого пути, по которому мы ехали из Гренобля.
Дороги во Франции перенумерованы, и эта, необыкновенно живописная и местами просто страшная, под номером 85, носила название «дороги Наполеона». Ровно полтораста лет назад, бежав с острова Эльба и высадившись на Лазурном берегу в бухте Жуан, Наполеон, еще носивший титул императора, с группой своих приверженцев стал восходить вверх, вверх, через ущелья и перевалы, к городу Греноблю, а оттуда — к Парижу, чтоб пережить, может быть, самую поучительную трагедию в истории, названную «Сто дней».
Дорога, какой восходил он, была той самой, какой мы сейчас спускались на нашей «Волге», или почти той самой, более выровненной, выхоленной, безопасной, но все же по менее страшной, чем сто пятьдесят лет назад. И мы, как он, миновали озеро под Греноблем, где его встретило войско, бросившее перед ним оружие, а старые гренадеры, делившие с ним когда-то поход в Египте, заплакали перед своим генералом. Мы не встретили ни Наполеона, ни его гренадеров на этом озере, — по его огромная статуя на коне, отливающая зеленой бронзой, поднялась перед на ми, вознесенная как раз на том самом месте, где ей предсказал быть Стендаль. И мы, как он, увидели перед собою мрачное ущелье, такое узкое, что, казалось, степы его могут сдвинуться и смять хрупкую «Волгу». Конь его одиноко перебирал тут копытами, а на нас то и дело налетали встречные машины, и раза два мы были на волосок от того, что газеты называют словом «авария».
Мы огибали мрачные крутые углы, боясь заглянуть вниз, откуда текли туманы, а небо над нами, в узком каменном пролете, то и дело меняло краски, светясь краснотой, чернотой, серебром, узорами, похожими на орские яшмы и коктебельские сердолики. В полной темноте мы заночевали там, где ночевал с 3 на 4 марта 1815 года и Наполеон, — в маленьком местечке Баррем.
Можно ли было забыть и не думать об этих «Ста днях», об их трагическом смысле, если мемориальная доска, памятный столб, названая гостиниц и ресторанов непрерывно оживляли в памяти все, что мы когда-то читали и перечитывали? Шел этим путем человек, забывший о главном своем враге, о времени. Можно бежать впереди времени, можно бежать с ним рядом, но когда время медленно опережает человека, оставляет его позади и человек отстает от него — это и есть конец. Ватерлоо ждало Наполеона не на месте сражения, оно ждало его в Париже, в разноголосице требований, в борьбе партий, в схватке либералов с консерваторами, в том нестройном гуле человеческих настроений, когда полководцы теряются перед нашествием «нового времени»…
Утром — опять сумрачно, опять ущелье, буквально пробитое в камнях; названия ущелий самые беспокойные: «ключи» или «клещи», «хлебные терки», — а вокруг невыносимая красота, когда слов уже нет или вырываются они страшно банальными восклицаньями, потому что слова и понятия родились у человека позже вещей, и, когда эти вещи не имеют эквивалента в слове, рождается маяковское «простое, как мычание».
Мы просто одурели бы от этой невозможной, длительной красоты, где горы, ущелья, небо, леса, водопады менялись вокруг, как при встряхивании меняются краски и кубики в стеклянной трубке, если б нам не начало попросту становиться плохо. Дело в том, что «дорога Наполеона» то возносила нас на высоту полутора тысяч метров, то спускала к семистам метрам, то опять поднимала к линии снегов — и сосуды наши не успевали приспособляться к новым и новым условиям давления. Мы не сразу это заметили. Но вот шоссе вознеслось к почти вертикальной скале, где, как птичье гнездо, высится «Божья матерь скалы» (Нотр-Дам-дю-Рок), — близко к двум тысячам метров; пересекаем порожистый Вердон, едем по натуральному мосту, названному «Божьим» (Понт а Дьё), и начинается грандиозный спуск к большому «центру духов», городу Приморских Альп, Грасу.
Путь наш буквально усыпан сухою лавандой, — ее здесь грузят вилами на машины, как сено. Плантации цветов. Заросли лаванды. Короли лаванды — фабрики знаменитых духов — и бесконечные киоски, где вы можете купить их, от крохотных флаконов до драгоценных подарочных хрусталей. Музей трех поколений Фрагонаров в Грасе. И все это тщетно, тщетно, потому что нас тошнит. Голова охвачена железным обручем, в глазах черные круги, уши заложило, а спуск все круче, «Волга» летит все быстрее, вниз, вниз к морю, пересекая царство французских ароматов. На наше счастье, нет солнца, над Ривьерой впереди нависли тучи, и это дает иллюзию прохлады. Начинаются виллы — ателье художников; туннель за туннелем; пальмы; словно от радиатора — густая, прочная Жара охватывает нас, усиливая тошноту. И вдруг — море. Сверканье его так сине, так неожиданно, так остро, словно саблей полоснуло глаза. Ницца.
Конечно, для тех, кто приехал в Ниццу голубым экспрессом прямо из Парижа или еще лучше — из-под лондонского дождя и холода, — первый же вид Ниццы очарователен. Но голова наша все еще кружилась, а глаза были так перенасыщены красотой и красота эта была столь свежей, столь неожиданно-новой, что Ницца показалась нам среднего возраста нарумяненной красоткой после хоровода фей и эльфов.
Для приведения наших сосудов в порядок мы не сразу вышли из машины. Проехали но знаменитом Променад-дэз-Англе, где у камней набережной едва колышется серое море, — оно серое у берегов. Поглядели на пыльные пальмы: диву дались на французское угождение англичанам, — все в этой царице французской Ривьеры было как будто предназначено для них: отели «Кларидж» (как в Лондоне), «Вест-Энд» (как в Лондоне), «Вестминстер» (как в Лондоне), «Ройял»… И только странная куполообразная глыба отеля «Негреско», в псевдомавританском стиле, по-видимому, обратила свое лицо к богатым американцам. Мы объехали «Отель де вилль», побывали на «Блошином рынке», заглянули в модные старые лавчонки, торгующие антикварной дребеденью, главным образом поддельной. Одно в Ницце остро заинтересовало меня: пепельно-малиновый оттенок ее каменных домов — упорный и постоянный по всей Ривьере.
Спутники мои не очень хотели заезжать в Монте-Карло. Но места, где разгуливаются человеческие страсти, всегда поучительны. И вот мы поворачиваем на Корниш, едем по побережью. Огромный мыс, почти голая скала — это и есть все княжество Монако. Поднимаемся к нему, въезжаем в ворота, едем еще выше…
Мы в Монте-Карло, и первое, что я вижу, — это «Библиотека Каролины», красивое здание все того же розово-малинового солнечного оттенка. Но множество туристов мало интересуется библиотекой. И весь этот высокий утес с княжеским дворцом, куда можно войти за плату, и эта небольшая площадь, где расположен единственный город княжества Монако — знаменитый Монте-Карло, — имеет даже во внешнем своем облике что-то театральное, искусственное, подобное так называемым «природным театрам», где на каменных уступах с видом на океан разыгрывают разные массовые зрелища. Только здесь, в Монте, где игрушечное княжество имеет свои собственные почтовые марки, разыгрываются не театральные, а высокие трагедии низких человеческих страстей. Высокие, потому что частенько на подмостки поднимается смерть. Мы входим, и «театр». В знаменитое казино.
Чтобы попасть в игральные залы серьезных ставок (куда заглядывает смерть), надо быть членом, иметь солидные рекомендации, много денег. Но в залу маленьких ставок попадаешь легко, за туристский билет, стоящий пять франков. Еще пять франков вы обязательно проиграете как первую пробную ставку, но можно смело сказать, что жертва в десять франков производится не зря. Я глядела во все глаза, чтоб уловить нерв всего этого, и, думается, уловила его. Религия умирает на Западе, но люди, массы людей продолжают верить. Они верят в бога-Случай, в таинственную силу «а вдруг», в чудо, которое вот-вот да случится. Древняя эсхатология христианства — ожидание, — о которой столько глубокого написано философами, превратилась, мне кажется, вот в эту религию бога-Случая.
В углах большой комнаты — кассы, где вам меняют деньги на круглые фишки. Посередине комнаты — большой стол рулетки. С трех его сторон сидят крупье, а с четвертой, на высоком стуле, инспектор. И крупье, и сам инспектор держат в руках палки с железным крючком на конце. Вы протягиваете одному из них свою фишку и называете цифру, куда хотите ее поставить, — и палка с железным крючком ловко загоняет вашу фишку на нужное место. Потом крупье пускает в ход рулетку, и стальной шарик бросается в бегство, покуда бог-Случай не приведет его в яму с какой-нибудь цифрой.
Нас ждала большая удача: мы увидели Пиковую даму. Очень древняя старуха, под девяносто, с губами ниточкой, в допотопной чесуче, какую, верно, в десятых годах носили, заговорила с нами по-русски. Она оказалась вдовой казачьего генерала Богаевского. С удивительно сохранившейся ненавистью она сообщила нам, что «большевики расстреляли ее мужа, отняли у нее семь миллионов». Она всю зиму работает в Париже, как каторжная, сестрой милосердия в больнице, не ест, не пьет и каждое лето проигрывает свое жалованье вот здесь, на рулетке. Я видела, как из глаз ее глядела слепая вера: она убеждена была, что «а вдруг да выиграет».
Из Монако мы поехали дальше, к самой границе Италии, в тихую Ментону. Здесь совсем на днях погиб Лё Корбюзье, и газеты еще были полны статьями о нем. Мы дошли до самой пограничной заставы, а потом выкупались в теплом море, чувствуя, как отходит от нас утомленно этого длинного дня. На берегу честно отдыхала наша «Волга», охлаждая свое натруженное сердце.
И вот мы опять едем — мимо холмов и лесов, через Антибы и Канны, и море смотрит на нас слева, сквозь пальмы, сверкающими голубыми глазами. Проезжаем Ля-Папуль — и тут я разгадываю пепельно-алый цвет каменных домов по всему побережью Ривьеры, мучивший меня своим «почему?». Слева от нас возникают слоистые скалы, похожие на пироги с начинкой, — с густыми красными прослойками не то глины, не то какой-то руды, окрашенной железистой окисью. Залежей тут без конца. Природа сама позаботилась о веселом красящем веществе для всего солнечного края Лазурного берега и для городов Прованса.
VII. Прованс
Торопимся изо всех сил, чтобы подоспеть на ночь к Марселю, и все-таки не успеваем. Мы — в желтых с красным холмах Прованса; воздух еще полоп гари — здесь летом горели леса, наполнив горьким дымом даже улицы Ниццы. Навстречу, надоедая, интригуя, цепляясь за вашу память, бегут одна за другой крупные доски иа длинных шестах, неся — каждая — по одной строке:
— Э Бадади́ — — Э Бададуа́ — — Ля мэйо́р о́ — — Э Бадуа́ —Это — реклама минеральной воды Бадуа. Кстати, по адресу мнимой магии реклам. Чем больше тыкались нам в глаза эти доски с бессмыслицей рифмы (а попадались они чуть не весь день), тем сомнительней казалась нам назойливая водичка, и вместо «Бадуа» мы так и остались верпы нашей привычной «Перрье».
Ночь падала быстро, густо-черная, густозвездная, с такими красными и желтыми полосами на горизонте, что трудно было отвести глаза от неба. Может быть, поэтому мы не сразу разглядели, где остановились на ночевку. Много хозяев гостиниц пришлось перевидать в пути — и остроумных, и жадных, и равнодушных, и очень жирных «мадам», сдающих комнаты только парочкам и выскакивающих, к нашему конфузу, навстречу «Волге» в выразительном «декольте». Но такого еще не случалось. Сухопарая, серая, как могильная тумба, с губами, забранными под язык, и глазами, глядевшими в сторону от вас, — настоящая героиня страшного романа «Кровавая таверна» — новая наша хозяйка договаривалась с нами, прибавляя к каждому своему слову, совсем не к месту, загадочное выражение «тем хуже» (tant pis). Дайте нам подороже! — и в ответ «тем хуже». Дайте нам поесть! И в ответ «тем хуже». Словно это был нервный тик. А фамилия у загадочной личности была древнеаристократическая — Фабр дё Пиффар.
Утром я обошла все местечко Бриньоль, где мы ночевали, — и это было как новый выпуск авантюрной «Кровавой таверны»: невыразимо нищий, облупленный городишко, с домами до такой степени облезлыми, что они стали похожи на лохмотья, которые чья-то метла намела в кучу. Из голых темных недр этих домов выползло утром множество худых, как скелеты, кошек, рассевшихся буквально повсюду — на крышах, карнизах, заборах. Такие же худые женщины выносили на улицу тазики, стирали белье, переговаривались, переругивались и тут же развешивали стираное.
Этот странный задрипанный городишко был когда-то резиденцией графов Прованских. Обойдя его, я увидела памятник «Героям войны 1914–1918 гг.». И еще один бюст на цоколе — «Трагическому поэту, постоянному секретарю Французской академии, обновившему творения трубадуров», Франсуа-Мари Рэйнуару, под которым впервые в Провансе я прочитала звучные строки поэта Мистраля на провансальском языке. Этот язык так наполнен отголосками колоколов в ясном летнем воздухе, так звучен, так щедро извлекает музыку из ударных «а» и «о», что мне хочется привести тут для читателя две строки Мистраля:
A quel omo de março. A quen grand provençau.Мне кажется, они понятны, как понятен уху эсперанто. И чем дальше мы потом ехали, тем чаще звучала нам провансальская поэзия Мистраля, на досках, вывесках, стонах, — вплоть до величавых стен Нотр-Дам-де-ля-Гард, самой верхней точки над Марселем.
Все в Провансе было ново для нас. Департамент Вар, где находилась наша ночевка, видимо, очень беден, а вокруг лежат богатства: крупные заложи боксита, залежи мрамора, леса оливы, с их прованским маслом, — благодатное южное тепло. Вместо закрывающихся дверей вход в лавки, в дома завешен длинными нитями бус, похожими на дамские ожерелья из круглых камушков. Вы раздвигаете эти длинные нити, входя в помещение, и бусы издают рассыпчатое позвякиванье — провансальская музыка дверей. Обычаи народов, как Библия говорит, неисповедимы. Откуда и почему эти звонящие и побрякивающие бусы вместо входных дверей Прованса?
До самого Марселя преследовал нас жалкий, облупленный вид провансальских городков. Потом мы вдруг поняли. Мы вспомнили летнюю жару наших собственных городов, густой запах краски, деревянные леса вокруг домов с разгуливающими по доскам малярами. Нам, живущим в этих домах, до них дела не было; мы их с грехом пополам терпели, мы даже отругивались, когда краска вдруг капала нам на платье или ночью пахло ею в открытое окно. Но подумайте: ведь это город заботился о внешнем виде вашего дома, красил его, чистил, строил, — а кто будет возобновлять штукатурку на облупленных домах Прованса? Кто будет заново окрашивать их, приводить в порядок? Собственники? Вот то-то и оно. Бесконечно сравнивая, соображая, восхищаясь чужим, мы вдруг ярко, до нежности, вспоминали свое, — и на душе сразу становилось тепло и немножко стыдно.
Как описать первую встречу с Марселем? Мы по-разному представляем себе города, когда читаем о них романы и даже учебники. Мои сосед в Москве, отличный писатель, воображал Антиб чем-то вроде рыбацкой деревушки Александра Грина с просмоленными баркасами у стен римской крепости, спускающихся до синих волн моря. Но поэтическая география Грина не соответствует природе. Я тоже воображала себе Марсель горячим, суматошным, полным людей и звуков и парусов, дугой охватившим море, шумнейшим, оживленнейшим портом, — портом, и только, портом без наземного продолжения. Я как-то не мыслила себе Марсель городом. И когда он вдруг открылся передо мной — необычайный, огромною кучей пепельно-красных кубиков, — мелко-мелко наваленных друг возле друга, с венчающей эту кучу острой вершиной, над которой вознесся, словно благословляя эту кучу розовых, четких кубиков, крест покровительницы-церкви, знаменитой «божьей матери» Марселя, — я ахнула, замерла от неожиданности. Марсель оказался сухопутным и чуть ли не горным!
Новый порт из города не очень заметен, а старый вписан в него, как небольшое, закрытое со всех сторон озеро. Среди розовых кубиков старого Марселя одинокими белыми ящиками, поставленными горизонтально (вширь) и вертикально (ввысь), белеют новые модные многоэтажники, совсем не меняя лица города, как не меняют человека надетые очки. Но этот новый «сухопутный» Марсель — был ли он хуже того невообразимого, кишащего чужестранными матросами порта, какой я представляла себе? Нет, он был в тысячу раз лучше, интересней, ярче всякого о нем представленья. Хотелось просто благодарить эту неведомую глину, так здорово, так солнечно-розово замешавшую свой красный оттенок во все, что строилось и красилось в Марселе, за вычетом его модных «очков» — многоэтажных коробок.
Мы провели чудное время, наслаждаясь каждой его минутой. Лазили к Марии-де-ля-Гард, читали благодарственные надписи на ее стенах, бродили по старой «Ля-Канебьер», рылись в лавочках букинистов. И в ресторане Старого порта, прямо над водой, пообедали знаменитой марсельской ухой — буйябесс. Это уже эстетика. Официантка, священнодействуя, принесла огромное блюдо и огромную миску, вздымавшую кверху аппетитное паровое благовоние. Поставив их на соседний столик, она вытерла наши тарелки, как если б им предстояло принять святое причастие, и сперва наложила туда всевозможную разваренную морскую живность — рыб, крабов всех сортов и оттенков, а затем залила их бульоном из миски. Поставила перед нами в помощь еде какой-то пронзительно острый соус, и мы стали молча опускать ложки и молча подносить их ко рту. А ветер с моря обвевал наши разгоряченные лица и — казалось — присаливал изумительную похлебку, вкуснее которой я не ела ни на Черном, ни на Адриатическом, ни на Тирренском морях.
Мы устали и отяжелели от еды, нас клонило ко сну, — а между тем надо было докончить тот «сайтсиинг» (смотрение видов — характерное английское туристское словечко), без которого неприлично было ехать дальше. Посмотреть знаменитый замок Иф, прославленный Дюма-отцом, пройтись по музеям и, наконец… Наконец — предстояло нечто, заглушившее и затемнившее перед нами все прелести Марселя. Но — из песни слова не выкинешь, и я расскажу об этом читателю.
Спутник наш, пока было светло, повел нас опять в самый центр. Как обычно в городских центрах, здесь ходили взрослые и дети, забегали в роскошные магазины, садились в машины. Но вот наш спутник с веселой, оживленной, нормальной улицы завернул за угол. Мы прочли: «Рю-Тюбано». «Здесь и сейчас нехорошо, а когда стемнеет — нельзя», — шепнул он нам и незаметно повел плечом. Мы поглядели и опустили глаза. Из всех дверей, из всех окоп, из каждой подворотни глядели на нас женщины: молодые, пожилые, старые, девочки; нарядно, грязно, бедно одетые и просто полуодетые; в разной степени намазанные. И они, как-то странно хихикая, делали нам зазывные жесты, описать которые невозможно словами.
— Проституткам запрещено ходить по улицам, поэтому они стоят в дверях у себя дома, — коротко объяснил нам спутник. — Но я привел вас сюда не для того, чтоб вы смотрели на них. Вот загляните сюда!
И, взглянув, мы увидели полустертые буквы на степе. Надпись, грязная, едва видимая, на этой страшной улице, говорила: «Здесь в 1792 году был пропет впервые в Марселе гимн Руже де Лиля «Марсельеза».
Дом № 25. Сейчас в этом доме «Бани и душ». И — открытые двери вокруг…
Молча ехали мы из Марселя, подавленные этим «последним словом» такой яркой, такой прекрасной песни. Если б можно было выкинуть его из песни!
VIII. Авиньон — Оранж — Ля-Палисс
К концу путешествия, как обычно к концу пикника, наступает усталость, нежелание воспринимать. Глаза, мысль, чувство отказываются служить человеку. А нам — к концу нашего путешествия — еще осталось нечто интересное, очень требующее внимания. Наполеон в таких случаях «перебивал» усталость, раздувал целый костер энергии из тех последних ее тлений, уже подернутых пеплом безразличия, какие в машинах зовут великолепным термином «остаточные». Раздувая в костер «остаточные возбуждения» в наших переутомленных нервах, мы поздно вечером въехали в бывшую «столицу пап» (1300–1376) — Авиньон.
Едва устроившись, мы даже и не взглянули на гостиничные альковы, отвернули носы от запахов ресторана и помчались к знаменитому папскому дворцу, этому величественному конгломерату из тупых и острых, прямых и квадратных линий, построенных и пристроенных семью папами в течение их коротких семи царствований.
Один из лучших наших писателей в записках о Франции назвал папский дворец в Авиньоне чем-то вроде «чудовищного» или «безобразного» в архитектуре. Он тут чудовищно ошибся. Нельзя себе представить более поучающего и в то же время захватывающего эстетически, чем эта сжатая громада суровых и жестких архитектурных жестов, стремящихся объединить великолепие с аскетизмом, власть со смирением. Критически смотреть на это нельзя, надо учиться, глядя на это, учиться истории, запечатлевающей себя в пластике, — духу времени, загнанному в пространственные формы.
По все эти мысли пришли ко мне после того, как мы хорошенько отоспались и Авиньон открылся нам при свете серого утра. А сейчас, в темноте, исчерченной прожекторами, он просто поглотил нас и повел каменной дорогой, каменными ступенями туда, куда уже двигались туристы и местные жители, смотреть дешевый (два франка) и очень популярный спектакль, имеющий общее наименование «Son et lumière» — «Звук и свет».
В старинных замках, аббатствах и древних амфитеатрах во Франции, как и в Италии, довольно бесхитростные и немногого стоящие зрелища возмещают, вероятно, для местных муниципалитетов расходы по охране и поддержанию этих памятников, добавляя к выручкам за посещение внутренних дворцовых покоев небольшие суммы, собранные со зрителей. Я назвала «Son et lumière» бесхитростным и дешево стоящим зрелищем. В самом деле — зрительным залом для него здесь служил внутренний двор папского дворца, куда мы все вошли и разместились на простых деревянных скамьях; потолком — ночь, много-звездная, простершая над нашими головами свой бездонный купол; декорацией — окна, портики, двери, коридоры окружающих двор панских покоев, оживающие но мере хода действия изнутри, путем освещения, то кроваво-тусклого, то кроваво-яркого, то желтого, то пробегающего вдоль окоп коридора из конца в конец; актерами — их заменял фонограф или граммофон необыкновенной звучности, раздутый, может быть, странными отзвуками стен, как раздувает паруса ветер, В спектакле, в сущности, было только два действующих лица, звук и свет, поиграли они так здорово, что мороз проходил у вас по коже.
Но пора объяснить, что за спектакль видели мы в ту ночь в Авиньоне. Если посмотреть на далекое событие глазами правоверного католика, то есть по коротенькому рассказу в соблюдающем приличие путеводителе, то вот этот рассказ.
Давным-давно, в «царствование папы Клемента VI, а именно в 1348 году, королева Иоанна Неаполитанская, графиня Прованса, была принята в Авиньонском дворце этим папой. Обвиненная в убийстве своего первого мужа, Андрея Венгерского, она не была оправдана Консисторией. как обычно об этом пишут, но укрылась от всякого следствия. Как раз во время своего пребывания в Авиньоне, сильно нуждаясь в деньгах, она продала Авиньон папе за восемьдесят тысяч флоринов»[5]. Источники исторические, менее деликатные, чем этот путеводитель, говорят, что Иоанне Неаполитанской необходимо было оправдание «по делу об убийстве мужа» (как сказали бы нынче) и она его купила у папы, продав ему Авиньон за баснословно дешевую сумму, которой к тому же она от папы не взяла. Вот эту историю мы и видели ночью во дворе папского дворца, разыгранную двумя великими актерами, Светом и Звуком.
Разной силы Свет загорался то в одном, то в другом окне — где готовилось убийство; ярко-кровавое освещение, после беготни Света по коридорам, залило окошко, за которым, потрясая двор, тишину ночи, купол неба, протяженно возник безумный человеческий стон убиваемого, — это вошел в игру Звук. По мере действия окна потухали, загораясь дальше — внизу, вверху, и мы следили за пробегающим светом, представляя себе пробегающих людей. Звуки и слова менялись, тембры казались по-разному окрашенными, — возможно, тут помогала электроника, те бесструнные, нематериальные и кажущиеся неземными звучания, какие высекает из воздуха электричество, — «инструменты», грозящие нам заменить в будущем наши милые «генераторы музыки» из дерева, кости, жил животных, бамбука, кожи и металла…
Среди зрителей были школьники. Такой урок истории никогда им не наскучит и никогда не забудется. Невольно приходило в голову: а ведь сколько у нас изумительных возможностей давать такие уроки истории нашим школьникам! Представляю себе чудесный дворец Алексея Михайловича в Костроме — и глухой лес, куда завел польское войско Иван Сусанин. Юсуповский особняк в Ленинграде, где великосветское общество никак не могло отравить странного попа-распутника. Или Москву, где в Сухаревой башне была та самая латинская школа, куда пришел сын архангельского рыбака с далекого Севера — учиться. Или памятные места и дела Петра Великого… По тут я вспомнила, что Сухаревой башни уже не существует… Может быть, Свет и Звук пришли бы к нам оживить, одухотворить уроки нашей собственной истории? Может быть, Свет и Звук помогли бы финансировать наше Общество по охране памятников… Много роилось в мозгу всяких «может быть», но пора было идти спать, и мы пошли спать, погуляв все же напоследок по ночному Авиньону.
Утром, как всегда, я проснулась чуть свет, чтоб минуты не потерять перед отъездом. В Авиньоне, большом городе (свыше семидесяти пяти тысяч жителей, тогда как другие города Прованса, которые мы проезжали, насчитывают эти тысячи по первой пятерке пальцев), в Авиньоне, буквально нанизанном отелями, отчего улицы его похожи на ожерелья гостиниц, — мы не смогли найти комнат на одной и той же улице и устроились поэтому в разных местах. Мой отель был на уличке с самым симпатичным названием «Des vieilles études» — «старых научных занятий». Вот я и начала с утра эти занятия стариной, обошла великолепные покои панского дворца, вжилась при свете трезвого дня, без вмешательства прожекторов, в его сжатый архитектурный комплекс, в его «башню ангелов», в «серебряную кампаниллу» (dite d’argent) — словом, сделала все, что полагается туристу, вплоть до путешествия на тот берег Роны, к богатству фресок Вилльнёв-лез-Авиньон.
О средневековых фресках коротко не скажешь. Вот монастырь Шартрёз в Вилльнёве. Фреска в старой часовне папы Иннокентия VI: «Обрезание святого Иоанна Крестителя». Двое мужчин, шесть женщин и младенец на руках одной из них, которого она собирается передать черноволосому, худощавому «хирургу». И на этой фреске, ужо тронутой временем, облупившейся местами, уходящей своими очертаниями куда-то вглубь от зрителя, — условно, кроме одежд и поз, только одно лицо младенца. Все остальные, особенно шесть женщин, изумительно реальны, типичны, с характерами, склонностями, судьбами, до того ясно написанными на их лицах и во взглядах, обращенных лишь вскользь к вам, до того выразительны, что они могли бы тут же, на месте, вдохновить вас на рассказ о каждой из них. Портретность, глядящая в века сквозь условность формы.
Авиньон начал оживать, наполнился машинами, людьми, открылись двери магазинов. Мы успели бросить последний взгляд на мировую знаменитость — тот самый мост св. Бенезета, от которого остались только четыре арочных пролета и о котором знает, кажется, все человечество по старинной песенке.
В одиннадцать часов мы выехали на Оранж, мимо грузовиков, везущих сено в пакетах. Опять начали проноситься назойливые палки с раскинутыми, как руки, досками «Бадади… Бададуа». Скучноватая, плоская равнина, дождичек; на берегу Роны, мимо которой летит наш путь, маленький городок Монтелимар департамента Дром. В этом городке — знаменитом царстве нуги, такой вкусной и разнообразной, какой нет даже в Испании, — шестьдесят лет назад (60!) отбывал воинскую повинность мой первый жених, Леон Кадэ, сын французского кондитера Октава Кадэ, имевшего кондитерскую в Москве, на углу Кузнецкого моста. Я была тогда в восьмом классе гимназии, и романтический эпизод продолжался недолго. Но длинные послания шли из Москвы в «Монтелимар-Дром», а из Монтелимара в гимназию Ржевской ответно приходили посылки с нугою… И вот привелось под осенним дождичком, в глубокой старости, медленно проехать по главной улице, где справа и слева, под всевозможными вывесками, в фантастических упаковках глядела на нас монте-лимарская нуга всех сортов, всех фасонов, сотен названий. Где-то сейчас — и жив ли — Лева Кадэ?
Оранж знаменит своими развалинами древнего римского театра, довольно хорошо сохранившимися. В подвалах этого античного памятника устраивается выставка французских вин, происходящая необыкновенно торжественно, с церемонией дегустации, которую возглавляет местная аристократия. А в самом театре-цирке, расположенном, по древнему обычаю, амфитеатром вокруг полукруглой сцены, Звук и Свет тоже дают по ночам свои представления. По мы опоздали: и винная феерия, и спектакли уже прошли.
Дождик все лил, и под дождем мы обошли римский театр, построенный в 120 году. Внизу, в подземелье, еще остались от выставки кое-какие уютные уголки с батареями бутылок и бокалами, предлагающие вам бесплатно дегустировать из любой бутылки. Народу было мало, и никто почему-то не «дегустировал», — видимо, даровщина оборачивалась напоследок дороговизной. В одном из уголков лежала газета — специальная винная газета «Ля журнэ Виниколь»[6], выпущенная в субботу, 24 июля, в день. выставки. Я, конечно, прихватила ее на память взамен дегустации, но тут же и осрамилась: оказалось, что ни одного названия французских вин я попросту не знаю. И хоти эта «Ежедневная газета напитков», выходящая во Франции уже тридцать девять лет (в будущем году будет юбилей праздновать), уже 11 472 раза обсуждала проблему вина, — я разглядывала ее в своем невежестве, не разбираясь, где название вин, где городов, где скаковых лошадей.
Уже стемнело, когда мы подъехали к нашей последней ночевке перед Парижем — к местечку Ля-Палисс департамента Аллье, знаменитому своим замком. Усталость была так велика, что даже рецепт Наполеона — раздуть остаточный пепел своей энергии — оказался бессильным: все ее резервы были уже исчерпаны. И все-таки именно благодаря усталости пришла бессонная ночь, а вместе с бессонной ночью мозг занялся разборкой и укладкой впечатлений приятным и отвлекающим делом, похожим на разбор и укладку подарков перед отъездом восвояси. Впечатления, впечатления… Мысль покатилась, как мячик, от последнего к предыдущим. Последнее мы успели пережить только мельком, краешком восприятия: огромный, квадратно-прямоугольно, многобашенно-многооконно-многотрубно, с красно-серыми крышами, с выхоленным, выутюженным, подстриженным парком и мостом над речкой построенный замок Ля-Палисс, похожий на воплощение высокомерного величия в камне. Он построен в XV веке, и с XV века в нем живут его хозяева, графы де Шабанин Ля Палисс. Живут, видимо, и посейчас, оттого и замок, и все вокруг замка так невыносимо аккуратно.
И местечке продают открытки с этим образцом из кубиков и треугольников. А на открытках… на открытках, которые, к сожалению, по международным законам, нельзя перепечатывать, помещена эклога, созданная, видимо, галльским перцем с солью (так непохожим на мягкий английский юмор) по адресу не иного кого, как графа Ля Палисса. Мы узнаем из этой народной — не знаю, как ее назвать, — шутки-характеристики, что
Граф Ля Палисс умер, Но, терпя жизнь, За пятнадцать минут до смерти Он был еще жив. Он был мягок и добр, Нравом в покойного папашу. И если бесился, То лишь приходя в бешенство. У пего были разные таланты, Уверяют даже, Что когда он писал в стихах, — Он не писал в прозе…Этот народный юмор на открытках напомнил мне полуразрушенный Авиньонский мост, застрявший на половине реки со своей изумительной песенкой:
На мосту в Авиньоне, на мосту в Авиньоне Пляшут там, пляшут там В кругу, Господа аббаты делают вот так, И опять вот так. Туда-сюда, И, остановись в унисон, — Каждый кланяется на свой фасон…Потом песенка рассказывает, как военные делают «вот так», потом еще «вот так», отдавая рукой честь; а красивые господа делают так и еще вот так, помахивая своей шляпой перед собой, а добрые крестьяне делают так и еще лот так — подгибая ногу назад; и красавицы дамы делают так и еще так, закружившись своими юбками. И, обновивши этак мост, каждый возвращается к себе:
Sur le pont d’Avignon On y danse, on y danse…Казалось бы, ерундовая песенка, уцелевшая, может быть, с далеких времен. А ведь нет, отнюдь не ерундовая. Когда вы читаете или поете ее по-французски, то каждое «вот так» невольно сопровождаете жестами. И вся эпоха встает перед вами, вся эпоха словно на заводной сцене кукольного театра, в ее необыкновенной пластичности. Аббаты и своих длинных рясах, словно в религиозном ритуале; отдающие честь солдатики; скромно приседающие крестьяне; дворянские щеголи в плюмажах; и красотки в вихре своих юбок, растянутых фижмами. Видение на мосту. Минута — и оно исчезает. Танцующие разошлись каждый к себе. И куплеты о хозяине замка графе Ля Палиссе тоже по-своему пластичны: галльские соль и перец щедро посыпаны, чтоб выявить титулованное пустое место.
Магия песни — великая вещь, совершенно еще не расследованная. Покуда она рождается вместе с жестом, с действием, органически, в ответ на острую нужду в ней нашего тела, наших рук и ног, нашей души, — она хороша, художественна, будет жить и жить в народе. По сочинители песен искусственных никогда не заставят людей полюбить и принять их песни навечно.
Так я лежала в своей бессоннице и думала. Я думала еще о том, что между народной песней и жемчужинами французской поэзии (как, может быть, во всякой поэзии) нет пропасти, а есть даже внутреннее сходство. Сразу по ассоциации, после того как я тихонько пропела самой себе авиньонскую песенку, передо мной с ослепительной яркостью, в щелканье струн мандолины, пронеслось видение верленовской лунной ночи и карнавальной полянки, на которой танцуют маски:
Leur courtes vestes de soie, Leur longues robes à queues, Leur elegance, leur joie Et leur molles ombres bleues Tourbillons dans l’éxstase D’une lune rose et grise, Et la mandoline jase Parmi les frissons de brise[7].Если авиньонскую и ля-палисскую песенки я привела для читателя и переводе, то гениальную музыку Верлена нельзя удержаться, чтобы не привести в оригинале. Эти две строфы спеты на одном длинном дыхании, и дыханье ваше грозит попросту оборваться от непереносной музыки слов, создающих слитный образ:
Их короткие куртки из шелка, Их длинные платья со шлейфами, Их элегантность, их радость, Их мягкие голубые тени Кружатся в экстазе Луны розовой и пьяной, А мандолина взвизгивает Среди судорог бриза.И еще я задумалась уже к самому утру, как обидно лишены наши дети в школах и садиках раннего знакомства с языком и культурой других народов, впитанными нашим старым поколением с младенческих лет. Мы начинали с немецкого еще чуть ли не с пеленок, но доминантой была Франция, ее культура, язык, история. Помню московско-французский пансион Дюмушель-Констан на Швивой горке, в большом доме со львами на воротах; песенку «Фре-ре Жак-ё, фре-ре Жак-ё» (братец Жак), распевавшуюся малышами. В музыке учитывался последний непроизносимый слог во французском языке, и поэтому короткое «фрер» мы растягивали во «фре-ре»… а потом оказалось, что для подлинного, безупречного французского произношения нужно чуть-чуть, самую малость хранить намек на произношение этого непроизносимого слога. Помню и другой пансион, при гимназии Ржевской, где воспитательница из Женевы, увлекаясь сама, увлекала нас стихами Сюлли-Прюдома, Беранже, Альфреда де Мюссе… Если рассуждать практически, что тут было полезного? Знание характера чужого народа — в его жесте, ритме, внутренних душевных движениях. Великое и нужное знание — для глубокого понимания истории и для того, чтобы сосуществовать и общаться с соседними народами и культурами.
Ля-Палисс
IХ. Последний день в Париже
В воскресный день поздней осени, под мелким дождиком, мы снова выехали из Орлеанских ворот на простор парижских предместий. Свернули с автострады и очень скоро очутились на длинной улице, той самой, о которой Надежда Константиновна писала: «Лонжюмо представляло собою длинную французскую деревню, растянувшуюся вдоль шоссе, по которому каждую ночь непрерывно ехали возы с продуктами, предназначенными для насыщения «брюха Парижа».
Прошло свыше полувека — весной 1966 года мы отметили пятьдесят пять лет со дня открытия ленинской школы в Лонжюмо. Много ли изменилось и описании Надежды Константиновны? На первый взгляд — почти все. Автострада отняла у шоссе его функции снабжения Парижа; длинное шоссе превратилось в захолустную провинциальную улицу Гран-рю, и на ней сейчас днем с огнем не сыщешь возов, везущих в Париж провизию, да и вообще возов; наконец, деревня (village), если только не оговорилась в своем описании Н. К. Крупская, — превратилась в город (ville).
Перемена, казалось бы, огромная. Но представим себе Ильича — Ильича последних лет жизни, — как он, заложив руки в карманы и вскинув слегка бородку, сощуривается на окружающее. И кажется, будто слышишь его ироническое «так, так», будто начинаешь видеть его глазами, понимать его пониманьем. Больше полустолетия. Резкие перемены. Блестящая техника. Лучшая в Европе автострада. А Лонжюмо — присмотримся его прищуренным взглядом, что Лонжюмо, и как Лонжюмо, и как живут нынче люди в Лонжюмо.
Гран-рю — обычная провинциальная улица крохотного городка. Она украшена посередине, перед зданием бывшей мэрии (городского совета), нехитрым памятником. Я уже писала, как высоко чтят французские города своих знатных земляков — в каждом из них кто-нибудь да родился» или проживал, или что-то связанное с городом сделал. И Лонжюмо не отстал в своем городском патриотизме. Простенький памятник Адольфу Адану (1803–1856) «на средства жителей города Лонжюмо» — это памятник довольно известному парижскому композитору, прославившемуся своей оперой «Почтальон из Лонжюмо».
Пройдя немного дальше по той же Гран-рю, на углу Школьной улицы видим двухэтажный, очень старый и совершенно обветшалый дом под номером 91. Здесь на втором этаже в двух комнатках жил Ленин. По словам Надежды Константиновны, под ними ютился кожевник, тот самый, замученный бесконечной работой кожевник, который проводил воскресный отдых в костеле или сидел на стуле, вынесенном во дворик, опустив голову на руки, а жена его бегала в деревянных башмаках на черную работу в соседний замок. Сейчас вместо кожевника внизу помещается маленькая фабрика, не то формовочная, не то для смачивания кожи, а две комнатки наверху, где жил Ленин, занимает мадам Мари Будон со своей крохотной собачкой Пату. На стене дома прибита доска с полустершейся французской надписью: «Здесь жил и работал в 1911 году теоретик и вождь мирового коммунистического движения, основатель Советского Союза В. И. Ленин».
Мы поднимаемся по ветхой лестнице, и под ноги нам кидается с яростным лаем черный шелковистый песик.
Мадам Будон, одетая по-воскресному, дружелюбно встречает нас и показывает квартиру — две тесно заставленные крохотные комнатки, где сейчас светится экран телевизора.
— Много ходит народу, — говорит она, понимающе кивая и поглаживая своего Пату. — Я всем показываю, — вот тут они жили, и мадам в этой кухне готовила.
Потом она снимает карточки со степы — мужа, брата — и протягивает нам: брат тоже коммунист, вот он.
Таким добросердечием веет от нее и так по-рабочему бедно, хоть и невероятно забито мебелью в этих двух комнатках, где свыше полстолетия назад Ленин, поглядывая в окошко, писал свои лекции, что нам как-то не хочется уходить, и на прощанье мы по-московски целуемся со старенькой мадам Будон.
Почти на другом конце Гран-рю, в № 17, сквозь полуоткрытые ворота виден двор и во дворе пристройка, где идет какая-то работа. Раньше на месте пристройки стоял простой сарай. Большевики сняли его под школу, оборудовали, и в этом сарае в глубине двора и находилась знаменитая школа. Здесь вела семинары по политической экономии Инесса Арманд; Рязанов читал историю рабочего движения в Западной Европе; Стеклов — государственное право; Луначарский — литературу, а сам Ильич, аккуратный и быстрый, никогда не опаздывавший, прочел тридцать лекций по политэкономии, десять по аграрному вопросу, пять по теории и практике социализма.
Было жарко в ту весну. Съехавшиеся со всех сторон слушатели, большей частью рабочие, сидели при открытых дверях на скамьях школы и жадно записывали лекции. В двух шагах от Парижа — они были переполнены услышанным на этих лекциях, они жили словами, приближавшими к ним весь шар земной, расширявшими их сознание. Чем-то афинским веет от дворика, от его каменных плит и здания в глубине его, а воображение рисует лекторов, какими знало их наше поколенье, — во главе советской науки, советской печати, советского искусства, Советского государства… Как мощно и с какой быстротой поднимались эти наши люди в своей необыкновенной жизни, — и те, кто лекции слушал, и те, кто читал лекции.
Вдруг — едва ступили мы на порог здания, чтобы поглядеть, как изменился сарай, и узнать, что в нем сейчас делают, — дверь с шумом захлопнулась перед самым нашим носом. А когда мы все-таки заглянули внутрь, нас встретили хмурые, почти всё злые лица. Никто не захотел ответить на наши вопросы; отворотясь и что-то бурча, один занялся своим сверлом, другой продолжал тесать доску. Хозяева ясно показали нам, что считают наш приход нарушением частной собственности, тем, что англичане коротко именуют юридическим словом «треспас» (непереводимо, что-то вроде переступить, войти в чужое владение). Хоть это и было воскресенье — мы сознательно выбрали воскресенье для Лонжюмо, — по работа здесь шла на всех парах. Над дверью висела вывеска: «Слесарная мастерская Дюшон».
Мы выбрали воскресенье, потому что думали о кожевнике, когда-то, в рассказе Крупской, изнеможенно сидевшем на стуле у себя во дворике, опустив голову в руки. А как сейчас отдыхают эти кожевники от работы? Есть ли у них куда пойти, скверик хотя бы, если не клуб? Пройдя всю улицу и видя все те же обветшалые домики, жалкие вывески, грязные подворотни, мы решили войти и единственное попавшееся нам общественное место: бистро. Входя, пришлось пробивать дорогу, — в бистро было множество народу. Люди сидели за столом, одни с кружкой пива, другие и вовсе без кружки. Молодежь теснилась у стен, где сражались синие и красные куколки, отталкивая мяч; маленький бильярд, где металлический шар механически загонялся в ямки. Рабочие парни около этих полуавтоматов, почти не требовавших ни ловкости, ни труда, ни смекалки, а только случая и удачи, вертели и вертел и ручку. Играли на выигрыш — стакан вина, несколько сантимов.
Можно легко представить себе психологию такой автоматической игры: воспитание глубокого чувства пассивности, надежды на «вдруг да» — живешь, живешь, а вдруг да блеснет счастье, сверкнет удача, выпадет чудо… Таков видимый глазу уголок города Лонжюмо. Жизнь кажется бедной, словно без будущего.
Пятьдесят пять лет, и облик страны неузнаваемо изменился. Выросли заводы, дороги, аэродромы, наука, искусство, архитектура, транспорт и техника. А люди — малые труженики в больших городских предместьях, в малых населенных пунктах, — докатился ли до них, обогатил ли их этот рост национального богатства? Выросла ли возможность удовлетворять их потребности? Оглянувшись в Лонжюмо, вы остро чувствуете, как человек скован в своих потребностях, когда не растут и не меняются вместе с техникой социальные отношенья. И это впечатленье от малой отметки человеческого роста на фоне общего гигантского роста техники повторялось часто, часто во время всего путешествия, во многих маленьких городках Франции…
Из Лонжюмо мы вернулись в Париж, разыскали улицу Мари-Роз, а на пей дом № 4, где тоже жил Ленин. На доске сказано, что он проживал там с июля 1909-го по июнь 1912-го; следовательно, в Лонжюмо был как бы каникулярный, «дачный» период — для проведения лекций в школе. Доска на доме № 4 поставлена в те светлые дни, когда сердца у французов и советских людей бились почти в унисон, — в дни разгрома фашистских армий. На пей кроме даты, относящейся к пребыванию Ильича в доме, красноречиво указан день установки доски: 22 апреля 1945 года. Улица мрачновата, строга и чинна, дом № 4 тоже строгий, многоэтажный.
Напротив, наискосок, большое здание из красного кирпича — это францисканский монастырь и центр очень активного в Париже францисканского братства. Мы перешли улицу, зашли в подъезд. Навстречу нам вылился поток людей — отлично одетые пожилые люди, молодежь с задумчивыми лицами; у юношей — ни длинных волос, ни коротких по моде брюк, у девушек ни мазни на щеках, ни наклейки на ресницах. Это кончилась проповедь (или богослужение), и члены братства возвращаются домой. На площадке лестницы — стол с книгами и журналами францисканского братства. Продавца нет, цены обозначены, и каждый, покупая, может класть деньги в кружку. Я купила последний номер журнала «Евангелие наших дней». И то время как почти все газеты в Париже, все рекламы в метро, и на улицах, программы телевизоров и кино, обложки романов оглушают вас тем, что наши бабушки и дедушки именовали словом «безнравственность», — этот журнальчик францисканцев словно монополию взял на чистоту нравов, пропаганду сдержанности, защиту семьи и ребенка, здоровую и умную критику театра, живописи, новых книг… Мой друг англичанин, увидевший этот журнальчик на моем столе, прочитал страницы две и невольно воскликнул: совсем как «Дейли уоркер»!
Пропаганда — тонкое и трудное искусство. Для того чтоб ей верили, она должна учитывать все факты жизни. Не надо бояться, что ширина понимания жизни и учет всех ее сторон, удобных и неудобных для пропаганды, может ослабить ее убедительность. Наоборот! Когда веришь в истину, все, самое противоположное, может служить ей. И только прятать голову от фактов, не уметь отвечать на них и освещать их — ведет к проигрышу своего дела, кого неубедительности.
Последний визит в этот насыщенный впечатлениями день — на кладбище Пер-Лашез.
У нас с ним связывается прежде всего представление о Коммуне. Но это неверно. Пер-Лашез — кладбище богачей, благоустроенное, твердокаменное, солидное, с асфальтированными дорогами и мраморными склепами, где над личными именами всегда стоит фамилия рода или семьи. Выхоленные газоны, многолетние деревья и тишина — никаких посетителей. Вы идете, идете, читая знатные фамилии. Попадаются в этой буржуазной части кладбища и неожиданные знакомцы: вскинувший ноги конь под всадником, а на цоколе надпись: «Генерал Андранник».
Вы идете мимо буржуазных склепов — в ту дальнюю от входа часть, где находятся могилы вождей Французской компартии — Мориса Тореза, Марселя Кашена, Поля Вайяна-Кутюрье, Пьера Семара, скромный памятник Анри Барбюсу. На могилах героев Сопротивления слова Бальзака о том, что кровь жертв, героически отдавших жизнь за родину, дает самый богатый урожай. Эти слова, как и магическая прелесть стиха Арагона, часто цитируются на памятниках во Франции.
Яркие, полные силы статуи над массовыми могилами жертв фашизма… Мы молчаливо постояли возле них и сошли с асфальта.
Благообразие и благоустроенность отступили назад, нога ушла в сырую осеннюю землю, мы спускаемся вниз, к невзрачной высокой стене, отделяющей кладбище от города. Па внешней стороне степы — известный барельеф, посвященный героям Коммуны. Его видно только с улицы, а тут, на тыловой стороне стены, лишь едва заметная надпись, что здесь, у этой страшной стены, расстреливали коммунаров с 1871 по 1873 год. Но пусть молчание и сырость, пусть бедность и пустота, — три больших свежих венка лежат у этой голой стены: от югославской делегации, от венгерского народа, от народа Вьетнама — недавних гостей французского народа. Говорят, что степа такими венками не оскудевает.
Есть вещи, хранимые памятью вечно.
Париж, осень 1965 г.
X. Слово об Альбере Швейцере
Двадцать третьего апреля 1957 года радиостанция в Осло на пяти языках, в том числе и на русском, передала речь, требующую прекратить испытания атомных бомб. Речь была составлена очень просто и сдержанно, даже как-то суховато, — ни одного лишнего слова, ни одной апелляции к чувствам или воображению слушателей. В пей откровенно и подробно перечислялись несчастья, приносимые усилением радиоактивности в атмосфере, выпадом радиоактивных частиц после каждого испытания бомб. По содержанию эта речь мало чем отличалась от выступления восемнадцати германских ученых-атомников и других честных и добросовестных исследователей, говоривших человечеству, что наша планета заражена, что гибельными становятся для детей земли ее плоды и растения, молоко откармливаемого на ней стада, роса и дождь, падающие на нее и еще недавно благословенные для злаков. Гибельными — вместе с дыханием, с едой, с питьем — для нас и для десятков будущих поколений.
Но хотя эта речь походила на многие сказанные и напечатанные, человечество слушало ее с особым вниманием. Десятки тысяч подписей собрала она тотчас же на площадях Осло, под воззванием — прекратить испытания атомных бомб. Ее переслали на всех языках во многие страны мира. Что же заставило прислушаться к ней внимательней, чем к словам многих других ученых?
Подписана эта речь восьмидесятидвухлетним эльзасцем, лауреатом Нобелевской премии мира Альбером Швейцером. Кое-кто у нас вспомнит, может быть, что его книга — классическая книга об Иоганне Себастьяне Бахе — была издана в переводе на русский язык Музгизом еще в 1934 году, и спросит не без удивленья: «Это какой Швейцер — музыкант, органист?» Другие, следившие за философской литературой Запада, могут спросить: «Позвольте, да это не философ ли Швейцер? Не писатель ли, издавший автобиографическую повесть «Между водой и первобытным лесом»? Не историк ли, написавший серьезную «Историю исследований жизни Иисуса»?» И наконец, немногие слышали о Швейцере совсем с другой стороны — как о враче, положившем годы на изучение и лечение тропической «сонной болезни». Тот ли он, кто в далеком болотистом Конго боролся за жизнь и здоровье африканских негров?
Да, Альбер Швейцер — один из крупнейших органистов нашего времени, большой музыкант и патриот настоящего, старинного органа, создававшегося руками мастеров-специалистов. Тот самый Швейцер, кто восставал против замены прежних органов фабричными и участвовал в починке и восстановлении могучих инструментов, которых касались когда-то пальцы Баха. Тот самый эльзасец Швейцер, дитя двойной франко-германской культуры, кто писал книги на одинаково родных для пего языках — французском и немецком, героически трудился как врач-биолог во французской колонии Конго и отсидел за это во французском лагере для интернированных, потому что он был подданным немецкого государства. Жизнь Швейцера исключительно интересна по своей необычайной многогранности. По его простое и сдержанное слово о безумии испытаний атомных бомб, безумии их производства, безумии гонки вооружений и подготовки новой войны слушали с таким страстным вниманьем, конечно, не только потому, что он широкоизвестен как писатель, музыкант и врач, а потому, что за его словом стоял авторитет человека Швейцера.
Многогранное дело, которое он сделал и делает, выросло, в сущности, из одной-единственной формулы, положенной им в основу и своей философии, и своей музыки, и своей духовной деятельности, и своей практики врача: уважение к жизни. Человек может создать любое произведение искусства, духовной и материальной культуры; он может строить, изобретать, открывать чудеса науки; он сосчитал расстояния между звездами и построил машину, умеющую считать за него миллионами и биллионами цифр. Но человек по может взять в руки глину и вдохнуть в нее жизнь, он не может путем технической формулы создать другого человека или хотя бы ползущего по песку муравья. Жизнь, величайшее откровение природы, даруемое каждому единожды, требует великого уважения к себе и великой бережливости, потому что это основное реальное благо человечества, источник всех остальных благ. Такова в немногих словах мысль Альбера Швейцера, зародившаяся у пего в самом детстве и определившая собой все его последующие поступки. Казалось бы, элементарная и давно всем известная мысль, из которой не выкроишь особенно глубокой философии, — но Альбер Швейцер построил на ней всю свою долгую жизнь очень хорошего, честного к бесстрашного человека, превратившуюся на каждом ее этапе, в каждом ее проявлении в яркий пример борьбы за мир на земле, в грозное осуждение всякой военной агрессии и в эту, естественно венчающую его деятельность, речь остережения человечеству — не играть со смертью, не шутить с уничтожением жизни, произнесенную 23 апреля.
Альбер Швейцер родился в 1875 году в семье небогатого пастора в эльзасском городке Кейзерсберге, а вырос и другом маленьком городке, Гюнсбахе. Первый большой урок жизни дала ему деревенская школа. Хотя сын бедного пастора, обремененного к тому же огромной семьей, не бог весть как отличался от крестьянских ребят, но кто-то из них заметил ему однажды: тебе-то хорошо, ты ведь пасторский сынок, — и маленький Швейцер впервые почувствовал черту социального неравенства, проведенную между ним и товарищами. Он сам себе поклялся снять эту черту, стать как все, — и тотчас же дома за столом, в школе за завтраком, в одежде, в досуге, в привычках стал подгонять условия своей жизни к уровню простого крестьянского быта своих товарищей. Но вот спустя несколько лет, уже подростком, он столкнулся с массовым, укоренившимся обычаем своих товарищей бегать по улице за старым евреем Мойше, торговцем мелким товаром, дразнить и задирать его, хватать за полы его длинной одежды. Старик терпеливо, не раздражаясь и не отвечая, шел дальше. И тут, поймав выражение его глаз, подросток Швейцер почувствовал, как опускается новая разделительная черта между ним и товарищами, черта морального несогласия, и эту черту он не захотел снять, — наоборот, он укрепился за нею. Он стал снимать перед Мошне шапку при встрече, приветливо заговаривать с ним и провожать его домой, охраняя от преследований. Два полюса нравственного поведения — стремление делить с народом одинаковые материальные условия и уменье не подчиняться стадному, неверному настроению массы — не всегда легко соблюсти и взрослому человеку. Но мальчик Швейцер сделал их пробными камнями своего характера и воспитал себя на них. Много раз в жизни приходилось ему потом выполнять требованье своей совести — «быть как все» и «не быть как все».
Детство и молодость Альбера Швейцера, семья, школа, университет в Страсбурге, лекции в Сорбонне, учение у лучшего органиста своего времени, парижанина Видора, — все для него сложилось необыкновенно счастливо, каким-то непрерывным светлым «получением» ох судьбы. Он был задарен его, — здоровый и красивый, очень талантливый, рано прославившийся как музыкант (о нем писал Ромен Роллан), вышедший со своей книгой о Бахе на широкую арену международного признания… И Альбер Швейцер сказал себе: нельзя брать, и брать даром. Он решил совершенно так, как деловые люди составляют себе расписание на завтрашний день: до тридцати лет буду брать от жизни все, что она мне дает, а начиная с тридцати лет буду отдавать ей взятое.
К тридцати годам у него были дипломы философа и богослова, известность писателя, слава органиста, место священника и преподавателя университета. И вдруг, к величайшему удивлению своих друзей и негодованию родных, он все это бросает и поступает на медицинский факультет. С огромным вниманием и с широким подходом уже образованного человека он изучает проблемы биологии и разностороннюю практику врача-хирурга, терапевта, лаборанта, глазника, гинеколога… В то время во французских африканских колониях почти не было врачебной помощи для негров. Негры Центральной Африки были в таком страшном положении, что даже колониалистам становилось не по себе. Мало кто из администрации решался углубиться от застроенных удобными городами берегов в недра тропических лесов, в болотистые дебри Конго. Отдельные миссионеры, приезжавшие оттуда, рассказывали страшные вещи. Альбер Швейцер, получив диплом врача, женится на опытной сестре милосердия Елене Бресслау, собирает по копейке все свои личные сбережения, авторские гонорары, деньги за органные концерты; покупает лекарства, оборудование для больницы, хирургические инструменты — и едет с женой в Центральную Африку. Там, в глубине болотистых лесов, он строит знаменитую свою больницу, ставшую спустя годы целым культурным больничным городком.
Первые месяцы жизни четы Швейцеров в Ламбарене, начиная с их первой ночи в открытой барачной постройке, где они, измученные усталостью, сразу заснули и сразу же проснулись от грома, похожего на сухой гром жестянок, — это кишмя кишели стены от огромных, жестких, неведомых насекомых, треща крыльями и стуча длинными ногами бегавших вдоль стен, — могли бы захватить наших писателей-«приключенцев» своей невероятной, жгучей интересностью. История борьбы этих двух смелых, спокойных людей, шаг за шагом побеждавших гибельный климат, недоверие туземцев, бездорожье, безлюдье, диких зверей, отсутствие нужных материалов и рабочих рук, страшное одиночество перед лицом массовых болезной и смертей беспомощных, как дети, негров, могла бы стать увлекательным и глубоко поучительным романом для юношества. В ней есть все — картины природы, страшные и величественные; игра ее стихий, в одно мгновенье способная уничтожить многолетний труд человека; пресмыкающиеся, забиравшиеся в дом; негры, снимающие, подобно веревочной змее, ниткой головы у врагов и потом высушивающие эти головы как сувениры; болезни — «сонная», не менее страшная, чем медленное умирание от обвившейся вокруг шеи нитки, проказа… Мы как-то редко думаем о проказе, словно эта болезнь отступила от нас вместе со средневековьем. А между тем, будучи в Лондоне, я как-то заглянула на выставку Белра — Британского общества борьбы с проказой — и там прочитала в справочнике: «Из каждых трехсот человек, рождающихся в мире, один падает сейчас жертвой проказы. Каждые пять минут рождается дитя, которому придется впоследствии заразиться проказой. Свыше трех миллионов из них — британские подданные. И меньше чем одна десятая этих страдальцев получает медицинскую помощь».
В центре этой стихийной природы, во всем ее диком богатстве и чудовищном, смертоносном самоуничтожении, встал хороший человек, европеец, белый доктор со своей женой. Бороться за инстинкт жизни, за все, что пробивается к жизни, за самое совершенное создание ее — человека — становится задачей и подвигом Альбера Швейцера. Невозможно в короткой статье описать все, что он — большой, коренастый, с огрубелым лицом и руками, с мохнатой шапкой волос и добрым серьезным прищуром зорких, не знающих окуляра глаз из-под дремучих бровей, — создает, строит и организует в Ламбарене. Трудно передать особый тон. особую атмосферу, окружающий деятельность Альбера Швейцера. Да, это любовь к ближнему, уважение к жизни, но как много во всем этом сдержанного, непоказного, неболтливого чувства, как нет во всем этом и тени поповства! Здравый смысл, шпрота и свобода взглядов, помогающие ломать любые заградиловки традиций и правил, и то незаметное, ненавязчивое, неощутимое, может быть и самому себе, превосходство зрелой человечности, выражающееся в разумности, в доступности разуму любой проблемы, любого возникшего спора или недоразумения, отличают каждый шаг и каждое дело Альбера Швейцера в его нечеловечески трудной и напряженной работе.
Негры привязываются к своему «белому доктору», они стекаются к нему тысячами. Одну черту хочется здесь указать, ярко характеризующую его манеру работать. Больница — почти казарма по внутренней дисциплине, и мы знаем, что всюду без исключения, где она есть и есть врачи и сестры в белых халатах и суровые няни в белых наколках, — есть и правило: тотчас отделять больного, не допускать к нему родственников иначе как в назначенный день и час. Но у Швейцера — особые больные. Негры приносят своего страдальца всей семьей, чуть ли не всем родом. Они на десятки трудных километров ушли от своей деревни, разводят возле больницы огонь, варят принесенную с собой пищу. И доктор Швейцер понимает, что отделить больного от его семьи здесь, в Центральной Африке, жестоко и неразумно. Он вводит новый порядок, ломая вековые больничные традиции. Матери, отцы, деды, дети окружают в палатах своих дорогих страдальцев, они помогают облегчать их страдания, держат их за руку, гладят их. А белый доктор незаметно, между делом, прививает им — здоровым людям — новые навыки, учит, как и сколько давать лекарства, чем и как кормить больного; он знакомит их с правилами чистоты и гигиены, изгоняет их суеверные представления о злом духе, о сверхъестественном характере болезней, оперирует перед ними, раскрывая строенье человеческого тела, — и постепенно великое могущество разума передается им вместе с действиями белого доктора, они выходят из больницы с выздоровевшим родственником, унося в глубь тропического леса, в поселок на болоте, в хижины, украшенные высушенными головами врагов, начатки новой для них культуры.
Но вспыхивает вторая мировая война. Негров мобилизуют во французскую армию, а на другом конце Африки их мобилизуют в фашистскую армию. И тот, кто выхватывал ценою огромных усилий каждую драгоценную жизнь из пасти смерти, кто создал уверенность в своих черных пациентах, что белые люди поклоняются жизни, спасают жизнь, берегут жизнь, — вдруг очутился перед лицом неслыханных массовых человекоистреблений, именуемых «войной».
«Десятилетиями рассуждают среди нас со все растущим легкомыслием о войне и завоеваниях, как если бы речь шла о сражениях на шахматной доске. Так создается общественное мнение, по которому судьбу отдельного человека уже не представляешь себе, а только видишь ее в виде цифр и неодушевленных предметов», — с горечью пишет о войне Лльбер Швейцер. С презреньем отвергает он письмо Геббельса, предлагающего ему вернуться на родину и «снова играть на органе». И — как немецкоподданный по букве закона, арестовывается у себя в больнице французскими колониальными властями, а потом высылается во Францию и много месяцев томится в лагере… В страшные первые дни войны его радостью были взошедшие пышные всходы из посеянных им семян человечности и разума. Самыми деликатными, самыми тактично добрыми оказались вокруг него лишь черные друзья доктора — негры. Ни один из них не укорил его за войну, не намекнул, что белые убивают жизнь, истребляют друг друга хуже черных. Своей нежной лаской к нему, своим человеческим уважением они только силились развеять скорбь, которую должен был в сердце своем чувствовать их доктор.
И вот страшной угрозой встала над человечеством игрушка безумных разжигателей войны, атомная бомба. Мир разделился на два лагеря. И в эфире из норвежского города Осло на пяти языках раздалось слово человека, перед которым даже враги снимают шапку:
«Я поднимаю голос вместе с теми людьми, которые считают сейчас своим долгом предупредить общественность словом и пером…»[8]
20 июня 1957 г.
Брюссельская всемирная выставка 1958 года
Вводное слово
Говорят, лучший способ научиться плавать — это бесстрашно кинуться в море.
Огромное скопление на двухстах гектарах загородного брюссельского парка всего того, что создано народами почти на целой планете, тоже подобно морю, вдобавок — приподнятому ввысь и опущенному вниз по вертикали времени; и лучший способ научиться поплыть в нем (то есть дойти до обобщений) — это прежде всего отдаться живому прибою его бесчисленных воздействий. В одном из бельгийских павильонов вы читаете лозунг: «Настоящее отражает себя в прошлом, будущее — в настоящем»[9]. Этот лозунг, в сущности, и лег в основу показа выставки, избравшей почти для каждого павильона расстановку вещей и явлений от того, что было, — к тому, что будет, в их осевом отношении к тому, что есть сейчас. Этот исторический метод показа помог устроителям так разместить множество и тесноте, что предметы легче входят в восприятие зрителя и крепче удерживаются в его памяти. Но как ни важно сразу окунуться в море выставки, есть четыре ее особенности, которые совершенно необходимо знать о ней заранее.
Первая черта — это отличие Брюссельской выставки от всех, ей предшествовавших. Если до сих пор всемирные выставки носили главным образом смотровой, коммерческий и развлекательный характер, то Брюссельская создана как попытка найти ответ на важнейший вопрос, интересующий сейчас миллионы мыслящих людей на земле: чем помогает научный и технический прогресс улучшению жизни людей? Или, расширяя этот вопрос и приближая его к нашему миропониманию, — в чем состоят особенности научного и технического прогресса, позволяющие предугадывать, в какую сторону должно и будет двигаться человечество для улучшения своей жизни и для роста самого человека?
Вторая черта — это специфически мирный характер выставки. Еще ни разу с такой силой и отчетливостью, на одной и той же очень небольшой площадке, буквально бок о бок, не были представлены два лагеря — лагерь стран капитализма и лагерь стран социализма, со всеми особенностями их культур, со своим пониманием счастья и своим представленьем о будущем. Но, открывая выставку, ее устроители подчеркнули свое намерение избегнуть всего того, что разделяет людей, и выявить все то, на чем люди самых разных стран и убеждений могли бы объединиться. Тем самым выставка — в острую минуту раскола мира и повой охватившей его тревоги перед возможностью гибельной войны — сделалась как бы призывом (если не примером) к мирному сосуществованию двух систем.
Третья черта заключается в том, что сама тема выставки и то настроенье, с которым она создавалась и открывалась, неизбежно сделали главным ее объектом науку и научные открытия последних лет. Никогда раньше ни одна выставка не походила так на своеобразный «всемирный университет», как нынешняя. Каждая страна, желая показать себя лицом, выдвинула в своих павильонах на первое место достижения науки и техники. Но кроме всего того, что можно увидеть из этих достижений в отдельных национальных павильонах, на выставке построен международный «Дворец науки», созданный при участии шестнадцати стран, многих десятков научных институтов и сотен ученых с мировыми именами. Свыше пятисот стендов этого дворца (из них около пятидесяти наших) рассказывают посетителю о самых важных открытиях последних лет; в нем работают делегации молодых ученых, и разъяснения даются вам не просто гидами, а людьми науки, и, наконец, каталог этого дворца представляет собою объемистый научный труд в несколько сот страниц.
Но к этому «Дворцу науки» — кульминационной точке всей выставки — я вернусь особо, а пока укажу на четвертую отличительную черту выставки.
Наука — не легкая индустрия, не дамские моды, она воспринимается трудно, и ее нужно зрителю толково разъяснять. Поэтому выставка неизбежно приобрела характер дидактический.
Если на прежних выставках главной связью между экспонатом и зрителем была коммерческая реклама, то сейчас перевес над рекламой взяла научная пропаганда. Все пошло на службу такой пропаганде: искусство, техника, живое слово. Различные формы телевидения и кино (синерама — в нашем павильоне, футурама — в бельгийском, циркорама — в американском); многообразная звуковая информация — наушники возле сложных экспонатов, доносящие к вам пояснительный текст диктора на любом из трех языков, музыка в виде фона для объяснения (так сделай, например, дикторский текст к самому прозаичному объяснению европейской угольной шахты); бесконечное количество всякого рода макетов, движущихся моделей, научных игрушек; ученые в роли гидов; графики и схемы, брошюры и каталоги в помощь зрителю — все это заинтересовывает, захватывает вас и служит познавательным целям. Дидактизм и является четвертой особенностью выставки.
Держа в памяти эти четыре отличительных признака, вы легко сумеете «поплыть» в безбрежном море выставки, правильно направляя ваше вниманье на нужное и легко избегая всего лишнего.
I. В гостях у хозяев выставки, бельгийцев
Десять ворот ведут на выставку. Мы пойдем, соблюдая обычай вежливости, через ворота Эспланады, потому что они ближе всего к павильонам Бельгии. Эспланада — широкая площадь-аллея, к центре которой по мере надобности то быстро воздвигается, то убирается эстрада, а справа и слева амфитеатром построены трибуны с рядами сидений. Над этой площадью каким-то растрепанным пятном возносится своеобразная плоскостная скульптура лошади, с распоротым брюхом и развитым хвостом, мчащейся с двумя всадниками на ней, — нечто вроде сказочного деревянного копя из «Багдадского вора». Я нигде но читала объяснений этой скульптуры и могу, конечно, как это часто бывает при попытке объяснить некоторые ультрасовременные произведения искусства, попасть пальцем в небо. Отсюда, с Эспланады, нужно пройти почти всю выставку, чтоб достичь Советского и ряда зарубежных национальных павильонов; но, мне кажется, разумнее начинать осмотр выставки именно отсюда, накопив некоторый опыт для сравнений, а потом уже побывать у себя дома.
Первое, что захватывает вас на выставке, это звук. Мы знаем, как разноголосо волнуется праздничная площадь, как ярко кричит ярмарка, — но слитная музыка Всемирной выставки не похожа ни на ту, ни на другую, может быть потому, что у нее иные слагаемые. В полифонию человеческих голосов и дробный марш людских масс здесь вливается пронзительный уксус фанфар, странная стеклянная россыпь «Две Марии», исполняемой не на органе и не оркестром, а перезвоном церковных колоколов; треск геликоптера наверху, шум проносящихся колясок, управляемых сидящими сзади наемными возницами-велосипедистами; пронзительный взлет электронного стона, свист Детской пищалки и — сентиментальная сладость скрипок от проходящих оркестров, играющих каждый свое. В этом разноголосом потоке вы замечаете неожиданную слаженность. Есть в математике интересная «теория игр», начало которой состоит в том, что случайность в игре может чаще Давать наилучшие совпаденья, нежели в игре по правилу. И часто, часто, наблюдая за художественными и музыкальными элементами выставки, за железными спиралями со абстрактных скульптур и пестрыми пятнами ее абстрактных полотен, вспоминаешь эту любопытную теорию случая, словно художник, устав от правил и не умея побеждать их новыми творческими законами, отдается на волю случайности… По-русски эта замечательная математическая теория выражается нехитрой пословицей; «Кривая вывезет».
Еще рано, площадь полна свежим запахом розовых цветников. Справа и слева от нее идут здания, мимо которых зрители обычно спешат, торопясь куда-то, где оживленней и, по-видимому, интересней. А между тем каждое из этих зданий может поймать вас на долгие часы. Вот павильон почтовых сношений и в нем великолепный отдел филателистики с витринами всех марок в мире. Казалось бы, марки — занятие для ребятишек. Но какая чудесная цветная география, какая живая история разворачивается на этих маленьких значках, рассказывающих о своей стране, своей эпохе, ее исторических событиях; сколько исчезнувших государств сохранило свои следы на этих крохотных памятниках, какую смену общественных систем показывают они и как четко воспроизводит игла гравера пейзажи и здания, лица и национальную одежду в марке! Вспоминаю тонкое искусство наших граверов, отмечающее на советских марках почти каждое наше культурное событие. Мало кто задумывается у нас над тем, что и в почтовой марке отражается общественная система, общественная идеология. Один шотландец был потрясен, получив в прошлом году из Советского Союза письмо с маркой, где изображен Роберт Бёрнс. Он с грустью написал своему корреспонденту, что в их стране запрещено изображать на марках какие-либо лица, кроме королевских. А другой адресат, француз, увидя на советской марке прекрасный портрет Достоевского, воскликнул почти как в анекдоте: «Отказываюсь верить!»
В соседнем павильоне — раздолье для радиолюбителей. Каких только радиоприемников здесь нет! Фирмы соперничают друг с другом, один экспонат великолепней другого, у вас разгораются глаза… Но и тут невольно задумываешься. Есть у нас, в нашей простой и милой действительности, одно гибридное словечко, часто служащее мишенью для «Крокодила». Это словечко — «культтовары», оно часто мелькает на вывесках магазинов. И вот под это самое не совсем казистое словечко подведены у нас и радиоприемники. Атрибут культуры в квартире — связь со страной, с человечеством; спокойная возможность послушать музыку, дождаться последних новостей. И наши заводы тоже улучшают свой культтовар, стремятся сделать его прочнее, дешевле, лучше, увеличить слышимость, смягчить шумы. Повседневным сделали«, и приемники с радиолой. Но мы не додумались до тонкостей, какими западноевропейские фирмы угождают вкусу своих богатых потребителей. Уж не говоря о великолепии внешнего вида — один другого изящней, один другого дороже, — вот новые электронные телевизоры — экран и провода, и больше как будто ничего; вытянутый в вышину приемник с радиолой внизу и телеэкраном наверху — это хорошо; а рядом горизонтальный приемник чуть ли не розового дерева, и если но правую его сторону — радиола, то по левую — нарядный винный погребец, и даже с бутылками редких иностранных марок. Да, это все очень красиво; но приемник с винным погребцом не попал бы у нас под рубрику «культтовара». И не знаю, как вы, читатель, а у меня вдруг при взгляде на пего стеснилось сердце нежностью к нашему гибридному советскому словечку и радиоприемнику, лишенному особых претензий на внешний шик, — так много за ним черточек нашей советской культуры: чтобы досталось каждому, чтоб стало доступным всем, чтоб сделалось массовым, чтоб несло в массы культуру… На телеустановках, мимо которых я прохожу, идет мгновенная летопись изображений, и вы, внимательный зритель, тотчас вписываетесь в эту летопись выставки. Не все хочется вам покритиковать со своих позиций, — очень многое надо хвалить и хотеть перенять, и прежде всего — чистоту выделки нужных для радио и телевизора деталей. Вообще все, что касается необходимых частей и деталей, очень хорошо у бельгийцев, и хотелось бы, чтоб наши заводы призадумались над своевременным и достаточным выпуском антенн (и эти антенны были бы портативны для перевозки), и прочных головок для игл в радиолах, и комнатных трансформаторов для холодильников, и многого прочего.
В следующем павильоне вас неожиданно охватывает море, — вам даже кажется — вы втягиваете в ноздри соленый морской воздух. Англия, бывшая «владычица морей», не сумела так показать свою морскую быль, как это удалось маленькой Бельгии, хоть в Англии и нет ни одного человека, кто жил бы дальше чем на сто двадцать километров от моря. Как удалось это Бельгии? Под вами, в пруду, маленький белый пароходик, управляемый с берега, маневрируя, совершает рейс «от Лондона до Остенде» и красиво становится в док, белым пятнышком отражаясь в воде. Наверху над вами — модели кораблей, от старинных, с вызолоченной фигурой стремящейся вперед деревянной женщины на носу, сразу напоминающей вам «Бегущую по волнам» Александра Грина, и до новейших грузовых пароходов, показанных необычайно тщательно, с разрезом трюма, где видны перевозимые товары. Под звуки бодрящей и свежей, как ветерок, музыки надпись говорит вам, что каждые двадцать минут в какой-нибудь из портов Бельгии входит судно, — сорок четыре нации пяти частой света торгуют с него. А вокруг на стенах превосходно сделанные фотографии бельгийских моряков. Надо сказать, что по только бельгийцы, но и многие другие народы показали в своих павильонах, по примеру обычных наших выставок, фотографии людей труда, и это сделало их павильоны гораздо живей.
Искусство фото на Западе очень сильно. Так выразительны лица людей, что невольно задумываешься над будущим фотографии, над созданьем фотопортрета, где рукою фотографа будет водить талант художника, — уменье увидеть и мгновенно поймать главное выраженье человеческого лица.
Следующий павильон, аэронавтики, для нас, создателей наших гигантских «ТУ», малоинтересен, если не считать самой системы показа и оборудованья павильона. Здесь вы ужо начинаете чувствовать необыкновенную роль «игрушки для взрослых» на выставке — движущейся модели и макета. Как правило, все эти бегающие автомобили и кораблики, весь мир автоматических жестов и движений управляется электронно, на расстоянии, — и вы уже как бы входите воображеньем в ту грядущую электронную эру, которую американцы назвали крылатым словечком «pushbutton era» — кнопконажимательной. Спуститесь вниз по ступенькам, на задворки павильона, — и перед вами внезапно раскроется гигантский полигон с несколькими десятками путей, на которых один за другим, яркие, глянцевитые, разноцветные, теснятся настоящие вагоны всех стран и марок Западной Европы, с новейшими тепловозами, чьи тупые и круглоглазые фасады так резко отличаются от старого милого профиля отжившего свой век паровоза. Технически все эти вагоны, может быть, и прекрасны. Расстояния, которые они пробегают, коротки. И все же если говорить о технике, приспособленной для человека, его уюта и комфорта, — нет в мире лучше наших вагонов, дающих путешественнику третьего, как и первого, класса одинаковую возможность вытянуться на лавке.
По ту сторону Эспланады, если удалиться чуть вглубь, попадаешь в павильон сельского хозяйства. Здесь уже ходят, не глядя на ранний час, деловитые посетители с женами и детишками, быть может фермеры, приехавшие из бельгийских деревень, а экспонаты снабжены целыми пачками реклам с указанием цен и достоинств. В длинном перечне этих достоинств, рядом с такими словами, как «экономична», «рациональна», «легко сбираема и разбираема», часто стоит необычное для машины слово «эстетична». Соображения эстетики при создании утилитарных машин — вещь не только хорошая. Изучая выставку, что называется, вдоль и поперек в течение пятнадцати дней и натыкаясь на этот термин у садовых инструментов, строительных машин, печей, то есть у самых отдаленных от искусства предметов, я заметила, что ставится он не в начале, а в конце перечня эпитетов. Эстетичность, то есть нечто приятное для глаз, нечто «изящное», родилась но как замысел конструктора, не в начале созданья машины, а как следствие, в конце его.
Не помню, какой из старых русских писателей, анализируя когда-то слово «изящество», пришел к выводу, что оно происходит от глагола «изъять»: изымая постепенно все лишнее, отяжеляющее и усложняющее конструкцию, как штамп и литературщину из писательской речи, — вы получаете тот лаконизм, который и кажется глазу изящным.
Разумеется, такое объяснение произвольно. Но, разобрав отдельные элементы, нравящиеся нашему глазу… ну, скажем, на бельгийских лопатах, убеждаешься, что тут есть кое-что от истины. Не излишек ли, например, поперечная ручка на конце стержня лопаты и особенно — красная лакировка этой поперечной ручки? Но поперечная ручка делает лопату удобной для работы и опоры на нее при копанье, а лакировка — гладкой в руке. Не излишек ли изящная вогнутость железного скребка лопаты, вогнутость не округлая, а словно его согнули вдоль чуть ли не под прямым углом? Но так легче и вонзать скребок в землю, и захватывать им землю. А вот легкость веса, непривычная в лопате, добыта изъятием лишнего металла, то есть более дорогого материала; а добавочная тяжесть дерева в поперечной ручке, усиливающая вашу собственную тяжесть, когда вы на лопату опираетесь, достигнута за счет добавки более дешевого материала. В целом такие лопаты дешевле, на них меньше пошло железа и больше дерева, и они легче, удобней, изящней, эстетичней, — а последнее свойство пришло как результат всего процесса рационализации, а не его замысел.
Так «искусство» сближается с «пользой», и вы невольно вспоминаете смелую формулу Гёте в «Вильгельме Мейстере», за которую его немало упрекали в утилитаризме: «От Полезного через Истинное к Прекрасному…»
Что запоминается в сельскохозяйственном павильоне? Электродойка, при которой не видно самого молока, — оно но трубкам идет от коровы на сепараторы; чистота и полное отсутствие запаха животных в хлеву, на скотном дворе, в птичнике и даже в свинарнике; любопытное прохождение коровы через особую дужку, опрыскивающую ее дезинфекционным раствором («туалет коровы»), — это, кстати, хорошо показывается в павильоне Нидерландов; печи…
Но о печах опять хочется сказать особо. Перед вами небольшая цилиндрическая печка в два этажа; на трех килограммах дров она выпекает четырнадцать хлебов, каждый в кило весом. Делается это быстро, выпечка происходит на крутящейся пластинке, все хлебы одинаково одноцветны, со всех сторон зарумянены. «Нравится?» — подмигнул мне один из посетителей в фетровой шляпе. «Ничего себе, — ответила я, — только вот на сотни людей в наших колхозах она маловата; четырнадцатью хлебами их ведь не накормишь, разве что по Евангелию». И в воображении моем опять встал наш павильон, собственно даже не павильон, а его наружные стены, вокруг которых — без малого полкилометра — расставлены наши сельскохозяйственные машины и грузовики. Огромные гиганты, слоны среди кроликов, с хоботами мамонта, с пятой допотопных чудовищ, с колесами-великанами и, верные и терпеливые труженики наших необъятных полей. Масштабы — вот что резко отличает наши машины от западноевропейских и перехватывает дыхание у зрителей. Но принцип маленькой разборной печки, похожей на термос, сам по себе интересен. С легкой руки английской особой ресторации, именуемой «гриль-рум», где все тут же, у вас на глазах, печется и, кстати сказать, подается в полусыром виде из любви англичан к кровяному бифштексу, — печение, выпекание на собственном соку, вместо поджаривания на масле, завоевало многие европейские кухни. В моделях «домов будущего» неизменно имеется нечто вроде открытого шкафа в стене, где, без дыма и без огня, на электричестве, крутится вокруг источника жара курица на вертеле. Это пришло с Востока, из Закавказья, из Японии, от многих восточных и южных народов, не знавших сковородки с маслом, а только выпечку на костре, на углях, или выварку, как в Японии. Одна из самых вредных вещей в еде — жаренье на масле, — этот классический кухонный чад людских жилищ, — все больше и больше изгоняется вертелом, металлической пластинкой, вертящейся в равномерном тепле. И хорошо, если б электропечки не только для хлеба, всеми сообща выпекаемого, но и для мяса, для птицы и рыбы, выпекаемых у нас пока только в кавказских ресторанах в виде шашлыков, заняли бы и в наших домах постоянное место.
От сельского хозяйства — к царству электропромышленности. Павильон на выставке — один из самых волнующих по своей красоте. Вы словно входите в синюю ночь, — глубина охватила вас. И в этой глубине светится мир энергии, как будто уже уступающей свое первенство другой энергодинастии — атомной. Но, побыв в этом павильоне подольше, вы начинаете думать, что мир еще не исчерпал и одной десятой ее возможностей, и век электричества не только не кончился, а лишь начинается. Здесь царствуют мировые фирмы разных стран, уже потерявшие свой национальный облик и ставшие космополитическими, — Филипс и другие; огромные турбины, аккумуляторы; сквозь круглые глаза иллюминаторов, как на пароходе, вы смотрите на гигантские батареи, это — кабина трансформаторов. А вот в центре, почти в человеческий рост, кружится перед вами сцена с комнатами «электрического домика». Одна за другой проходят уютные комнаты ультрасовременной квартиры — спальня, детская, кухня, гостиная с выходом в садик, откуда словно дышит на нас аромат хорошо возделанного клочка земли с выхоленными растениями; и вся жизнь, весь быт домика — на электричестве, оно согревает, охлаждает, освещает, проветривает, готовит пищу, дает купанье и душ, помогает разговаривать на расстоянии, заполняет досуг музыкой, сообщает последние новости, ухаживает за садиком, обогревая и устраивая искусственный дождь; оно прячется в детских игрушках и — защищает от воров. Налюбовавшись на домик, вы поднимаетесь наверх по эскалатору. Серо-сине-черное убранство потолка и стен, бегающие цветные огоньки по этому фону, словно россыпь ночных светляков. Необыкновенное изящество в показе простейших вещей, целые архитектурные сооруженья из проводов и кабелей, башенки фарфоровых изоляторов, вилки, реле и шпуры, превратившиеся не то в цветочное, не то в кружевное царство в своем художественном сплетении, — и между молчаливыми айсбергами голубоватого фарфора и металла — макеты из досок, изображающие девушек-«хостесс»[10], в сипом и белом, с приглашающим жестом рук. Девушки неподвижны, но кружевной мир движется, крутится, плывет, хотя и молчит.
Здесь нет музыки. И еще нет чего-то. Вспоминаешь виденные великолепные макеты на фото крупнейших, ужо действующих тепло- и гидростанций — их много и в данном павильоне, и на выставке; макеты и фото проектов будущих таких станций, их тоже много, и они сделаны с большим размахом и вкусом. Но где же тут простой и смелый жест — проект линии передачи, переносящей электрический ток из страны в страну, из города в город, шагающей широким, беззаботным шагом стальных столбов? Техническое вдохновенье и смелая мысль ушли на проектировку изолированных вещей, а там, где надо связывать эти вещи в пространстве, перебрасывать связь между ними через земные пажити, сады, холмы, леса и долины, оказывается, что пажить — собственность икс-игрека, парк — владение игрек-зета, и несть им числа, собственникам клочков земли, по которой должны пройти и не могут пройти стальные ноги носительницы электрического тока, не могут, покуда не удастся откупить право перехода, а может, и землю у десятков и сотен владельцев. Тут не очень-то размахнешься в смелом творческом жесте! А у нас планируется уже единое энергохозяйство для десятков тысяч километров нашей страны. Недавно в Москве происходил Международный конгресс архитекторов. Один из его участников, дипломированный инженер-архитектор Рудольф Хиллебрехт (городской советник по строительству в Федеративной Республике Германии) сказал в своей речи, что главным «источником сопротивления и препятствия к осуществлению проектов планировки в странах Западной Европы в первую очередь является право частной собственности на землю»[11]. Не мы, дети нового мира, говорим это, а специалист капиталистической Западной Германии. И по-своему, на языке искусства и пластики, напоминает об этом выставка. Не там, где она в таком изобилии и с таким совершенством показывает, а там, где ей не хватает показа, где нет у ее талантливых проектировщиков смелого жеста, возможности широко, на вольной воле разгуляться.
Из павильона электричества — в павильон нефти, встречающий вас цветами. Нефть подана тут как главный двигатель жизни. Графики сообщают о росте из года в год ее потребления: в 1955 году уголь потреблялся больше, чем нефть; а через десять лет нефть намного превысит уголь. В особом павильоне-шаре окружают вас вещи, необходимые для вашей жизни, и в той или иной степени все они оказываются производными от нефти; во дворе — автоматическая откачка, большая современная металлическая вышка. Все это показано однообразней, чем электричество, и ничем новым не захватывает вас, покуда вы не проходите в другой павильон — химической промышленности.
Здесь многому можно поучиться. Мы начали сейчас разворачивать грандиозное химическое производство. Представляю себе, с каким интересом будет наш инженер-химик ходить по этим причудливым уголкам и коридорчикам, посвященным химии, начиная с ее азбуки. И — как удивится он этой азбуке. В первую минуту невероятно странным кажется, что история одной из самых передовых наук, форпосты которой сейчас перекликаются с форпостами математики, физики, кристаллографии, биологии, неожиданно открывается средневековым уголком алхимика. Но полно, так ли уж странно это? Не только «история» и метод исторического показа заставляют вспомнить алхимию, но и диалектическое изложенье научных теорий. Раскрываем одну из самых передовых книг современности, переведенную и у нас, — «Наука в истории общества» профессора Дж. Бернала — и читаем на странице 402 об открытии радиоактивности: оно, это открытие, «явилось еще более сильным ударом по физическим и химическим верованиям XIX века. Работа величайшего из химиков, самого Лавуазье, установила закон неизменности элементов. Он был установлен как прямое опровержение претензий старых алхимиков на возможность изменения или создания материи; здесь же как будто была материя, фактически самопроизвольно меняющаяся, без малейшего стимула, который вызвал бы такое изменение»[12]. Иначе сказать, новейшее открытие напомнило людям мечту о превращении элементов у алхимиков. Средневековые ученые с их беспомощными колбами и наивными верованиями тем не менее были учеными; люди смеялись над их фантазиями, но в фантазиях человечества и на ранней заре были отблески реального. И не следует забывать, что совсем недавно, почти вчера еще, когда Рентген открыл свои знаменитые икс-лучи, показавшие кости в теле человека и монеты в его кошельке, — смех, юмористика парижских кафешантанов чуть ли не вся была построена на обыгрыванье этого «забавного» открытия, великое значенье которого не было еще ясно в ту пору и самому Рентгену.
Просто и впечатляюще в начале павильона химии дана зрителю формула одного из обыкновеннейших веществ на земле — серной кислоты (acide suifurique). И вслед за формулой вещества — вы учитесь, как сопровождает оно всю человеческую жизнь, от земли, которую удобряет; одежды, в приготовление тканей которой входит; пищи, для которой создает упаковку (целлофан), сахар, желатин, глюкозу; лечебных средств — глицерина, перекиси водорода — и до оболочки вагонов. На простейшем этом предмете мы видим бесконечные вариации изменений химического вещества, в которых наука и промышленность заинтересованы одинаково. И если диаграмма тут учит нас, что обыкновенная корова, питаясь травой на удобренной почве, на целых две тысячи четыреста литров повышает удои (такие диаграммы, как азбука, знакомы советскому человеку); и если мы узнаем, какую громадную роль играет и должна еще сыграть пластмасса в практической жизни общества, — то химические процессы, создающие пластмассу, ученому интересней всякого их использованья, потому что именно тут, на грани двух разделенных миров, органического и неорганического, живого и неживого, и происходят сейчас необычайные явленья, сближающие, словно вспышками молнии, мысли физика и химика, химика и биолога.
Очень следует посетить и павильон фармацевтики, где показаны открытия сульфамидов и антибиотиков и влияние этих открытий на длительность человеческой жизни. Любопытный подсчет встречает вас (не относящийся к странам социалистического лагеря); он говорил о том, что с каждым годом прибавляется число студентов, идущих на химический факультет. Но если изучать химию идут пять человек на тысячу, то на фармацевтическое отделение химического факультета идут шестьдесят три человека на тысячу — почти в тринадцать раз больше.
За павильоном химии еще очень много всего, чем богата Бельгия. Надев удобные наушники, можно посидеть в мягком кресле отдела туризма и пропутешествовать не столько по стране, сколько по ее прошлому, ревниво сохраняемому в ежегодных ярких народных праздниках; то это карнавал в Намюре, то Лонг-бра («длинные руки») в Малмеди, то шествие ставелотов, св. Гермеса, процессии «кающихся», Христа и Иуды и кого, кого только! Средневековые костюмы, маски, узкие улички исторических городов, как фон для процессий, — яркие пятна, музыка старых инструментов, выступленья старинного театра марионеток, — этнография, фольклор. Нам необычны такие объекты туризма, но жители Европы их очень любят и ребячески отдаются зрелищу — не только в одной Бельгии. Мне довелось много десятков лет назад, будучи еще подростком, увидеть яркую швейцарскую процессию fête des vignerons, праздник виноградарей, где трезвая душа швейцарца, собравшего богатую виноградную жатву, вдруг распахивает себя в безудержном веселье, люди пьют, поют, исходят в пляске, в то же время свято соблюдая сюжетную традицию процессии и ее старинные формы. А недавно я наблюдала еще нечто подобное в Лондоне — традиционный праздник в особом квартале — Сохо, этом средневековом коммерческом гнезде, темном и на вид невзрачном, со множеством ресторанчиков, с поблекшими от времени вывесками столетних фирм. Переполненный людским наводнением, Сохо кричал и сверкал, заливая тротуары самыми невероятными карнавальными группами и, как водится, живыми красочными рекламами…
Но, возвращаясь в Бельгию, надо упомянуть не один этот отдел туризма, а и особый этнографический уголок на выставке, куда входишь за отдельную плату. «Веселящаяся Бельгия», как называется этот уголок, — в сущности настоящий музей, воспроизводящий старинную городскую площадь и узенькие улички вокруг нее, с лестницами наверх, керосиновыми фонарями, множеством кабачков, где столы заменены бочками, а вино именуется «бешеным», и с целым кварталом цеховых ремесленников, выполняющих тут же, на улице, свое нехитрое дело: они тянут кожу, вырезают по дереву, шьют, бьют молотком, а кожаные их фартуки раздуваются от ветра. В «Веселящейся Бельгии» люди на улицах разгуливают в средневековых одеждах монахов и рыцарей; часто звучат фанфары. Но есть здесь и прекрасный музей бельгийского прикладного искусства.
И хотя, например, в Брюгге, с расчетом на туристов, сидят у дверей в работе старые кружевницы, а в любом из городских магазинчиков продаются они уже в форме куколок, с кружевом в руках, — но настоящие, знаменитые брюссельские кружева, о которых столько читали и слышали, вы увидите лишь в музее. Образцы их, спрятанные под стеклом, как драгоценные произведения искусства, действительно прекрасны.
Не буду останавливаться на павильоне «Текстиль», привлекающем модниц. Скажу только, что в Бельгии, этой стране превосходного полотна, составляющего немалый процент ее экспорта (восемь миллиардов франков в год), почти нельзя найти хорошее полотно в магазинах, как и нельзя найти хороших брюссельских кружев, — их нет или они баснословно дороги. Лучшее, что создает народ, он делает не для себя, а для своего бога Молоха — экспорта.
Скромные отделы образования и здоровья очень для нас интересны, и жалко, что показано там, в сущности, не так уж много. Для того, кто видел образцовые народные школы Финляндии, оборудованные мастерскими для столярных и механических работ, собственными физическими лабораториями и радио- и киноустановками, с помощью которых вершится преподаванье, — бельгийская школа кажется представленной бедно и скупо. По есть запоминающиеся детали. Вот где гротескные картинки из жизни класса: на одной учитель изображен лицом к ученикам, перед ним всевозможные наглядные пособия (идет урок растениеводства), пособия и в руках учеников, слушающих заинтересованно и внимательно; на другой картинке учитель, спиной к классу, что-то скучно мусолит на доске, а ученики ведут себя отвратительно: часть спит, другая дерется, третья играет во что-то. Надпись не осуждает учеников. Надпись осуждает учителя. Для правильного ученья, гласит эта надпись, нужны три элемента — «интерес, внимание, наука». Возбудить интерес может только учитель, сам увлеченный своим предметом; возбужденный интерес настораживает и сосредоточивает в ученике его внимание; а сосредоточенное внимание — это прямой путь к науке. Немного смешно столкнуться в отделе образования с уголком «Школы криминалистики и научной полиции». С помощью фотографий уголок этот показывает, как обучают полицейских «научно» распознавать двух действующих лиц уличной кражи: «левёра» (то есть как бы поднимающего дичь для стоящего неподалеку другого вора) и «тирёра» (то есть «стрелка» — фактически совершающего покражу и удирающего с ней). Все это показано так «дидактично», что, боюсь, обучит столько же неопытных карманников, сколько и молодых полицейских.
В отделе здоровья прекрасны параллельные серии картинок — о здоровой и правильной жизни и о жизни нездоровой и неправильной; герой их — простой рабочий или мелкий служащий. С первой минуты пробужденья здоровая жизнь одного показана так «вкусно», что хочется ей подражать, а тяжелое просыпанье другого в неубранной комнате, обрастающее целым снежным комом последующих неправильных действий, из которых чем дальше, тем трудное вырваться, заставляет невольно подумать о собственных ошибках. В результате просмотра — острое чувство важности начала: не надейся на хорошее исправленье во втором или третьем звене поступков; заложи правильное начало для всей их цепи!
Со всеми этими практическими плакатами, исполненными гротескным и полным юмора рисунком или вырезанной наклейкой и совсем не похожими на скучные натуралистические лубки с назидательными поученьями, перекликаются и надписи в уголке профессионального образованья, находящемся в отделе «бельгийского синтеза». Здесь — наставление для верных слуг капитализма, старательных рабочих; но само по себе в другой общественной системе оно было бы отнюдь не глупо. Что создает образцовую производительность труда? — спрашивает плакат — и отвечает: умение использовать научный прогресс на работе; умение культурно жить дома, вернувшись с работы; и, наконец, умение организовать себе здоровый отдых. В этом павильоне, носящем названье «бельгийского синтеза», имеется и особое кино, «футурама», посвященное показу будущей техники.
Всякий раз, как посетитель попадет в футураму (а, к сожалению, в серьезных местах людей меньше всего), он остается сидеть на второй и на третий сеансы. Картины, как и всюду, сопровождаются научным объяснением диктора на выбранном вами, с помощью наушника, языке. Я видела в футураме опыт действия ультразвука: чудовищной силы звук, уже недоступный нашему слуху, нагревает силой своего действия железную пластинку докрасна. И смотрела фильм о том, какими должны быть автомобили грядущего. Мы на пороге электронной эры, и будущие автомобили, само собой разумеется, электронные. Это — своеобразные башмачки, имеющие на крышке переднего кузова два ряда круглых окошек, похожих на иллюминаторы. Они управляются невидимой рукой диспетчера, издалека, и мчатся с невероятной скоростью, потому что катастрофы и столкновенья сведены на нет.
Далеко не все выставленное Бельгией удалось хоть отчасти навестить и описать читателю, — к бельгийскому искусству, например, я вернусь отдельно. Однако во множестве, не поддающемся полному охвату, одно повидать сейчас совершенно необходимо. Это «одно» пригляделось каждому посетителю выставки на сотнях открыток, платочков, галстуков, кружек, стеклянных моделек. Оно глядит вам в глаза с титульных листов брошюр и путеводителей. Его нельзя не увидеть в центре выставки, где оно сияет своими алюминиевыми шарами днем, а ночью стекает над выставкой искрами, словно десятки электронов носятся над ядрами атомов. Это «одно» — знаменитый Атомиум, задуманный как гигантская молекула кристалла железа, увеличенная в сто шестьдесят пять миллиардов раз и состоящая из девяти атомов-сфер.
Атомиум строился бельгийцами целых пять лет, и в числе его инженеров-строителей был и один русский инженер, Жуков. Много усилий было положено, чтоб испытать сопротивление постройки действию ветров и сделать это странное, состоящее, грубо говоря, из девяти ячеек-шаров, соединенных тонкими ножками, сооружение не только «обитаемым», но и безопасно посещаемым непрерывными потоками зрителей. Люди текут и текут наверх, из сферы в сферу, по эскалаторам, проложенным в узких круглых трубах. А вниз спускаются по головокружительным стальным лесенкам, сквозь щели которых лучше уж не глядеть, если у вас кружится от высоты голова. Английская газета «Обсервер» в самом начале выставки писала иронически, что весь этот сложный путь до верхней сферы Атомиума не стоит труда, поскольку наверху вы попадаете в ресторан и табачный ларек. Это правда, что наверху — ресторан, вместе с широким видом на выставку; но прогуляться по сферам все же очень и очень стоит, потому что в шести из них размещено кое-что интересное. В самом нижнем шаре, где выставлена бельгийская термоядерная промышленность, нужно посмотреть аппарат для производства «радиоактивного йода 131». В сегодняшней медицине этот йод помогает устанавливать диагнозы многих трудно распознаваемых болезней, употребляется и как облучитель. Весь очень простой процесс производства его показан тут в формуле, которую любознательные посетители заносят себе в книжку. Выше вы увидите макет итальянских термоядерных лабораторий; модель синхротрона и сделанную в Роттердаме модель тридцатитысячетонного голландского танкера, движимого атомной энергией. Еще выше — изделия фирмы Вестингауз, от реактора до атомной кухни будущего, где все предметы домашнего хозяйства компактны и ослепительны, как оборудованье научной лаборатории. Но постепенно вы замечаете, что все это хоть и интерес по, а как-то разбросано и кажется случайным.
Здесь, на примере Атомиума, стоившего Бельгии огромных трудов и средств, наглядно видно, до чего на уживаются рядом два принципа показа: научный и рекламный. Те же умные, замечательные машины, созданные человеческим гением на человеческую пользу, предстают перед вами в совершенно разном свете, когда их объясняет ученый, чтоб вы их познали, или сопровождает рекламная этикетка фирмы, чтоб вы их купили. Промышленные фирмы — Сильвания, Вестингауз и другие — совершенно забили Атомиум, лишив его серьезного научного характера. И в этом смысле блестящий архитектурно-научный замысел бельгийцев как-то и фигурально и буквально повис в воздухе.
II. Прогулка по национальным павильонам
Зажмурясь над бездной звуков и красок, спустились вы вниз с Атомиума, чтоб добраться до сектора, где расположились гости Бельгии, павильоны других наций. Но, несмотря на развернутый план в руке и указатели на перекрестках, несмотря на малое пространство выставки — всего-навсего двести гектаров, — вы словно в лабиринт попали. И не то чтобы трудно найти дорогу, если хорошенько разобраться, — нет, вы просто оказываетесь в плену, как девочка Красная Шапочка, у разных увлекательных цветов в этом лесу.
Ну как не остановиться, например, у витрин зоологического сада, привезенного из Антверпена! Говорят, это лучший сад в мире по необыкновенному изобилию самых незнакомых четвероногих и пернатых, привозимых на всех кораблях со всех островов и материков. Не знаю, правда ли это и так ли они необыкновенны в крытом помещенье Zoo, — посетить его у меня не было времени и надо было беречь силы для существенного, — по то, что выставлено снаружи, способно заинтересовать посетителя. Вот за решеткой разгуливает семейство розовых цапель, ступающих с той плавающей грацией, с какой не поспорит ни одна балерина в мире. Слева от них — клетка с черными крохотными птичками, они носятся вверх и вниз, мимо древесных веток, но вдруг — застывают в воздухе, трепеща крыльями; это они пьют из своих поилок, а поилки — стеклянные узкие трубочки с водой, прикрепленные к концам веток, подобно свечам на елке. И еще дальше — странная птица, о которой я раньше читала, но еще не видела, — ростом и обликом с дрозда, спокойная, с кровавым отверстием на груди, куда она то и дело опускает свой клюв, как бы терзая свою рану. Эта птица — настоящий символ терзающего себя философа, не находящего путей в будущее, живая иллюстрация к стихам из «Зимнего путешествия на Гарц» Гёте о таком заблудившемся философе (Harzreise im Winter):
…И гложет тайком Свою ценность В ненасытном самоисканье…Все это — кусочек природы, отдых от мира машин, и хотя, казалось бы, в парке Хейсель, где раскинута выставка, ее должно быть вволю, тем более что из двухсот гектаров шестьдесят отведено под сады, — но природы и свежего воздуха здесь, признаться, маловато.
Сады, и самые обыкновенные, и стиля модерн, и четырех сезонов, и агрикультурные, и тропические — то с виноградом и пальмами, то с жестяными спиралями на усаженных пестрыми камнями клумбах, — слишком искусственны. Зеленые промежутки меж павильонами почти сплошь использованы под макеты крошечных установок. То и дело натыкаетесь вы на макеты городов, портов и даже целой страны с ее остроконечными шпилями церквей, настоящими лесами из елочек ростом с палец, змейками шоссейных дорог и даже бетоном гавани, в которую, шумя прибоем, накатываются крохотные волны крохотного моря. Как это ни странно, на выставке XX века постоянно вспоминается век XVIII, так много вокруг вас всяких механических игрушек. Только вместо наивных забав XVIII века — музыкальных ящиков, затейливых часов с кукушками и выскакивающими из дверей человечками — современная игрушка на выставке отражает современный уровень науки.
Автоматизм, с помощью электронного головного механизма (сервомеханизма, как его называют), бесконечно расширил свои возможности не только в производстве, но и в странных подделках под жизнь, забавляющих одинаково и детей и взрослых, — и надо сказать, что на выставке такие автоматы попадаются буквально на каждом шагу — гримасничают, зазывают, подают афишки, предлагают пробные флаконы с шампанским, благодарят вас, прикладывая руку к козырьку. Как на ярмарках в начале прошлого века показывали в балагане какого-нибудь заснувшего в ящике крокодила или волосатую «русалку», — в отделе развлечений выставки вы можете за пять франков посмотреть настоящего стального человека, имеющего даже собственное имя «Робот Sabor». Он стоит огромный, закутанный в панцирь, поднимает руки, передвигает ноги и, сотрясаясь, шагает к вам; он отвечает на ваши вопросы мертвым электронным голосом, а потом его хозяин-швейцарец раскрывает перед вами его стальное нутро и объясняет кнопки и механизмы, заставляющие жить это «чудо швейцарской техники».
Даже самые невинные развлеченья мальчишек оказываются на выставке не просто развлеченьями. Вот за оградой нечто вроде современной карусели — ряд маленьких автомобилей, во всем похожих на настоящие, но, правда, неподвижно прикрепленных к земле, — только баранки их вращаются, как всамделишные. Мальчики, один за другим, пропускаются за эту ограду, чтобы нетерпеливо, совсем как на карусельных лошадках, рассесться на этих автомобильчиках и жестом шофера взяться за руль. Перед каждым из них экран. На каждом экране вспыхивает одно и то же: уходящая вдаль дорога, путешествие — сквозь снега северной части Америки, многолюдные городские площади, резкие повороты, туннели, поля и горы — к самой южной точке — залитым солнцем синим водам курорта Миами. Мальчики правят своими неподвижными автомобилями по-настоящему, внимательно следя за дорогой и поворачивая куда следует, но вдруг один из них зазевался — и что это? Автомобиль под ним грозно завибрировал. Оказывается, тут не только игра или урок автовождения, а и окно в будущее, когда электронный корректив уничтожит автомобильные катастрофы, а на шоссе автомобили будут лететь точно в ряд, занимая каждый свое определенное место, один за другим, управляемые невидимой электронной рукой за сотни километров от них, — практическое добавленье к тому, что вы уже видели в бельгийской футураме!
Так, на каждом шагу останавливаясь, вы наконец добираетесь до противоположной от Эспланады территории, где расположены многочисленные национальные павильоны. Их очень много, и они все по-своему стоят внимательного изученья — только потребуется на это не десять — пятнадцать дней, а, пожалуй, целых девяносто. И приходится резко сжать программу, ограничить себя кое-где лишь беглым пробегом, а кое-где и вовсе пропуском. И, следуя правилу не только одной вежливости, но и накопленья предварительного опыта для лучшей оценки своего собственного, начнем осмотр с чужих стран и среди этих чужих стран — первой троицы павильонов: Английского, Американского и Французского.
Когда зарубежные газеты берутся описывать Английский павильон, они начинают со словечка «Оо» (awe!), долженствующего означать не то почтение, не то восторг, не то эквивалент состоянья, которое на русском языке выражается тремя словами: «аж дух захватило». Со мной этого не случилось. Быть может, именно потому, что я люблю английский простой народ, и его культуру, и зеленую землю Англии, я испытала глубокое разочарование в Английском павильоне. Не столько от того, что там есть, сколько из-за отсутствия многого такого, чего там не оказалось и что кажется мне в Англии — главным. Начну свой рассказ с первого.
Ощетинившись щетками пирамид, протянулась длинная шея павильона, у которой, совсем как старые дворецкие в старых английских романах, стоит весьма внушительный служитель в форме: это вход. Вас встречает торжественный сумрак английской государственной традиции, — вдоль всего длинного коридора лежат реликвии старины, имеющие полное свое значение и по сей день: скипетр короля Эдуарда; орден Подвязки; печать лорда хранителя печати; кудрявый, как барашек, парик судьи; звонок и прочие парламентские атрибуты и мантии, жезл спикера палаты общин… Идешь длинным рядом этих реликвий, а в конце коридора, эффектно повешенный, сияет портрет королевы Елизаветы II как живое воплощение традиционной английской королевской власти. Такое начало должно сразу же показать зрителю, что Англия шутить не любит: она всерьез видит гранитные устои своей страны в соблюдении и почитании традиций, уходящих далеко в глубь времен. Пусть эти традиции бессмысленны, дело не в смысле, а в том, что они — английские. Говоря о себе в официальном путеводителе по павильону, Англия сразу же называет себя «страной коммерсантов», живущей коммерцией (trade), банкиром половины торгующего человечества, страной завоевателей и создателей могучей «империи». В этом павильоне словечко «империализм», имеющее для большей части человечества смысл ругательный и порочный, дается как особое достижение, как подвиг нации храбрых моряков, открывателей, изобретателей, покорителей. И, обойдя весь павильон, вы всюду чувствуете себя не в Англии, а в «Британской империи». Местоимение «я» пишется на английском языке с большой буквы — и только одно это местоимение. Проходя по залам павильона, вы все время чувствуете, что витрины глядят на вас, как на «маленькую букву». Мы были первыми, говорит павильон, в промышленной революции XVIII века, изобретя паровой двигатель, — и мы опять возглавляем великую промышленную революцию XX века, создав радар, телевидение, первую (?) мощную атомную электростанцию и — экспериментальный аппарат исследовательского центра атомной энергии в Харуэлле — знаменитую «Зету». Гвоздь павильона — таинственная Zeta (показанная публике, кстати сказать, впервые), в виде модели семи футов (в одну треть подлинного размера машины), привлекает зрителей больше всего. Пояснительная ее надпись несколько мелодраматически извещает о том, что «в ночь на август 30-е, 1957, большой шаг к овладению новым источником могущества для человечества был сделан». В этот день, говорится дальше, ученым Харуэлла удалось достичь освобождения нейтронов в термоядерном реакторе и температур в сотни раз более горячих, чем поверхность Солнца. Да, это огромная победа, и последствия ее, во всей их колоссальности, еще и мерещиться не могут самому смелому воображенью. Но, добавим мы скромно, наши советские физики, Арцимович и Леонтович, сделали тот же эксперимент еще до своих английских коллег, за что и получили в 1958 году Ленинскую премию. И мы первые, а вовсе не англичане, построили атомную станцию.
Англичане — замечательные юмористы, юмор частенько, в самые трудные минуты исторической жизни общества, как и в личной их жизни, заменял им религию, помогая сносить любую тяжесть. Но, как это ни странно, юмор изменил создателям Английского павильона. С самодовольством, незаметно скатывающимся в комичное, перечисляют они вещи, сделанные впервые в Англии; и тут валятся в одну кучу паровой локомотив рядом с сандвичем (последнее «великое изобретение» объясняется тем, что, желая поесть, не отрываясь от игры, англичане запихнули мясо меж двумя ломтями хлеба, взяв еду в одну руку и освободив для игры другую); безопасная шахтерская лампа — рядом с первой в мире разливкой пива по бутылкам; пневматическая шина рядом с первой почтовой маркой. И — horribili dictu — даже Всемирную выставку они придумали и устроили первую в мире. Нельзя отказать в огромном познавательном интересе всего того, что можно увидеть и узнать в Английском павильоне, начиная с варки стали и до роли изотопов в медицине. Маленькие черточки, вроде того, например, что в Англии выпивается ежедневно двести сорок миллионов чашек чая (ей-ей, утешительная статистика!) или что за одиннадцать последних лет (с 1945-го по 1956-й) было построено два миллиона шестьсот тысяч домов (в основном за время лейбористов у власти!), тоже интересны для посетителя, и они хорошо поданы. Но чудовищная теснота индустриального отдела, ливень реклам торговых и заводских фирм, этот бесконечный бюллетень английского экспорта опять приводят вас туда, с чего вы начали, с личной английской саморекомендации: «Мы-де страна коммерсантов».
Не будем критиковать Английский павильон от себя, дадим слово самому англичанину, поместившему на него рецензию в одном из номеров журнала «Нью стэйтсмен» в мае текущего года. Англичанин (Барри), довольно брюзгливо покритиковав всю выставку (в том числе и нас, грешных, — за то, что мы «за сорок лет не сумели вырастить поколение людей с художественным вкусом»), обрушивается на свой национальный павильон именно за его коммерческий дух. Конечно, пишет он, всякий понимает, что для нас или экспортировать — или помирать, но, участвуя в соревнованье, надо же помнить и о национальном достоинстве![13] И тут я совершенно согласна с Барри. Кто хочет узнать подлинную Англию, ее замечательных рабочих и ученых, строивших и создававших всю эту стальную технику, кто хочет узнать лучшие черты ее жизни и ее национального достоинства, ее подлинный воздух и атмосферу, — на выставке всего этого не почувствует.
Есть одна надпись в павильоне: «В Англии каждые четыре человека из пяти живут в городе, но все они наслаждаются деревней». Не только потому, что десять миллионов английских домов имеют свои собственные садики. А потому, что англичане любят деревню, и потому, что в глубине души, как это ни парадоксально, каждый английский урбанист — деревенский человек, может быть, по закону психологической полярности. Так вот, это мимолетное наблюдение, записанное на стене павильона, применимо и к другим противоречивым вещам, в том числе и к тому свойству характера английского народа, о котором павильон не повествует ни единым словом. Да, коммерсант, купец, вышибатель копейки, как будто — самый одинокий волк в лесу, самый большой индивидуалист на земле. Но — мало на свете более компанейских людей, в которых общественное чувство было бы сильнее развито, нежели у простых английских людей! Почему не указана в павильоне одна из важнейших английских традиций — высоко развитое в народе чувство общественного долга? Есть популярное английское выражение, о нем говорится в пословицах, песнях, речах на митинге: «Шапка по кругу». Нигде, кажется, не развита в капиталистических странах система общественной взаимопомощи так универсально, как именно в Англии. Шапкой по кругу содержатся не только бастующие рабочие, но и множество культурных мероприятий и учреждений, начиная с больницы для прокаженных и кончая Королевской оперой в «Ковент-Гардене». Речь идет не только о крупных пожертвованиях богачей, — речь идет и о копейке рабочего, потому что ни одно крупное пожертвование не может поспорить с копейкой, когда ее бросают в шапку десятки миллионов людей. Ни этот дух общественной поддержки, ни лучшие идеи чартизма, ни здоровый английский материализм, двигавший английскую науку со времени Бэкона, ни чистый, гуманный мир Диккенса, писателя, больше чем кто-либо из владеющих и владевших пером сумевшего взволновать человеческое сердце светлыми чувствами добра, милосердия, любви к маленькому человеку, — не оказались основными слагаемыми общей атмосферы Английского павильона, а как раз наоборот: эта его атмосфера встала массивным слоем многих идей и сил, против которых боролись лучшие люди Англии. Вот почему, несмотря на огромный познавательный материал павильона, крайне интересный сам по себе, подлинного лица английского народа вы в нем почти не увидите.
Если Английский выступает навстречу вам длинным, ощетиненным хоботком, то Американский павильон встречает вас танцующим кругом. Он очень легок, даже воздушен, несмотря на большие размеры; перед ним, повторяя его круг, сделан большой пруд, весь исчерканный серебром фонтанов, бьющих на самой его середине. К сожалению, пруд этот оказался, по-видимому, недостаточно глубоким для поселенных в нем рыб, и рыбы эти подохли, а в день моего прихода распространили такое невыносимое зловоние, что, как говорится в старой поговорке, хоть «святых вон выноси». Как раз в этот день воду из пруда выкачали, рыб убрали и швабрами мыли бетонное ложе, но запах порядком еще зашибал и держался дня два. Впрочем, «святых» в Американском павильоне, которых стоило бы «вынести вон», оказалось не так уж много.
Америка тоже начала с традиций, с того, что «было», но, так как в области традиций ей с многовековой культурой Англии не поспорить, эти «традиции» приняли в нижнем холле павильона, куда вы прежде всего вступаете, немного курьезный вид кунсткамеры, набора занятных, но более или менее случайных экспонатов. Портреты Абрахама Линкольна; старое деревянное кресло с выдвинувшимся столиком на его правой ручке, надо признаться — очень удобное, изобретенное в XVIII веке и до сих пор служащее образцом для ученических столиков-пюпитров в классе; сухие початки кукурузы, сохранившиеся благодаря сухому воздуху западных гор еще со времен, когда в Америке не было европейцев, и надпись, говорящая, что Америка родина кукурузы, а также картофеля; чуть подальше — образцы темных очков от солнца, которые постепенно, под влиянием причуд моды, превращаются в Америке в кокетливые полумаски; новый вид обуви, литой, широко сейчас распространенной в Америке: эту обувь не шьют вам по вашей ноге, а отливают на вас по снятому с вашей ноги слепку — из особого вида пластмассы; и тут же сухой рыжеватый комок-шар старого полевого знакомца, перекати-поле — Tumble-weed по-английски, — совершающий свои странствия по огромным пространствам, а иногда преграждающий дорогу путешественникам. Помните, у Шевченко, в его аральской ссылке:
А по долині, по раздоллі Із степу перекотиполе Рудим ягняточком біжить До річечки собі напитись, А річечка його взяла Та в Дніпр широкий понесла, А Дніпр у море: на край світа Билину море покотило Та й кинуло на чужині…Шевченко, быть может, думал о себе и своей судьбе, рисуя это странствие сухой травки, занесенной на край света. Но выставленный в Американском павильоне комок, напоминающий как две капли аральских своих собратьев, лишний раз подтверждает странное сходство многих растительных, почвенных, этнографических элементов нашей далекой окраины и окраины Америки (Патагонии), подмеченное Дарвином во время его путешествия на корабле «Бнгль» и даже заставившее его предположить, что Шевченко, быть может, думал о себе и своей судьбе, рисуя это странствие сухой травки, занесенной на край света. Но выставленный в Американском павильоне комок, напоминающий как две капли аральских своих собратьев, лишний раз подтверждает странное сходство многих растительных, почвенных, этнографических элементов нашей далекой окраины и окраины Америки (Патагонии), подмеченное Дарвином во время его путешествия на корабле «Бигль» и даже заставившее его предположить, что обе земли были когда-то одной землей и «только в недавнее время поднялись над уровнем океана»[14].
Но возвращаюсь к Американскому павильону. Даже и серьезные экспонаты не уничтожают в нем впечатления кунсткамеры. Электронные машины представлены механизмом, отвечающим на десяти языках на любой из ваших вопросов (из нескольких сот), машинами-автоматами для выборов. Вокруг них толпится много народу, не устающего разговаривать с этим современным механическим мозгом, обладающим памятью и соображеньем. Один из крупнейших наших ученых сказал мне как-то, что открытие атомной энергии не повлияет в такой степени на жизнь, характер и духовно-физическую судьбу человечества, как этот новый язык алгоритмов, на котором человек научил говорить машину. Мы только одной ногой вступили в новую эру, которую в Английском павильоне назвали «второй промышленной революцией», и обыкновенный гражданин со средними познаниями в математике, механике и физике, а может, и без всяких таких познаний смотрит на реагирующую машину как на чудо.
Родившаяся на войне, от необходимости быстро рассчитывать траектории снарядов и ракет и выполнять сложные операции по наводке и пристрелке, счетная машина быстро прошла путь от расчетов до сложнейших умственных актов, включающих в себя память, суждение, выбор, отбрасыванье, — и просто нельзя представить себе, куда она будет развиваться дальше. Я приведу для читателя длинную выписку из Бернала, чтоб яснее показать возможности такой машины и ее приближение к деятельности человека: «Такая машина не только может точно выполнять заданные ей приказы, но и реагировать — а в этом и заключается главная ее новизна — на непредвиденные обстоятельства, обусловленные результатами первых стадий сделанных ею самой вычислений… показывать некоторые черты суждения и знаний в выборе легчайших путей для совершения того, что некогда ужо делалось, и, таким образом, до известной степени создает в процессе своей работы свои собственные правила. Для всего этого она должна содержать внутри себя большое количество сведений, или отрывочных знаний, одни из которых получаются извне, другие порождаются работой машины, причем все это должно сохраняться для дальнейшего использования, сохраняться бесконечно, но так, чтобы быть» состоянии проявить себя по первому же требованию. Это — запоминание, основная черта электронного вычисления… Как показал Винер в своей книге «Кибернетика» (или наука управления), это поистине новая отрасль творческой науки, сближающая математику, электронику и технику связи, руководимые новой отраслью математики, которая называется информационной теорией, — с физиологией нервной системы и с самой психологией. Возможность создания того, что является действительно мыслящими машинами, каким бы низким ни был уровень их мышления, безусловно будет иметь глубокое влияние не только на науку, но и на экономику и жизнь общества»[15].
И вот это серьезнейшее изобретение нашей эры, сама природа которого заключается в том, чтоб облегчить человеку сложные процедуры, расширить и сказочно ускорить его вычислительный акт, — оно сейчас служит предметом любопытной игры на выставке. Функции его в Американском павильоне сведены до уровня «забавления» публики, опущены до границ ее понимания, и любопытство, с каким посетители к нему обращаются, мало чем отличается от любопытства к гадалке, к попугаю, достающему билетик с вашей «судьбой». Если б счетная машина могла чувствовать, она безусловно испытала бы чувство глубокого унижения.
И опять мысль перебросила меня от Американского павильона в наш Советский павильон, а вернее — в нашу советскую действительность. Чтоб развиваться, и машине, как живому организму, нужна среда, то есть нужно, чтоб действительность ставила реальные требования к ее развитию, например к ускорению ее операций, к их более топкому и ответственному применению. Но мы уже напоминали читателю, как частная собственность на землю в капиталистических странах лимитирует широкое переустройство и планировку городов, как она затрудняет и удорожает передачу электроэнергии на большие расстоянья и выгодное создание куста электростанций. Нет в капитализме и некоторых условий для развития электронной машины, как в нашей стране.
Может ли капитализм в огромном масштабе планировать народное хозяйство, следуя главному закону такого планирования — закону максимального удовлетворения потребностей общества при максимальном для данного уровня техники развитии производительных сил?
Может ли капитализм планировать на пространстве десятков тысяч квадратных километров, принимая во внимание все стороны плана, все цифры — конечный продукт, сырье, на него идущее, полные затраты на его получение и реальную потребность в нем?
Нет, конечно; как бы ни силился капиталист вносить в анархию частнособственнического хозяйства и план и предусмотрительность, он бессилен изменить природу своего строя. А мы не только можем, мы должны планировать, потому что это закон нашего нового общественного режима. К сожаленью, до сих пор мы планировали крайне приблизительно, ориентировочно, и это страшно мешает нам. Почему? Потому что для того, чтоб точно спланировать какую-нибудь тысячу наименований, мы должны проделать несколько миллиардов счетных операций, а фактически — засадить тысячу квалифицированных человек, чтоб они работали около десяти лет для решения этой задачи. А когда они решат ее, действительность обгонит их на десяток лет и решение окажется ни к чему не нужным.
Теперь представим себе, что мы зададим решение этих плановых вычислений электронной машине. Она выполняет до тридцати тысяч операций в секунду. И выполнит ту же задачу в две-три недели. Если считать только одну выгоду на зарплате (не говоря уж об освобождении тысячи квалифицированных работников от этой механической работы), то разница будет примерно такая: один миллион вычислений (миллион, а не миллиарды) обойдется на машине четыре рубля, а вручную двадцать шесть тысяч. Пусть, кому не лень, сосчитает, какая же будет разница на миллиардах операций? И наши Госпланы уже обратили внимание на возможность поручать электронной машине сложные экономические анализы планирования. Наши Госпланы не одиноки, — в Польше, в Венгрии идет подготовка материалов для задания машине инструкций по планированию, в ГДР электронная машина уже ведет внутризаводское планирование на комбинате Лейна-Верке.[16]
Что это значит для социалистического хозяйства, еще трудно охватить воображеньем. Но можно уже ответить, что это значит для самой машины. Ей у нас говорят: увеличивай свою скорость, развивай свои замечательные мозги, потому что это нам нужно до зарезу. Сверхбыстрое вычисленье надо удвоить, утроить, удесятерить. И нашим ученым надо «быстрее разработать математические формулировки технологических процессов в металлургии, химии и других важнейших отраслях народного хозяйства». A так как это дело сложное и новое, то для пего необходимо привлечь к работе «не только одних математиков, но также технологов, конструкторов и других специалистов, чтобы наряду с алгоритмами создавались и управляющие математические машины для конкретных технологических процессов»[17].
Вот каким темпом при ясных стимулах нашего хозяйства должна у нас развиваться новая наука электроники. Здесь я могла бы от души воскликнуть то самое «о-о» или «дух захватывает», которого не вызвали у меня ни Английский, ни Американский павильоны. Но будем объективными, — в Американском павильоне, если внимательно его досмотреть, есть, разумеется, множество интересных вещей, от комнаты «детского творчества» наверху (своеобразного детского садика для маленьких посетителей) и до замечательных, вековых деревьев внизу, оставленных расти в самом павильоне, прорезая его полы и крышу. Но лично для меня интересней всего было посещение циркорамы. Вы входите в круглый зал, где надо стоять. Экран, как сплошной горизонт, находится повсюду вокруг вас, куда ни обернись. Вот он зажегся, и вы на океанском пароходе подъезжаете к Нью-Йорку, мчитесь в автомобиле по его улицам — Бродвей, небоскребы, все, что знаете из картинок, но это лишь начало. На всех видах транспорта вам предстоит пропутешествовать по всем городам и красивым местам Соединенных Штатов. Циркорама показывается в Европе впервые, удовольствие она дает огромное именно такими природными съемками. Вы смотрите, разумеется, все время вперед, вместе с поступательным ходом машины, но вы и мною раз, как в жизни, оборачиваетесь во все стороны и видите все, что окружает дорогу, глядите и назад, на то, что уходит от вас. Путешествие длится с полчаса и дает действительно живое географическое представление об Америке.
А народ? О нем, как и в Английском павильоне, мы не получаем никакого определенного впечатления. Подобно тому как англичане рекомендуют себя в своем гиде, дают и американцы себе характеристику. Они пишут, что стремились передать «отличительные феномены, которые считаются характерными для американского народа, — динамическую энергию, нетерпение, неутомимую страсть к переменам, неослабные поиски улучшения путей жизни и высокую степень сознания единства, достигнутого среди самых разнообразных по происхождению людей». Последними одиннадцатью словами путеводитель по Американскому павильону даст сложный эквивалент простого словечка «демократизм», видимо не желая упрощать толкуемый им «феномен».
По видит ли посетитель все это? Павильон ни об этих «феноменах», ни о действительно лучших качествах американского народа, его простоте, открытости и приветливости, не дает никакого представления.
Не так давно проскользнуло в печати, что даже американские туристы были возмущены этим полным отсутствием подлинно американского в своем павильоне. Но на выставке все же можно увидеть настоящее лицо обоих народов, и английского и американского. Для этого нужно пойти в «Интернациональный Дворец науки». Там вы встретите подлинный английский народ, он встает в лучших своих качествах в замечательных стендах английских ученых, где строго научно вскрыты чудовищный вред термоядерных испытаний для нескольких поколений человечества, их гибельное влиянье на хромосомы, клетку, интимнейшие механизмы наследственности; он встает в фотографиях митингов, где англичане страстно протестуют против испытаний атомных бомб. Встретите вы там и американский народ, — для этого стоит только посмотреть хотя бы шестнадцать стендов американских ученых о вирусах: электронный микроскоп, позволивший увидеть вирус глазами; наблюдение и характеристику частиц вируса как носителей болезни; определение всего числа инфекционной группы частиц; различные формы инфекций, структуру бактериальных вирусов, репродукцию их, действие их — сперва на «мозаичной болезни» табака, потом на гриппе — и вакцины против гриппа, против полиомиелита, — все это достиженья американских ученых Калифорнии, Вашингтона, Нью-Йорка, Чикаго, Атланты, Урбаны, Мичигана (среди фамилий которых встречаются русские, немецкие, шведские, польские), шаг за шагом борющихся и за разгадку хотя бы тех видов рака, которые носят явно вирусный характер. II в этой упорной борьбе против врагов человечества — носителей болезни — сказывается самое светлое, что есть в характере американского народа, его уважение к той самой жизни, которую так бездумно и злостно стремится разрушить американский империализм.
Французский павильон вызвал еще задолго до открытия выставки очень много разговоров. Основное его достоинство — смелая новизна архитектуры, но при этом не новизна вообще, а — принципиальная новизна, со своим теоретическим обоснованьем. Когда глядишь на архитектуру выставки простыми глазами посетителя, убежденного, по долгому опыту выставок, в кратковременности этих причудливых зданий, совсем не рассчитанных на прочную жизнь, то, по правде сказать, и не очень замечаешь их архитектурную новизну, а воспринимаешь ее как в своем роде театральную декорацию. Французский павильон и строивший его французский архитектор Жилле разбивают такой неискушенный взгляд в пух и прах. В одном из интервью, данном нашему выставочному журналу «Спутник», выходящему на нескольких языках, Жилле сказал, что «теория напряженной сетки» (по которой можно очень экономно в расходе металла, а следовательно, и очень дешево перекрывать большие пространства) — эта новая строительная теория может сделаться «таким же этапом в развитии архитектуры, каким явилась смена тяжелого германского стиля легким готическим или замена каменной кладки металлоконструкциями»[18]. Он считает далее, что не он один воспользовался этой теорией, а эта теория напряженной сетки нашла свое применение «при постройке Советского, Американского, Французского, Бразильского и многих других павильонов»[19]. Это уже серьезный подход к вопросу, заставляющий и серьезно задуматься. Стиль складывается не сразу, и еще задолго до его полного, комплексного выражения земля переполняется отдельными его элементами. Пятьдесят лет назад ни в Европе, ни у нас еще не было гигантских индустриальных комплексов со своими разнообразными геометрическими чертами — газгольдеров, гигантских труб, гофрированных металлических складов и т. д. Тридцать лет назад в мире еще не было изыскательских научных центров повои энергетики с их гигантскими техническими установками. Могут ли эти строения с их новой пластикой, «вписывающейся» в пейзаж, а подчас в города страны, не влиять и на цивильные городские постройки? Напряженная сетка, то есть новый центр тяжести, новый способ опоры или перемещенье опоры снизу вверх, — все это родилось, конечно, не в фантазии архитектора, а на почве очень новою грандиозного индустриального строительства. И если с этой точки зрения посмотреть на выставочные павильоны, казалось бы изощряющиеся друг перед другом в остроумии выдумки, то почти каждый из них напомнит какую-нибудь часть заводской или инструментальной пластики. Бродя по выставке, я, например, очень часто, глядя на разные архитектурные причуды, вспоминала любимый мною в заводских цехах коленчатый вал, эту философию передаточного движения, такую на вид капризную и такую бесконечно обусловленную в каждом своем миллиметре. Архитектор Жилле менее всего фокусничал — он хотел, на мой взгляд, математически точно выявить строительные возможности будущего. И он создал огромный жесткий синтез тех средств, которые уже применялись при создании механизмов, мостов, заводских комплексов: перенес старую точку опоры с земли наверх, использовал в архитектуре закон рычага и дал очень точный строительный организм, в данном своем выражении (как первый эксперимент) вовсе не кажущийся и, по всей вероятности, совсем и не желавший казаться красивым. В нем есть одно качество, которое французы зовут непереводимым словом «precis» — наше слово «точный» не передает его полностью, потому что во французском «precis» есть и элемент эстетического, чего нет в нашем слове «точный». Так вот Жилле сделал своим павильоном нечто precis и поставил интересную проблему дальнейшего развития в гражданской архитектуре тех новых законов, которые уже получили свои права в архитектуре индустриальной.
Я не вижу пока таких же удачных решений внутри павильона, какие Жилле нашел и показал в его строительном каркасе. Эти интерьеры Французского павильона, на мой взгляд, мало удобны для размещения экспонатов, трудны для планировки, очень жестки для жилья. Может быть, именно поэтому Французский павильон своим содержаньем удовлетворил меня меньше, чем новизной и принципиальностью своего архитектурного решения. Но одно все же надо сказать: электронные машины показаны в нем без элемента «забавленья», очень хороши стенды Булля, особенно модель большой машины «Гамма-60» (в натуральную величину занимающей полтораста квадратных метров); среди всяческого разнообразия запоминается уголок, отданный шахтерам Лоррэня, их быту и отдыху, — и опять отличные фотографии живых и выразительных человеческих лиц. А все же лучшее, чем может похвалиться Французский павильон, — это книга. На втором этаже, в отделе искусства, отмеченном реалистической скульптурой Пикассо «Коза» (настоящая плебейская, истощенная материнством и непрерывным отдаиванием коза, одна из лучших скульптур на выставке), размещены и французские книги, — возле них посетители стоят подолгу, а многие, удобно устроившись в кресле, и попросту отдаются чтению. Французской книге отведен еще целый отдельный павильон, где, помимо знакомства со всем, что сейчас издается во Франции, вы можете в наушниках послушать французские стихи в исполнении крупных актеров. Мне довелось так услышать чтение поэтических «Прощаний» («Les adieux») Дюамеля.
Ни сил, ни времени не хватит, чтоб подробно описать все другие павильоны, хотя о каждом из них можно было бы рассказывать без конца.
В павильоне Швейцарии — развитая машинная индустрия в размерах, какие в этой красивой стране туризма и классической педагогики просто как-то и не представляешь себе; скрупулезно показано производство знаменитых часов, скорей как научный, а не заводской труд: по часовому делу в Женеве сдаются дипломные работы. Очень хорош своим разнообразием показ семи швейцарских университетов (на пять миллионов населения!) — так, что о каждом хоть немного, да что-нибудь характерное запоминается: о Лозаннском — получение им «доски почета»; о Женевском — как устроен студенческий городок с его общежитиями; о Берне, где преподавание идет на двух языках, — как о сравнительно молодом университете (основан в 1834 году); о Цюрихском — с его великолепно поставленной палеонтологией; о Фрибурге — с его знаменитым эфиопским манускриптом, открытым два года назад; о Невшательском — как о центре физических исследований Швейцарии и, наконец, о Базельском, самом старинном, основанном в 1459 году. Молодежь моего поколения, заканчивая гимназию, выписывала тонкие, в розоватых обложках проспекты этих, в ту пору заветных для каждого, очагов европейского образования, манивших нас из самодержавной России еще и воздухом швейцарской демократической свободы. Помню, с каким волненьем изучали мы французский и немецкий текст этих проспектов, суливший нам, свыше пятидесяти лет назад, лекции всемирно известных медиков, химиков, математиков. А вот и ревниво почитаемая каждым швейцарцем старинная хартия, на неразборчивом языке, с висящими дряхлыми от веков печатями. Шестьсот шестьдесят семь лет назад (в 1291 году!) три совсем примитивных в то время кантона подписали соглашение о защите своих прав и независимости от чужеземных вторжений — так было положено начало швейцарской конфедерации, самой старой демократии в мире. И как тяжело читать сейчас, что именно Швейцария — в дни напряженнейшей борьбы за запрещенье атомного вооруженья — постановила производить у себя атомные бомбы!
Прохожу мимо бетонной глыбы с крохотным крестом на ее пирамидальной верхушке, это «Святой престол», как называется здесь павильон Ватикана. Его архитектура воспроизводит в условной манере огромную каменную крепость — городок настоящего Ватикана в Риме. В этом павильоне наглядно видишь, как щупальца католической пропаганды, ее многочисленных миссий, иезуитских школ и университетов проникают буквально во все концы мира и как церковь умеет использовать для этого весь арсенал эстетических, музыкальных и даже научных воздействий. Да что далеко ходить! Вот пример, небезынтересный для нас: в книжном киоске, где раздается обширная католическая литература, есть и продающийся литературный товар. Среди него — одна очень ходкая, хотя и дорогая книга, под… евангельским (оно звучит в католическом павильоне совершенно евангельски!) названием: «Не хлебом единым». Взгляните поближе: издана в Мюнхене. И еще поближе: автор — Дудинцев. Так святой престол использует творение молодого советского писателя, уж конечно не намеревавшегося дать Ватикану козырь в руки! Но тут же можно увидеть и то, о чем мечтают туристы, посещающие Италию: великолепные образцы художественных сокровищ Ватикана, уникальные манускрипты и книги — все то, чем гордятся его музеи, его библиотека.
Из Ватиканского павильона пробираюсь к Австрийскому. Помню, как пятнадцатилетней девочкой, пятьдесят пять лет назад, я впервые попала в Вену — веселую Вену, где еще не было автомобилей, где седенький круглолицый старичок, император Франц-Иосиф, каждый день проезжал на выхоленной паре в открытой коляске через длинную Мариахильферштрассе (если не врет память) в свой Шёнбрунн и где большие, белые с рыжим, собаки развозили по городу в тележках молоко. Я тогда убежала от матери и до ночи бродила по незнакомому миру, где даже уличный воздух (смесь непривычного сорта табака с непривычным маргариновым или растительным дыханием кухонь) казался мне чем-то не своим и все было чужое, «заграничное». С этим, поднявшимся из очень большой глубины памяти, старым детским чувством вошла я и в Австрийский павильон на выставке. Он стоит большим вибрирующим ящиком на тонких четырех ногах, и в этом ящике вдруг встречаешь — через более чем половину века — если не тот же запах, то такой же точно воздух венской жизнерадостности и беззаботности. Я не могу его объяснить себе только обманом воображенья. Здесь есть что-то от Вены, города, так же определяющего собой всю страну, как Париж определяет свою. За полвека разорвалась лоскутная империя, ушли из нее крупнейшие народы — венгерский и чехословацкий, нацистские каблуки подмяли ее под себя и были вышвырнуты, а Вена, столица Австрии, все так же звучит день и ночь прекрасной музыкой, пестрит тирольскою шапочкой с пером, ездит отдыхать в свои Альпы и напоминает, в сущности, счастливую узловую станцию-курорт между Средней и Южной Европой — меж отходящим от ее крыш обычным среднеевропейским дождичком и подступающим к ней безоблачно-синим благодатным итальянским небом. Выбранный Австрией «нейтралитет», твердая и спокойная почва под ногами кажутся самым органичным путем развития Австрии, ее международного положения и ее самобытной культуры.
Из Австрийского меня потянуло в Итальянский павильон, расположенный среди зелени парка и слегка на отлете. Он кажется очень простым архитектурно и дешевым по материалу — оголенный красный кирпич и дерево, но, присмотревшись, понимаешь, что, как очень красивая девушка, Италия решила обойтись без всякого «мэйк-ап» (лица, сделанного красками, пинцетом и ресничной наклейкой) и без особых модных нарядов. Свое прошлое она демонстрирует, словно в музее, отдельными образцами искусства, сделавшегося универсальным. Что толку распространяться, все и так ясно, — говорит скупая и даже как будто ленивая грация первых отделов павильона. Подобно Американскому, Италия даже не очень демонстрирует свои знаменитые исследовательские институты по атомной энергии, почти все это она вынесла за пределы павильона, в «Интернациональный Дворец пауки», а здесь предлагает вам полюбоваться на действующий макет, названный «Дорогой солнца в Италии»: рельефная карта от северной Генуи до кончика итальянского «башмачка» в Бриндизи и — белая лента солнца, пробегающего этот путь сверху донизу.
С юга — на север, в чудесный деревянный павильон Финляндии, к молчаливому народу со скупым жестом, но любящему свою маленькую родину мхов и гранитов, озер и лесов никак не меньше, чем народы юга — свою. В 1956 году финны насчитывали четыре миллиона триста двенадцать тысяч человек, и среди них 99,5 процента грамотных — величайший процент грамотности в мире. Многие из виденных мною на выставке павильонов блещут, по замыслу их создателей, то новизной и оригинальностью, то изяществом или величием, великолепием, богатством; и частенько за этой выставочной декорацией не распознаешь лица народа или видишь это лицо вне его подлинных, главных черт. Павильон Финляндии — и это делает его народ особенно симпатичным нашему народу — блеснул совсем особым качеством, почти забытым в искусстве и литературе Запада: простотой. Входишь в него, как в чудный ело-вый лес, — легкие вдыхают естественный аромат дерева; оно всюду — дерево и его друг, сохраняемый лесами и питающий леса, — вода родников и речек, озер и водопадов. Финны не говорят о себе, как англичане: «Мы народ коммерческий», или, как американцы: «Мы народ нетерпенья и постоянной жажды перемены». Исходя из статистики большинства населения, они просто показывает себя в своих экспонатах народом, главным образом работящим. Работы, конечно, очень много, и трудной, — ведь надо корчевать камни из земли, чтоб сеять хлеб; надо обуздывать воду, этого «врага и друга», как говорят о воде в другом павильоне, Нидерландском. И вокруг вас в Финском павильоне — картины упорного, хорошо организованного труда: сплавка леса — и обработка дерева; замечательный продукт — бумага; машина, чтоб делать газетную бумагу — она экспортируется во многие страны мира; лучшие люди Финляндии — рабочие, музыканты, ученые; милое, такое глубоко народное, характерно финское лицо составителя гениальной «Калевалы» Элиаса Лённрота; картина общественной жизни — и очень маленький, почти незаметный, показательный для финского «образа жизни» бытовой набор финской столовой, та самая простота, о которой и упомянула выше: красивый деревянный обеденный стол без скатерти, под каждым прибором — своя небольшая плетеная скатерка или салфетка, обеденная посуда предельно бесхитростная, глубокая и плоская, тарелки не из фарфора, а из керамики… И видно, что к этой простоте в быту присоединяется еще одно неразлучное с ней качество — чистота. Тот же характер простоты, чистоты и точности и в производствах — металлургии, например, показанной от сложных металлических изделий до знаменитого финского ножа…
Сильно уставшему человеку хорошо зайти попить чайку в Японский павильон. Сидишь на бамбуковой тумбочке, покрытой круглой шелковой подушкой, и прихлебываешь настоящий освежительный чай, поглядывая на необычную ложку: круглая морская раковинка на деревянной палочке. Напиться чаю в Брюсселе не так-то легко, да, пожалуй, и во всей Западной Европе. Надо или идти в город к английскому книготорговцу Смиту, где от четырех до пяти вам Дадут превосходный английский традиционный «файф-о-клок ти» со всеми его атрибутами, или к японцам, или, Разумеется, к себе домой — в советскую столовую нашего павильона. Кофейная культура Запада изгнала чайного «сверчка на печи» — чайник для заварки; и чай подают вам в виде облатки на ниточке, опущенной в чашку с кипятком. Из бумажной облатки просачивается черная чайная жижа, которую вы и глотаете, выбросив использованный мешочек с чаинками. Скорей фармацевтика, чем чаепитие! В Японском павильоне все начинается с огромной головы Будды VII века и с большого изображения руки современного японца на стене, руки работящей и интеллектуальной, с тонкими, талантливыми пальцами. Эта рука, рассказывает вам павильон, тотчас после войны в неустанном труде восстановила родную страну из руин и пепла. Вокруг вас — плоды ее работы, своя, тщательно выполненная электроника — счетные машины, микроскоп. Огромные грузовики; блок в полторы тонны необыкновенно чистого оптического стекла, в производстве которого японцы имеют свой долгий классический опыт. Экзотики почти совсем нет.
Вообще на выставке воочию видишь, как «экзотическое» в больших культурных павильонах многих восточных и южных стран и в павильонах стран, начавших освобождаться от колониализма, все больше сходит на нет, исчезая как таковое и становясь обычным выражением своей национальной формы.
Зайдите в павильон Объединенных Арабских стран, — вас захватит разворот больших технических строительств, плотины Асуана, транспорт, нефть, великолепие Нила, вступающего из мертвого царства пирамид в семью больших рек, служащих родной земле уже не только орошением, а и всей суммой заложенных в них энергий. А в холле глядят на вас, когда вы сюда входите, древние знаки зодиака, напоминая о тысячелетиях, пронесшихся над этой землей, народы которой умели исчислять и строить, мыслить и управлять природой задолго до того, как возникла маленькая культурная Европа. «Экзотичность» — это как раз не качество восточных культур, а характер их восприятия со стороны народов белой расы. На выставке вы убедитесь — из привычного направления внимания у зрителей и газет, дающих этому направлению внимания литературное выраженье, — что для сотен и сотен посетителей дальше красивой персиянки, ткущей традиционный персидский ковер, почти нет интересного в павильоне Ирана; а в павильоне Туниса — посидеть, может быть, на подушках среди сладко-сухого запаха роз, а в Никарагуа — получить из рук черноглазки чашечку чудного кофе, о котором спорят посетители, где он лучше — здесь ли, в Бразильском ли или в Турецком, — и в этом восприятии живых, желающих расти и творить народов сквозь привычные очки экзотики есть что-то не только уже оскорбительное для них, но и обедняющее самого зрителя.
Гражданину стран социалистического лагеря оно предстает как нечто ужасно отсталое, словно тот самый крестик, какой беспомощно выводит на бумаге рука безграмотного человека. И может быть, ниоткуда не потянуло меня с такой силой к нашим павильонам, потянуло вечным зовом путешественника «домой, домой!», как именно из маленьких живописных павильонов, где в угоду привычному вкусу европейца и американца и потому, что талант народа стиснут рамками колониализма, выставлены ковры, ковры, подушки, ткани, изделия тяжелого ручного труда, овеянные для посетителя душным запахом роз, ленивым облачком кальяна.
Серебром светятся алюминиевые пластины с фреской Будапешта на фасаде, — это встречает гостей Венгерский павильон. Кроме той истории, которую каждый народ рассказывает сам о себе в своем павильоне, есть еще история самого павильона в дни и месяцы действия выставки; и в этом смысле Венгерский очень примечателен. В самом начале, когда он только что открылся, были попытки писать о нем в духе соболезнования: вот-де народ, воля которого раздавлена, прошлое которого скомкано, продающий сувениры, в то время как главное его воспоминанье — это кровавая с ним расправа. Такие сентенции встречались не только в зарубежных газетах, но и в разговорах досужих посетителей. Казалось, этот павильон будет менее посещаем, чем другие. Но дни шли, и живой поток людей к нему рос и рос. Одни бегали пить токайское и есть паприкач, уверяя, что у венгров все и вкусней, и дешевле, и уютней; другие удивлялись огромному скачку, сделанному венгерской наукой, — подумать только, действующая модель акселератора, счетчик фотонов, свой собственный атомный центр в долине Чиллеберц! И шестьсот метров в павильоне под одними только экспонатами тяжелой промышленности, а главное — выход на мировую арену: вместо того чтобы просить помощи у крупнейших фирм в Деле индустриализации, венгры, оказывается, сами предоставляют эту помощь, ставят электростанции в Польше, Индии, Африке, даже в культурнейшей Чехословакии ставят печи, не говоря уже о промышленных заказах из Аргентины! И подумать только — в Голландию, царицу тюльпанов, посылают какой-то особый, выведенный ими сорт тюльпана… Вот эта типичная для стран социалистического лагеря картина огромного роста промышленности и неизбежной кооперации между ними и кажется посетителю выставки «выходом на мировой рынок». С одним из них, долго сидевшим перед картинами сказочно прекрасного венгерского художника Чоптвари, которого и я очень люблю, удалось понемножку разговориться. «Выставляют. Удивительно! — сказал он по-английски. — Тут совсем нет пресловутого реализма. Его биография похожа на гогеновскую, а его картины совсем в духе нашего Тёрнера или Вильяма Блэйка. И лошади похожи на английских…» Нельзя было не рассмеяться на это суждение, вырвавшееся как бы против воли: никакого реализма, а лошади похожи на английских. С огромным удивлением рассматривали посетители и чудесную фигуру «Танцовщицы» работы скульптора Шомоди — этот сгусток энергии, полный стремительной силы движения. Они открывали для себя большую, творческую страну, народ, довольный своей жизнью в ней, живой и общительный. Целыми группами ходили по своему павильону наезжавшие на выставку веселые венгерские туристы — рабочие, студенты, крестьяне, — все они отнюдь не казались несчастными. И вскоре соболезнующие толки вокруг Венгерского павильона сами собой прекратились, — он зажил нормальной и очень успешной выставочной жизнью.
Интересную историю мог бы порассказать о себе и Чехословацкий павильон, один из прекраснейших на выставке. Его архитектура, внутреннее содержание, веселое «ревю», бесплатно разыгрываемое в небольшом театральном зале («маленьком чуде хорошего вкуса», как писали об этом зале английские газеты), так безусловно хороши, что у самых злостных критиканов язык не повернулся как-нибудь задеть их. И только один русский бельгиец, не удержавшись, пробормотал в ответ на хвалы чехам: «malgré!» Коротенькое словечко «мальгре» должно было означать, что если уж социалистической Чехословакии и удалось создать нечто прекрасное, так не «потому», а «вопреки», — вопреки ее социализму. И здесь, если захотеть ответить на это словечко по-настоящему, мы и подойдем, в сущности, к главной теме выставки.
Но прежде всего пройдемся с вами, читатель, по небольшому Чехословацкому павильону. Снаружи он забирает но сразу, а вы только бегло схватываете черное с золотой отделкой. Но внутри, в холле, этот букет золота с чернью повторяется, и в такой связи, что заставляет вас задуматься. На выставке в огромном количестве встречают вас абстрактные скульптуры не то из железа, не то из чугуна, и вы в конце концов перестаете обращать внимание на все эти бессюжетные возносящиеся завитки, приседающие на свой хвост спирали и схватывающиеся в боксе каркасы. Но тут, у чехов, вы тоже видите такую металлическую абстракцию, но здесь ее завитки и спирали неожиданно превратились в подставки для золоченых фигурок, а целое вдруг показалось чудеснейшим художественным барокко, тем стилем, полным внутреннего движенья и фантастической жизненности, который очаровывает в Праге и заставляет замереть от восторга на лучшей площади Бельгии, брюссельской Гранд-пляс. Вместо ультрасовременной абстрактности чехословацкий художник, словно затаив про себя улыбку, так повернул рукою творца этот абстрактный завиток, что он сделался классикой — выразительным подножием и элементом барочного стиля. Это впечатление дает тон всему остальному в отделе культуры павильона. Сперва захватывает музыка. «Нет более нужного для народа искусства, нежели музыка», — гласит надпись из Зденека Неедлы. Рояль для концертов, но не Бехштейн и не Стэйнвэй, а четкая надпись на черном лаке: Петров. И еще другой, белый с позолотой рояль, знакомый каждому, кто бывал на вилле «Бертрамка» в Праге, — инструмент Моцарта, на котором пробовали его пальцы мелодии «Дон-Жуана»… Наука, представленная с таким же лаконизмом: знаменитый востоковед Бедржих Грозный, прочитавший хэттитскую надпись, а дальше — сама эта надпись: «Если свободный убьет змею и имя Другого говорит, платит 1 мину серебра, но если раб — умирает». Врач Ян Перкине, основатель теории живой клетки; Мендель, с его генетической таблицей, и — целая ниша Яна Амоса Коменского, с большими квадратами картинок из мирового его учебника «Orbis pictus» («Мир в картинках»)… Дальше — детская комната игрушек, похожая на дневную елку, которой не надо зажигать, потому что вся она светится, переливается и сверкает. Вы чувствуете себя легко и необыкновенно уютно, как если б всю вашу усталость сняли и перенесли вас в сон или в сказку, — и в таком просветлении садитесь смотреть знаменитое «ревю», названное «волшебным фонарем». Это — синтез танца, музыки, скетча, кинофильма.
Справа и слева от сцены, словно обрамляя ее двумя полосами, натянуты экраны. Сперва выходит на сцену настоящая, живая девушка-чешка, по имени Ирена, играющая роль «конферансье» этого волшебного фонаря. Улыбаясь, она заговаривает по-чешски, но ведь этого мало, ведь выставка требует по меньшей мере трех языков. И красивая девушка зовет себе на подмогу двух других «Ирен». Тогда на левом экране медленным шагом идет к вам она же; и шутя, даже сердясь на то, что ее сюда вызвали, поспешно выходит на правый экран — тоже она. Три одинаковые красивые Ирены, одна — живая, другие — заснятые в кино, не повторяя ни движений, ни характера друг друга, с чудесной грацией и остроумием, на трех языках — словно в непрерывном споре и разговоре между собой — объясняют зрителю происходящее на сцене. Так скучная необходимость механического перевода сама превращается в остроумнейший художественный прием. А в ревю неназойливо и как будто без всякой пропаганды узнаете вы по кусочкам, как живет и работает чехословацкий передовой рабочий, как учатся детишки, тренируются спортсмены, растут города и заводы, — и вот уже знакомая социалистическая действительность, с ее физическим и моральным здоровьем, с ее заботой о народе и заботой народа о будущем своей страны, постепенно охватывает вас.
Волшебный фонарь короток. Он никого не утомил, всем понравился. Многие из тех, кто сидел в зале, убеждаются, что в мире социализма жить можно и даже приятно жить. А вы медленно перебираете в уме все то, что видели и что показалось вам цепью легких, почти воздушных впечатлений. Вдумайтесь в каждое, и вам ясно станет, как они глубочайшим образом обдуманы, нацелены, пережиты, и лишь социалистическая страна, именно только она одна, и могла создать их. Дело не только в общем содержанье ревю. Каждое звено тоже что-то вложило в целое. «Петров», но не «Стэйнвэй» — это полно внутреннего достоинства. Хэттитская надпись открывает настоящую классовую борьбу в глубине тысячелетий: там, где свободный отделывается миной серебра, несчастный раб расплачивается жизнью. И Неедлы говорит о музыке, что это самое нужное народу искусство, — «нужное народу» — лексикон социалистической эстетики. Любовь к своим традициям, живое, почти злободневное ощущение Яна Амоса Коменского, — он не только предмет национальной гордости, потому что родился когда-то чехом, а живой источник, из которого пьет и черпает современность сейчас, потому что социализм возвращает народам их прошлое, помогая глубоко, по-настоящему, для сегодняшней жизни и работы понимать его…
И вот я уже стою перед нашим Советским павильоном, очень большим белым прямоугольником, тяжесть которого снимается и сверху, потому что прозрачные его стены из стекла и алюминия не подпирают крышу, а как будто свисают с нее; и снизу — широчайшей музыкальной лестницей, полого к нему поднимающейся почти во всю ширь его фасада. Если смотреть на одну эту лестницу снизу, то видно, как черные фигурки людей поднимаются по ней к павильону. Людей почти всегда много, и даже в просторе внутри самого павильона их кажется много. Люди типичны — это чаще всего в скромной одежде приезжие из провинции с женами и детьми, группы туристов, молодежь, интеллигенция. Прямо у входа в огромный зал павильона стоит модель второго спутника (сейчас уже установлен и третий), с отверстием, где была помещена собачка. Вокруг него всегда тесно, и нужно пробиваться, чтоб стать поближе.
Можно, как это делали сплошь да рядом газеты и даже официальные журналы выставки, посмеиваться над не первой молодости линолеумом на полу нашего павильона, над отсутствием модных фасонов мебели, линейным однообразием расположения экспонатов и бесхитростной манерой их показа, да и сами мы подчас порядком критикуем спой павильон, — но все эти недочеты испаряются, как лужи на солнце, под влиянием самих экспонатов и огромного человеческого интереса, проявляемого к ним на выставке. Секрет в том — и тут я невольно вспоминаю горделивые английские сандвичи и пивные бутылки, — что Советский Союз, среди множества прочих «первых» вещей, впервые сделал и еще одну вещь в мире — социальную революцию величайшего эпохального значения. И она, эта впервые сделанная вещь в мире, изменившая ход истории на земле, живет и дышит в каждой ячейке павильона, в каждом его экспонате, поворачивая к посетителям свое живое и убеждающее лицо: ну да, новая система человеческих отношений, нет частной собственности на орудия производства, и никто не смеет заставить другого работать на себя, на свою личную прибыль. Ну да, все в руках общества — земля и производство, наука и образование, ваш труд, ваше здоровье, ваш отдых, — и ничего в этом пет страшного, и все в этом глубоко естественно, идите и посмотрите, как мы, советские люди, полюбили такую жизнь, как мы освободились в ней — освободились от страха за завтрашний день, от чувства вины перед себе подобными, от тягостного, убивающего безделья тех, кто живет на «прибавочную стоимость» и не знает, куда девать себя и свое время; как мы научились радости творчества в каждом виде труда, у заводского станка и на колхозном поло так же, как в научной лаборатории, у рояля, за письменным столом. Смотрите, мы — такие же люди, как и вы, и никакой железный занавес не разделяет нас. И народ поднимается по лестнице и смотрит. И народу всегда много.
Простота планировки нашего павильона имеет свои преимущества, — его можно обойти последовательно, ничего не пропустив, хотя это «обойти» и превращается, как смеются организаторы павильона, в своеобразный «терренкур» для тучных: его длина — шесть километров. Одно за другим: строительство и реконструкция Москвы, планировка и создание городов; тяжелая и легкая промышленность, сельское хозяйство и транспорт; равноправие женщин, забота о детях, народное здоровье; наука и образование, литература и искусство, спорт и отдых; атомная энергия для мирных целей, ракеты и спутники — все это проходит перед зрителем в той внутренней связи и взаимозависимости, которую нельзя не ощутить. Многие из пас, советских людей, вступая в свой павильон, думали, что, в сущности, мы свое и так хорошо знаем и не стоит затрачивать на него времени, а лучше посмотреть чужое. Но если прийти, как это случилось со мной, в Советский павильон напоследок, повидавши сперва с десяток других, — с изумлением чувствуешь, что многие вещи открываются для тебя как бы впервые, освещаются с новой, неведомой стороны.
Во-первых, масштабы. Как это ни странно, Америка не сумела показать своей масштабности, и даже и циркораме, где мы совершаем путешествие но ней, кадры подобраны так, что эта большая страна вдруг воспринимается вами как нечто маленькое, компактное, лишенное острых природных контрастов. Но в советской синераме, как и во всем павильоне, прежде всего ощущается огромность и разнообразие наших пространств, и «широка страна моя родная», в которой населению никак нельзя пить в одно и то же время свой утренний чай или спать ложиться, потому что на одном ее конце наступает день, а на другом кончается, — эта широкость обнимает вас, как песня, — и становится настоящим переживаньем, географическим, экономическим и культурным.
Во-вторых, темпы. Когда мы читаем в газетной статье или видим на графике, что с 1913 по 1956 год в Америке производство стали выросло в три раза, а в Советском Союзе в одиннадцать раз, то это сравнение кажется нам обычным; мы привыкли видеть кривую нашего роста в цифре. Но на выставке вы ее чувствуете в образе — и это совсем другое. Вы чувствуете, что за сорок лет из старой России с восемью миллионами деревянных плугов выросла удивительная страна металлургических гигантов, подняла голову над своими просторами и — тянет их ввысь, тянет, как сеть, всеми ее клетками; и, в свою очередь, каждый построенный ею завод, выросший город, освоенные богатства земли и недр, подобно рыбакам, тянущим невод за цепь, становятся фактором ускорения темпа ее роста. Старое, знакомое с первых трех пятилеток словечко «темп» вдруг начинает постигаться вами по-новому. Если не догоним, если снизим темпы… А вот и догнали, и не снизили, и теперь уже сам темп, созданное им внутреннее движение, несет нашу большую страну, как в полете.
В-третьих, культура. У нас еще не почувствовали толком, что наш Советский павильон уже сейчас — и не единожды — премирован на выставке именно за культуру, за стенды с советской литературой, которую мы так поругиваем дома, за стенды с советской музыкой… На выставке с отчетливой ясностью видно, как важно в вопросах культуры не выращивать отдельные редкостные орхидеи, а закладывать крепкие каменные фундаменты, начинать по сверху, а снизу. И то, что у нас есть Шостакович, Прокофьев, Хачатурян, тесно связано с тем, что в нашей стране девятьсот шестьдесят пять композиторов, гомерическая цифра, ни в какой другой стране не встречающаяся. Поражает, а некоторых просто пугает вот эта фундаментальность нашей советской культуры. Народы, сорок лет назад не имевшие своей письменности, сейчас гордятся собственными учеными и писателями; сорок лет назад — темная и неграмотная крестьянская Россия, а сейчас — сплошная грамотность двухсотмиллионного населения Советского Союза; и если сравнивать с самыми культурными странами Европы — Францией, Англией, Италией, Западной Германией, вместе взятыми и составляющими тоже двести миллионов населения, — то у нас в четыре раза больше студентов, чем у них. В четыре раза больше, чем в четырех культурнейших странах, вместе взятых!
В-четвертых, план. Мне думается, каждый внимательный посетитель нашего павильона почувствует ту великую особенность новой общественной системы, открывающуюся в советском хозяйстве и культуре, которая позволяет приводить в движение все целое, координируя между собой его части. На примере использования электронных машин я уже говорила, как наш новый строй стимулирует рост новой техники, подталкивает развитие полой машины, требует ее массового внедрения, потому что иначе он сам не может развиваться. Когда слышишь на выставке, в разговоре посетителей: «Мы на пороге новой эры», то невольно думаешь про себя: лишь с помощью новых общественных отношений можно этот порог перешагнуть.
III. Искусство на выставке
Подобно науке, искусство пронизывает весь быт выставки, внедряясь, казалось бы, в самые далекие от него вещи, — стоит только внимательно разглядеть и сравнить образцы (как и материал) полов и потолков, портьер и стенных облицовок в национальных павильонах. Я уже приводила выше примеры «эстетичности» многих таких вещей, о которых мы как-то привыкли думать лишь в терминах удобства и рациональности. На этикетке обыкновеннейшей машины — приспособления для маляров при строительствах, когда-то в своей младенческой форме именовавшегося у нас «люлькой», — рядом со словами «удобна», «экономична», «легко сбираема и разбираема» стоит слово «эстетична». Простые садовые лопаты в павильоне сельского хозяйства сделаны так, что их невольно называешь «красивыми». В описании инженерно-строительного замысла Атомиума указано, что диаметр такой-то трубы сделан шире, чем остальные, «из соображений эстетики». На выставке обилие самой передовой техники показывает псе большее приближение ее новых форм к тем приятным для восприятия пропорциям, которые невольно напрашиваются на художественную оценку.
Огромное значение в роли искусства на выставке имеет и тот факт, что местом действия выставки стала Бельгия. В мировом пантеоне сокровищ одно из первых мест занимает фламандская живопись, а для тысяч туристов, посещающих Бельгию, эта страна интересна не своим «высоким уровнем жизни», а сокровищами, собранными в ее музеях, красотой ее маленьких городов — Брюгге, Лувена, Гента; яркой прелестью старинных процессий в Намюре. Не мудрено, что искусство заняло на выставке очень большое место, и помимо национальных павильонов, где выставлены отдельные художественные произведения, ему отведены целых два дворца — один для бельгийского искусства, другой — под названием «50 лет современного искусства».
Старый фламандский реализм не умер в Бельгии, — ведь только лишь полвека назад она похоронила такого чудесного, человечного мастера, каким был Константин Менье, оставивший в своих полотнах и скульптурах бессмертный памятник трудовой жизни и рабочему классу Бельгии. Что сами бельгийцы высоко ценят своего реалиста, доказывает с любовью сделанный ими фильм о творчество Менье, отмеченный в прошлом году на X кинофестивале в Карловых Варах. И в павильоне бельгийского искусства, посвященном современности, нельзя не почувствовать отблеска этой старой славы. Правда, и тут преобладает абстракционизм, но глазу есть на чем остановиться с удовольствием, потому что традиционный реализм фламандцев удерживает даже крайних абстракционистов на какой-то черте, за гранью которой утрачивается всякое подобие жизни. Сильней, чем в скульптуре, сказываются эти традиции в живописи. Проходя лишь бегло по маленьким залам, вы прежде всего останавливаетесь перед полной жизни статуей шахтера Менье. Запоминаются вам и скульптуры «Читающего» (В. Руссо), улыбающейся девочки (Фонтэн), девочки на корточках (Шарль Леплэ); темные тона и крепкий рисунок желто-коричневых картин Огюста Мамбура, прелестная ночная уличка Пьера Паулуса, портреты Альбера Кроммелинка, «Дочь рыбака» Франса Депутера и много другого. Но особенно долго задерживаетесь вы перед полотном Луп Бюиссерэ, на первый взгляд никакими особенными живописными достоинствами не отличающимся. А вы стоите, смотрите — и думаете. Перед вами кусочек старого, добротного реализма, делавшего каждое лицо классической фламандской школы не только исполненным жизни вообще, но и ярким отблеском данной минуты, когда одно лицо на картине так живо отвечает на выраженье другого лица, что простой посетитель выставок, без претензий на тонкое пониманье, мог бы воскликнуть простосердечно: «Вот-вот заговорят!» Две женщины: одна, городская хозяйка, вышла на порог своего дома, другая торговка, с большой корзиной на голове, поддерживаемой одной рукою, подошла к ней. Торговка не продает, а хозяйка не покупает, — сложив руки на груди жестом крайнего внимания, хозяйка слушает торговку, быстро ей что-то сообщающую — случай ли в городе, новость ли, сплетню ли про соседку и амурные дела ее, — только лихорадочный интерес ее сообщенья сочетается в ней с жадным преувеличением, так хочется ей, женщине более низкого общественного положенья, раньше всех быть передатчицей новости и этим как бы вырасти на секунду над городской хозяйкой; а та слушает, поджав губы, в строгом и спокойном удивлении, но вот-вот закипит под этим спокойствием и она. Так предельно жизненно схвачены на этой простой картине женские характеры и так раскрываются они для зрителя именно друг от друга, в этой своей связи, как замок от ключа, что вы не можете не задуматься о существе жанровой живописи вообще. Перед картиной Лун Бюиссерэ я невольно припомнила нашумевшую у нас картину Лактионова «Письмо с фронта» (тоже выставленную в другом павильоне) и вдруг поняла главную причину, по которой она мне не понравилась. У Лактионова читается письмо с фронта; это письмо, помимо того, что оно слушается разными людьми и при слушанье должно вызвать у них разную реакцию, могло бы в этой естественной реакции раскрыть и характеры и взаимоотношения этих разных людей между собой. Но жанровая сцепка превратилась у Лактионова и портретную, при этом — в самом плохом смысле — искусственного, позирующего портрета: каждая фигура изображает только себя, она выражает лишь принятую позу, и вы абсолютно не можете догадаться, в каком эти люди взаимоотношении друг с другом и какие у mix характеры.
И еще одно невольно приходит на мысль: не зря классики живописи так любили делать двойные портреты (жены и мужа, отца и сына), тройные и семейные портреты, — эмоциональная связь между ними легче приподнимала занавес над сложной тайной человеческого характера… Мы еще многому, многому не умеем учиться у наших стариков, которых считаем прочитанной и преодоленной страницей!
Очень хорошо подана в павильоне бельгийская литература. Тут, конечно, создатель гениального Уленшпигеля, Шарль де Костер, и все, что можно сказать и показать о нем. Слова Ламартина о том, что Бельгия — это самая литературная страна в Европе, иллюстрируются целым букетом бельгийцев, от Жоржа Роденбаха и Эмиля Верхарна до Сименона, ответившего Агате Кристи созданием своего Мегрэ. В «Музее слова» вы можете услышать их голоса в наушнике, отзвучавшие и еще звучащие в жизни.
Но больше, чем эти голоса, понравился мне настенный текст одного стихотворения, утверждающий, вопреки знаменитой верленовской формуле о том, что в поэзии должна быть «музыка прежде всего» (De la musique avant toute chose), поэзию и искусство слова не в «рыданьях» и вздохах, а в громком шуме, который должна производить поэзия, потому что «слова производят шум». Но — поправился именно тем, что выражена эта прозаическая мысль с чисто верленовской музыкальностью:
Encore un air de guitare, Encore un doigt d’Armagnac, Le ciel est plat comme lac, Juste un souffle pour Icare. Ces voix, ces cris, ces sanglots — Tout ça n’est rien, mon doux frère, C’est du bruit il faut s’y faire. C’est le bruit que font les mots.(Опять ария гитары, опять палец Арманьяка. Небо плоско, как пруд, — оно лишь дыханье для Икара. Все эти голоса, крики, рыданья, все это ничто, мой нежный брат. Шум — вот что надо делать, шум производят слова.)
В последних разделах образцы прикладного искусства, чудесная цветная оконная мозаика, бельгийская керамика и, наконец, музыка, поданная исторически, от трубадуров и труверов, через Гретри к Франку и Лекё…
Совсем по-другому проходишь по залам большого интернационального павильона с его внушительным названьем «50 лет современного искусства». Здесь хорошие картины (в том числе кое-что из нашего) буквально тонут в море разливанном головной абстракции. В написанном Эм. Лянги предисловии к отличному каталогу павильона дается попытка обосновать новейшие западные течения в искусстве, и особенно то, которое зовется абстракционизмом, как… «наиболее реалистические, проникающие в глубины Реального» (с большой буквы). В этом предисловии, написанном очень интересно, есть даже целая глава, носящая, к нашему приятному удивлению, названье «Социалистический Реализм» и сопровождаемая эпиграфом из Карла Маркса: «Искусство — это самая большая радость, которую человек доставляет самому себе».
Ввиду того, что тон всей статьи и особенно этой главы должен создать впечатление у читателя полной объективности суждения Лянги, поговорить о ней необходимо, тем более что о нашем советском искусстве на Западе почти не пишут в терминах благожелательности или хотя бы с желаньем действительно понять нас. Правда, «объективность» и «благожелательность» Лянги очень относительны, — он целиком оправдывает тех, кто ставит «государственный социалистический Реализм… вопреки благородству его намерений, на одну доску с самыми худшими формами академизма — ханжеского, оптимистического и сентиментального»; он допускает в статье фактические ошибки: он повторяет избитые утвержденья о том, что нельзя путать революционный сюжет с революционным духом и что «левые» художники могли бы гораздо лучше выразить нашу новую действительность, чем «правые натуралисты». Но в целом в его статье имеется, во-первых, честное, хотя и беспомощное желание понять, куда и как развивается наше искусство, и, во-вторых, статья его пробуждает в читателе желание поговорить о современном искусстве, что мы и попытаемся сейчас сделать.
«Можно рассматривать мастеров народной реальности, или Наивных, как тех, кто, будучи связанными с народом, практикуют искусство для народа согласно принятому ими решению. Это — индивидуалисты фольклора, который сам но себе является делом коллективным, — начинает свою главу Лянги. — Но существует концепция, разделяемая какой-то сотней художников в мире, по которой искусство должно служить идеологии, добивающейся, между всем прочим, и освобождения (эмансипации) масс посредством культуры». Но термин этот (культура) ни в каком случае не относится к культуре «анархической, безответственной, индивидуалистической, формалистической и декадентской заграничных цивилизаций и врагов», а только к той, которая создана была для огромного большинства и, в частности, этому большинству доступна. «Искусство, согласно этой теории, должно вести борьбу на два фронта сразу: с одной стороны — против неведения, равнодушия и отсутствия восприимчивости (к художественному), с другой стороны — против всех художественных форм, которые, сознательно или бессознательно, стремятся к непостижимому, бесполезному, иначе говоря — вредному для пролетариата. Помочь пролетариату получить сознание своей мощи, своей ценности и своего будущего и составляет — всегда в соответствии с теми же догмами — первоочередную задачу литературы и искусств, которые и находят в пей полное, чтобы не сказать — исключительное, оправдание. Вот почему живопись и скульптура социалистического Реализма, так же как роман и кинематограф, ограничивают себя прославлением народа, своей страны, своих вождей, своего революционного прошлого, своих побед, своих достижений и своей веры в будущее. Все, что не дышит непосредственно этой коллективностью, официально отбрасывается (обнаженная натура, натюрморт и всякая попытка чистой пластичности), так же как уклонение от нее беспощадно осуждается. Хотя социалистический Реализм и не претендует предписывать какой-либо стиль и хотя он так же отвергает пессимистический натурализм, как и «буржуазный» формализм, он опирается в своей эстетике на пережитки реализма до 1914 года, с некоторыми допускаемыми влияниями люминализма. Любовь к профессии идет в одной упряжке с отказом от всякого живописного эксперимента, до такой степени содержанье произведения превалирует над формой. Вначале, когда Революция еще не была так консолидирована и художники, ее соучастники, еще не падали под ножом дог-магической ортодоксии, социалистический Реализм знал великие взлеты к искусству монументальному, самодовлеющему и богатому в своих возможностях. Именно в такой форме, которую можно было назвать «добровольно-служебной», движение достигло своей высшей точки прекрасного, когда художники, часто в оппозиции к режиму своей страны, не обязаны были сгибаться перед новым вероучением (в тексте — конформизмом. — М. Ш.). Будущее покажет, не послужат ли чудесным образом цели, дорогой социалистическому Реализму, такие еретики, как Фернан Леже, Диего Ривера, Орозко, Сикейрос, Гуттузо, Бен Шан, не говоря уж о Пикассо, — гораздо больше, чем масса тех, кто перепутал революционный «сюжет» с революционным «духом». А тем временем противники государственного социалистического Реализма делают хорошее дело, ставя этот последний, вопреки благородству его намерений, на одну доску с самыми худшими формами академизма — ханжеского, оптимистического и сентиментального. Это не мешает миллионам людей в него верить, не смея в то же время ставить перед собой проблемы пластики»[20].
Я сознательно выписала эту длинную цитату из Лянги, потому что ни на одной дружеской встрече со своими западными коллегами не получим мы более откровенного изложенья того, как именно понимают проблемы и жизнь нашего искусства на Западе. И еще потому, что, получив откровенное изложение такого понимания, мы легче всего сможем и ответить так, чтоб этот ответ был дан не в пространство, а на конкретные обвиненья. Прежде всего — несколько поправок к тому, что у Лянги смехотворно неверно и напоминает старую «развесистую клюкву». Тот, кто бывал на наших выставках и знает рабочие студии наших художников, может заверить Лянги, что и обнаженная натура, и натюрморт никогда не являлись у нас чем-то «запретным».
Не знаю, почему, например, в этом павильоне нет наших многочисленных натюрмортов не только старых мастеров, таких, как Кончаловский и Сарьян, но и большинства молодежи; и нет обнаженной натуры, которую отнюдь не редкость встретить в наших салонах. Но оставим вещи, которые я считаю пустяками, и перейдем к основному. Если вчитаться в цепь рассуждений Лянги, те увидишь, как, по его мнению, западное искусство, все больше отрываясь от «сюжета» в чистую «пластику», не только не становится отвлеченным (абстракция, по мнению Лянги, это неудачно найденное слово), а, наоборот, все более конкретизируется, входит в глубины реального, в корневые особенности человеческой психологии и законов природы. Одна часть направления стремится, по его мнению, «схватить Жизнь в ее наиважнейших функциях», другая (он называет Певзнера, Габо, Хэпуорта) чисто интуитивно воспроизводит как раз те пластические формы, которые были недавно найдены учеными для выражения «алгебраических формул третьей степени», иначе сказать — идет совершенно в ногу с открытиями науки. Тут я даже могу подсказать еще пример в пользу Лянги из области музыки: абстракционисты-композиторы создают уже музыкальный язык не звуков, а пауз между звуками (чему недавно так честно удивлялся наш композитор Арам Хачатурян в № 11 журнала «Музыкальная жизнь»), — а ведь тысячи людей сидят в лабораториях и слушают музыку нашего третьего спутника, музыку не его попискиваний, а его помалкиваний — неровные пунктиры его пауз, — ибо это и есть новый язык электронных импульсов, позволяющий паузами передавать нам научные сведения из далеких небесных сфер. Так что механическое сближение новейших форм искусства с новейшими открытиями науки можно, к удовольствию Лянги, продолжить. Но дело-то ведь не в этом! Мы охотно верим Лянги, что мир линий и красок, открывающийся в самых крайних течениях западного искусства, есть глубоко реальное воспроизведение «жизни и функций жизни», какими их видит, чувствует и понимает западный человек, в данном случае — художник. Но это не та жизнь и не те ее жизненные функции, которые видим, чувствуем и понимаем мы, люди новой реальности на одной трети света, а по численности своей — представляющие не «какую-то сотню», а несколько сот миллионов. Лянги допускает у нас революцию, даже Революцию с большой буквы, и он верит, что тонкое искусство Запада может послужить ей лучше, чем наш «ханжеский академизм». Но все дело в том, что искусство чаше стремится изобразить не революцию, а те совершенно новые общественные отношения, которые революция создала; новый мир, резко расходящийся в своей реальности со старым миром. И наш художник, докапывающийся до глубины этой нашей Реальности, пытающийся докопаться до психологических глубин нашего человека, не найдет и не может найти в этих глубинах то, что находит и изображает западный художник. Представим себе блестящих птиметров эпохи Мольера, этих рафинированных эстетов, считающих себя на самом передовом фланге общества своего времени. И вот среди них, создающих поэзию тончайших ассоциаций, в которых они видят глубины особого, мистического смысла, забежавшего за пределы видимости людей ординарных, невежественных и отсталых, — представим себе, что среди этих птиметров, считающих себя передовой и ведущей частью человечества (потому что на их стороне образование, утонченность, услуги цивилизации), появился грубоватый мужлан с жаргоном улицы и выставил свою, довольно примитивную правду против их утонченной правды. Была ли такая ситуация в искусстве прошлого? Была очень часто! Это как раз начало капиталистической системы, с его простым и грубоватым искусством, направленное против конца дворянско-феодальной системы, с его утонченнейшим и тончайшим искусством. Вспомните, Эм. Лянги, первое появление пьес Мольера, художника третьего сословия, перед зрителями, воспитанными на феодальной, церковно-мистической и сексуально-символической эстетике, которая, они убеждены были, не кончает какой-то культурный цикл, а намечает его развитие в будущем. Истинное положение вещей на этой встрече мы хорошо понимаем только сейчас, а в то время общество могло думать и думало, что Мольер тянет назад, к простонародью с его «санфасоном», о птиметры ведут вперед, к углубленному искусству авангарда. И что получилось? Мольера забрасывали гнилой картошкой, но драматургия его легла в основу нового искусства, искусства людей нового общественного строя, пришедшего на смену старому, а поэзия птиметров забыта и, как отставшая от своего времени, затерялась где-то в архивном обозе истории. Такова суть вопроса. Из нее не следует, что мы создаем хорошее искусство, а Запад плохое. Но мы идем вперед, к пониманию тех форм и отношений, которым обеспечено будущее; а Запад глядит назад, в прошлое, и глубины его с точки зрения «Жизни и ее главных функций» перед лицом будущего — иллюзорны. Отсюда же и преувеличенная роль сюжета в нашем молодим социалистическом искусстве. Когда отражаешь революцию, содержание можно выразить красочной и звуковой символикой. Но отсутствие частной собственности на орудия производства; перевоспитание человека, учащегося любить и беречь общественную собственность, как свою; замена психологии состраданья и милосердия, вытекающих из чувства личной виноватости перед обездоленными, глубоким нравственным удовлетворением человека, когда рядом с собою он видит людей, одинаково с ним наделенных всем, что нужно для жизни, — такие коренные изменения всей действительности, пусть хотя бы еще только наполовину реализованные, имеющие отклонения и провалы, но в принципе уже созданные, — вот это отразить в искусстве (а ведь искусство дышит воздухом, в котором живет творец!), притом отразить на первых его порах, в самом начале новой эры, — вне сюжета и вне смыслового содержанья совершенно невозможно. Отсюда ведь даже самый острый и новый художник современности, признанный за такового и на Западе, наш композитор Шостакович, и тот прибегает к сюжету в самом отвлеченнейшем из искусств, в музыке, — примером служат его последние программные симфонии. И, завершая свой спор со статьей Эм. Лянги, я опять скажу, что начинать надо этот спор, исходя не из самого искусства, отражающего «глубины», а из глубин действительности, которые это искусство призвано отразить. Все же остальное само собой приложится со временем. И если мы еще не создали своих Мольеров, то создавать своих птиметров нам совершенно ни к чему.
Переходя к самому павильону, отметим, что жюри, состоящее из представителей именно западного мира, сочло возможным присудить премии целому ряду наших советских художников, которым предисловие к каталогу павильона заранее спело «отходную». И еще одна любопытная подробность: в числе самых известных ультралевых западных художников и скульпторов, ведущих «корабль искусства» по безбрежному морю абстракций и всяческих «измов», неожиданно оказывается очень много русских эмигрантов, утративших родину. Одни имена нам хорошо и давно известны, другие звучат новизной. Смоленский уроженец, Осип Задкин, оказался ведущим французским скульптором, создавшим школу «со множеством учеников», как пишет Лянги. Кандинский и Малевич (москвич и киевлянин) первые создали движенье абстракционистов. Киевлянин Александр Архипенко — творец новой школы скульпторов в Америке. Тут и орловец Антон Певзнер (мы его хорошо знаем по двадцатым годам у нас), и Бен Шан из Ковно, ставший мастером модернистической сатиры в Америке; и белорус X. Сутин, друг Модильяни; и Марк Шагал, Наум Габо, Яков Липшиц, Наталья Гончарова — все уроженцы России, и всё это очень громкие, больше того, ведущие имена левого искусства на Западе. Нет только еще одного имени, очень громкого и популярного в Италии, — имени Грегорио Шилтяна, главы школы своеобразного реализма, живущего и работающего сейчас в Милане[21]. Ни одной его картины на Всемирной выставке нет, а между тем они очень многое могли бы объяснить в современной западноевропейской живописи. Явление искусства глубоко общественно, и абстракционизм не родился в пустом пространстве. Он более или менее естественно связан с тем ритмом (или аритмией), какой бытует сейчас в домостроительстве, мебельном, фарфоровом, модозаконодательном и прочем житейском укладе Запада. Он координирует с ним. Картина реалиста, пусть даже классика, выпадает из стиля современной буржуазной квартиры, она не «идет к ней», совершенно так же, как абстрактная картина естественно вписывается в нее, в полном согласии с рисунком занавесок и чайного сервиза. Против факта «соответствия общей моде» и естественной декоративности этой западной живописи ничего не скажешь. Но глубокие художники на Западе, тоскующие по передаче натуры в искусстве, ищут таких путей в реализме, где не было бы отказа и от требований геометрической декоративности, — ищут, быть может, бессознательно, — и отсюда родится такое своеобразное, граничащее с натурализмом, а в то же время обнаруживающее и выучку у великих классиков, и острое чувство геометризма, реалистическое творчество, как искусство Г. Шилтяна…
Наступил вечер на выставке, когда искусство и красота обрушивают на вас целую Ниагару огней и красок. Хорошо присесть в эти часы на одном из сидений возле бьющих цветными перьями фонтанов, поглядеть, как испускают свое мерцанье круглые шары Атомиума в вышине, — и привести в порядок накопленные за день мысли. «Сложнейшие глубины, где встречаются природа и человек», «мистические дали, о которых повествуют лишь абстрактные формы и линии», все более и более усложняющийся мир линий и красок, к которому с простой арифметикой не подступишься, — именно в этом «настоящее искусство'), как хотят нас уверить западные мастера и их философствующие теоретики. Но вот что странно: чем больше рассматриваешь это искусство, тем более чувствуешь и за ним и вокруг него — в атмосфере эпохи, если хотите, — неожиданную тоску, тоску по простоте. Круговорот, совершаемый вкусами человечества, ведет иногда к самым большим неожиданностям. Мне кажется, даже в искусстве Запада и в его усложненных литературных формулах уже появился некий роковой червячок, подтачивающий самые твердые вещества, — червячок скуки. Обществу — и не только передовой его части — начинает приедаться мнимо усложненное, и подобно тому, как простая и лаконичная проза Пушкина ударила насмерть по витиеватой речи Марлинского, — люди, оглядываясь, ищут этого «удара простоты», сразу возвращающего человеку его прямое место на прямой дороге истории. Но простота никогда не создается искусственно, ее не выдумаешь из головы как прием, она родится на народной почве, родится социально, в той цельной общественной среде, где содержанье и форма едины.
Есть на выставке один из интереснейших павильонов — Филипс. Имя ему дала мировая нидерландская электропромышленная фирма; построил его архитектор Лë Корбюзье. Павильон этот, похожий на курдский шатер, внутри совершенно пуст, но на его внутренних степах показывается странный фильм, названный авторами «Электронной поэмой». Сценарий этого фильма написан, точнее, смонтирован Пикассо; музыка — не простая, а электронная, созданная Эдгаром Варезом. Пятнадцать минут стоит, смотрит и слушает публика слитные воздействия необычных электронных звучностей, сопровождаемых вспыхиваниями и затуханиями красочных эффектов — сине-голубого, ярко-оранжевого, фиолетового, коричнево-желтого, вместе с пятнами образов, выскакивающих то там, то здесь на окружающих стенах-экранах. Авторы фильма хотели показать эволюцию форм от обезьяны к человеку, с призывом к бережному сохранению всего созданного, — а показали, вольно или невольно, нечто разоблачающее современные усложненные формы искусства. Пятна древних божков, первые рисунки человека на степах пещер, животно-грубые формы его самого и создаваемых им богов до странности напомнили зрителям современные странные скульптуры, носящие название «женщин», «материнства», «лошади», «мысли», чего хотите, только бы непохожего. В древних божках и рисунках, сделанных серьезной рукой человека, мы видим начальную ступень, примитив. Но в этих мнимо усложненных современных формах скульптуры и живописи мы чувствуем то искусственное возвращенье к пройденному, которое требует прибавления частички «изм»: примитивизм. А под примитивизмом, как бы сложно ни объяснять его, таится страстная тоска человечества но утерянной цельности, по древней красоте. Придет новый художник нового общества, расскажет кристально ясно, мешая кристально чистые краски — кистью великой жизненной правды, — о простейших, но единственно важных для человечества вещах — о любви, о труде, о мире, о творчестве, о благодарности ближнему своему, о том, что есть на земле не только «я», но и «ты» и «мы», без которых «я» не могло бы расти и обретать полноту человечности, — и обрадованный читатель-зритель воскликнет: пришло настоящее искусство!
IV. Наука на выставке
Уезжая из Брюсселя, я хотела бы записать в общей книге пожеланий, которой, к сожалению, нет на выставке, горячую просьбу: сохраните для человечества «Дворец науки»! Пусть он останется памятником необходимой для народов дружбы, памятником великого притяжения мысли, влекущего друг к другу людей разной национальности, разных убеждении, веры, цвета кожи, общественных систем и позволяющего им мирно и плодотворно работать бок о бок. И больше того: пусть он останется памятником той достигнутой степени развития пауки, при которой дальнейшие ее шаги уже становятся невозможными без этой дружбы и мира, без координации всех человеческих усилий! Наука, подобно искусству и технике, разлита по всей выставке, и ее можно почувствовать здесь на каждом шагу. Но наука в виде обдуманного целого, во всей ее грандиозной концентрации — от мира мельчайших частиц и до колоссальных соединений энергий, от неорганической до живой материи, от атома до клетки — собрана в самом интересном здании на выставке, без посещения и изучения которого вы просто главного в выставке не увидите, — в «Интернациональном Дворце науки». Он сделан его устроителями так дидактично (ясные надписи, каталог, похожий на учебник, три кинозала, где все время демонстрируются научные фильмы), что даже без чужой помощи в несколько дней можно в нем разобраться, вступив в его двери неосведомленным человеком, а выйдя из них с запасом стройных знаний. Но кроме перечисленных пособий есть и живое слово. Группа молодых ученых из основных стран — участниц этого павильона (всех стран шестнадцать) здесь всегда налицо, они проводят в своих лабораториях разные совместные опыты, общаются друг с другом и оказывают огромную помощь посетителю, раскрывая перед ним отдельные богатства павильона не как простые гиды, а как энтузиасты своей отрасли науки. Для советского посетителя такой огромной помощью служит присутствие во «Дворце науки» Георгия Афанасьевича Дорофеева, консультанта по атому; Игоря Ивановича Третьякова и Никиты Алексеевича Толстого — двух консультантов по молекуле — и Владимира Иосифовича Воробьева, консультанта по живой клетке, — все они кандидаты наук. А для не знающих иностранные языки — во «Дворце науки» специальная переводчица, Вера Николаевна Любимова.
Уже с первого посещения (а я больше половины своего времени отдала именно «Дворцу науки») мне стало ясно, что здесь, казалось бы на самой отвлеченной почве, в павильоне, названном «интернациональным», я как раз и встречу то простое, человеческое, подлинно национальное лицо некоторых народов, которого не показали (или мало показали) их собственные павильоны. Так, я уже сказала выше, что встретила тут английский народ. Он встает в лучших своих качествах — в ярких поясненьях английских ученых к их стендам, где строго научно вскрыт чудовищный вред термоядерных испытаний для нескольких поколений человечества; он встает в фотографиях митингов, где англичане страстно протестуют против испытаний атомных бомб. Английские ученые последовательно подводят нас к выводу: для судеб человечества, для массы человеческих жизней термоядерные испытания, отравляющие воздух нашей планеты, не менее вредны и гибельны, нежели сброшенная атомная бомба, уничтожающая целый город. Бомба уносит жизни; испытания калечат жизни на протяжении многих поколений и в массовом их исчислении. Только потому, что мы не видим и не ощущаем этого непосредственно на себе, мы не чувствуем физического ужаса, когда узнаем о продолжающихся испытаниях. Эта строго научная работа, выставленная в четвертом разделе павильона, дышит английским духом общественности, заинтересованностью в судьбах всего человечества, и невольно верится, что народ, воспитавший в своих ученых честность перед наукой и перед обществом, сумеет стать хозяином и своей национальной политики. Я также встретила тут американский народ, которого днем с огнем не сыщешь в развлекательной кунсткамере Американского павильона. Встреча во «Дворце пауки» лицом к лицу с подлинным лицом английского и американского народов в большой мере вознаграждает за отсутствие этого лица в их павильонах. Она заставляет лишний раз подумать и о самой почве, которая выявляет это «лицо», — о науке, о воздухе научного исследования, о творческом вдохновенье, рождающемся из поисков истины, и о том, что в этой атмосфере, где источником служит творческий разум, а целью — желание найти истину и обратить ее на пользу человечества, — нельзя не протянуть руки друг другу, нельзя не найти приемлемой формы для сосуществованья, И если в «Интернациональном павильоне искусства» экспонаты разных направлений как бы «дерутся», исключая друг друга, и эта взаимная рознь отражается даже в «объективном» предисловии к каталогу, — здесь, в «Интернациональном павильоне науки», экспонаты разных направлений помогают друг другу, дополняют друг друга, вливаются в общее движение вперед. Невольно опять вспоминаешь слова уже старого Гёте, оброненные им как бы невзначай и в первую минуту кажущиеся просто непонятными под пером великого художника: «При распространении техники не о чем беспокоиться: она мало-помалу поднимет человечество над самим собой и подготовит для высшего разума, высшей воли чрезвычайно приспособленные органы… Распространение же искусства порождает кропательство»[22]. Здесь Гёте под техникой понимает нею интернациональную совокупность научного открытия и его технического воплощения — и узкоиндивидуальный характер искусства.
«Дворец науки» задуман в четырех разделах, позволивших устроителям не только разместить свыше пятисот экспонатов (по моему беглому подсчету, их пятьсот два), но и развернуть их в последовательном порядке от мертвой материи к живой. Атом, кристалл, молекула, живая клетка — такова схема. Каталог этого павильона снабжен общим введением крупнейшего представителя науки о кристаллах Лоренса Брагга (по книге которого я изучала, кстати сказать, кристаллографию еще в 1911 году, у покойного русского ученого Ю. Вульфа!); и хотя в этом предисловии указывается «огромная (énorme) пропасть между самой простой живой клеткой и самыми сложными соединениями молекул»[23], сама тенденция приведенных в павильоне научных опытов показывает, как стремятся ученые заглянуть в эту пропасть и найти мост через нее. Весь мир коллоидов; ошибки и дефекты в кристаллах, нарушающие их геометрическую правильность и придающие им особо жизненные качества; огромная практическая область так называемых пластмасс, искусственно создаваемых материалов, подобных органическим, в современной химии, — все это теснится на грани указанной пропасти между «неживой» и «живой» материей и вот-вот откроет, как при вспышке молнии, тайну перехода из одной в другую. Чем глубже уходит познанье в мельчайшие частицы материи, разбирая скрытые в них энергии, чем цельнее и шире представляет себе оно взаимодействия живых клеток человеческого организма, тем настойчивей ощущается потребность найти общие законы в этом безбрежном море явлений и тем явственной мерещатся возможности таких законов. Вот почему, не довольствуясь показом достижений современной науки по четырем его разделам, организаторы павильона потратили много сил на создание особого научного фильма, называющегося «Фильм научного синтеза», и показывают этот фильм посетителям павильона несколько раз в день. Казалось бы, «пропасть» между живой и неживой материей существует не только в природе (пока), но и в различном мировоззрении ученых (особенно), подходящих к этой проблеме с разных позиций — идеалистической или материалистической. Но замечательно, что во «Дворце науки» как-то исчезает «позиция» ученых, охваченных неизбежной тягой общего развития всей науки к синтезу. Не только материалисты, но и те, кто верит в сверхъестественное происхождение жизни на земле, не могут не втягиваться в страсть исследований пограничных областей пауки, в захватывающе интересные открытия на стыках двух и трех наук, проливающие неожиданный свет туда, где еще десять лет назад все было окутано тайной. Огромную роль играет тут и передовая научная техника, и происходящая на наших глазах научно-техническая революция.
Вы можете увидеть в павильоне все богатство этой новой техники, позволяющей необычайно углубить и расширить научное исследование. Аппараты и инструменты, названия которых вы читали в книгах и, не будучи специалистом, представляли себе очень туманно, становятся здесь для вас добрыми знакомыми, постигаемыми в их действии. Камера Вильсона, счетчик Гейгера — Мюллера, сцинтилляционный счетчик, советский термоядерный спектроскоп, электронно-лучевой анализатор импульсов электрона, созданный советскими учеными Марковым и другими, электронный микроскоп, — и сколько, сколько еще механизмов, воспринимающихся вами одновременно и как техника, и как научный эксперимент, ставший возможным при ее посредстве. Кстати сказать, из пятисот работ павильона советских показано сорок четыре. Если вспомнить число стран-участииц (16), то это не так уж мало. Но если взять объем всей советской науки, ее громадные достижения последних лет и научные открытия, которые повели к этим достижениям, то можно лишь пожалеть о недостаточном показе нашей науки в павильоне. Многим может показаться странным, что классическая таблица элементов Менделеева, лежащая в основе современной физики и химии, почему-то представлена не советскими учеными, а бельгийскими; не менее странно, что нет среди классических работ по фотосинтезу великого Тимирязева с его теорией хлорофилла. Из советских открытий тридцатых и сороковых годов показан стенд с так называемым «эффектом Черенкова» (1934) — о радиации частиц, двигающихся в субстанции с быстротой выше быстроты света, — утилизованным сейчас во многих областях мировой науки; стенд с космическими лучами Лебедева (1949); но нет замечательных работ академиков Алихановых и В. Амбарцумяна. В отделе живой клетки представлена крупная работа Энгельгардта о механизме сокращения мышц; значение ее в том, что в опыте, поставленном советским ученым, раскрылся механизм использования энергии для мышечного сокращенья и тем положена основа новой пауки, механохимии, — науки о переходе химической энергии в механическую. Но работа Энгельгардта — чуть ли не десятилетней давности (хотя разработка ее продолжается и сейчас). А в целом советская биология представлена в павильоне очень бедно (75 работ американцев, 10 наших). Между тем у нас есть что показать, и удивительно, как в отделе пересадки тканей нет опытов Филатова, знакомых всему миру, а в уголке сельского хозяйства пет яровизации и других практических опытов, посмотреть которые считают нужным почти все иностранные биологи, приезжающие в нашу страну.
Вот огромный стенд, повествующий про немца Паули и итальянца Ферми — первый теоретически, а второй практически открыли мельчайшую частицу «нейтрино». Эпически-спокойно, хотя с предельным лаконизмом, говорит надпись о незыблемости закона сохранения энергии; он доказывается решительно всеми явлениями в природе, в том числе и радиоактивными. Надпись говорит об этом, впрочем, в других словах: она говорит, что этот закон «должен быть уважаем» всеми явлениями природы… И вдруг нашелся феномен, этот закон не уваживший. Когда дезинтегрирует частица альфа, закон этот соблюдается, а вот когда дезинтегрирует частица бета — закон летит вверх тормашками. Как подойти к объяснению этого явления? Значит ли оно, что один из важнейших мировых законов, закон сохранения энергии, неверен? Ученый Паули подошел к решению вопроса из абсолютного убеждения, что закон этот не может быть неверным и, следовательно, энергия должна сохраниться, она не может потеряться. И в поисках следов этой утраченной энергии он теоретически пришел к идее о существовании мельчайших космических частиц, «нейтрино». Итальянский физик Ферми, экспериментируя и ставя опыты, доказал на практике, что это именно так, — он нашел нейтрино — мельчайшую космическую частицу. Она, как лучевой дождь, проходит через человеческое тело в бесконечном количестве, — что только и какими незримыми молниями лучей не пронизывает наше тело в миллиардных количествах в течение всей нашей жизни, а мы — часть матери-природы — и не подозреваем о них!
Другой опыт, остановивший меня, — одно из самых гениальных научных достижений последних лет — проделан двумя учеными, китайцами по происхождению, — Ли Дзун-дао и Ян Чжэнь-нином, работающими в Америке. Их опыт получил в 1956 году Нобелевскую премию. Тут надо опять начать эпически — с упоминания об одном из важных законов квантовой механики, так называемом законе четности. До сих пор он считался незыблемым. И вот опять вмешалась неугомонная частица бета. Когда ученые Ли и Ян намагнитили кобальт-60, то обнаружили, что частица бета излучается в одну сторону по отношению магнитного момента больше, чем в другую сторону, хотя по закону парности излучение в обе стороны должно было бы быть одинаковым. Открытие это, на взгляд профана в науке такое незначительное, в действительности имеет колоссальное значение. В данном случае нельзя искать каких-то подтверждений незыблемости закона квантовой механики — их нет; в данном случае вывод может быть только один: закон парности ошибочен, и надо поэтому пересмотреть всю квантовую механику.
Два стенда — и совершенно разная диалектика «закона» и «открытия», совершенно разные выводы из открытий. А из этих выводов, кажущихся абсолютно чистой наукой, подобно многому и многому другому во «Дворце науки», вырастает новая техника, ведущая к новой практике, новой действительности… Слова «чистая наука» иному реалисту, охваченному нетерпением видеть каждое открытие в математике и физике тотчас же, сию же минуту воплощающимся в материальные ценности на земле, кажутся чем-то глубоко отвлеченным, уводящим изобретателей в дебри абстракции от жизненно важных дел. Я не буду ломиться в открытую дверь, чтобы доказывать абсурдность таких утверждений, похожих на подпиливание под собой сука, на котором сидит человек. Но есть одно, о чем сказать хочется, — о светлой, объединяющей люден радости такого «чистого» открытия, когда сын матери-природы, ее ребенок, подслушивает и узнает один из ее секретов. Трудно представить себе более бескорыстную радость, охватывающую не только того, кто сделал открытие, но и множество других людей, узнавших о нем. В мире, где так много факторов, разделяющих людей, этот светлый психологический фактор радости, соединяющий людей, — вещь немалая. И «Дворец науки» в этом смысле, с его последовательной картиной научных открытий человечества, с его чудесным фильмом о научном синтезе, над которым трудилось много ученых, — огромный вклад в дело мира. Мы входим в зал и смотрим фильм о синтезе. Он ведет зрителя от зарождения мира, через неорганическую материю, к первым живым клеткам — в царство растительного мира, обеспечивающее жизнь на земле фотосинтезом — добычей из солнца и хлорофилла необходимого для жизни крахмала (да простят мне ученые такое простецкое изложенье!); он ведет через появленье первых животных организмов до человека, мастера природы, — и опять назад, к атому, которым человек учится управлять, из которого, то разрывая, то соединяя его, высекает чудовищные запасы энергии; и дальше — к новым вершинам науки, к созданию человеком уже искусственных изотопов, искусственных молекул, искусственной материи, похожей на живую, и, может быть, в грядущем — искусственной живой клетки… Огромен путь позади человека, но он как раз настолько, велик, чтобы показать, как неизмеримо больше, чем пройдено, человечеству предстоит пройти. Мне хотелось бы сравнить все пережитое во «Дворце науки» — и его ясные, поучительные стенды, и его фильм, созданный с таким обдуманным, терпеливым стараньем, и чудесные вступительные статьи больших ученых в его каталоге к каждому разделу павильона, — с действием Девятой симфонии Бетховена. Подобно тому как, слушая ее, перестаешь верить в победу зла на земле, — выходя из «Дворца науки», не допускаешь мысли о том, что лучшая часть Человечества позволит кучке безумцев, цепляющихся за свою власть и личное благополучие, предать огню и мечу, пожару и истреблению бесконечно дорогие ценности человеческой культуры.
Еще одно хочется мне добавить к рассказу о выставке. Каждая новая эра человечества всегда вызывала в отдельных людях, задумывающихся о грядущем, потребность сделать доступными для народа накопленные научные знания. Отсюда — великие энциклопедисты прошлого. Так создавалась знаменитая арабская энциклопедия X века анонимными «братьями чистоты» — ихвануссафа, — вобравшая весь неоплатонический багаж своей эпохи вперемежку с арабским материализмом. Так всю свою жизнь страстно систематизировал научные знания своего века в учебниках, доступных всему народу, великий чешский учитель-энциклопедист Ян Амос Коменский, под христианской оболочкой создавший в XV веке материалистическую основу народной школы, не потерявшую и сейчас своего значения. Так действовали знаменитые французские энциклопедисты-материалисты XVIII века и на пороге новой, капиталистической эры. Мы глядим через головы их в эру новых, лучших и более справедливых человеческих отношений — в эру социализма. Давно пора если не одному какому-нибудь всеобъемлющему уму типа Бэкона или Ломоносова, то хотя бы группе ученых поставить перед собою задачу ясного, творческого изложения всего того, что уже накоплено в нашей науке. Надо, чтоб человек новой эры усваивал фундамент своего образованья, главные законы точных наук и ту общую математическую основу, которая лежит под каждой из них, зачастую замаскированная разными терминами. Создать такой компендиум, доступный в чтении миллионным народным массам, — большая, почетная задача. На выставке есть один павильон, он носит имя французского труженика, поднявшего в XIX веке на своих плечах дело создания популярной энциклопедии для родного народа. В этом павильоне — «Лярусс» — можно увидеть, какое огромное распространенье получили и до сих пор получают его энциклопедии. Там есть и еще одно поразительное новшество: электронный энциклопедический словарь, который не нужно доставать с полки, не нужно листать, а только нажать кнопку, и он отвечает на тысячу двести поставленных ему вопросов. Я вспомнила о Ляруссе потому, что самоотверженный труд энциклопедиста — почетный труд даже тогда, когда он не ставит перед собой задачи творческой систематизации наук, а хотя бы просто стремится к их обычной популяризации. Сейчас нам нужен, конечно, не просто популярный сборник, а такой, где разные науки улеглись бы не изолированно, а во внутренней связи, к которой подводят их новейшие открытия в физике и математике. Углубить, упрощая сложности; прояснить, убирая лишние параллелизмы и повторенья, — вот чего требует наша новая эра от научного социалистического компендиума.
Дописывая эту страницу, я как бы снова расстаюсь со Всемирной выставкой 1958 года, созданной огромным творческим коллективом людей и пронизанной — в большей части ее работы — добрым намерением мира и человеческого сосуществования народов на земле. Неуважением к ее труду и к этим добрым намерениям было бы отнестись к ней как к пестрому калейдоскопу — и только. В своем рассказе я постаралась отдать должное большому международному делу, созданному коллективно (и нами, народами социалистического лагеря, в том числе), — и если есть в этом рассказе упущения или неточности, пусть простит мне читатель: трудно в пятнадцать дней охватить то, что создавалось целое пятилетие!
Брюссель — Москва, 1958
Английские письма
I. Въезд на остров
Ночью вы просыпаетесь в поезде от перемены движенья. Вместо привычной дрожи с постукиванием, передающей бег колес, — медленное длинноволновое покачивание, как в колыбели, с ощущеньем стояния на месте. В полутьме вы раскрываете глаза. Мягкая плюшевая лесенка прямо перед вашим носом, для пассажира верхней полки, мешает вам сразу встать с постели. Но вот вы приподняли край занавески. Желтый электрический свет бьет в окно вагона; серая длинная стена перед вами, напоминающая внутренность туннеля. Рядом с вашим поездом, вытянувшись в ряд, стоят автомобили в той мертвенной неподвижности, какая бывает у спящих под утро. И в них, в той же сонной неподвижности, сидят люди, похожие на восковые куклы: спит шофер, опустив голову, но рукой охватив баранку; две старые дамы в ночных чепчиках положили головы на резиновые подушки; молодая чета плечом к плечу…
Вы проснулись как раз вовремя, чтоб поймать скрытый в ночной темноте процесс, называемый коротким английским глаголом «кросс». Это поезд пересекает морской пролив — с континента на остров, из Франции в Англию, — не сходя со своих рельсов. И вот уже сизая голубизна рассвета, прогоняющая ночь; какие-то очертания не то крапов, не то мачт, фигурки людей в железнодорожных мундирах, — симфония перехода с моря на сушу. А еще через полчаса щеголеватый официант приглашает вас отведать первый тяжелый английский или, последний для вас, легкий континентальный завтрак.
Вы можете прекрасно знать английскую литературу, наглядеться на сотни «видов» в кино, в альбомах, в книгах, и все же первая встреча с Англией потрясет вас своей новизной. Не «меловыми скалами» Дувра, почему-то упоминаемыми во всех путевых очерках. Не жизнью порта, — ее вы совсем не увидите из окна вагона. Но прежде чем узнали вы дивные создания подлинной английской архитектурной классики — в Кентербери, в Оксфорде, в Райе, в Бате, во множестве старинных городков и деревень, — Дувр двинет на вас в огромном и мрачном количестве, сразу, без подготовки, — после мягких пейзажей с разбросанными, разноформенными постройками Чехословакии, Германии, Франции, — двинет на вас полчища того, что первую минуту вы невольно сравните с «фалангами» Фурье, какими они представляются вашему воображению. Что это — склады? Каменные гофры бесконечных заводских помещений? Но нет, это жилые дома — одинаковые дома-близнецы, из одного материала, одного цвета, одной высоты, одной формы, слитые так, словно по бокам у них нет наружных стен, а только одна внутренняя, общая для двух соседей. И этот бесконечный дом, извивающийся вдоль улиц, напоминая гофр или гармошку, наверху увенчан острыми пиками высоких, тонкошеих, как у жирафы, труб: почти каждая комната каждого дома через свой отдельный камин разговаривает с небом — своей собственной трубой на крыше.
Полчища одинаковых домов, слитых друг с другом, устрашающе однообразны. Но полчища труб на крышах играют, как ноты на пяти линейках, разными высотой и долготой: то они встают, как петушиные гребешки, на середине крыши, то скопляются, как клыки допотопного зверя, на одной ее части, то обрамляют ее стайками с двух сторон. Это первое впечатленье от обычной жилой английской архитектуры действует на вас сразу же с огромной силой, порождая десятки мыслей, пока движутся и плывут перед вами бесконечные узкие коридоры улиц с лентами и полукругами сплошных стен.
Как жители находят свои квартиры, свою дверь в этой каменной стене? Как жить в этих мрачных мешках, не очень высоких, но почти по-тюремному замкнутых, без единой щели, без единого просвета между домами? «Мой дом — моя крепость», — говорит англичанин, гордый недоступностью своего частного жилья, — и вы по этой пословице представляли себе дом англичанина чем-то изолированным, отделенным от соседей, окруженным просторной площадью, высоким забором, — и вдруг это неприступное жилье англичанина, его «крепость», оказывается ребрышками в неисчислимом костяке других одинаковых ребрышек, связанных с соседями, как страницы одной книги или пальцы одной руки.
Но вот чувство ужаса — я точно определяю первое мгновенное чувство, охватывающее вас, — начинает выстегиваться, как темнота перед рассветом, новыми, едва уловимыми стежками других наблюдений. Как хорошо, как крепко, добротно все это построено! Да, это похоже на заводские корпуса, но ведь заводы монументальны, их железные каркасы заливаются крепчайшим цементом, сшиваются сталью, — и эти улицы домов-близнецов, они тоже так необычно прочны и сшиты вместе. Солидная Англия, солидная во всем, стяжавшая себе славу своей добротностью и солидностью, Англия мануфактуры, угля, портланд-цемента, стали, твердыня торговли и капитала, создательница стойкого английского характера, — вот она, в ее первой встрече с вами, во всей ее каменной серьезности без улыбки, — неужели она только такая?
Думать дальше некогда — надвигаются гулкие своды вокзала «Виктория», вы сходите на английскую землю. Молчаливые таможенники, не очень дружелюбные, оглядывают ваши вещи и словно нехотя протягивают вам красную карточку с печатной надписью: «Добро пожаловать в Англию». Вы для них «эйлиен», чужой элемент, инородное тело, как и для большинства служащих в гостиницах. Уже несколько устрашенный приемом, выходите вы из таможни — прямо на лондонскую улицу. Сыро, как в английских детективах, пасмурное небо над музыкальными ключами и закорючками труб; не очень шумно — лишь какой-то особый рокочущий шелест автомашин по асфальту, новое для вас движенье — справа. И хотя вы ступили на эту улицу впервые в жизни, хотя она мрачновата, а таможня уже успела заставить вас съежиться внутренне, — не проходит и нескольких дней, как вы с удивлением замечаете, что полюбили этот город, успели освоиться с ним, и вам легко и просто в нем, словно вы жили тут десятки лет.
Что помогает такой быстроте освоения Лондона? Из каких впечатлений складывается ваше чувство легкости и простоты?
Нет, кажется, ни одного очерка, ни одной книги об Англии, где но какой-то непостижимой инерции, вероятно под влиянием путеводителей и энциклопедий, не говорится о Лондоне как о чудовищно большом городе и не перечисляется, из каких разнообразных частей он состоит. На самом деле Лондон — маленький, он маленький субъективно, для того, кто живет в нем, имея определенный круг интересов и задач. Ведь ощущенье размеров города складывается вовсе не из его пространственных масштабов, а из легкодоступности расстояний от вас до всех нужных вам мест.
Центральный Лондон, опоясанный своими «сёркусами» — кружочками маленьких площадей; Лондон библиотек, парков, театров, кино, музеев, выставок, вокзалов, названных по имени улиц, и железных дорог, расходящихся прямо с этих улиц во все стороны страны, — он и вообще невелик. Разумеется, для того чтоб ездить на машине, когда приходится объезжать десятки улиц, чтоб попасть на ту, которая для пешехода была бы в двух шагах, эти расстояния требуют времени. Но если вы любите ходить и не жалеете своих пенни на подземку, вы просто не будете чувствовать больших лондонских расстояний. Для меня попадать по два-три раза в день из моего окруженного садами «Аббатского подворья» на Финчлей-род, в самый центр Лондона, казалось гораздо более легким, чем путешествовать с Арбата на Ново-Басманную в Москве, а между тем я в эти «два-три раза в день» пересекала почти всю территорию так называемого «основного» Лондона.
Два слова о метро, которое смыкается в нескольких местах Лондона с электричками пригородного типа. Не стану перечислять таких его преимуществ перед парижским, как изобилье удобных мягких мест и головокружительная быстрота движенья. Но нельзя не полюбить его большой внутренней логики. Спустившись в него хотя бы впервые, вы не можете не найти дороги туда, куда вам надо, и не пересесть именно там и на тот поезд, какой необходим. Вас ведут надписи, ведут бережно, от стены к стене, от поворота к повороту, большие, ясные, вразумительные, иногда помогающие себе цветом («К Паддингтону — держитесь зеленого цвета!»); медленные эскалаторы местами сменяются быстрыми и вместительными, как гараж, лифтами; над кассами написано: «Билеты и информация», — это значит, что, помимо билетов (которые вы можете купить и в удобнейших, выбрасывающих вам сдачу автоматах), вы получаете еще устное разъяснение от кассира; но и этого мало — вам дадут, по вашей просьбе, бесплатно прекрасные маленькие карты-путеводители для автобусов («басов») и подземок. Спускаясь в метро, вы по стенным рекламам узнаете, что и где идет в театрах, если нет времени посмотреть в газетах; можете кое-где зайти и поесть; и, наконец, забежать в «лаватори» — великолепные, вместительные уборные, где за три пенни вы получите миниатюрное мыло с чистым полотенцем, по использовании бросаемым в корзину. Помылись, причесались перед службой, перед театром…
Кстати о картах. Не помню, в каком году можно было купить план Москвы, не говоря уже о планах других городов наших, сейчас наводняемых туристами. А ведь план — великое, первое дело для освоения города. В Лондоне в любом магазине вы найдете не один, а десятки всевозможных планов, вплоть до целого тома, где Лондон разбит на квадраты, с нанесением в них каждой улицы, каждого переулка. Ни разу не пришлось мне за долгих два месяца меланхолически призадуматься над вопросом, «где эта улица, где этот дом»! И так не только в Лондоне. Что уж говорить о городах, если, остановившись в закусочной крохотной деревушки, мы получили от хозяина бара печатный путеводитель по достопримечательностям этой самой деревушки!
Второй решающий фактор в освоении Лондона осознается вами не сразу. Многим из нас, едущим за рубеж, кажется, что надо быть похожим — в одежде, в манерах, в языке — на тех, чью страну мы собираемся посетить; иначе ведь можешь обратить на себя внимание, резко выделиться, даже сделаться предметом шуток в газетах. Так вот, в применении к Англии все это, говоря излюбленными словечками старых английских леди, «фиддльстик энд раббиш» — чепуха и ерунда. Лучшее, что вы можете сделать, приезжая в Лондон, — это постараться быть самим собой, искренне и предельно самим собой: ходить, как привыкли и как вам удобно, говорить своим «честным» английским языком, не стараться мурлыкать и заглатывать слова, фальшиво подражая неподражаемым для вас интонациям, и, что самое важное, не притворяться, не подделываться, не пытаться ассимилироваться, не «казаться», — а быть, просто быть таким, как вы есть. Только тогда, только если вы останетесь самим собой, англичане перестанут обращать на вас внимание, и вы почувствуете себя легко и свободно.
И наконец, последний фактор, с каким вам приходится столкнуться в Англии. Да, на вас не обращают никакого внимания, как и на себя англичанин как будто никакого внимания не обращает, любя свою старую, обношенную одежду, чиня но десятку раз ботинки, ведя себя всюду по-свойски, подчас не совсем дисциплинированно. Приходилось мне иной раз наблюдать, как в помещениях, в метро, в поезде, где написано «не курить», англичанин преспокойно курит; как в садах и парках, где объявляются штрафы за бросанье мусора в траву и стоят корзины для мусора, — англичане кидают мешочки, спички, окурки не в корзины, а на дорожку; вечерний Лондон, когда поднимается ветер, просто пугает вас, словно задворки какого-нибудь строительства, — столько всяких отбросов и бумажек крутится и несется по улице. Но при всем том англичанин сдержан. Он сдержан физиологически, многовековой привычкой подавлять внешние выражения своих эмоций. Особенно стыдится он открыто выражать хорошие, глубокие чувства, пряча их в остроумии, в юморе, для понимания которого нужно быть, впрочем, англичанином и более или менее образованным человеком, так часто прибегает он к литературным ассоциациям и примерам из истории. И в самых типичных описаниях «героя» в английском романе обязательно отмечается у него «юмористический» (хьюмэрэс) склад рта или огонек в глазах. И при этой постоянной внутренней сдержанности, смягченной юмором, вас иногда пугает неожиданная реакция английской толпы — в театрах, в кино, на собраниях — взрывом нервного смеха — не только там, где смешно, а подчас даже там, где не смешно, а трогательно или страшно. Один лондонец объяснил мне, что эта нервная реакция смехом на чувствительное и грустное вызывается напряжением от постоянной выдержки.
Так вот все эти противоречивые качества англичанина, создавшие ему репутацию необыкновенной замкнутости, сочетаются в английском народе с удивительной, сердечной приветливостью. Простые англичанин или англичанка, спешащие по своему делу, никогда не оставят вас на улице в беде. Кондукторша автобуса поможет сесть и выйти каждому пожилому пассажиру. Сосед в театре, в кино, в очереди через пять минут перестает быть для вас чужим, потому что, кроме приветливости, английский народ отличается еще свойством, которое зовут у нас добрым комсомольским словом «компанейский». Англичане охотно и сразу составят вам компанию — особенно когда нужно помочь. Однажды ночью я ехала в Глазго. Нас было восемь человек в купе. Когда все остальные сели, я читала газету и не заметила, одна ли это семья. Молоденькая женщина с грудным ребенком устала его качать и передала соседу, юноше лет восемнадцати, — тот часа два ходил с ним по коридору, укачивая, — и я подумала: «Какой хороший младший брат у нее». Две толстушки, открыв корзину, принялись за еду, протягивая друг другу бумажные тарелки с яствами. «Какие дружные сестры», — подумала я опять. Но потом они стали угощать всех нас, а хмурый старикан, всю дорогу не снимавший шляпы, таскал нам в Глазго все наши чемоданы, и выяснилось, что никто из них никогда до этого друг друга не знал.
Вот эта искренняя приветливость простого народа Британии и создает, как мне кажется, вместо со всеми перечисленными выше факторами, ту атмосферу простоты и удобства, в какой вы начинаете себя чувствовать на английской земле. И уже по-новому начинаете вы глядеть и на этот сомкнувшийся, словно единым строем выходящий навстречу вам каменный фронт своеобразных английских жилищ…
Едва ступила я на британскую почву, как мне пришлось не фигурально, а буквально попасть «с корабля на бал» — на происходивший в те дни в Лондоне двадцать восьмой конгресс ПЕН-клуба, представивший для нас, писателей, немалый интерес.
II. На конгрессе ПЕН-клуба
1
Что такое «ПЕН-клуб»?
Около сорока лет назад английская писательница Эми Доусон открыла у себя в Корнуэлле (западной части Англии) «Клуб завтрашнего дня» для литературной молодежи. Спустя несколько лет она решила превратить его в более широкую организацию и написала об этом Голсуорси. То было начало двадцатых годов; в Англии ширилось демократическое движенье, был жив Уэллс с его интересом к новому социальному устройству людей. Голсуорси ответил: «Все хорошо, что может послужить интернациональному миру, и я приду на ваше собранье». Так родился ПЕН-клуб — союз (по начальным буквам) поэтов, драматургов («плэйрайтерс»), эссеистов, издателей («эдиторс») и романистов («новелистс»). Обратим внимание на место, уделенное эссеистам, то есть мастерам очерка, критических и философских опытов, художественно-исторических биографий. В этом жанре издается за рубежом очень много книг, подчас делающих «большой день» в литературе и не на шутку соперничающих с романами. Что до «издателей», то в капиталистическом мире они нередко поддерживают определенные направления, создают репутацию книги, помогают конгрессам материально. Платформа ПЕН-клуба с самого начала была принципиально «аполитична»: не вмешиваться в политику и «по мере возможности бороться за свободу мысли и писанья». Условия для приема были тоже сформулированы коротко: любая страна, собравшись в числе не менее двадцати квалифицированных писателей, может открыть у себя свой «центр» и просить включить его в международную организацию. Прием происходит, как говорится в уставе, «без различия стран, национальностей, рас и религий». В течение трех десятков лет ПЕН-клуб разросся в организацию, охватившую людей пера со всех пяти частей света; есть в нем и писатели Чехословакии, Венгрии, Польши, Германской Демократической Республики. Таким образом, уже много лет, на ежегодных конгрессах то в одной, то в другой стране, видные писатели почти всего земного шара встречаются друг с другом, обмениваются опытом, решают профессиональные проблемы. Когда я приехала в Лондон, туда уже съехалось много народу из европейских стран, а также из Америки, Африки, Азии и Австралии. Попав в качестве журналиста на хоры знаменитого исторического зала Королевского медицинского колледжа в Риджентс-парке, впервые за все время своего существования допустившего в свои стены «постороннюю организацию», то есть ПEH-клуб, — я в первую минуту поразилась тому, как живо напомнила мне эта пестрая толпа, с мелькающими в пей яркими восточными одеждами, эти деловитые секретарши с кипой бумаг, эти стенды с книгами, а главное — этот знакомый тип труженика литературы, писателя с чем-то трудноопределимым, но безошибочно узнаваемым в выраженье лица, в манере держать себя, — как живо напомнило мне все это наши собственные писательские съезды.
Газеты скупо встретили и очень скудно осветили конгресс. Кое-где с похвалой упомянуто было присутствие среди почетных гостей конгресса итальянца Карло Леви (автора знакомой нам в переводе книги «Христос остановился в Эболи»), приглашение на конгресс немца Бертольта Брехта (создателя нового театра в Берлине и знаменитой оперы, шедшей в Лондоне под названием «Три-пенни-опера», недавно скончавшегося) и еврейского писателя Шолома Аша из Америки. О присутствии на конгрессе писателей из стран народной демократии, сколько мне известно, ничего и нигде сказано не было. Только одна швейцарская газета «Нейе Цюрихер цейтунг» сделала очень симптоматичное заявление. Она упрекнула ПЕН-клуб за чересчур широко раскрытые двери для приема новых членов… Как бы то ни было, от минувшего Венского конгресса данный Лондонский отличали, во-первых, очень возросшее представительство азиатских и африканских стран; во-вторых, исключительное многолюдие за счет главным образом англичан; в-третьих, более близкая к жизни, способная заинтересовать очень широкие круги программа работ. Привожу ее целиком.
«Как писателю установить контакт с современным читателем? Что представляет собою новая публика? Какова роль радио и телевидения? Как представляет себе автор свою моральную ответственность перед публикой? Является ли критика чем-то более нежели «офицером-связистом» (военный термин) между писателем и публикой? Не довольно ли академического критицизма? Требует ли новая публика и нового вида критики? Должны ли сами творцы быть критиками? Чего хочет публика от историка? Насколько далеко может идти накладывание историками своих штампов (паттерн) на историю? Существует ли новая техника для писания биографий?»
К этой основной программе были прибавлены четыре секционных заседания на темы о новой технике в поэзии, новой технике в романе, повой технике связи с массой в радио и телевидении и о важности литературы для меньшинства (то есть для избранных).
Все эти вопросы конгрессу надлежало решить силами большинства, то есть главным образом английских писателей, и решить, следуя уставу, «без политики».
С нашей журналистской голубятни (где и вообще-то сидело человека три-четыре) почти невозможно было разглядеть море голов внизу и лица ораторов. Но я знала, что там, внизу, среди современных английских писателей, у нас почти не переводившихся и подчас неизвестных советскому читателю даже по имени, сидят люди со сложной биографией. Литература, как гребень волны на море, не могла не передавать подъемы и паденья огромного колыхающегося моря всей английской общественной жизни, и в английской литературе за последние сорок лет, естественно, были свои чередования взлетов и упадка.
Вот среди главных устроителей конгресса сидит председатель его финансовой части и организационного комитета Джон Леманн. Когда-то он издавал левый журнал, выпустил в 1939 году брошюру, где черным по белому стоит: «…Падение Австрии и расчленение Чехословакии, с попустительства британского правительства и против воли всего прогрессивного мнения Британии, нанесло удар демократической морали, следы которого можно подметить в литературе; но как бы ни реализовались эти следы сами по себе в ближайшие месяцы, — на перспективный взгляд, на взгляд оптимистический и марксистский, невозможно усомниться в том, что уже видна новая фаза английской литературы, с новым гуманизмом, при котором барьеры класса и расы между писателями должны исчезнуть». Правда, тот же Леманн, разочаровавшись в рабочем движении, объявил в 1945 году, что английская литература возвращается к старой традиции на базе «общего нам всем христианства и классической цивилизации». Но — из жизни, как из песни, слова не выкинешь.
Или вот: среди членов ПEH-клуба, выступавших на конгрессе, — поэт Стивен Спендер и писатель Лртур Колдер-Маршалл, — это участники знаменитого литературного движения тридцатых годов в Англии, шедшего к рабочему классу, поднявшего в стихах новую социальную тему, давшего английской литературе такие пролетарские романы, как шотландская трилогия Грассика Гиббона. Даже почетный гость конгресса, старик писатель Е. М. Форстер, автор когда-то нашумевшего, смелого романа «Поездка в Индию», тоже, несмотря на свой политический либерализм, принял участие в этом левом, пролетарском движенье. Пусть это — в прошлом, пусть сейчас все они отрекаются от этого и общего, и лично своего прошлого, но из их биографии, из истории английской литературы этого всего тоже не вычеркнешь.
Заглянем и в день сегодняшний. Вот седые кудри и энергичное, полное душевной силы и чистоты лицо замечательной шотландской общественницы, драматурга, поэта, эссеиста, датского писателя — Наоми Митчисон, милой Наоми, в чьем шотландском замке я провела незабываемо прекрасные дни, — она оживленно спорит сейчас в группе писателей; ее светлый ум верит в силу рабочего класса, в силу простого народа. Вот небольшая фигурка и острое лицо молодого прогрессивного английского писателя, члена ПЕН-клуба Монтэгю Слейтера — он по-товарищески беседует с делегатом Германской Демократической Республики. Знакомый советскому читателю автор «Дипломата» Дж. Олдридж сейчас в Египте. Но обаятельное лицо романиста Грэма Грина, с его большими, пытливыми глазами много перевидавшего и передумавшего человека, мне удалось мельком увидеть, хотя он не выступал и не ходил на конгресс, а только приехал на банкет. Еще недавно, в конце тридцатых годов, наперекор прогрессивному движению в литературе, Грэм Грин писал остроциничные, полные презрения к жизни и «веры в ад» — веры в конечное торжество зла — психологические романы типа «Брайтонской скалы». Сейчас, после выхода «Тихого американца», он сразу стал предметом оживленных разговоров критики.
И наконец, что же происходит с нашим старым знакомцем, писателем Дж. Пристли, тоже почетным гостем конгресса? (Я все время пишу о почетных гостях, делегатах и членах ПЕН-клуба.) Дж. Пристли снова стал но-литически активен, подобно том дням, когда он выступал как неутомимый оратор в выборной кампании, сражаясь за победу лейбористов. Незадолго до открытия конгресса, 1 июля, в газете «Рейнольдс ньюс» появилась его статья под характерным заголовком «Пробудись, Британия!». В этой статье, написанной смело и сильно, он объясняет сегодняшний духовный упадок и апатию в английском обществе тем, что весь народ в Британии ждал после войны перемены жизни, радикального изменения и улучшения ее. Но этого не произошло, все осталось без перемен, пишет Пристли. И сейчас, чтоб спасти Британию от цинизма, умственной и социальной апатии, он призывает английский народ возродить прежний революционный импульс, утраченный дух самоотверженной инициативы и творческой энергии. «Мы снова в Дюнкерке, но с дырами во всех наших кораблях», — заканчивает свою статью Дж. Пристли.
Глядя вниз, в волнующееся море голов подо мною, я не могла не представить себе всей сложной душевной жизни собравшихся внизу писателей, с их разными вкусами, направлениями, методами работы и — с той школой, какую все человечество проходит без исключенья, — школой жизни. Сейчас, когда конгресс уже окончен, скажу, что он мог бы стать гораздо глубже и интереснее, если б ораторы выступили во всей полноте этого пережитого ими опыта. Но и в данном своем виде конгресс прошел положительно. Он показал, насколько жизнен состав самого ПЕН-клуба. При всем умелом вождении лоцманами-председателями «корабля писателей», вождении, основанном на старой технике политического председательствования — только бы не натолкнуться на подводные рифы, обойти уступы, сгладить маслом остроумия и красноречия всяческое волненье — и причалить в самую тихую заводь, а не к шумным и беспокойным портовым докам, — несмотря на это тонкое искусство председательствования, конгресс все же сделал шаг вперед после Венского прошлогоднего и впервые за все годы существования ПЕН-клуба решился на необычный для него общественный шаг: он обсудил, проголосовал и принял приветствие тем писателям, кто борется против термоядерного оружия и войны.
Вернемся, однако, на нашу журналистскую голубятню, чтоб последовательно рассказать о пятидневной работе конгресса.
В первых речах на официальном открытии было отдано должное литературным традициям Лондона. Среди самых разных имен, начиная с Эразма Роттердамского, Вольтера и Шатобриана, кончая Казановой и сказками барона Мюнхаузена, сложенными в Лондоне, было упомянуто и имя Карла Маркса, но позабыто имя Герцена. Сквозь «бурю и волны» (в эти дни по всей Англии проходили большие грозы с наводнением) приехал на конгресс один из крупнейших современных английских политиков, министр и лорд хранитель печати, Батлер. Усилители доносили наверх, на наши хоры, английскую речь во всем своеобразии ее традиционного остроумия и шутливых приемов. Этими приемами, в сущности, отстранялись от публики серьезные вещи, облегчались глубокие, а любое напряжение снималось шутливой цитатой или пословицей. Вот два примера таких устных приемов английской публичной речи: сэр Гарри Платт, глава медицинского колледжа, в приветственном выступлении сказал о множестве врачей, сбежавших от врачебной практики в литературу. И заключил свою полуминутную речь: «Поэтому, леди и джентльмены, в области изящных искусств в каждой стране вы всегда имеете «своего врача в доме», — намек на шедшую в те дни в лондонских театрах пьесу «Врач в доме». Второй пример: президент ПЕН-клуба, Чарльз Морган, должен был представить конгрессу министра Батлера. Это само по себе дело громоздкое и официальное. Но Морган начал с рассказа о даме, которая схватила его за пуговицу и потребовала объяснить, почему Батлер это мистер Батлер, хотя в то же время он лорд хранитель печати. Как так — мистер, но лорд? И этот чисто английский парадокс послужил Моргану отправной точкой для представления Батлера вместе с шутливым, хотя и вполне серьезным экскурсом в английскую историю. Так вместо направляющей прелюдии к серьезному разговору первые полчаса только развеселили аудиторию, направили ее внимание на пустяки. Эта не случайная тактика «рассеяния вниманья» была повторяема и теми, кто вел конгресс в качестве очередного его председателя. Позднее такие же приемы пришлось мне встретить и в некоторых театральных пьесах, где они часто заменяют действие, и в парламентских речах, где они заменяют вывод.
Мы знаем, какие надежды возлагает сейчас весь мир на возможность мирного сосуществования разных политических систем. Батлер пачал с того, что назвал этот термин «мирное сосуществование» безобразным («агли»). По как бы ни казалось оно ему безобразным, он все же признал его за факт, предложив в конце своей речи писателям ПЕН-клуба, в порядке соревнования, бесстрашно выйти на борьбу «за прекрасное» во всеоружии своих идеологических средств. Между писателями и государственными деятелями, сказал Батлер, то общее, что и те и другие должны постоянно иметь дело с публикой. Контакты с этой публикой у государственных деятелей меняются с каждой эпохой. Выросло число грамотных благодаря законам о всеобщем образовании… И в речи министра проскользнул, как в некоторых других речах на конгрессе, странный для нас оттенок (только оттенок, смягченный оговорками!) страха перед наступлением этих становящихся грамотными масс, будто бы грозящих «снижением стандартов» в искусстве и литературе. Взаимоотношения с публикой стали сложными. «Мы, кто верим в демократию, не принесем добра нашему делу, если станем отрицать, что она временами сопровождалась известной дозой демагогии» — так осторожно выразился английский министр. Коснулся он, как говорится у нас, и «международного положения». В целом, с отдельными профессиональными замечаниями (например, интересной справкой, что сейчас, как никогда, в Англии во множестве издаются и покупаются дешевые издания классиков, и признанием высокой роли переводов в литературе), это была политическая речь, и подход к главной теме, как определил сам Батлер, был у него сделан «с точки зрения английской политики».
Другой оратор, директор «Интернациональной библиотеки» француз Жюльен Кэн, заговорил об огромной помощи в отборе лучших книг для перевода с языков, мало знакомых и не имеющих широкого распространения, и во всякого рода консультации, какая была оказана в прошлом и может быть оказанной в будущем писателями ПЕН-клуба международной организации ЮНЕСКО.
Таким образом, в первый же день торжественного открытия конгресса двумя основными ораторами были произнесены две речи, втягивающие писателей ПЕН-клуба я в идеологическую борьбу — соревнованье с инакомыслящими, и в серьезное деловое участие в политической организации. Мы отнюдь не говорим, что это плохо. Наоборот, с нашей точки зрения, это естественно и неизбежно. Вот только что же остается от первого пункта устава ПЕН-клуба — выключить всякую политику за скобку своей деятельности?
2
Четыре насыщенных дня, с 10 по 13 июля, длилась работа конгресса. Десятки ораторов сменили друг друга на трибуне. И почти каждая речь, о чем бы она ни была — об истории, о критике, о технике нового стиха, о переводах, — острием своим всегда касалась главной темы: отношения писателя к публике.
Новым для нас был самый подход к этой теме. Только однажды — и об этом после — с потрясающей силой показал оратор (и это был индус), что ведь самый акт рождения искусства происходит от двойного процесса: от его создания и от его восприятия народом. Огромное большинство выступавших смотрели на этот «акт восприятия» (второе рождение книги, пьесы, картины) как на акт невольного и неизбежного приспособления творца к массе, где, как в смертельном для искусства парадоксе, решают дело две противоположные вещи: чем больше покупателей (книг, билетов, картин и т. д.), тем прочней материальная возможность творить искусство; но чем шире круг этих покупателей, чем больше грамотных, чем сильней растет в народных массах потребность в искусстве, тем якобы ниже и ниже опускаются его стандарты, тем упрощенней, легковесней, фальшивей становится само искусство. II было странно и тяжело слушать, как бьется, словно бабочка под стеклом, речь подчас умного и талантливого, честного и пытливого писателя под стеклянным колпаком такого искусственного представленья о творце и «публике».
Ответы на главный вопрос конгресса, «как добиться контакта с современной аудиторией и что она собой представляет», давались самые разные. «Читатель и сейчас остался таким, каким был пять тысяч лет назад» (веселый и очень остроумный шотландец, профессор Дуглас Юнг); «Неграмотный народ подчас больше понимает в искусстве, чем люди, научившиеся читать и писать, рост грамотности вовсе не положительный признак в смысле пониманья искусства» (английский писатель В. Притчет); «Публика — это три-четыре тысячи избранных во всем мире, для которых только и нужно писать» (французский писатель, профессор Дени Сора); «Я хотела бы быть писательницей в то счастливое время, когда жила моя дорогая мать… и когда писательницы прятались под мужскими псевдонимами. Публика — это ты сам; удовлетворяй самого себя» (английская романистка Розамунда Ломани).
В этой беспомощности подхода к проблеме «публики» не все, впрочем, падает на политическую ограниченность. Надо ясно представить себе очень большой и очень ощутимый переворот в самой технике искусства, происходящий сейчас в капиталистических странах. С трибуны конгресса его сравнили даже с тем переворотом, какой пережило человечество, когда уникальная книга, рукопись, размножавшаяся от руки в десятках экземпляров, сменилась могучим печатным станком, сделавшим книгу массовой. Сейчас на смену книге, печатающейся в тысячах экземпляров, пришли кино и телевизор, обращенные своим лицом к миллионам «читателей», заменив для этих читателей абстрактную черную букву на белом фоне — движущимся образом, постепенно приобретающим краски, голос, скульптурность и все более широкое поле действия (Парижская и Лондонская синерамы). Но миллионы «читателей-зрителей» в капиталистическом мире — это миллионы фунтов и долларов для предпринимателей и трестов. Превратившись в богатейшую отрасль промышленности, это повое массовое искусство действительно становится все более упадочным и снижающим свои стандарты. Бороться художнику за себя, чтоб воплотить на экране нечто цепное, — значит бороться уже не с издателями, которых в стране сотни и у которых разные вкусы, — не понравишься одному, есть надежда, что найдешь издателя по себе, — а бороться с безликим, всемогущим трестом, с монополией, которая держит в подчинении сотни тысяч экранов и предпочитает быстрей оборачивающееся, полегче воспринимаемое, на дешевку рассчитанное, неизбежно пошловатое всему тому, что выходит из обычного ряда, будит мысль и может оказаться бесприбыльным. Об этой непреодолимой цензуре монополий хорошо сказал на конгрессе американский писатель Эльмар Райс. Но и это еще не вся проблема. Главное в том, что новый вид массового искусства требует от писателя коренной «перевыучки». Законы кино и особенно телевизора совершенно другие, чем те, по которым создается за своим письменным столом рассказ или роман. Без знания особых технических требований нельзя ничего написать для телевизора или радио.
А так как программы телевизионных и радиопередач, по закону частной собственности, не могут составляться в капиталистических странах из того, что уже идет в театрах и концертных залах, а должны состоять только из собственной, для этих передач сделанной литературной и музыкальной продукции, а для создания этой продукции нужны писатели и музыканты, то хозяева «теле» и «радио», монополии и тресты, буквально перекупают писателей и музыкантов у издательств и театров. Они платят им бешеные деньги. Часто лишь на эти деньги (а не на заработок от серьезной книги или музыкальных произведений) может жить подлинный художник. И… получается нечто похожее на поглощение мануфактурой кустарного промысла. Прежний тип писателя, кустаря-одиночки, заменяется типом нового работника-профессионала, в своем роде винтика в огромной индустриальной машине. Это лишь начало процесса. Но так болезненно остро уже чувствуется он в капиталистических странах, что на конгрессе упоминалось о нем почти в каждой речи.
Первый, кому дано было слово в начале делового обсуждения, был писатель Пристли. Он начал с того, что расширил понимание слова «писатель». Он напомнил, как живое слово, задолго до книгопечатанья, было оружием художника, не только писавшего, но говорившего, певшего, — барда, сказителя, сказочника, пророка. Этим расширенным пониманием искусства человеческого слова он целиком оправдал приход писателя в область новой техники выраженья, в кино, радио, телевидение: «Я крепко убежден, что особенно в этой стране (англичане целомудренно говорят о своей родине только такой отстраняющей формулой: «ин тзис кантри» — «в этой стране») мы могли бы иметь лучшее радио и телевидение, если б большее число писателей считало своим долгом научиться использовать новую технику и тем самым найти новую аудиторию; в надежде, конечно, подвести эту аудиторию к более старым искусствам печатного слова и театра». Надо искать публику всюду, где ее можно найти, закончил свою коротенькую речь Пристли. Это была честная речь, поскольку у Пристли слово не разошлось с делом. Опытный романист sa последнее время пошел на выучку в телевидение, две его пьесы передавались во время моего пребывания в Англии («Заключительная игра в Дольфине» и «С тех пор, как в раю») но телевидению.
Пристли сменил на трибуне другой английский романист, Ангус Вильсон, в своих романах сатирически бесстрашно касавшийся многих отрицательных сторон английской жизни. Возражая литературным теченьям и группам, видящим спасенье в уходе от жизни, в том, чтоб искать тему лишь в своем собственном внутреннем мире (а таких течений сейчас за рубежом немало), Вильсон сказал: «Я не верю, чтоб воображение писателя могло перерасти границы общества, в котором он живет. Воображенье писателя прямо питается тем, что его окружает. Стремится ли он в своем творчестве… напасть на общество или принять его, — это полностью личное дело писателя. Но он не может сознательно обойти его, ибо, если он сделает так, он начнет монотонно повторять полученное из вторых рук и, следовательно, второсортное, а это — художественная смерть. Нечто вроде смерти заживо, какую мы наблюдаем в английской драме за последние двадцать лет. Чтоб держать свое восприятие живым, писатель — какую бы особенную и личную форму он ни избрал — обязан быть «включенным» (в общественную жизнь) человеком. Такова первая и абсолютная необходимость для него». Но, сказав эти великолепные слова, Вильсон закончил свою речь тремя предупрежденьями для писателей о том, как и чем могут они погубить свою работу. И все три предупрежденья исходили из неверного пониманья массы как «черни»: масса хочет, чтоб ее учили, — писатель погибнет, начав учить тому, чего сам не знает; масса хочет, чтоб ее вели, чтоб мыслили за нее, но чтоб были при этом на ее уровне, — писатель погибнет, став приспособляться к ней; масса хочет облегченного, хочет смеяться, — и писатель, угождая ей, станет клоуном. Самая страшная опасность для писателя — это «популярное клоунство».
О выступлении американского писателя Эльмера Райса (чья пьеса «Мечтательная девушка» шла в те дни в Ливерпульском театре) я уже коротко сказала. Поднятый им на конгрессе вопрос о цензуре, видимо, ударил по больному месту и был многими подхвачен. Как раз в те дни английские газеты с огорчением писали, что один из лучших английских фильмов «Смайли» (действительно прелестный фильм, снятый в Австралии, с талантливым мальчиком в заглавной роли) был запрещен в Америке из-за того, что в нем действуют контрабандисты опиума, в конце концов пойманные и наказанные. Но по лицемерным законам о цензуре, допускающим в кино циничную порнографию и убийства, слово «опиум» запрещено, и поэтому превосходный и нравственный английский фильм не был допущен на американский экран. На конгрессе досталось и английской «цензуре». В своей короткой содержательной речи англичанин Денис Грэйс Столл между прочим сообщил: «Недавно пещь одного английского писателя, в которой дело идет об африканце, несправедливо обвиненном английской полицией в подрывной деятельности, получила литературную премию. Но вещь тем не менее не была напечатана и премия но была выплачена, потому что издатели пригласили одного отставного работника Скотланд-Ярда высказаться об этой истории, и тот объявил ее «неправдоподобной».
Роль Эльмера Райса на конгрессе не ограничилась, однако, тем, что он поднял острую тему о давлении повой цензуры на совесть писателей — цензуры денежных хозяев Америки. Он на себе показал силу такого давленья. Когда в закрытом заседании конгресса был поднят вопрос о протесте против войны и атомной бомбы хотя бы в форме приветствия тем писателям во всем мире, кто борется в своих книгах против применения термоядерного оружия, Эльмер Райс резко высказался против принятия такого приветствия. К счастью, он остался, при всей двойственности своей позиции, почти в полном одиночестве: приветствие было составлено, проголосовано и принято (пишу по печатным материалам газет, в частности — статье немецкого делегата Бодо Узе, «Зоннтаг», 29 июля 1956 г., Берлин, стр. 7) подавляющим большинством конгресса.
3
Среди всего нового и разнообразного, что говорилось о работе писателя для сцены и экрана, упомяну о крайне интересном сообщении Артура Колдер-Маршалла. Центром его речи, сковавшим внимание всех в зале, было сообщение об использовании в кино так называемого «порога видимости» и «порога слышимости», или по-английски обозначаемого коротким словечком «зрешолд» (the threshold of vision).
«Я не боюсь того, что мы видим или слышим в кино, но радио или на телевизоре, — сказал он, — Но я боюсь того, что слышим и все же не слышим, видим и все же не видим. Вот это — действительно опасно. Много лет назад мне пришлось смотреть красивенький документальный фильм о розовых садах старой Англии. Эстетически этот фильм «вопил». По, странным образом, совсем не розами. Многие из присутствующих пожаловались, что запахло чем-то гораздо более острым — человеческого происхождения. Загадка разъяснилась, когда фильм был исследован на специальном аппарате (movieola). Оказывается, редактор, чтоб удлинить фильм, вставил между каждым четырнадцатым кадром (frame) белый кадр, на котором написал (видимо, ради озорства. — М. Ш.) грубое ругательство, аромат которого и выявился в театре. Мы его видели, но не настолько продолжительно, чтоб узнать, что именно мы видим. Оно существовало лишь на пороге видения. Во время войны британские агенты, обучавшиеся для работы за границей, ложились спать с крохотным аппаратом в ухе, который шептал им, но очень тихо, так, чтоб не доводить до сознания, на языке той страны, где они должны были работать. Звук был на пороге слышания, и они обучались новому языку с удивительной быстротой. Совсем недавно один фабрикант мороженого использовал «порог видения» в кинематографе для своей рекламы, и продажа его продукции поднялась. Эксплуатация порога видения и слышания достаточно устрашающа. Насколько же страшнее возможность использования его бесчестными политиками, если только не сделать наказуемыми невидимые поля видения и неслышимые волны звука»[24].
Практическая эксплуатация подсознания — вот в каких трезвых, материальных терминах говорят сейчас в Англии о том, что еще недавно стали бы называть «мистикой» и «бредом», отмахиваясь от этого, как многие близорукие люди в истории общества отмахивались от новых изобретений. Между тем вещь, о которой заговорил Кол-дер-Маршалл, уже не нова, имеет многолетнюю давность и, конечно, представляет собой сейчас ту стадию вполне материального, доступного человеческому руководству процесса, который может быть в будущем плодотворно использован и в педагогике, и в театре, и в культуре вообще, бросив свет на вполне физиологическую связь того, что мы определяем в человеческом восприятии как область сознательного и область подсознательного. Что это и для самой Англии вовсе не ново, можно извлечь из ее печати. Так, в серьезной «Санди таймс» от 15 июля 1956 года было напечатано в отделе писем к редактору как отклик на ставшую объектом интереса тему:
«Сэр, я очень заинтересован поднятым вами вопросом о «подсознании», потому что около двадцати лет назад я был инициатором почти таких же экспериментов. В то время я был распорядителем общества «Паблисити филмс лимитед», в обязанности которого входило составлять и распространять рекламные и коммерческие фильмы. В начало 1934 года я познакомился на гольфе с молодым человеком по имени Листер. Он подробно объяснил мне свою идею передачи послания в «подсознательную» область человеческого мозга. Он указал мне на разницу скорости схватывания и фотографирования глазом образа и скорости донесения этого образа в мозг, — факты, на которых его тезис базировался. Его спокойное рассуждение и его искренность убедили меня. Я обратился к двум своим коллегам, полковнику Р. С. Бартону и м-ру X. Р. Мак-Лэтчи, и вместе мы согласились вложить в это дело по 50 фунтов. Что явно было нам необходимо — это купить какой-нибудь продукт общего пользования, и, сколько помнится, мы остановились на зубной пасте. Мы заметили, что, даже если ограничить «послание» только тремя-четырьмя кадрами (frame), в фильме все же появляется тень на экране, хотя слова и не могут быть прочитаны; мы сочли эту досадную тень большой помехой, так как ведь рекламы должны были проводиться в публичных кинематографах. Все же восемь человек нашего учрежденья попытались испробовать это (подсознательную рекламу) на нашей маленькой собственной киноустановке. Но надвигались тревожные времена, Муссолини и Гитлер вели свою пропаганду, и страх, что идея Листера может попасть в скверные руки, был очень значителен. В конце концов я заболел и окончательно потерял тогда интерес к своим экспериментам. Мак-Лэтчи, как я полагаю, был последним, у кого осталось на руках письменное изложение идеи Листера, и он, вероятно, передал его в Лондонское агентство печати. Если так, то какая это ирония судьбы, что Британское рекламное агентство свыше двадцати лет обладает открытием, которое сможет измеинть весь метод британской рекламы и оказать самое глубокое влияние на всю цивилизацию — в благом и злом».
Это письмо подписано Ж.-Е. Тернер, и оно не осталось в английских газетах одиноким…
Реальны ли все эти домыслы о порогах подсознания? Можно сказать одно: они уже вышли в Англии из стадии интересных догадок в область технического экспериментирования. И право же, в век, когда человечество разлагает атом, это вхождение внутрь микропроцесса нашего аппарата восприятия отнюдь уже не кажется ни фантастическим, ни мистическим. Советским людям очень не мешает ознакомиться с мыслями и разговорами по этому поводу их собратьев по искусству в Лондоне.
Очень интересно также и то, что говорилось о выросшей активности переводчиков. Усилившаяся роль международных организаций, ведающих делами культурной связи народов, — и местных, подобных Британскому совету или Обществу культурной связи; и интернациональных, Подобных ЮНЕСКО, — не только подняла значенье переводчиков, но и поставила в порядок дня вопрос о точности перевода — точности национально-смысловой, чтоб перевод правильно передавал именно то, что хотел сказать и сказал автор переводимой на другой язык вещи. Мы убедились за последнее время, какой неисчислимый вред приносит неточный (хотя, за неосведомленностью автора в чужом языке, часто даже «авторизованный») перевод, пускаемый в мировое обращенье. Он приносит вред и своим плохим качеством, создающим ложное представленье о художественной ценности оригинала; и своими отсебятинами, неточностями, фальшью, искажающими смысл подлинника; и, наконец, тем, что плохо переведенная книга создает неверную репутацию автору, которую потом очень трудно изменить новыми переводами. Особенно об этом должны подумать мы. Наши советские книги и статьи переводятся большей частью у нас же, в наших, созданных для этой цели издательствах, в ВОКСе, в Совинформбюро и т. д. И часто даже те из нас, кто знает иностранные языки, не имеют времени проверить их.
Англичане любят слово и с величайшим интересом относятся ко всему, что связано со словом, — к словарям, к исследованьям форм языка, к истории развития языка. Оксфордские словари английской фразеологии, современного английского языка — одни из самых дефицитных, быстро распространяющихся и трудно доставаемых книг. «Наш язык» Симеона Поттера, «Словарь современных английских выражений» Генри Ваттсона Тоулера читаются, как романы; и недаром новейшие формы философии в Англии вырастают из толкования различий в применении и значении слов, — правда, философии, при некоторой ее практической пользе, глубоко реакционной. Но там, где речь идет о переводах, эта большая культура слова и активный интерес к языку по-настоящему на месте. Интересно было послушать шотландскую писательницу Наоми Митчисон, говорившую с широким и вольным жестом опытного оратора-общественницы: «Переводы и обмен идеями особенно важны между Востоком и Западом… Некоторые типы идей и положений, хотя и приемлемые в одной культуре, неприемлемы и даже шокируют в другой. Мы имеем вкус к умствующему, сложному, слегка ироническому, шутливому писанью. Это не ценится в очень серьезных странах, так же точно в этих странах не понимается наш тип умалчиванья…» Как пример разного пониманья вещей Митчисон привела «Гамлета»: «В мусульманских странах крайне важное значение придается взаимоотношениям брата и сестры. Поэтому в «Гамлете» положенье «Офелия — Лаэрт» представляется там важнее положенья «Офелия — Гамлет» и пьеса немедленно принимает другой характер». Правильный перевод требует большой культуры, а не только знания смысла слов по словарю, которое часто может подвести переводчика. О том же говорил и английский писатель Лотиан Смолл.
На заседанье, посвященном историкам, был дан бой последователям немецкой школы Ранке, засушившего предмет истории до такой степени, что всякая хорошо написанная книга по истории тотчас же бралась под подозренье как ненаучная. Но и профессиональные историки огрызались, ловя авторов художественных монографий даже с очень большими именами (как Андре Моруа или Стрэчи) на множестве ошибок, искажений исторической правды и попросту на вранье. Досталось все же больше ученым. Кто-то сказал с трибуны в их адрес: «Груда яиц — еще не яичница», а другой оратор, англичанин Б. Лиддл Харт, предостерег от слишком большой фетишизации архивного документа: «Многие бумаги часто составлялись с целью ввести в заблуждение или умолчать о чем-то. Больше того, реальная борьба страстей, происходившая за сценой и широко определявшая принятые решенья, редко когда вообще отражалась в документе». Удивительными для нас по своей наивности были представления ораторов конгресса о развитии исторической биографии. Вместо того чтобы хотя бы вкратце сказать, что сделано материалистами за последние полвека для углубленного понимания социологического фона, на котором выступает личность и который помогает лучше понять ее и ее дело, — члены конгресса окончательно ушли от всякого социального анализа в изолированный внутренний мир личности. По мнению выступавших, шаг вперед сделан только методами Фрейда и Пруста, то есть проникновеньем в родовое и в индивидуальное «подсознанье» человека.
И все же голос историка-марксиста прозвучал в эти дни, хотя, к сожалению, и не на конгрессе. Вышла новая книга Джэка Линдсея «После тридцатых годов. Британский роман и его будущее». Сам член ПЕН-клуба, заглянувший мимоходом и в зал медицинского колледжа, и к нам на хоры, Джэк Линдсей, к сожалению, не выступил на конгрессе. Но его книга именно в эти дни дала, в сущности, ответ на многие вопросы повестки дня, оставшиеся неотвеченными.
В этой умной, с марксистских позиций написанной книге Джэк Линдсей напоминает, что такое «английская публика», вернее, английский рабочий люд и как установить с ним контакт. И сразу рассеивается созданное многими ораторами смутное представленье о темной, чуждой искусству толпе, снижающей своим низким культурным уровнем стандарты литературы, театра и музыки. В книге приводится несколько ярких фактов, о которых странно было запамятовать творцам искусства. Годы войны, Лондон иод бомбами; старый, прекрасный театр, классически исполняющий Шекспира, «Олд Вик», выгнан бомбами из с в сито здания. И он уходит из столицы со всем своим коллективом — в народ, в индустриальные города Англии, где каждое представленье Шекспира воспринимается благоговейно и с величайшей благодарностью рабочими-зрителями. Странствующие группы актеров и музыкантов дают концерты в церквах, под открытым небом, на деревенских площадях. В один только 1943 год состоялось 4449 таких концертов.
Критик Скотт Годдард писал об этом: «Вся музыка этих концертов состояла из прекраснейшего в музыкальной классике. Аудитории явно наслаждались этой музыкой. Что происходит сейчас в деревнях и на фабриках, превращается в одно из крупнейших популярных движений нашего времени. Стыдно сказать, что понадобилась война для того, чтобы оно началось». В одном из официальных рапортов рассказано, как в Портсмуте дали Пятую симфонию Сибелиуса, «крепкий орешек и для натренированного уха». Что произошло? «Степень концентрации вниманья была так велика, что почти непереносимо было наблюдать ее…» Рядом с тем, кто писал этот рапорт, «стоял обыкновенный, простой матрос с лицом, испещренным шрамами, и с узловатыми руками. Глаза его были мокры от слез… Он никогда не слышал оркестра и сейчас не мог оторваться от него». На заводе исполняют Баха, и опять рапорт отходит от официального отчета в живую взволнованную речь: «Кто сказал, что Бах скучен? Они просят еще и еще…» Как знакомы эти страницы нам, пережившим начало революции и первое приобщение нашего народа, кронштадтских моряков, петербургских текстильщиков к массовому искусству, к величию серьезной музыкальной классики! То же самое случилось в сердце Англии в тяжелые дни войны, и писатели, собравшиеся на конгрессе решать вопрос о контакте с публикой, забыли упомянуть, что дал когда-то самим творцам, артистам, поэтам, музыкантам настоящий, глубокий контакт с родным народом!
Но я буду неправа перед читателем, если ограничусь лишь тем, что успела сказать о конгрессе ПЕН-клуба. Было и там событие большого творческого порядка. Один из его делегатов, индийский писатель Бинод Рао, произнес с трибуны замечательную речь.
Связь с публикой, сказал Рао, не начинается с написанья книги и не кончается ее выходом в свет. Она — в подготовке книги и в ее обращении. Она родится в опыте и наблюденье, и если слова не передают читателю того, что пережил и перечувствовал автор, — они мертвы. Один индийский трактат говорит о трех путях связи. Первый путь — путь власти; это приказ. Второй путь — дружбы; это убеждение. Но третий путь — самый верный; это женский: путь любви. Существует такая вещь, как давать и брать, — и можно «вести», в то же время и «следуя», и давать, получая. Пусть лучше писатель «оседлает мула искренности и простоты, чем взберется на высокого коня туманной глубины». И не надо показывать свое знание за счет незнания своих читателей, «надо писать о вершинах, но не с вершин». В наши дни есть только две причины для писателя, не сумевшего понять свою публику. Одна — интеллектуальный снобизм, другая — умственная лень. Новый мир обрушился на писателя, традиции отступают, старое общество ушло, контуры нового еще не ясны. Огромное количество использованных слов, мифов и образов отнимается у нас, как старый инструментарий, и мы должны искать новые слова для обозначения новых вещей. Степень успеха, которого может достичь писатель на этом пути, во многом определит будущее демократических учреждений.
Я привела лишь узловые мысли из этой речи, сказанной не очень громко и не быстро. Оратор был далеко внизу; голос его не поучал, не настаивал, он — обращался к нам. Индийский писатель говорил, делясь и общаясь с теми, кто сидел в зале, словно осуществляя третий путь подхода к людям — путь любви. И если разложить его речь на заключенный в ней простейший смысл, — казалось бы, он не сказал ничего нового, ничего особенного. Но вместе с его речью в зал ощутимо вошло то, над чем думал весь конгресс, — вошла масса, слушатель, человеческое восприятие, та сила, в которой свершается второе рождение создаваемого искусства и без которой оно мертво. К нам наверх передалось волненье тех, кто сидел в зале. Позднее Наоми Митчисон призналась мне: этот индиец один сказал, что нужно.
И здесь мне хотелось сказать несколько «самокритичных» вещей. На большом поле битвы, где мы принимаем сражение идеологическим оружием слова, мы видим лицом к лицу очень сильного противника. Для того чтоб заставить слушать и помочь услышать ту большую правду нового человечества, во имя которой трудились мы четыре десятка лет, надо хорошо подготовить наше оружие — слово. Чтоб показать образ человека нового мира, настоящего, глубокого, думающего человека, нельзя прятать его за словами о возросших тысячах тиражей. Бинод Рао начал свою речь с примера: когда статистика сообщает, что в Индии триста тридцать миллионов населения, — это одно. А когда поэт Бендре говорит об этом же в поэме, где мать-Индия думает, простирая руки, о своих трехстах тридцати миллионах детей, — это другое. И страстно хотелось, чтоб речь о нашей большой новой правде могла прозвучать в этом зале с той же силой переживаемого творческого волнения, с той же чудной силой художественного воздействия, с какой сумел выступить посланец Индии.
Конгресс кончен. При всех его недостатках, при отсутствии многих крупных писателей из Франции, из Америки и даже из Англии, это был в целом интересный и содержательный конгресс. Новый президент ПЕН-клуба, мягкий, красноречивый французский писатель Андре Шамсон, подводя его итоги, не упомянул о том, что он был значительно более широким но теме и прогрессивным по принятым решениям, нежели прошлогодний Венский конгресс. Но при своем твердом решении быть лоцманом тихого плаванья и вести три года корабль ПЕН-клуба между рифов и отмелей всяких опасных вопросов, решительно не допуская политики, Андре Шамсон все же произнес замечательную фразу:
«…Но мы живем в мире, и мы не можем закрыть окна до такой степени, чтоб время от времени сильные ветры из внешнего мира не проносились через залы, где мы заседаем. Проблемы, стоящие перед всем миром, будут стоять время от времени и перед нами; и я не верю, что, какова бы ни была наша бдительность, мы сможем помешать дыханию этих ветров проноситься над нашими головами». Нельзя не почувствовать признательности к тому, кто все же произнес эти живые слова. Надо ли людям искусства бояться вольного ветра? Дыханье сильных ветров современности, дыханье исторической жизни народных масс но разорвет, а только наполнит паруса кораблей мировой литературы!
III. По городу Лондону
1
Время с весны по август называется в Англии «сезоном». Это — пора наводнения Британских островов иностранцами. Приезжие переполняют гостиницы и шоссейные дороги, поезда и пароходы по Темзе, по Клайду. В период «сезона» вы можете охватить нею театральную и художественную жизнь Англии за целый год, без риска упустить что-нибудь существенное. Вы можете в этот период сполна насладиться прекрасной музыкой и на фестивалях по многим городкам и местечкам, и в необъятном круглом зале Альберт-холла на тысячи сидячих и стоячих мест, где происходят любимые лондонцами «промс», променад-концерты. Вы можете… если только удастся вам в это время найти себе комнату в гостинице по вашим средствам.
Но в этом сезоне 1956 года, незаметно для иностранцев, прозвучала над праздничной по-летнему Англией совсем не музыкальная пота. Родилась она в субботу 14 июля в Ланкашире. Ее не все услышали надлежащим образом, — хотя в том, как довели эту «нотку» до слушателей воскресные газеты, было уже нечто обращающее на себя вниманье тех, кто умеет прислушиваться к пульсу жизни… Нота, о которой я говорю, прозвучала в очередной речи английского премьер-министра, произнесенной в Ланкашире. Одна воскресная газета привела ее своими словами, сопровождая цитаты из речи комментариями, и получалось так, что премьер-министр благодарит судьбу за ослабление одной угрозы — угрозы войны — и призывает бороться со следующей угрозой — угрозой надвигающегося обеднения Англии — инфляцией. Другая газета поступила по-иному. Под устрашающим крупным заголовком «Британия под угрозой постепенного обнищания» она привела жирными буквами вразрядку полную цитату из речи Идена: «Пока ослабевает угроза войны, все яснее вырисовывается другая угроза. Мы в тисках борьбы с инфляцией. Это — новая битва Британии, но на этот раз она не может быть выиграна «немногими». Мы все в ней, и от ее исхода зависит будущее наших очагов, наших заработков и наших детей». Тут, как видим, не одна угроза сменяет другую, а, наоборот, ослабление первой угрозы как бы усиливает вторую, делая ее более заметной. Тем самым внушается естественная мысль, что ослабление возможности войны, ведущее к уменьшению военных заказов и к сокращению людей в армиях, влияет на усиление инфляции, увеличивая безработицу, сокращая производство… А для Англии ничего нет страшнее этого. Фунт, могучий английский фунт пошатнулся, он грозит падением — вот что прозвучало под воскресенье, когда англичане отдыхают, из Ланкашира. Эта речь, оставшаяся почти не замеченной вне Англии, была, в сущности, подготовкой к суэцким дням, к позиции, занятой консерваторами, — к отчаянной борьбе за сохранение власти путем незаметного слияния двух понятий — спасения Британии и правоты консервативной партии, защищающей политику войны, — в нечто тождественное.
Эта, приглушенная воскресеньем, ланкаширская речь помогла мне лучше понять не только «суэцкие дни», пережитые мною в Англии, но и многое такое на лондонских улицах и проезжих дорогах Британии, мимо чего легко можно пройти не задумываясь.
Узенькие улицы Лондона имеют ту особенность, что их еще более суживают стоящие в ряд по обе их стороны автомобили. Они не просто остановились у какого-нибудь аншлага, преградившего движенье, они не стали на минуту-другую в ожидании хозяина; нет, они находятся в прочном состоянии «паркинг», то есть заперты на ключ, без шоферов, без хозяев, потому что за недостатком гаражей этими гаражами сделались обе стороны улицы, где «паркинг» позволяется. Невольно вы задумываетесь: а что же дальше будет, если количество частных машин возрастет, в чем жизненно заинтересованы и автомобильная промышленность, и торговцы автомобилями? Улицы тогда вообще станут непроезжими? Не оттого, что машины запрудят их в движении, а оттого, что улицы — артерии города — превратятся в стоянки, в склеротические узлы. Я привела этот лондонский парадокс потому, что он предваряет собою другой, гораздо более трагичный. Машина может хоть притулиться на улице, ей позволяют. Ну а что же делать человеку, что делать хотя бы тем шестидесяти трем тысячам семейств в большом городе Бирмингеме, которые лишены крыши над головой?
Третьего августа английские газеты писали о частном собрании в Бирмингеме под председательством епископа, где решено было обратить «биг эпил» — громкий призыв — к частным лицам и организациям, чтоб помогли, приютили — кто, где и как может — эти шестьдесят три тысячи бездомных бирмингемских семейств. Частное собрание и частные лица — потому что правительство помощи тут не оказывает. А разъезжая по старинным городкам Англии, которые могли бы целиком превратиться в музеи, бродя по лондонским улицам, где так много пустующих домов с надписями «продается», «сдается», — вы наталкиваетесь уже не только на трагедию человека без дома, но и на трагедию дома без человека — чудесного, сказочного дома, иной раз построенного в эпоху Чосера, видавшего его пилигримов, дома, похожего на пряник, с переплетами стен, резною дубовой дверью, — и надпись умоляет вас купить его, ведь «можно получить большие барыши от превращенья его в исторический бар…». Но домики стоят, как невесты без жениха. Хочется крикнуть: да возьмите безлюдные дома и бездомные семейства и разрешите проблемы одним ударом, как знаменитое Колумбово яйцо!
Впрочем, в эти же дни я была свидетельницей новых трагических противоречий. Продающиеся дома, и какие дома — с парками, лесами, озерами, картинными галереями предков, дома-замки, построенные в эпоху короля Якова, короля Георга, королевы Виктории и вниз по нисходящей в глубь времен, — вдруг находили себе женихов. Долгие годы хозяева этих замков, потомки семи-восьми поколений герцогов и баронов, кое-как содержали свои махины, пуская в них бесчисленные толпы туристов, собирая по полкроны с каждого за вход. Но вот и это уже невмоготу. Замок с портретами предков продается. Покупатель нашелся. Казалось бы, все в порядке. Но когда богатый американец (а эти замки почти всегда покупаются американцами) купил в Ирландии историческое поместье лордов Кенмар, заключающее в себе знаменитые Килларнейские озера, — эта покупка тоже переживалась почти как трагедия: смогут ли новые хозяева сохранить исторические ценности, позволят ли народу в их родной стране любоваться на их собственные, несравненные по красоте озера? И в «Таймс» был помещен снимок с этих озер, грустный и поэтический, как нежное сочетание звуков их ирландского имени.
Иностранец, приехавший провести «сезон» в Англии, не чувствует всех этих противоречий. Редко, редко, когда жизнь доносит их до него в простой фразе, да и то, впрочем, не каждый из них поймет ее. Однажды я услышала, как заезжий турист, плененный английскими шоколадками (действительно превосходными, их можно получить в каждом автомате по шести пенсов за штуку), сказал своей собеседнице, немолодой женщине, учительнице средней школы в пригороде Лондона: «Какой дешевый у вас шоколад!»
«Для нас он не дешев», — тихо ответила ему учительница.
Шесть пенсов — полшиллинга — это реальная сумма в английском трудовом бюджете.
2
Очень давно в каком-то романе я прочитала о странном английском путешественнике, затосковавшем на чужбине по… площади Пиккадилли. Не по зеленым английским лугам, не по родному дому, даже не по родному городу, а только но одной площади города.
И вот я на Пиккадилли, когда еще не потемнело небо над Лондоном. Дождик, на который здесь никто не обращает внимания, не падает, а стоит в воздухе тысячью бисеринок, словно пыль. Сквозь дождик дрожат, светятся, играют огненно-цветные рекламы на узких домах, обступивших небольшую площадь. Посередине ее взвилась на одной йоге маленькая каменная фигурка крылатого бога любви, Эрота. День еще держится где-то над крышами, а тут бегают зеленые, красные, синие буквы, вертятся ослепительные колеса, качает кто-то взад и вперед желтый маятник. Вы недоумеваете, что же тут такого, о чем мог тосковать странный англичанин? По проходит день-два. Падает на улицы двойной свет сумерек. И вы вдруг чувствуете, что вас тянет, неудержимо тянет не на «собственную», уже совсем «домашнюю» Финчлей-род, не на спокойную Трафальгар-сквер с ее голубями, садящимися вам на плечи, не на важный безлюдный Странд с первыми отраженными в Темзе огнями, не в прохладу зеленых английских парков, — а в светящееся колесо Пиккадилли, в толчею ее тротуаров, в трепет ее дождика и ее огней, похожих на легкие прикосновения крыльев ее каменного божка.
Не знаю, почему это так. Может быть, потому, что вокруг Пиккадилли или поблизости от нее собрались лондонские театрики, клубы, кино и вам есть куда заглянуть, чтоб не быть одному в короткие лондонские вечера. Ведь не успеют выглянуть из-за туч звезды, отзвонят своим мелодичным звоном десять ударов часы, — а уже умолкает и засыпает город, торопятся последние автобусы, последние вагоны метро… Лондонцы рано ложатся спать.
Если судить по тому, что сами англичане говорят и пишут о своем театре, он пот уже двадцать лет как «деградирует». Заглянув в еженедельники программ, где коротко, в двух строках, рассказывается о содержании идущих пьес, вы почти готовы согласиться с ними: «Дом у озера» — гипнотизер и его сестра убивают своего брата; «Правдоподобная история» — три пожилых чудака всю жизнь ждут наследства от старого папаши, упуская самое жизнь; «Ночь четырех» — сыщик находит на месте убийства кровавые отпечатки собственных пальцев; «Мышеловка» Агаты Кристи — о сумасшедшем, забравшемся под видом сыщика в одинокую гостиницу во время снежных заносов, — эта пьеса, кстати сказать, идет в театре «Амбассадор» бессменно с 25 ноября 1952 года! Пьеса о судебном процессе офицера подводной лодки, незаконно отнявшего командование лодкой у капитана, заболевшего паранойей, — действительное происшествие во время войны; еще пьеса «тетки Агаты», как непочтительно называют вечерние газеты Агату Кристи, и еще одна этой «тетки» (я насчитала пять ее пьес по городам Англии), и так далее и тому подобное. Но забудем на минуту эти анонсы и все прочитанное и услышанное, чтоб судить собственными глазами.
Не считая ни Королевской онеры («Ковент-Гарден»), ни заезжих гастролеров; не считая и близлежащих театров в Кройдоне, Уимблдоне, Ричмонде и прочих городках-пригородах, вы можете посмотреть в Лондоне пятьдесят разных спектаклей в пятидесяти разных театрах. И хотя в каждом из них обычно идет только одна пьеса, идет иной раз и дважды в день, лондонские театры чаще всего полны — не до аншлага, но достаточно, чтоб актеру видеть перед собой зрителя.
Как только вы входите (часто — спускаетесь вниз по ступенькам) в первый попавшийся вам театрик, вас встречает особый мир, совсем не похожий иа наш. Никто не требует, чтоб вы сняли пальто, — хотите, идите в раздевалку — снять; хотите, сверните его и суньте себе под кресло. Никто не отбирает у вас портфелей, если случится вам прихватить их с собой. И почти ни в одном театре, к сожалению, не возбраняется курить в зрительном зале. На афишах, после всех обычных перечислений, вы всякий раз читаете: «Этот театр дезинфицирован такой-то жидкостью». В антракте, сидя на своем месте, вы можете заказать себе чай или кофе, и официантка приносит его на подносе, как в ресторане, с кексами и сандвичами. Во время спектакля вы можете посасывать мороженое, преспокойно бросая и бумажку и стаканчик себе под ноги, на пол зрительного зала… И при всем перечисленном почти каждый английский театр похож на бархатную ложу, так он мягок, затянут коврами и плюшем, чист и аккуратен, словно в первый день творенья, изящен, построен со вкусом; и вы отдыхаете в его мягких креслах (англичане любят везде — в трамвае, в официальных местах — сидеть на мягком), вы тешите и успокаиваете глаза на его приглушенных красках — темной в бархатном «Кембридже», светлой в бархатном «Пиккадилли»…
Но вот раздвигается занавес. В противоположность покою и красоте, в которых вы как бы тонете на два часа спиной и локтями в комфорте и роскоши театрального зала, — перед вами экономия и бережливость на сцепе, относящаяся и к декоратору, доводящему со вкусом и чувством типичного до минимума декорации; и к постановщику, помнящему, что он создает текучее театральное представление, а не лавку древностей, музей или чудеса астрономического календаря; и, наконец, к костюмеру… Костюмы некоторым театрам ссужаются крупными фирмами примерно так, как они ссужаются моделям; в афишах напечатано: такой-то костюм дала такая-то фирма — и реклама подобного рода выгодна и фирме и театру. Главное, что дается вам со сцены, — это актер и его игра. Если вы смотрите обычную английскую комедию из жизни среднего или высшего класса (а это случается чаще всего), вы словно подняли крышку частной квартиры и заглянули внутрь — так все это похоже на всамделишное. Актеры почти но гримируются, жесты их естественны, — центр тяжести спектакля не в этой отполированной и нивелированной группе людей, играющих лицемерную и благовоспитанную семейную среду, а в тексте, какой они произносят. Авторы таких комедий изощряются в остроумии, носящем салонный оттенок, — так повелось еще со времен Оскара Уайльда. Вы смотрите не действие, а искрящийся фонтан диалогов и монологов, брызги которого заставляют хохотать весь зал. Среда английских комедий утомительно однообразна; она почти не дает актеру создать интересный образ. Но там, где дается иная среда, вы наблюдаете не только интереснейший спектакль, но и заинтересованный зрительный зал, как это было на битком набитых, ярких спектаклях в театре «Комедии» на «Трех-пенни-опере», по знаменитой оперетте Бертольта Брехта из жизни нищих. И там, где актеру дается хоть маленький шанс по-серьезному поработать над образом, отыскав для него индивидуально-типические черточки, — перед нами настоящий хороший спектакль.
Силу актерского мастерства можно было увидеть на таком примере. В «Пиккадилли» много месяцев подряд с успехом шла комедия «русского лондонца» (из второго поколения эмиграции) Петра Устинова — «Романов и Джульетта». Этот спектакль был, в сущности, самым острым среди английских комедий. Раздвинулся занавес. Я увидела живописную площадь южного городка, напомнившую мне что-то из «Королей и капусты» О’Генри. Слева от нее, в двухэтажном разрезе дом советского посольства; справа, в таком же разрезе, посольство американское. Сюжет прост: сын советского посла Игорь (житель верхней комнаты с балконом) влюбился в дочь американского посла Джульетту (жительницу верхней комнаты с балконом) вопреки разнице мировоззрений и общественной структуры. В столице маленького государства создалось положение чуть ли не шекспировской Вероны. Жена американского посла не может вынести даже мысли о браке дочери вне церкви; отец Игоря, советский посол Романов, скорей даст себя на куски разрезать, чем пустит сына венчаться в церковь… И на этом гротескном сюжете актеры сумели тончайшей деталировкой образов (без грубого шаржа) создать типы. Не знаю, может быть, английская печать, именуя пьесу сатирой, хотела увидеть сатиру на наших людей. Но сатиры не получилось. Сквозь всевозможно смешное и забавное, сквозь элементы итальянского «травести», комедии масок, черточки «ревю» и фарса, — правда живого образа подчинила себе талант актеров. Таким пустым фанфароном вышел американский посол при всей его изящной выдержке. И таким бесконечно милым вышел Игорь с его напряженным, серьезным лицом, переживающим муки противоречия между марксистскими взглядами и любовью, таким славным сердитый советский посол в пиджачишке, — что симпатии публики сразу пошли налево. Дело в том, что, как ни крути, переживания левой стороны сцены зиждились на идейной, принципиальной основе, на убеждении; а переживания правой стороны — на форме, приличии, «что подумают окружающие», — и реальная суть самого положенья продиктовала актерам и детали в подаче образов… Кстати о чисто постановочных деталях. При высокой культуре игры актеров, при наличии у англичан такого блестящего знатока сцены, как Гордон Крэг, юбилей которого отмечался всеми газетами как раз в дни моего пребывания в Англии, — английские постановщики по части «русских мизансцен» до сих пор не ушли от развесистой клюквы. Что уж и говорить о самоваре и красной суконной скатерти в комнате советского посла; но неподалеку от «Пиккадилли», в театре «Сэвиль», шла, и превосходно шла, чеховская «Чайка»; исполнение удовлетворило бы самого Чехова; но зачем же, зачем же, господин Майкл Мэкован, позволяете вы кипарисам расти в русском поместье, а длинному английскому огурцу очутиться в руках у русской барыни! Актриса держит его, как мы держим банан, а потом вдруг — по-английски — отрезает от него кусочек, держа его все еще в руках, и кладет этот кусочек себе в рот… Ничтожная деталь, но она сразу придала очень серьезной и глубокой игре оттенок комического: ведь нет же таких огурцов у нас и не отрезаем мы от него кусочки таким воздушным способом!
Особенность английской театральной жизни — это частные или клубные театры закрытого типа, куда нельзя, как обычно, зайти и купить билет, а надо получить для этого рекомендацию члена клуба или самому стать членом. Такие театры в Лондоне наиболее интересны и свежи; там играют любители искусства, играют для себя и своих, часто экспериментируют, борются с салопным репертуаром открытых театров, ставят острые и прогрессивные пьесы. Замечателен в этом отношении театр «Уоркшоп», созданный Жоан Литтлвуд. Когда я была в Лондоне, в нем шла пьеса ирландца Бехана «Квер Феллоу», написанная нм о себе самом; он создавал ее в тюрьме, приговоренный к восьми годам заключения за участие в ирландском освободительном движенье. Под давлением общественности власти отпустили его из тюрьмы — присутствовать на премьере своей пьесы о себе самом и смотреть на сцену, где была воспроизведена тюремная обстановка. Но театрики эти большей частью бедны, и то один, то другой из них закрываются из-за недостатка средств.
Кроме комедийных театров (их большинство), я в первые же дни пошла на оперу. Мне удалось увидеть в «Ковент-Гардене» спектакль незабываемей силы — «Волшебную флейту» Моцарта. Надо сказать, что Моцарту вообще посчастливилось в Англии. Много опер, давно нигде не ставившихся, например «Идоменей»; огромное число концертов, прошедших по всем большим городам; «полное собрание» его фортепьянных вещей в дивном исполнении недавно скончавшегося Гизеринга, выпущенное фабрикой рекордов (так называют здесь пластинки), не говоря уже о многочисленных книгах, об издании избранных инеем Моцарта в популярной серии «Пингвина», — все эго стало доступно английской публике в течение юбилейного моцартовского года.
«Ковент-Гарден», великолепный большой театр, мерцающий своей приглушенной роскошью, повторяет в большом масштабе те же черты и обычаи, какие видишь в маленьких театриках. Вы можете, сидя в глубине, подальше от сцены, сунуть пальто под кресло, — только в первом ряду, где обычно сидят декольтированные но грудь английские семидесятипятилетние стройные леди, вам лучше быть в вечернем платье, — да обязательный во всех театрах Англии, исполняемый или до, или после спектакля государственный английский гимн (его надо слушать стоя) звучит здесь с наибольшей торжественной полнотой оркестрового исполненья. «Волшебная флейта» — сложный по своему сюжету спектакль; его можно подать как сказку — эффектно постановочно; его можно подать социально, как борьбу светлого дня добра с ночным мраком зла; по «Ковент-Гарден» подал его как оперу, то есть как музыку Моцарта, — в исполнении прекрасно звучавших, культивированных хорошей школой приятных для слуха голосов. И музыка сама сказала вам все, что могли бы сказать хитроумные постановщики. Музыка лилась во всем ее щедром богатстве, поднималась из оркестра под жезлом чеха-дирижера Рафаэля Кубелика, пелась певцами, настоящими певцами с настоящими голосами, доставляя наслажденье слушателям (о чем частенько сейчас забывают многие оперы в мире!). «Ковент-Гарден», несмотря на материальные трудности (переживаемые сейчас в Англии почти всеми видами искусства), не боится обновленья репертуара: так, в будущем году он собирается показать лондонцам грандиозную пятиактную (6 часов исполненья!) оперу Берлиоза «Троянцы».
Чтобы вникнуть в тот кризис драматургии, о котором так часто читаешь в английской печати, и постараться представить себе пути выхода из него, нужно раздвинуть пределы Лондона, раствориться по всей зеленой Англии, охватить всю ее — и крайний западный башмачок «конца страны» (Лэндс-Энд), где на берегу океана под открытым небом расположился Майнакский театр; жемчужину архитектуры на востоке страны, город Кентербери, с его историческим театром Марлоу; и другой исторический театр — Шекспира, в Стрэтфорде-на-Эвоне; и курортный городок в графстве Глочестер — Челтенхэм, и многие другие города и местечки… Потому что в создании культурных ценностей английские малые города и местечки издавна играют не меньшую роль, нежели Лондон.
IV. По зеленой Англии
Еще Карел Чапек в своих замечательных письмах об Англии писал про добрый обычай англичан ходить по траве в лондонском Гайд-парке. Но можно ли считать это скромное городское удовольствие достаточным вознаграждением за то, что вся остальная зеленая Англия, ее пленительные волнистые луга, ее кудрявые рощи, ее осененные плакучими ивами озера, ее лесистые холмы заперты от пешехода заборами, заборами, заборами? Можно часами ехать по Англии в машине и любоваться ею из окна. Можно ехать и поездом и тоже любоваться ею. Но попробуйте остановиться не на станции, а в понравившемся вам месте, попробуйте захотеть босиком пройтись по бархатному лугу, пойти поудить с удочкой у поэтичной лесной речки, — вы до них не дойдете. По обе стороны шоссе — колючая, серьезная изгородь. И если вы вздумаете перелезть через нее, вы предстанете перед уголовным судом. «Треспассинг» — заход в чужое владение — исключительно английское выраженье; для него в нашем языке нет передачи в одном слове.
А между тем англичанин, тот, у кого нет своей земли за городом, любит траву, деревья и воздух страстной любовью. Нет для него лучшего отдыха, как провести две недели, месяц — под дождем, солнцем, на холоде, на жаре, на ветру — на самой настоящей зеленой траве, не отделенной от ваших подошв никаким полом. И для этого, словно в противовес уникальному «треспассингу», существует тоже уникальное английское слово, не поддающееся переводу: «кэмпинг». Захватив с собою палатку, котелок, все необходимое для вольной жизни, англичанин едет куда глаза глядят, останавливается, где понравилось, и просит у владельца этой части английской природы разрешения на «кэмп», то есть по-цыгански раскинуть шатер, где ему понравилось. Подобно тому как в английском уголовном праве существует наказуемость за самовольный заход на чужую землю, в неписаных английских традициях существует закон гостеприимного разрешения таких «кэмпов». И вот загорелые, полуголые, полуодичалые люди бегают утром за водою к речке, разводят костер, устраивают игры, что-то вообще делают «на природе», аккуратно подбирая свой сор и не нарушая ни тишины, ни покоя владельцев. Сколько таких бесконечных «кэмпов» перевидала я по всей Англии, исколесив ее вдоль и поперек!
Театральный и музыкальный сезон, привлекающий массу иностранцев на Британские острова, происходит совсем не только в Лондоне или даже почти вовсе не в Лондоне — он вспыхивает прославленными ежегодными фестивалями — театральными, музыкальными, спортивными — то в одном городе, то в другом, не совпадая в сроках, чтобы любители могли поспеть всюду и пересмотреть одно за другим. И эти большие народные празднества, обычно в огромной степени зависящие от самих зрителей, создаются на добровольные пожертвования и членские взносы местных жителей, интеллигенции, городских властей и всевозможных обществ.
Как ни прекрасен Кентерберийский собор сам по себе, я запомнила его не в его одиноком архитектурном совершенстве. В моей памяти он встает длинной, уходящей ввысь серой колоннадой, сплошь заполненной сидящими за узкими пюпитрами людьми, притихшими — не для молитвы; по спиральной лесенке поднимается на дубовую кафедру бесконечно знакомый, в рамке седых кудрей вокруг бронзового лица, в черной священнической одежде настоятель собора Хьюлетт Джонсон; он взошел на эту кафедру последний раз за лето, перед своим отъездом в Китай. Короткое слово настоятеля — и под сводами Кентерберийского собора, давшего свое имя первому камню в здании английской классической литературы — «Кентерберийским рассказам» Чосера, — раздаются звуки оркестра, подхваченные хором, — это исполняются едва ли по лучшие вещи Брамса, которые так трудно где-нибудь услышать, — его «Реквием» и «Рапсодия для альта». Я ездила в Кентербери из Лондона еще несколько раз, чтобы послушать величавую «Мессию» Генделя и повидать в шоколадном «Театре Марлоу», похожем на деревянную коробочку-раскладушку, замечательный спектакль под странным названием «1066 и все такое» («1066 энд ол зет»).
Старинный обычай — создавать «рождественские представленья» (наши русские «скоморохи») — во многих странах растворился в искусстве современной сцены до полной его неузнаваемости. Но в Англии он сохранился и в своем особом жанре, и в лучших постановках для «открытых театров», и живет в самом Шекспире. Несколько англичан — драматург, музыкант, поэт и два автора забавного английского учебника истории, а также и режиссер-постановщик — повинны в создании этого необычайного спектакля, дающего в острой сатире, в красочном гротеске музыкального «ревю» двадцать шесть сценок (при смене свыше двухсот костюмов) основных событий английской истории с ее незапамятной старины и до наших дней, нет, дальше — до будущих ее дней. Спектакль был впервые создан в Бирмингеме в 1934 году как «рождественский». Он имел громадный успех — англичане по-настоящему любят посмеяться над самими собой — и тотчас начал обходить другие города как своеобразный ежегодник. Сейчас он дошел и до города Кентербери, где мне удалось не только пережить его, но и передумать. В центре этой «исторической сатиры», начинающейся со времен римской колонизации Англии, стоит «средний человек», безобидное существо, которое меньше всего хочет творить историю, а попросту жить и «жить давать другим». Но события неизменно втягивают его в свое колесо, пока наконец этот бедный «коммон мэн» но оказывается последним в Англии пешеходом. Есть в английском городском быту хорошая вещь — так называемая «зебра»; крупная, черная с белым, полосатая дорожка пересекает улицу в местах наиболее опасного движения. Если вы попали в разгар движенья на эту «зебру», вы спасены, — никто не смеет вас переехать, весь транспорт останавливается справа и слева от вас. Так вот, последний в Англии пешеход, «средний человек», забирается в энные времена (еще не наступившие), спасаясь от истории и своего участия в ней, на «зебру» и остается на ней сидеть. Щепетильный английский закон ничего не может с ним сделать; полицейский и кондукторша тщетно усовещивают его. Он не двигается, он съежился на «зебре», история вокруг него остановилась… И публика хохочет и бешено аплодирует в зале. Надо сказать, что тема «среднего человека» была в это лето очень в ходу в Англии; о том, что такое «средний класс» и чего он хочет, происходила даже целая философская дискуссия в серьезных английских газетах.
Два слова надо сказать здесь о том, как живет дух Шекспира в стране Шекспира. Не было ни одного города на моем пути по всей Англии, где не шел бы Шекспир в театре или на экране. II только в одном мосте я была разочарована… в Стрэтфорде-на-Эвоне. Да не обидятся на меня хозяева этого знаменитого городка и Шекспировского театра в нем, — они сделали все, чтоб прославить своего великого соотечественника и себя вместе с ним! Тысячи и тысячи посетителей ежегодно с благоговением посещают Стрэтфорд, ходят по шекспировским улицам, заходят в музеи, в таверны, покупают сувениры и, наконец, смотрят шекспировский спектакль. Но вот я увидела в Стрэтфорде «Венецианского купца». Это был как будто превосходный, изящный спектакль, и артисты играли с тем совершенством игры, именно игры, в ее традиционном, выдержанном жесте, в ее выразительном, скандированном слове, во всей ее удивительной многолетней школе, что, кажется, нечего добавить к ней, — нечего, кроме жизни. У актера, игравшего Шейлока, исчезла вся страстная политичность, человечность его роли, — остались только декламационное слово и традиционный жест.
Чудесные актеры вырастали или выступали на стрэтфордской сцене, такие, как Невил, Скофилд, Оливье; по они находили себя и свой собственный стиль игры вне Стратфорда, а чаще всего — в замечательном лондонском «Олд Вике», где Шекспир — живой, огненный, удивительно современный и даже злободневный. Многие писатели, делегаты ПЕН-клуба, расходясь из «Олд Вика» после «Ричарда III», говорили: «Вот это да! Написать такую вещь почти в эпоху, когда это происходило, не боясь никакой цензуры, — какая смелость! Местами так остро, что кажется — это самый современный спектакль на современной сцене». И львиная доля такого яркого впечатленья — именно от жизненности игры Невила и других актеров.
Один из крупнейших английских музыкальных критиков как-то сказал мне со вздохом: «Жалко, что ваше министерство культуры приглашает к себе не то, что действительно характерно для нас, для нашей музыки, нашего искусства; не лучшее, в чем мы сами видим свои достиженья, свое будущее, а подчас совсем не показательное для Англии». Он, может быть, прав, но сам же и виноват в этом, потому что и его перо — авторитетное перо — нередко участвует в хвалах официальному и не решается высоко поднять молодое и прогрессивное. Я побывала на «фестивале современной английской музыки» в городе Челтенхэме возле Глочестера. К числу самого лучшего и интересного, что я видела в Англии, что уже с блестящим успехом показало себя в такой экспансивной стране, как Испания, и что очень легко было пригласить к нам по числу занятых в нем человек (4–5), принадлежит так называемая «Интимная опера», гвоздь челтенхэмского музыкального фестиваля. Создатель и директор «Интимной оперы» — молодой английский композитор Антони Хопкинс, автор многих очаровательных песенок, аранжировок народных английских песен и танцев, музыки к пьесам Бернарда Шоу, Петра Устинова, вещиц для кларнета, спинета, скрипки, нескольких прелюдий и сонат — с удивительным вкусом и терпением подобрал себе коллектив для подлинно культурной борьбы за воскрешенье национальной и мировой классики и против крайностей музыкального модернизма там, где он переходит все границы выносимого. До чего дошли эти крайности на Западе, можно представить себе хотя бы из факта «механического создания музыки», где бездушно используются уже самые законы музыкального творчества. В газете «Стар» 10 августа было напечатано: «Мозг робота создает музыку. Электрическая машина Иллинойского университета (в Америке) сочинила классическую сюиту в трех частях для струнного квартета… Первое исполнение этой «Иллиак-сюиты», сочиненной высокоскоростной счетной машиной, будет дано в Чемпэйн, Иллинойс…» Так вот, в эпоху, когда классические основы музыкальной композиции, превращаясь в математический код, отнимаются у мысли и воображенья человека и отдаются на мертвую игру бездушной машины, — борьба за человечное начало в музыке требует не только таланта, но и остроумия, находчивости, изобретательности. Нельзя было не восхищаться в Челтенхэме, как неистощимый талант Антони Хопкинса, разыскивающего и воплощающего в маленькие, десяти — пятнадцатиминутные или получасовые оперы забытые тексты классиков, легко втягивал самую разную публику — с подчас уже испорченным вкусом — в наслаждение настоящей, прекрасной музыкой. С тремя-четырьмя актерами-певцами А. Хопкинс поставил уже немало таких опер. Мне удалось побывать на «Дон Кихоте» Перселла, на остроумной пародии радио- и телепередач «Кухонной опере» под музыку «Нормы» Беллини и, наконец, на острокомичной сатире самого А. Хопкинса «Вызов в десять часов», пародирующей какофонию ультрамодернистов, но пародирующей не грубо, а с удивительной тонкостью и самой музыки, и текста. И если на двух последних операх все зрители неудержимо хохотали, то на «Дон Кихоте» Перселла глубокое, благоговейное молчание стояло в зале: только три актера (Дон Кихот, Санчо Панса и Дульцинея-Альдонса) вместе с чистой, как лесные колокольчики, музыкой английского классика показали нам покоряющую мощь высокой человечности, сумевшей в смешной оболочке убедить, уверить, покорить скептический «здравый смысл» в лице простоватой крестьянки и плутоватого Санчо.
Нет, театральное искусство Англии живо, театральная культура ее — на большой высоте. И она легко победила бы пошлятину салопных пьес, воцарившуюся в лондонских театрах; победила бы и «делающую миллионы» тетку Агату, вернув ее от теперешней бесконечной халтуры, в которой тонет английский зритель и читатель, к умной и тонкой продукции прежней, еще не совращенной Агаты Кристи; она победила бы и крайности модернизма в музыке, режущие нормальное человеческое ухо, если бы прислушалась к потребностям своего народа и если бы английская критика, умная и сведущая на детали, серьезная и честная, когда она описывает и комментирует, но совершенно не способная или не желающая обобщать, выделять, звать, направлять, — если б эта критика создавала успех для подлинного в искусстве и помогала отвращаться от халтуры и пошлости. К сожалению, внимательно читая по шесть-семь газет и журналов в день, я всякий раз чувствовала эту стоячую воду в раковине, это отсутствие проточной струп, имеющей направленье, — эту упорную, мнимо объективную «статику» английской критики, не желающей бороться и давать направленье, — за исключением статей в «Дейли уоркер».
А ведь английское искусство живет именно там, где оно связано с народными традициями массовых представлений, — на открытом воздухе, в маленьких клубных и грандиозных «природных» театрах, в своих фестивалях, где ничего нет ни музейного, ни антикварного, несмотря на всю их традиционность, потому что зрелища эти для английского народа — их сегодняшний день, их современность. И надо говорить о падении салонной городской драматургии, об измельчании драматургической темы в Англии, указывая выход для ее высокой театральной культуры в служении народу и в поисках современной жизненной тематики.
Как ни мал этот остров, а и в нем есть свои национальные различия, свои особенности в говоре, навыках, культуре. Житель Уэльса, житель Корнуэлла отличаются и друг от друга, и от английского «мидлэнда». Из живописного Соммерсета, с его знаменитыми Чеддарскими пещерами, через узенький прибрежный Девон я ехала в Корнуэлл — в каменный театр на уступах Порткарно, где среди остатков римских колонн, на фоне сверкающего океана должна была быть премьера «Скалы́ Логан», корнуэлльской оперетты, написанной Инглис Гандри на сюжет корнуэлльских сказок и легенд. Такие естественные каменные театры есть и в Чехословакии, в природном театре Локете, где мы наслаждались великолепной «Либушей» Бедржиха Сметаны. Но здесь, в Корнуэлле, декорацией был океан, красочными эффектами были его темные волны, исчерченные белыми молниями беспокойных чаек. И главное, здесь был Лэндс-Энд, «конец страны», последняя ступенька зеленой Англин на крайнем ее западе — с земли в океан, — мечта всех туристов, сумасшедшее место для любителей «кэмпа», чьи шатры сгрудились на зеленой площадке мыса, как семейство больших круглошапчатых опенков.
И вот я стою под дождем и ветром на скалистом мысу, среди сотен коричневых камней, дыбом громоздящихся друг на друга, перед безбрежной водяной ширью «двух морей», охватывающих этот узкий клочок земли с двух сторон, — на последней или на первой пяди английской земли, и жирные белые чайки вьются вокруг меня с криком. Так холодно и так прекрасно здесь, где все оставлено в его диком и первобытном виде, что мне хочется в этом гулком шуме прибоя услышать тост морских воли: «Здорового будущего всему, что есть здорового и честного в Англии!»
Сентябрь 1956 г.
V. Об английском кино Размышления писателя
1
Даже при очень небольшом практическом знакомстве с массовой продукцией французской, итальянской, американской кинематографии мы хорошо можем представить себе их характер и отличие друг от друга. Как ни парадоксально звучит это, но малое знание массовой продукции этих стран не мешает, а скорей помогает нам в данном случае, потому что, желая определить для себя возможности и как бы увидеть в одном образе лицо киноискусства каждой из этих стран, мы обращаемся мысленно к тем немногим картинам, которые смогли посмотреть и которые, как правило, принадлежат к лучшим образцам кинематографии данной страны.
Возьмем «Скандал в Клошмерле», одну из удачнейших кинокартин французского производства. Можно, ничего другого не увидя, сразу представить себе «почерк» французской кинематографии, ее неподражаемый характер. Почему? Потому что в создании этой картины главным фактором были галльский ум, галльское остроумие, тот скепсис с оттенком превосходства над вамп, а в то же время и грусти, какой бывает подчас у старика, знающего жизнь, но потерявшего силы для жизни и чуть завидующего, чуть сострадающего молодости, — это типичное выражение галльского «esprit» (непереводимо!) во французской литературе, графике, музыке, живописи, разговоре, даже самом характере сегодняшнего разговорного языка, даже в выражении лиц умных французов. У нас есть необыкновенно удачный советский фильм «По дорогам Франции», где оператор сумел уловить и передать это выражение в глазах у французских художников на Монмартре. Увидя их профили и это мгновенно зафиксированное на экране выражение, вы безошибочно про себя определяете, что перед вами типичные французы.
Мало того, по одному только фильму «Скандал в Клошмерле» вы неожиданно чувствуете себя в состоянии судить о важнейших проблемах связи специфических приемов современной литературы и современной живописи — со специфическими приемами кино как такового в данной стране, в данную историческую минуту; иначе сказать, вы понимаете, насколько синтетично и поэтому особо национально это, казалось бы, наиболее интернациональное из искусств — искусство кинематографии. И больше того, именно исходя из впечатленья, полученного вами и постепенно разрастающегося, вы вдруг начинаете лучше и яснее понимать и отрицательные особенности киноискусства другой страны, американского.
В самом деле, если и синтезируется что-нибудь в лучших американских картинах, то, скажем, музыка одной европейской страны со стилем виртуоза другой страны, с манерой живописать третьей страны и литературой четвертой страны, сдабриваемыми типично американским деляческим подходом к концу и началу сценария и к выбору деталей (не тонко, а броско, не углубленно, а захватывающе, не «долгим разговором», а без долгого разговора).
На западном киноискусстве больше, пожалуй, чем во всякой другой области культуры (кроме науки), сказывается американский способ продуцирования силами стягиваемых со всех концов света гастролеров — умение зазвать к себе, перекупить, создать условия, заставляющие работать на Америку, и т. д., — постепенно денационализирующий американскую кинематографию. Вот почему вы тоже легко можете представить по двум-трем боевикам лицо этой кинематографии, отражающей не столько состоянье собственной национальной литературы, собственной национальной пластики, собственной национальной музыки, сколько конгломераты множества различных, взятых напрокат культур, с одним безошибочным американским оттенком — высокой техники, высокого темпа и высокого понимания практики.
В Италии, разумеется, есть массовая коммерческая кинопродукция, рассчитанная на нижесредний уровень зрителя. Мы ее, к счастью, не видим. Но когда произносят слова: «лицо итальянской кинематографии», мы все тотчас вспоминаем «Похитителей велосипедов» и ряд других превосходных картин блестящих итальянских режиссеров, сумевших вырвать куски жизни из ее слитного потока, сделать живое человеческое лицо из народа интересней лица актера, представить жизнь, как она есть, обогрев ее лишь небольшой дозой художественной условности, необходимой для сюжетного закругления «натуры». Можно любить или не любить эту прогрессивную итальянскую кинематографию, но она двинула киноискусство вперед, она заставляет мыслить и переживать, она, несомненно, носит глубоко национальный характер и отражает определенные тенденции в развитии не только других итальянских искусств, но и всего итальянского общества в целом.
Но если так определенно чувствуем и судим мы о киноискусствах Франции, Италии и Америки, то в отношении английского кино ни в печати, ни в устных разговорах по приходилось читать и слышать что-либо определенное, что-либо похожее на точный суд и точное представленье. Какое у него лицо? Есть ли сейчас это лицо? Что думают о своем киноискусстве сами англичане?
Как это ни странно, английская печать как будто ищет ответа на такой вопрос не у себя, а у «иностранцев», то есть хочет увидеть себя со стороны, чужими глазами, чтобы почувствовать, имеется ли, и какой, в каком направлении, органический процесс в ее киноискусстве последних лет. И это тем удивительней, что именно в Англии появились и появляются отличные теоретические исследования о кино, переводились и переводятся книги других народов, огромным вниманием пользуются также и советские киноработы Эйзенштейна и Пудовкина, переведены и хорошо читаются их книги[25].
Так, в «Ежегоднике британского фильма» за 1949–1950 годы Оливер Белл, член фильм-комитета при Британском совете и одна из ведущих фигур в вопросах образовательной и воспитательной роли кино, пишет, например:
«Мне часто сообщают посещающие нас иностранцы, что, каковы бы ни были другие добродетели или падения британского фильма, он несомненно завоевал за морями репутацию своими историями (то есть талантом рассказчика, умением строить сюжет. — М. Ш.) и манерой, в которой они разрабатываются»[26].
Здесь дается, в сущности, первый ответ на вопрос: каковы особенности и каково лицо английской кинематографии. Но и вся статья Оливера Белла настолько интересна для нас, что я приведу для читателей еще несколько рассуждений из нее, не потерявших своего значения, как мне пришлось лично убедиться в Англии летом 1956 года, и для наших дней.
Оливер Белл во всей статье откровенно высказывает свое отрицательное отношение к Голливуду и дает попять, насколько влияние этого последнего гибельно для британской кинематографии. Он откровенно радуется и тому, что после войны это влияние идет на убыль. В довоенное время, пишет Белл, «наше обезьянничанье (aping) с американцев было так велико, что наши картины, как это всегда бывает с копиями, были еще хуже оригиналов…»[27]. Основное, в чем это обезьянничанье проявилось, была подгонка игры актеров под монотонию «звезд». Звезда, star — этот нерв голливудской кинематографии — диктовала и тему и сюжет фильма, воспитывая актера не на создании различных образов, а на бессмысленном и непрерывном повторении на экране самих себя, уча смотреть не фильм, а любимую звезду, с каким кушаньем ее ни подай, публика все съест, — таковы, по убеждению голливудских дельцов, запросы массовой публики.
«Качества «звезды» могут быть притягательными для миллионов, но не для интеллигентного меньшинства. И я глубоко убежден, что сегодняшний вкус последнего будет завтрашним вкусом первых. Я надеюсь, что нам никогда не придется быть вынужденными забыть о сюжете (plot) в угоду красивому личику. А тем самым мы подходим к проблеме характеризации. Я ставлю гораздо выше актера или актрису, способных играть разнообразные роли, а не только стереотипную личность, под которую мастера Голливуда подгоняют тех, кого они предназначают быть звездами… В общем, я думаю, что английский актер или актриса куда более разносторонни (versatile), чем их американские коллеги, хотя и не так совершенны, как их европейские соперники. Но это могло бы быть достигнуто тренировкой…»[28]. Оливер Белл отнюдь не слеп на достиженья киноискусства в странах народной демократии и там, где и когда может, открыто признает их организационные преимущества. Ему пришлось, например, узнать от директора венгерской Академии драматического искусства, что «фильм» преподается в этой академии оба первых года, при трехлетием курсе обучения, — и ему хотелось бы организовать нечто подобное и в Англии. Признает он и тот факт, что «экран» есть средство для передачи идей и должен «рождать мысли», что, впрочем, сейчас ему «почти не разрешается делать».
Эти правильные рассужденья кажутся нам азбучными, но при всей их умеренности и скромности они выражают почти революционный протест прогрессивной части английского общества против американского влияния.
Критика того, что мешает развиваться английской национальной кинематографии, у Белла сочетается и с позитивным представлением о будущности английского фильма. Он с увлечением рассказывает о группе молодых английских кинорежиссеров, создавших «документальный фильм» и обращающихся к живой натуре вместо условной игры актера. Он видит и растущие черты национальности английской кинематографии.
«Я большой поклонник новой британской школы создания кинофильмов. В течение войны, как мне кажется, мы открыли тот жанр фильма, который подходит к нашему национальному темпераменту. Я думаю — неоспоримый факт, что, если б от большей части наших картин отрезали титулы и звуковую часть, в них все равно можно было бы признать английские фильмы…»[29]
Но в чем же эти национальные особенности? Самой опасной вещью для фильма, говорит Белл, является слабая тема, — при слабой теме фильм с первых же кадров обречен на фальшь. Flo даже и при наличии хорошей темы, фильму необходим «крепкий сюжет», или, как Белл выражается, «крепкая история» (strong story). А именно в ней-то и заключается, по его мнению, подкрепленному и вышеприведенным мнением иностранцев, самая сильная сторона английской кинематографии.
Итак, крепкая история, то есть хорошо, с крепкой завязкой и неразрывным чередованием кадров в развитии сюжета, сделанный рассказ. Англичане в литературе — непревзойденные рассказчики, их авторитет как увлекательных романистов высоко стоял в XVIII и XIX веках. Да и сейчас вы не сможете, например, раскрыть любой из «коротких рассказов» Соммерсета Моэма, начать его читать — и бросить, не закончив. Не знаешь, в чем очарованье этих необыкновенно живых, очень простых по форме рассказов, лишенных всякого намека на ту формальную новизну и ломку языка, ту вошедшую сейчас в моду английскую кокетливую городскую скороговорку, когда проглатываются отдельные слова и сокращаются слоги. Соммерсет Моэм классичен, речь его течет без суеты и фокусов, он еще весь в русле XIX века, и новизна его скорей в том лирическом раздумье, в том одиночестве авторского «я», которое отчасти роднит его с нашим Чеховым. Но у него нет ни одного рассказа, который не был бы «крепкой историей», то есть не представлял бы собою острого развития — действия, приходящего к концу. Вот почему, может быть, очень много рассказов Соммерсета Моэма сейчас в Англии экранизированы и экранизируются.
Но английская «крепкая история» имеет свои два полюса, свои «хорошо» и «плохо», которые со стороны тоже, пожалуй, более заметны, чем дома, на взгляд самих англичан. Прежде чем сформулировать эти «хорошо» и «плохо» английского национального фильма, каким он обещает быть, я расскажу одну такую английскую «крепкую историю» на экране, к сожалению, у нас ни разу не показывавшуюся, но, на мой взгляд, как и на взгляд всех советских людей, видевших эту картину за рубежом, представляющую собой одну из самых приятных, трогательных и хорошо сделанных кинокартин в мире. Не знаю, когда она была сделана. Сейчас, когда мир стареет с невероятной быстротой, и произведения искусства проходят словно тени, одно за другим, напоминая двустишие Низами Гянджеви:
Там в небе сидит скоморошник-ловкач — И дергает сцену за сценою вскачь…Сейчас, может быть, это и очень старый фильм, но он, как мне кажется, не устарел и не устареет, подобно хорошей сказке. Называется этот фильм «Лэсси возвращается». В титулах идет, как обычно, список действующих лиц, а за ними — имена актеров. И только одно последнее имя заканчивает этот список без расшифровки, двумя словечками: «And — Lassy» — «И — Лэсси»…
Лэсси — собака, шотландская колли, — играет сама себя. Мы видим белый фермерский домик, спальню мальчика, с головой закутавшегося в одеяло, — он спит. Внизу, в столовой, шотландская овчарка — с длинной, умной мордой и длинной желтой с белым шерстью — глядит на часы: время идти в школу. Она бежит по лестнице и будит мальчика. Но ему хочется спать, он сердито отталкивает собаку и натягивает одеяло на голову. Собака беспокоится. На минуту она присела, дав ему еще вздремнуть, но потом решительно стягивает с него одеяло. Шутки плохи, теперь нужно вставать. Мальчик одет, позавтракал, бежит в школу; Лэсси заботливо несет за ним ранец с книгами. Четыре часа. Собака опять смотрит на часы и порывисто выбегает из дому. Она сидит в ожидании перед дверями школы. Выходят ребятишки. Идет и мальчик. Он знает, что верный друг тут, поблизости. Лэсси берет из его рук ранец и, весело виляя хвостом, скачет вперед. Но родители мальчика в беде: им никак не справиться с арендной платой, а сосед, богатый помещик, давно уже заглядывается на Лэсси: он разводит породистых собак. Родители долго оттягивают сделку, пока в отсутствие сына не продают собаку. Помещик увозит Лэсси в своем шарабане. Мальчик пришел из школы растерянный — он долго ждал собаку, но его никто не встретил. Узнав о продаже друга, он не может есть. Проходят день-два, тоска все сильней. А Лэсси у богатого помещика — за решеткой. Густой лай — это в таких же клетках соседи ее, всех пород и возрастов. Лают, но слушаются дрессировщика, худого сердитого парня со стеком. Лэсси не лает. Дождавшись, когда никого нет, она устраивает побег: несколько раз тренируется в прыжке, покуда не перелетает комом через высокую ограду и стремглав мчится домой. Встреча двух друзей. Разозленный помещик приезжает за беглянкой. Лэсси опять в клетке. Вторая попытка к бегству: уже не прыжок, а подкоп. Лэсси перелезает через вырытую яму — и опять дома. На этот раз мальчик решает спрятаться с ней от родителей в пещере. Они сидят там, крепко обнявшись, но оба невеселы; оба понимают, что это — ненадолго. Родители находят мальчика. На этот раз Лэсси увозят за тридевять земель.
В Шотландии — выставка породистых собак. Помещик везет туда своих лучших псов, в их числе и Лэсси, и сам осматривает их вместе со своей маленькой чернокудрой дочкой по прибытии на место. Хорошие, по-разному стриженные, разномастные псы. Обозленный тренер — парень, вообще не очень любящий свое ремесло и собак, — бьет Лэсси палкой на ученье. Лэсси на этот раз избирает самый простой способ: поворачивается спиной к своему мучителю и со всех йог удирает. Куда? Домой — по собачьему нюху. Но между ней и домом сотни английских миль, реки, горы, леса и скалы, заливы и тони. Все путешествие умной собаки проходит на экране, как и ее нарастающее истощение. Вот она переплывает залив, — кажется, ему не будет конца. Мокрая, одичалая, отощавшая, она пробирается по скалам. Шерсть ее слиплась, нога изранена, собака хромает, она несколько дней не ела. Она но играет, не «представляет», — она переживает все всерьез. В страшную грозу и бурю, окончательно подломившую ее силы, Лэсси, издыхая, падает на чьем-то дворе — и тут слабо подает голос. Лэсси визжит. Она просит о помощи. В домике живут старик и старуха. Они зажигают фонарь и ночью выходят на стон. Перед ними окровавленным комком, вытянув лапы, лежит умирающий пес. Старики вносят его в жилую горницу, обогревают, сушат. Выхаживают Лэсси — и вот она уже поправилась, опять распушилась. Лэсси — благодарная собака, ей жаль уходить от стариков, привязавшихся к ней. Новые хозяева души в ней не чают. Но старушка приметила, что в четыре часа пес начинает повизгивать, он глядит на часы, бежит к запертой двери, скребется, потом опять смотрит на часы, потом, видя, что дверь заперта, садится и тихонько скулит. Старики понимают — это намять о прошлом, о чем-то утраченном, прерванном на пути к дому… И надо отпустить собаку домой.
Утром они выводят ее за калитку и отпускают. Лэсси уходит не сразу. Вот она побежала, остановилась, обернулась, тихо подползает к новым хозяевам, снова прощается и машет хвостом и, наконец, бежит. И Лэсси опять добегает домой, но исхудалая, всклокоченная, непохожая на себя. А помещик давно вернулся и с дочкой опять заявился к фермеру. Он убежден, что эта проклятая собака снова у старых хозяев. И в самом деле — за дверью у них, несомненно, спрятана собака. Но тут, потрясенные верностью собаки, родители мальчика решаются на ложь. Они говорят, что это другая собака, не Лэсси. Тогда помещик посылает свою дочку поглядеть и проверить. Девочка узнает Лэсси, встречается глазами с глазами мальчика, поднимает свои на отца — и отвечает, что это не Лэсси. Между тем злой парень-дрессировщик явно не по душе помещику — он портит собак. И помещик на его место приглашает безработного, обнищалого отца мальчика. Последние кадры фильма: английский парк, чудная дорожка. По ней катят на велосипедах чернокудрая девочка и белокурый сын фермера. А за ними — раздобревшая, расчесанная, солидная — преданно бежит Лэсси. Но и это еще не все — за Лэсси вдруг вываливается на экран кучка кувыркающихся, уморительных, породистых колли — ее щеняток.
Фильм смотрится с тем отдохновением, когда двух-трехчасовое внимание приносит не усталость, а как будто освежает и снова мобилизует вас на работу. Так действуют народные сказки. И с удовлетворенным вздохом, с теплотой на душе вы покидаете кино. «Собака сыграла человека, — сказал мне один из советских людей, смотревших фильм, — а иной актер-человек и собаки порядочно не сыграет!» И это было правдивое резюме картины; собака сыграла человеческую верность и преданность, преодолев все поставленные перед ней силки и препятствия.
Но… я сказала, что у «крепкой истории» (а «Лэсси» — это крепкая история на экране!) есть свои «хорошо» и «плохо». Всякое совершенное действие в настоящем рассказе-сказке должно свести начало и конец в закругленное целое, то есть дать окончание. Именно в наличии непременного «окончания» и заключается основная сила крепкой истории, а между тем в жизни окончаний не бывает, есть только концы, точки, прекращенья, обрывы. Но «окончание» — это собственность искусства, собственность художественной формы, то «закругление», создаваемое произвольно, в элементах искусства, на основе законов эстетики, а не жизни, когда вы ухом своим слышите музыкальную коду и знаете, что форма идет к завершению, она вбирает все целое и разрешится гармонией, топикой, она стремится к разрешению, как ручей к реке, река к морю, море к океану, с неизбежностью печного закона, хотя бы каприз художника вдруг остановил ее на пути в этом стремленье. «Окончание» (не конец!) истории — это всегда как в сказке — «жили-были, добра наживали, и я там был, мед-пиво пил, по усам текло — в рот не попало». Сказка! Условное окончание всеобщего благополучия, то, чего хочет душа, хотя и знает, что оно побежит по усам, не попав в рот, — то, чего никогда в жизни не бывает и что поэтому недействительно, неправдиво, засахаривает, лакирует, подкрашивает реальное бытие. В сказках добро побеждает зло, как маленький лорд Фаутлерой — своего сварливого милорда-дедушку, но в той же сказке английский парень-тренер, измочаленный на довольно бесперспективной должности дрессировщика собак, остается все-таки, как бы он ни был «несимпатичен», без работы. И, в сущности, линия этого самого «злого парня», остающегося без работы, и есть единственная реальная линия в крепкой истории фильма, — единственная, кроме Лэсси. Собака была вне экрана и вне искусства, она жила своей горячей, естественной жизнью в искусно созданных, но для нее реальных положениях.
Вот «отрицательный» полюс превосходных английских картин; их еще очень мало, прибавлю сюда снятый в Австралии фильм «Смайли» о веснушчатом мальчугане, нечаянно разоблачившем контрабандистов. Крепкие, увлекательные истории, со вносящими естественность и природу детьми и животными, с превосходными актерами (я не согласна с Беллом, что английские актеры «уступают» своим европейским коллегам, — на мой взгляд, это лучшие сейчас в Западной Европе и Америке актеры!), но с фальшивым благополучием окончанья, какого не бывает в жизни. Фильмы-сказки, как и сама народная сказка, имеют, конечно, право на бытие, они нужны человечеству как хлеб, потому что люди хотят благополучного окончания. Нет его в жизни, — пусть хоть экран утешит душу. И отвергать хорошие «крепкие истории» английских доброкачественных фильмов только потому, что они обваливаются в условность при окончании, никак не следует. Но люди хотят не только отдыха и утешения. Все сильнее и сильнее становится тяга настоящих людей к той полноте правды искусства, какая отражает действительную жизнь, жизнь, выпадающую на долю вам, мне, ему, ей. Англичанам трудно, по самой консервативности и ортодоксальности их природы, выйти из условностей искусства, условностей, смягченных и сглаженных для них постоянной прививкой юмора — этого шута шекспировских пьес, вносящего в высокий стиль условностей прозаический здравый смысл. Англичан очень тянет к себе и опыт Эйзенштейна в советском кино двадцатых годов, и резкий скачок итальянского кино с камерой в гущу жизни, где есть только «продолжение» и никогда нет окончанья. Но уж очень редко удавался им самим такой же скачок, для этого они слишком традиционалисты.
Впрочем, именно в Англии, в английском фильме, по всей вероятности бессознательно для постановщика, а может быть, и полусознательно для актера, удалось совершить этот скачок, не разрывая рамок условной «крепкой истории», а наоборот — с точностью воспроизведя ее. И тут я вижу в будущем новый путь для английской кинематографии, вполне национальный и неподражаемый для других. Для того чтобы показать этот возможный путь (он заложен, по-моему, в глубокой актерской трактовке роли), я расскажу о втором английском фильме, снятом сравнительно недавно, года четыре тому назад.
2
Из всех романов Диккенса именно «Записки Пиквикского клуба» меньше всего подходят для экрана. Они были написаны молодым Диккенсом, привыкшим иметь дело с газетой, с малым объемом однодневных скетчей; они писались от выпуска к выпуску, нанизаны из отдельных приключений, вставных новелл, остроумной хроники, вроде выборов в Итонсвиле или военных маневров в Рочестере. И связаны между собой только нитью дороги — дороги веселого путешествия по веселой старой Англии.
Но с течением времени самое молодое творение Диккенса сделалось самым зрелым. Образы, созданные им, выросли в типические, а смешные и трогательные сцепы наполнились ароматом «дней минувших». Старая Англия, ее города и усадьбы, проезжие дороги и трактиры, балы и свадьбы, суды и тюрьмы — все это, пронизанное светлой мыслью и мягким юмором Диккенса, сделалось знакомым для читателей обоих полушарий. И когда сценарист и режиссер Ноэль Лэнгли приступил к экранизации самого трудного романа Диккенса, перед ним встала задача: передать не только роман, но и то, что сделало с этим романом историческое время — Время с большой буквы. Справился ли Ноэль Лэнгли со своей задачей? И как?
За день до выхода «Пиквика» на лондонский экран, 13 ноября 1952 года, газета «Таймс» писала: «Его (Лэнгли) задача выбора, перед тем как начать крутить фильм, была и сама по себе достаточно трудна; а после начала съемки он был поставлен лицом к лицу с дальнейшими трудностями». А после того как фильм уже шел в Лондоне, постоянная кинорецензентка воскресной газеты «Санди таймс», Дайлис Пауэлл, писала 16 ноября, что попытку Ноэля Лэнгли отнюдь нельзя счесть «не заслуживающей внимания». Самый топ этих заметок, необычайный для коротких и рекламно-деловых сообщений о фильмах, какие чаще всего встречаешь в английских газетах, показал, что Лэнгли заставил рецензентов задуматься над своей работой.
Мы увидели Пиквика у себя с опозданием на целых три года, — и с первой же минуты, как появились на экрана страницы старой книги и зазвучали такты громкой, маршеобразной, необыкновенно жизнерадостной музыки, в нашем зрительном зале родилось то особенное чувство внимания и захваченности, какое говорит об удаче. Да, фильм удался Ноэлю Лэнгли. Предельный лаконизм сценария, но не скупой и не торопливый, в отдельных местах даже щедрый на время, — например, в замечательной сцене суда и чисто диккенсовской речи серджента Бузфуза (артист Вольфит); предельная быстрота действия, но не грубая, а постоянная и выразительно обусловленная; быстрый переход из кадра в кадр, нигде не разбивающий, а, наоборот, все более сковывающий ваше внимание; тонкая, обдуманная, великолепная игра артистов вплоть до мельчайшей роли какого-нибудь драчуна извозчика; и музыка, музыка… Превосходная музыка Антони Хопкинса — одно из самых крупных слагаемых успеха фильма. Она не иллюстрирует и не сопровождает, а кажется дыханием экрана. Полтора часа вы слушаете как бы пленительные вариации одной и той же темы — и в цокоте лошадиных копыт, и в танцевальных мелодиях офицерского бала, и в тягучем колоколе английского суда, и в соловьиных трелях, раздающихся в воображенье влюбленного Уинкля, и в нестройном трагическом шуме голодной, измученной толпы долговой тюрьмы Флит, — пока наконец ее первые знакомые такты не воскресают с полнотой музыкальной коды в последних кадрах свадебного пира…
Каким же образом справился Ноэль Лэнгли со своей задачей? Ответ на этот вопрос неожиданно подводит нас к очень глубоким выводам и представляет собой немалый литературный интерес.
Перед нами опять сказка, на этот раз диккенсовская, с благополучным окончанием. Но чтоб получить «крепкую историю» из конгломерата «Записок», Лэнгли вынужден был, правда тонко и незаметно, внести существенные «редакционные поправки» к Диккенсу. Весь читающий мир знает Пиквика — толстенького джентльмена в белых штанах в обтяжку и знаменитых гетрах, — смешного вначале, но все более обаятельного, с каждой страницей разворачивающего свой здравый английский смысл, свой старомодный юмор, свою практическую доброту. В книге именно Пиквик в окружении своих спутников — Снодграса, Уинкля, Тапмэна и верного слуги Сэма Уэллера — занимает центральное место; остальные персонажи: помещик Уордл с его вечно спящим слугой, «жирным парнем», хитрые стряпчие Додсон и Фогг, мелкий жулик Джингл с его пройдохой слугой Джобом и многое множество других лиц — воспринимаются на втором и третьем плане.
И вот главная «редакционная поправка», какую внес Лэнгли, заключается в том, что в сценарии он отнял у Пиквика монопольное положение, какое тот занимает в романе. Рядом с добропорядочным английским джентльменом Пиквиком он поставил отрицательную фигуру бродячего актера Альфреда Джингла, а вместо «цепи происшествий» собрал все действие кольцом вокруг одной сюжетной коллизии: борьбы Пиквика с Джинглом. Сделано эго путем небольшой и на первый взгляд несущественной словесной перестановки: в сценарии, вопреки Диккенсу, тотчас после первой крупной проделки Джингла — увоза перезрелой мисс Рэйчл — Пиквик торжественно заявляет: «…Теперь моя святая обязанность разоблачить… этого авантюриста!» Решение Пиквика начать поединок с Джинглом становится косвенной причиной всех последующих событий. И это позволяет Лэнгли вывести эпизодическую фигуру Джингла на первый план, который Джингл занимает с первых же кадров фильма.
Играет Джингла в фильме замечательный английский актер Найджл Патрик. Когда во дворе «Золотого креста», где взбешенный извозчик хочет поколотить Пиквика, принимаемого им за шпиона, вдруг происходит движение и выступает вперед Альфред Джингл, расталкивая людей танцевальными жестами своих узких плеч и спрашивая озабоченным, рубленым «стаккато»: «Что такое? Что случилось? Что за свалка?» — зритель сразу оказывается в плену у необычайно интересного, очень сложного образа, созданного актером.
Джингл на экране красив; акробатически ловки движенья его очень тонкого тела и длинных ног, — но не красота и ловкость Джингла приковывают взгляд. Джингл на экране жалок и оборван — он в продранном кафтане, с бегающим взглядом, не брезгает передернуть в карты, выпить из чужого стакана, облачиться в чужую одежду; это искатель перезрелых невест с хорошим приданым, врун и воришка. Но вниманье зрителя к этим чертам не приковывается. Джингл совершает множество комичных проделок, но зритель почему-то не склонен смеяться над ними, как смеется над столбняком Уинкля или его спортсменскими подвигами. Почему-то проделки Джингла но возбуждают смеха, не кажутся комичными. Ловишь себя вначале на классических литературных сравнениях, вспоминаешь Хлестакова, Чичикова, но и эти мысли отпадают, потому что в образе Джингла на экране нет и ничего сатирического. Что же держит, что приковывает зрителя к этому образу?
Вот Джингл разглагольствует, как хозяин, за столом, фамильярно хлопая джентльменов по спинам и даже по плешине; но стоит проделке открыться, стоит возникнуть опасности резкого отпора — и в глазах нахала мелькает что-то похожее на привычку всегда в таких случаях благоразумно отступать, ретироваться, что-то от побитой собаки, прочно знающей о существовании палки. Унизительное, жалкое в лице, бегающие глаза — но только ли это?
Вот к Пиквику входит военный врач с офицерами. Он узнает в Джингле своего неизвестного соперника на балу; лицо его наливается бешенством, он жаждет дуэли… Но один из его спутников с холодным презрением говорит ему: «Это бродячий актер… вам невозможно драться с ним». Все это время Джингл сидит лицом к зрителю; его тонкие нервные руки тасуют колоду карт, шляпа сдвинута набекрень, губы кривятся вынужденной, вызывающей улыбкой. В ответ на презрительные слова он как будто все так же беззаботен. Но едва заметная судорога перекосила его лицо, глаза перестали бегать, в них появляется — на кратчайший миг — что-то человечески-гордое, озлобленное, затравленное, как при очень сильной физической боли. Прошло и тотчас исчезло. Но вот к оскорбительным словам офицера присоединяются оскорбительные слова подошедшего к актеру Натаниэля Уинкля. Они — последняя капля, Джингл, отворачиваясь, как бы сходит с экрана, глядя перед собой прозрачными, пустыми, широко открытыми глазами. Мы заглядываем в них только на секунду. Еще миг — и нахальный Джингл, которому все как будто с гуся вода, опять на месте. Но зрителю, заглянувшему на короткий миг в человеческую душу актера, в его попранное достоинство, в еще не совсем умершую способность чувствовать оскорбление, хочется опять видеть это лицо без маски. И Найджл Патрик доставляет зрителю это наслажденье.
В долговой тюрьме, на соломенном полу, грязный, босой, полуголый, с висящими вниз, развитыми волосами, с выросшей на щеках щетинкой, с опущенными глазами стоит перед Пиквиком его нахальный противник. Он еще силится быть остроумным и развязным, но он голоден, замучен, ноги едва держат его, и шутит Джингл над последним актом своей собственной человеческой драмы: «Смерть от истощенья, следствие, похороны за счет работного дома, занавес…» Он не глядит Пиквику и зрителю в глаза. Голос его очень тих, старое «стаккато» едва заметно. И этот босой человек в тюрьме кажется натуральней, серьезней, человечней, чем стоящий перед ним все такой же толстенький, в таких же незапятнанных белых брюках (даже солома не пристала к гетрам!) Пиквик, эсквайр. Невольно вы вспоминаете то место романа, где Джингл сам себя аттестует как «дворянина из Без-поместья, Ниоткуда», подшучивая над традиционными английскими сословными формулами. Даже и тут, в последней сцене, молодой по роману Джингл кажется старше пожилого Пиквика; он и раньше как бы покровительствовал английскому джентльмену, помогая ему в практических вещах; а сейчас, едва стоя на ногах, в двух-трех фразах обнаруживает лучшее знание страшных сторон тюрьмы, ее ростовщиков, обирающих заключенных, нежели чистенький сэр, обходивший тюрьму со своей записной книжкой. Когда в новой скромной одежде он приходит проститься с Пиквиком, сценарист дает нам его лицо большим планом. По замыслу Ноэля Лэнгли, это лицо должно выразить раскаянье, благодарность, перерожденье. Не знаю, хотел ли Найджл Патрик в соответствии со сценарием передать именно такие традиционные чувства. Мы можем судить только о том, что видели на экране.
А увидели мы — гением актерской игры — прекрасное человеческое лицо и невеселые глаза в темных изношенных веках; тонкие губы, раскрывшиеся без улыбки, как бы от рвущихся слов, которые остались невысказанными, — лицо человека, страстно повествующего о судьбе того, кто выключен из общества, кто с умом и талантом, как побитый пес, молчаливо сносит пренебреженье и униженье; кто разменял свою молодость на мелкое жульничество, беготню по заколдованному кругу, из которого нет выхода, и — последний вершок родной земли под ногами, с которой его сбрасывают вон, вон из Англии, в британскую колонию Гвиану, в Демерару, где переселенцы тысячами мрут от желтой лихорадки…
И то большое и человеческое, что вдруг встает за образом Джингла, сыгранного Найджлом Патриком с потрясающей силой, совершенно заслоняет добропорядочного Пиквика.
Потрясенные этим образом, со стиснутым сердцем, еще не зная и не понимая, почему нам вдруг стало так странно тяжело на душе, молчаливо выходим мы из зала по окончании фильма, казалось бы такого веселого и жизнерадостного. Иные и не заметили, что в поединке Пиквика с Джинглом нравственно побеждает не Пиквик, а тот, кого он благополучно выпроваживает за пределы родины. Другие, заметив, склонны приписать это более слабой игре актера, изображавшего Пиквика.
Но мне думается, превосходный актер Джемс Хэйтер, игравший Пиквика, одни из опытнейших английских актеров, прекрасно сыгравший двух братьев Чирибль в другом диккенсовском фильме, «Николас Никльби», тут ни при чем. Мне думается, он и не мог сыграть лучше… Охваченная ярким впечатлением от фильма, я взялась за перечитывание романа Диккенса, и мне стало понемножку ясно, что Найджл Патрик не отошел от английского классика. Наоборот, образ, созданный им на экране, помог нам сейчас по-новому прочитать самый роман, увидя в нем такие детали, каких раньше мы просто не замечали.
Начать с того, что деклассированный член общества, Джингл, — у Диккенса — не шут и не глупец; он отлично знает слабые стороны общества, за пределами которого он живет. Когда сквозь шутовство прорываются у него серьезные фразы, какой остротой социальной характеристики отличаются эти фразы! Сам Диккенс но мог бы сказать о современном ему английском строе лучше, чем это делает Джингл: «Люди высшего ранга не признают людей среднего ранга; люди среднего ранга не признают мелкого дворянства; мелкое дворянство не признает торговцев… А член королевской парламентской комиссии не признает вообще никого, кроме себя».
Джингл, далее, не бездельник. Он актер, профессионал, зарабатывающий пропитанье своей профессией, которая, правда, но всегда кормит его. В то время как Пиквик с друзьями едут «на свой счет» в Рочестер в поисках приключений, Джингл отправляется туда для выступленья в рочестерском театре. С тонкой иронией он замечает Пиквику, что и он тоже философ, «как многие люди, у которых мало работы и еще меньше получки». Наконец, Диккенс странно оговаривается, заставляя Джингла рассказывать о своем участии в июльской революции 1830 года, в то время как похождения Пиквика происходили хронологически до нее (в мае 1827 года).
Но что же сам Пиквик, милый читателю с детства Пиквик, которого мы привыкли любить, — что происходит с ним? Как перечитываешь роман после фильма? Я представляю себе английского сценариста и режиссера Лэнгли над книгой. Вот он дошел до последних страниц, где доброта Пиквика должна победить низость Джингла. Эти страницы особенно важны для Лэнгли, поскольку он строит весь свой сюжетный узел именно на последней нравственной победе Пиквика над Джинглом. И тут я вижу, как Ноэль Лэнгли смутился. Я вижу, как он прикусил себе губу. Как он начинает опять листать книгу сначала… Правда, я вижу это в своем воображении, но на основании, как говорят юристы, «вещественной улики». Нельзя, мне кажется, не смутиться от тех строк, где слабого, еще недавно перенесшего лихорадку человека посылают начать новую жизнь в болотистую Гвиану. Но, может быть, он сам этого хочет? В романе об этом ни слова не сказано. Там Джингл упоминает о попугаях, но без всякого высказанного стремленья в экзотическую страну. Там Джингл беседует с Пиквиком о своей будущей судьбе, но содержание беседы читателю остается неизвестным. И сценарист Ноэль Лэнгли чувствует — чувствует сердцем человека нашей эпохи, нашего десятилетия, — что массовому зрителю не совсем-то понравится такая доброта Пиквика. Надо ее обосновать, оправдать, надо за Диккенса договорить то, что Диккенс совсем не сказал в романе. И вот тут-то и появляется вещественная улика, о которой я упомянула выше. В одном из начальных кадров, после рассказа о дочери испанского гранда, Джингл вдруг откидывает голову и задумчиво произносит: «…Вот о чем я мечтал всегда… Оставить Англию… уехать в Демерару… Превосходный климат… Да, уверяю». Напрасно уверяет Джингл зрителя! Во-первых, в Демераре не превосходный, а убийственный климат. Во-вторых, этих слов вовсе нет в тексте романа, их вложил в уста Джингла сам сценарист. У Диккенса Джингл, придя проститься с Пиквиком, говорит гораздо более правдоподобные и серьезные слова. Когда законник Пэркер грубо называет «потерянными» те пятьдесят фунтов, что Пиквик потратил на Джингла, бродячий актер страстно восклицает: «Не потеряно! Заплачу все… до последнего фартинга… Желтая лихорадка, может быть… не в моей власти… Но если нет…» И когда он опускается на стул, проводя рукой по глазам, — вы знаете, что Джингл ясно видит перед собой все, что его ожидает: страшное дыхание тропической лихорадки встает со страниц романа. И верный слуга Джоб усиливает эти слова: «Он хочет сказать, сэр, что, ежели его не унесет лихорадка, он вернет эти деньги. Если выживет, — вернет, мистер Пиквик»[30].
Легко ли современному актеру перед новым, современным зрителем сыграть милого Пиквика так, чтобы он вышел безупречно обаятельным и смог потягаться в нравственной силе с жалким парией, пережившим серьезную человеческую трагедию? Может ли приятная музыкальная табакерка выстоять рядом с бурей бетховенской музыки? Джингл побеждает Пиквика на экране вопреки замыслу Ноэля Лэнгли, но мне кажется: именно в этой победе — лучшая похвала фильму.
Когда я поделилась всеми этими мыслями с читателями на страницах московской английской газеты, один знакомый мне англичанин взялся заново перечитать «Пиквикский клуб». И вот, прочитавши, он прибежал ко мне и взволнованно показал еще одну «улику», до сих пор совершенно не замечавшуюся никем, уже в самом тексте Диккенса.
Джингл в последнее свое свидание благодарит Пиквика своим прерывистым стаккато: «Мистер Пиквик, глубочайше обязан — спасательный пояс — сделали человека из меня — вы никогда но раскаетесь в этом, сэр»[31]. Двусмысленно тут выражение «спасательный пояс», life preserver, которое имеет еще и второй смысл — резиновой дубинки, оглушающей человека. Джингл хотел сказать одно, но у него вырвалось другое, — он нечаянно сравнил великодушную помощь Пиквика, посылающего его в Вест-Индию, с такой дубинкой.
Найджл Патрик вряд ли согласится с моей трактовкой его игры, — я не застала его в Лондоне и не смогла лично побеседовать с ним. Но я знаю, что роль Джингла не была для него случайной. Сам артист, ушедший на сцену семнадцатилетним юношей, он, конечно, должен был вложить в эту роль более глубокое, чем кажется на первый взгляд, понимание и толкование ее. В своем письме ко мне из Калифорнии от 23 июня 1956 года он пишет: «Так чудесно было воскресить к жизни на экране изумительный диккенсовский характер. С самого раннего моего детства, когда я впервые прочел Пиквика, я горячо мечтал сыграть Джингла (уже тогда я решил про себя сделаться актером!)».
Английская классика таит в своих «крепких историях» немало таких тонких социальных сюрпризов. И мне кажется: гениальная расшифровка их на экране артистами, музыкантами и режиссерами (музыка Антони Хопкинса участвует в глубоком раскрытии всей атмосферы фильма!) может стать одной из прекрасных особенностей английского национального фильма.
3
Я попыталась дать свои характеристики национальных особенностей современного западного фильма по вершинам их киноискусства. Но у меня, как, вероятно, и у читателя, успевшего ознакомиться лишь с некоторыми образчиками западной кинодраматургии, в глубине души таилась надежда, что вот, когда приеду в эти страны сама, буду ходить в кино почаще и уж наверное увижу еще несколько жемчужин, до нас не дошедших…
Так вот этих «жемчужин» в течение двух с лишним месяцев в Англии и нескольких дней в Париже я не отыскала. В Париже я высидела (не без труда) всю головоломную серию картин в знаменитой синераме, пока еще очень дорогом для парижан удовольствии. Я удовольствовалась одним этим посещением и в Лондоне уже не пошла смотреть синераму, правда более скромную по размерам, нежели парижская.
Дело в том, что к каждому новому шагу в технике, требующему более интенсивного расхода вашей личной энергии — будет ли это энергия внимания, движенья рукой, передвижки корпуса или зрения, слуха, аккомодации сосудов, нервного восприятия, — надо привыкать исподволь, как на заводе или в самолете, так и в области искусства. И уже сама неприспособленность нашего организма в первую минуту встречи с этой новой техникой, сама необходимость физического и психического приспособления неизбежно приносит вам в первое время больше усталости, чем удовольствия, больше напряженья, чем облегченья. Так происходит и с синерамой. Выдержав в ней часа два-три подряд, вы чувствуете звон в ушах, головокруженье, видите рябь в глазах и говорите себе: хватит с меня, больше не пойду. Причина этого, как мне думается, еще и в том, что хозяева синерамы, стремясь сразу ошеломить зрителя новинкой, подковывают новую технику вдобавок и невыносимо быстрыми по темпу сюжетами картин. В парижской синераме все начинается с катанья на именуемых почему-то в Америке «русскими», а у нас «американскими» горках — зигзагообразных поездок сверху вниз и снизу вверх по бесчисленным горам и долам, устроенным в месте «отдыха» ньюйоркцев, «Рокауэйс-Плэйланд», — на Лонг-Айленде. Это удовольствие диктор вдобавок назвал «Атомным болидом» (в программе сказано: «Это самое сумасшедшее, самое головокружительное и самое сенсационное путешествие в мире»). Дикое движенье подхватывает вас с трех сторон, и вы чувствуете, что вас «тошнит». Тошнота не проходит и дальше, на самолете над всей Америкой, в храме Вулкана из «Аиды», на карнавале лодоч-ных гонок в Венеции, потому что все вокруг вас пляшет, бежит, движется скорей, чем ритм вашего дыхания и биенье вашего сердца. Правда, иллюзия жизни (но жизни ускоренной) дает вам своеобразный опыт; вы побывали в Америке (и думаете про себя — не к чему теперь хотеть съездить туда опять), но опыт этот, забежавший вперед настоящему, иллюзорен. Пока не выработалось у нас привычки к новым темпам и усиленному расходу энергии, синерама — удовольствие сомнительное, и после нее хочется пройти пешком километров десять, посидеть с удочкой на берегу, повязать на спицах, протанцевать полонез в «Иване Сусанине» — словом, поразмять собственные двигательные мышцы и насладиться медленным течением времени. Ведь медленное течение времени всегда удлиняет ощущение протяженности жизни, ее долготы, а быстрое — заставляет вас чувствовать ее краткость.
Массовой кинопродукции во Франции я посмотреть но успела и характера ее не знаю, но в Англии мне удалось побывать в самых разных кино — и фешенебельных западного Лондона, и рабочих в доках Глазго, и пригородном кино Эдинбурга, и в малюсеньком деревенском, но таком уютном, что даже простое сидение в мягком, удобном кpeсле — отдых. Почти все кинематографы в Англии (по крайней мере, те, где я побывала) построены амфитеатром, и вам не приходится страдать от шляпы соседа, сидящего впереди. В английской архитектуре общественных зданий пространство экономно выгадывается. В театрах почти нет фойе и буфетов, нет даже раздевалок — в Королевской опере вы раздеваетесь в туалетной комнате, если вообще хотите сдать верхнюю одежду; в театрах вы пьете кофе и чай, сидя в своем кресле театрального зала. В кино пет «ожидалок» с культурными снимками на стенах или газетами на столиках, потому что ожидать не приходится — вы проходите в зал тотчас, как купили билет, смотрите с середины, с конца, можете смотреть дважды одну и ту же программу. Проветривать зал после сеанса, как это делается у нас, не нужно, — всюду имеется вентиляция, поддерживающая в залах ровный свежий воздух и уносящая отработанный. Все это — большие плюсы английских мест развлечения, и все это — наглядный показатель того, как экономика влияет на архитектурные формы и планировку зданий, а планировка зданий вносит в жизнь новые черты личного и общественного быта, быстро прививающиеся. И все это, кстати сказать, заставляет задуматься об одной немаловажной вещи: прежде чем копировать что-либо из понравившегося и кажущегося вам рациональным в западноевропейском быту, надо посмотреть, из каких экономических причин оно выросло и есть ли у нас такие же основания для их введения…
Но возвращаюсь к фильму. Все плюсы самого кинотеатра не могут искупить в Англии невероятного узкоумия его массовой кинопродукции. Во-первых, еще господствует засилие в английском кинотеатре американских фильмов, приучающих медленных и рассудительных англичан к треску, вою, воплю, стрельбе, трупам, погоне, крушениям, прыжкам в воду и тому подобным, в бесконечных вариациях, скрежетам зубовным на экране. Сюжеты до такой степени примелькались в этих фильмах, а любовь до такой степени выветрилась, что вы постепенно отучаетесь чувствовать, глядя на них, что-либо, какую-либо симпатию или антипатию к актерам. Вспоминается поистине гениальный роман о будущем Америки Рея Брэдбери «481° по Фаренгейту», переведенный и у нас. Англичане протестовали против засилия Голливуда шесть лет назад, протестуют при первом удобном случае и сейчас. Во время моего пребывания в Англии шел американский фильм «23 шага до Бейкер-стрит». Сюжет его был таков: слепой драматург услышал в пивной (pub bar) фрагменты разговора, по которым ему стало ясно, что готовится похищение ребенка из знатного семейства. Он запоминает голоса говоривших, запах духов и что-то заставляющее предполагать в одном из собеседников няню. Его рассказ в Скотланд-Ярде встречается скептически. Тогда он сам с друзьями берется открыть и предотвратить готовящееся похищенье, и на экране начинаются детективные похождения слепого со всякими аттракционами, вплоть до падающей бомбы, сносящей возле него степу дома. Так вот, одна из вечерних газет обрушилась на этот фильм под огромным заголовком «Хи! Они не смеют делать этого с Лондоном». С великим возмущением перечисляет рецензент грубые выдумки режиссера, перетасовывающие лондонские расстоянья, названья и улицы без всякого стеснения, в угоду американскому зрителю.
Когда появился (тоже в мое пребывание) чудесный английский фильм «Смайли», Америка не допустила его, как я уже отмечала, на свои экраны только потому, что в нем трижды упоминается слово «опиум», — и английские газеты тотчас обрушились на американское лицемерие, мешающее действительно чистому, хорошему фильму появиться перед зрителями, в то время как разнузданные, лишенные всякой чести и совести американские картины беспрепятственно пропускаются.
Трудно было, прочтя в день две-три газеты, не встретить в какой-нибудь из них шпильки по адресу Америки. Но тут же надо сказать, что, несмотря на цитированную мной статью Оливера Белла, несмотря на правильные в общем взгляды английской критики (а критика в Англии очень подробно освещает все появляющееся на экране, и у нее есть такие специалисты но кинообзору, как Роберт Кеннеди в «Дейли уоркер» и Дайлнс Поуэлл в «Санди тайме»!), несмотря на ежедневные «шпильки», — англичане продолжают «обезьянить» с Голливуда. Они заимствуют у Америки классификацию артистов на «star», звезду, — в применении к «нему» или к «пей»; и это не только в плакатах и объявлениях, но сделалось почти профессиональным званием; на следующее за ним «co-starring», то есть соучастие в созвездии, второе по чину-званию место в актерской иерархии; причем явно культивируется честолюбие актеров второго ранга — перейти в разряд «стар»! Они заимствуют у Америки если не темны, — медлительному англичанину все же трудно приноровиться в кино к темпу американской халтуры, — то диапазон или, вернее, «ассортимент» показываемого зрителю. Еще недавно, шестого апреля 1957 года, в № 7941, «Дейли уоркер» писал об одном из английских фильмов, что это «история сыщицко-грабительской аферы, главным образом состоящая из бешеных перелетов между Нью-Йорком, Лондоном, Римом и Афинами». Это характерно для английской массовой продукции, характерно не столько подражанием Америке в области «бешеного темпа», сколько пространственным охватом зрителя географическим разнобоем, множеством стран и городов и кусочками павильонной экзотики. Если любовь, так уж вилла в Ницце, Адриатика, пальмы, Гавайские острова; если преступление, то мрачные скалы, пропасти, пещеры, катакомбы — и обязательно наплывы натурных снимков из колониальных стран, африканские, азиатские, перемежающиеся с роскошными интерьерами вилл титулованных героев и миллионеров, обязательно сногсшибательные туалеты (выполненные в таком-то и таком-то ателье!) — словом, «хай-лайф», та самая жизнь высшего круга, которую безумно любит английский обыватель. Вот это нагромождение роскоши, экзотики, географических широт и долгот (с обязательным качеством красивости, «претти-претти», как говорят англичане) и есть черта английской массовой продукции, делающая ее почти такой же невыносимой, как американский массовый «ширпотреб».
Во-вторых, кроме еще сохранившегося засилия Америки на английских экранах и в английских киностудиях, нельзя с глубокой жалостью не отметить, что американский паук продолжает втягивать в паутину Голливуда лучших английских актеров. Чарли Чаплин сумел спастись из этой паутины. В Англии актерского дарования силы Чаплина, пожалуй, и нет, но есть превосходные, серьезные актеры, лучшее достоинство которых раскрывается во всей полноте не в том, как они играют одну свою роль, а как они играют эту роль в ансамбле, то есть как соучаствуют в целой картине спектакля. Талант характеристики, умение вжиться в самые разные образы у лучших английских актеров очень велики. Поистине, перебывав во многих театрах Англии, глубже понимаешь, почему и как именно в этой стране возможно стало явление Шекспира. И вот вы вдруг с горечью узнаете, какой процент этих замечательных актеров втягивается в Голливуд, становится там «стар» и, переходя из «star» в состояние «co-starring», говоря английским каламбуром, делается «staring», неподвижным, пристально глазеющим, уставившимся в одну точку, бесконечно повторял себя и заботясь лишь о том, чтоб подольше сохранить понравившиеся зрителю свои «форму и выражение»… Приезд какой-нибудь очередной «star», белокурой красотки артистки, совершающей со своим мужем, Миллером, свадебное путешествие, втягивает в орбиту бесчисленных газетных снимков и репортажей также и любимца англичан, Лоуренса Оливье, с женой, — и боже мой, какие только сценки между ними не фиксируются и не транслируются! По удивительно, что американо-английские киноальянсы приводят серьезного английского артиста к снимку для рекламы новых сигарет в газете! Нельзя не выразит! тревогу и за такого актера, как Найджл Патрик, тоже втянутого в прошлом году в Голливуд (он снимался в картине из эпохи гражданской войны в Америке, «Страна миссис Роунтри») и уже перешедшего, как видно сейчас из английских газет, от более скромной «костаринг» к полному званию «стар». Это артист огромного многообразия, настолько тонкой игры и выраженья, что в разных ролях его почти нельзя узнать, артист, чудесно передающий образы Соммерсета Моэма на экране. Страшно подумать, каким сделает его калифорнийская тренировка.
Мне остается напомнить читателю об очень знаменательном техническом явлении, проникшем в английское кино и вызвавшем в месяцы моего английского пребыванья тревожный интерес к нему не только среди киноспециалистов, — об использовании «предела видимости».
Впервые я услышала о нем, как уже писала выше, на конгрессе ПЕН-клуба, где выступали писатели многих стран и национальностей. Не говоря уже о том, что целое заседание конгресса было посвящено связи литературы с кино, радио и телевидением; не говоря о том, что мы прослушали ряд очень практических сообщений о профессиональных методах такой связи, — внимание всего зала было положительно приковано к речи английского писателя Артура Колдер-Маршалла.
Он начал с очень интересного указания разницы в работе писателя для кино и в работе его для радио и телевидения. Мы привыкли думать, что радио и телевизор — это техника массового распространения искусства и что «массовость» включается известным влиятельным фактором и в самый процесс создания продукции.
Но Артур Колдер-Маршалл остроумно напомнил, что если киноэкран смотрят тысячи незнакомых друг другу в зале людей, то радио слушают и телевизор смотрят обычно три — пять — шесть человек семьи, то есть люди, тесно друг с другом связанные, и поэтому продукция для радио и особенно для телевизора должна быть семейной продукцией, подчиненной совсем другим требованиям, нежели кино.
В ряде остроумных примеров Артур Колдер-Маршалл показал, как многое из приемлемого на экране кино совершенно недопустимо в семейной обстановке. Здесь развитие техники приводит к созданию по массового продукта, а к своего рода семейному, узкоинтимному, камерному характеру произведений, и это может открыть новые пути для творчества писателя.
Мне думается, самое рождение новых идей, возникающих в комплексной связи целого ряда наук: и физики, и биологии, и физиологии, и техники, — рождение их в искусстве кино, у людей, занимающихся техникой кино, — показывает, насколько потенциально киноискусство для мышления и какое богатое экспериментальное поле открывает оно для науки.
Таковы несколько беглых впечатлений, полученных мною от английского кино.
1957
VI. Вильям Блэйк
Судьба этого замечательного английского поэта, художника и мыслителя — ярчайший пример для людей искусства. Она показывает, до чего условна и случайна так называемая «репутация» творца среди его современников. Многие из тех, кто жил и работал одновременно с Блэйком, легко добившиеся понимания, славы, почестей и благополучия, сейчас совершенно забыты, а дела их оказались бесплодны. Но Вильям Блэйк, в свое время почти неизвестный народу и ценимый только немногими друзьями — их можно перечесть по пальцам, — становится сейчас все интересней и ближе для человечества, раскрывается во всей своей поэтической прелести и духовной глубине.
Словно подтверждая крылатую фразу его друга Генри Фузели: «Блэйк чертовски хорош для позаимствования из него»[32], наше время щедро черпает из Блэйка, подчас даже и не указывая источников. Так, многие ли из читателей знают, что любимый молодежью революционный герой романа Войнич «Овод» взял свою песенку, хорошо знакомую русскому дореволюционному читателю по старому переводу («Умру ли я, живу ли я, — я мушка все ж счастливая»), из прелестного стихотворения Блэйка «Муха»? И еще менее знает наш читатель, что другое стихотворение Блэйка — его знаменитое предисловие к поэме «Мильтон», ставшее известным под названием «Иерусалим», — поется в наши дни рабочим классом Апглии как боевая революционная песня. Покойный композитор Хуберт Пэрри положил его на музыку, а народ широко подхватил его, и последние четыре стиха этой песни («Не прекращу умственной борьбы, не дам мечу заснуть в моей руке, пока мы не построим Иерусалима на зеленой и милой земле Англии») сделались как бы революционным обетом борьбы за лучший и справедливый строй. Блэйк поэтически назвал этот новый счастливый строй библейским именем, но народ в Англии поет сейчас эту, пожалуй, самую популярную песню среди английских трудящихся как призыв к борьбе за переустройство старого мира…
Вильям Блэйк родился 28 ноября 1757 года на одной из тех улиц Лондона, куда охотно перебирались торговые предприятия молодого английского капитализма, — на Броад-стрит около Гольден-сквер, в семье среднезажиточного чулочника. Я называю место его рождения с такой точностью потому, что вся долгая, почти семидесятилетняя, жизнь Блэйка, за исключением только трех лет, проведенных в сассекской деревушке, связана с Лондоном и с кварталами, расположенными не очень далеко от этой улицы. Ошибочно пишут иногда, что поэт «ютился в беднейших кварталах». Адреса его биографы сообщают с величайшей точностью, из года в год, и мы знаем, что жизнь его прошла в культурных частях английской столицы, неподалеку от ее центра, там, где жили крупнейшие художники и книгопродавцы второй половины XVIII века — Джошуа Рейнольдс, скульптор Флаксман, издатель Джонсон. И еще одно надо помнить: Лондон той эпохи был совсем не похож на Лондон современный. Стоило на полмили уйти из его центра — и вы оказывались в деревне. Биограф Блэйка, Гилькрист, рассказывает, например, что, когда построили новый мост через Темзу у Челси, Лондон как бы «руку пожал» деревне, подступившей на том берегу к самому городу. Будучи «вечным горожанином», Вильям Блэйк, любивший долгие одинокие прогулки за городом, никогда, в сущности, не отходил от английской природы, которую воспел с огромной силой и музыкальностью в стихах и рисунках.
Проявив мальчиком необычайное дарование рисовальщика, Блэйк был помещен отцом в художественную школу Генри Парса, где его засадили за копирование античных скульптур. Чтоб он не терял времени, отец его сам купил гипсовые слепки антиков и заставлял сына, по возвращении его из школы, продолжать это копирование и дома. Блэйк говорил позднее, что в школе ему ни разу не пришлось иметь дело с живой натурой, а только ограничиваться гипсовыми моделями. Этот монотонный способ овладения рисунком был у Парса подготовкой к поступлению в академию, но отец Блэйка надумал иначе. Не говоря уже о том, что обучение живописи стоило дорого, оно но обещало в будущем куска хлеба оканчивающему академию, и практичный старый Блэйк повел четырнадцатилетнего сына на выучку к превосходному граверу Джемсу Бэзиру.
Семь лет пробыл Вильям у гравера, в совершенстве освоив искусство гравирования, ставшее действительно его «куском хлеба» до самой смерти. Многие большие художники завидовали в то время натренированной руке гравера и знанию этого тонкого мастерства, всегда обеспечивавшего работу. Возьмем в руки книги XVIII века, — гравюра составляет огромную часть их оформления. Титул, заставки, виньетки, не говоря уже об иллюстрациях, — все это делалось руками офортистов, иглой гравера, и недостатка в таких заказах не было.
По не только мастерство приобрел в этой семилетней школе Вильям Блэйк — он воспитал в себе психологию и достоинство рабочего человека, передовые политические убеждения, независимость философских взглядов. Честертон, написавший о Блэйке хорошую книжку, говорит об этом: «Всю жизнь он был хорошим рабочим, и его недостатки, которых у пего было много, никогда не порождались той обычной ленью или распущенностью жизни, какая приписывается артистическому темпераменту». А сам Блэйк, за шесть лет перед своей смертью, читая вышедшие из печати «Речи» нелюбимого им покойного сэра Джошуа Рейнольдса, посвятившего свою книгу королю и «королевской либеральности», с возмущением написал на полях, по своему обыкновению подчеркивая слова большими заглавными буквами: «Либеральность! Мы не желаем либеральности. Мы хотим Справедливой Оплаты и Соответствующей Оценки и Общего Спроса на Искусство. Нельзя допустить, чтобы Нация меньше вознаграждала, чем Дворянство, требуйте, чтобы Нация поощряла Искусство… Искусство — на первом месте у интеллигентов, оно должно быть первым и у Нации».
Эти гордые слова сказаны рабочим человеком, а не только художником.
На второй год учебы Бэзир стал посылать Блэйка срисовывать Вестминстерское аббатство изнутри и снаружи, предоставив ему работать бесконтрольно. В полном одиночестве, один на один с величавым созданием английской готики, Блэйк как бы прощупал его руками во всех его линиях и ритме. Он рисовал Вестминстер целых два года, и это одарило его глубоким пониманием готики. Рисунок его окреп, приобрел энергию и точность, какою восхищались впоследствии профессионалы. Именно у Бэзира сложились и те художественные принципы Блэйка, какими он руководствовался всю свою жизнь. Когда спустя семь лет, в 1779 году, он поступил в античное отделение Королевской академии под наблюдение Дж. М. Мозера и тот повел молодого ученика, чтоб расширить его вкусы, посмотреть на картины художников-новаторов тех лет — Рубенса и Лебрена, юноша, воспитанный на классицизме, воскликнул: «Это, по-вашему, закончено? Да ведь они еще и не начинали, как могут они что-либо закончить». Для Вильяма Блэйка основой искусства был четкий, строгий рисунок, диалектика света и тени. «Вещи, которые он любил больше всего, — это ясность и определенность очертания, — пишет Честертон, — а вещь, которую он больше всего ненавидел в искусстве, — это то, что мы называем сейчас импрессионизмом, — подмена формы атмосферой, принесение формы в жертву краскам, туманный мир колориста». Но при всей своей любви к четкому рисунку и ненависти к бесформенной красочности Блэйк отнюдь но стоял за ремесленничество и натурализм. Он ненавидел их по меньше, чем бесформенность. По мнению Блэйка, «практика и подходящие условия могут очень скоро обучить языку искусства», по «духу и поэзии искусства, гнездящимся исключительно в воображении, никогда нельзя обучиться, — а это они и создают художника».
Постоянная дисциплина труда и могучее воображение, сдерживаемое кропотливой работой гравера, вечное присутствие «мысли и поэзии» в каждом его рисунке характеризуют самого Блэйка-художника. Он никогда не писал маслом. Его материал — темпера, акварель; его орудие — кисточка из верблюжьего волоса; круг его тем… Но тут мы должны перейти в другую, смежную область творчества Блэйка.
Тот, кто впервые начнет рассматривать его рисунки и гравюры, вряд ли сразу поймет и полюбит их. Они могут на первый взгляд показаться ему манерными, абстрактными, чересчур аллегорическими, кое-где чересчур обнаженно смысловыми. Чтоб понять их внутреннюю жизнь, энергию их изумительного ритма, остроту их светотеневых контрастов, надо узнать целого Блэйка, не только рисовальщика, но и мыслителя, гражданина, поэта.
Стихи писать Блэйк начал с двенадцати лет и писал их до самой смерти, по, хотя гравюры его имели немалое распространение и друг его Томас Баттс даже устроил у себя дома целое собрание их, поэзию Блэйка почти никто не знал, и стихи свои он увидел в печати только один раз при жизни.
По выходе из Королевской академии, где, кстати сказать, он трижды участвовал в «Выставках» наряду с такими современниками, как Гэнсборо, Рейнольдс, Анжелика Кауфманн, и где он показал свои яркие рисунки против войны, Блэйк очень удачно женился и повел профессиональную жизнь труженика-гравера. Как-то его друг, скульптор Флаксман, ввел его в дом священника Генри Мэтью, где миссис Мэтью, ученая жена своего мужа, первый «синий чулок» в Англии (от нее и термин вошел в словарь!), открыла «салон» и принимала «знаменитостей». О Блэйке-поэте по-настоящему узнали именно в этом салоне. Туда он приходил петь свои стихи. Он не читал их, он пел, — не растягивая звуки по-декадентски, как это делали поэты в начале нашего века, отвергая старую манеру декламации, а просто пел как песню. Он создавал стихи вместе с собственной мелодией, хотя не знал нот и не мог ее записать. Трудно, почти невозможно перевести на русский язык во всем их музыкальном и духовном очаровании стихи Блэйка, — их надо читать в оригинале. Слишком много разнообразных требований предъявляют они переводчику, — воздушно-легкая ткань, но энергично-сильный ритм; неповторимая оригинальность образа и глубокая неожиданность мысли, все это вместе и все это — на волнах музыкальнейшего, лаконичнейшего языка полуребенка, полумудреца. Очарованные слушатели салона в складчину издали ранние стихи Блэйка. Они вышли в 1783 году под названием «Поэтические скетчи»; и из общего числа этих двадцати одного стихотворения девять озаглавлены просто «песнями». Стихи эти, как и последующие лирические циклы Блэйка — «Песни невинности» и «Песня опыта», — народны в подлинном смысле слова, народны, как поэзия Тараса Шевченко, Петра Безруча, Аветика Исаакяна.
Но есть особенность, отличающая эти стихи. При всей их кажущейся простоте и музыкальности, они глубоко философичны. Мысль, облеченная в образ, играет в них ведущую роль. И опять, чтоб полностью понять поэзию Блэйка, нужно хорошо изучить Блэйка — гражданина и мыслителя. Как гражданин он жил в счастливое, хотя и трудное время. Несмотря на тягчайшую реакцию в Англии, свежий ветер французской революции докатывался и до Лондона, заражал своим победным веянием лондонскую толпу. Лондонское восстание 1780 года, когда в ответ на закон, изданный для облегчения положения ненавистных англичанам католиков, поднялись вдруг лондонские улицы, зашумели, ринулись разбивать и жечь дома, подкатились к Ньюгетской тюрьме и выпустили на свободу триста заключенных, английские историки называют обычно бунтом «черни». Но нет сомнения, что это восстание было отзвуком французских событий. Вильям Блэйк пережил его стихийно, как невольный участник. Он попал в толпу, слился с ней, дошел до Ньюгета, кричал и действовал со всеми — бессознательно, неудержимо. Нечто от стихийного бунтаря всегда жило в нем, заставляло его изумлять чинное английское общество своим красным колпаком, который он носил вместо шляпы, своими резкими, прямыми высказываниями. Блэйк всю жизнь называл себя республиканцем, «сыном свободы», он горячо сочувствовал войне Америки за независимость. Работая в 1791 году у свободомыслящего лондонского книготорговца и издателя Д. Джонсона (для которого он гравировал и у которого анонимно напечатал свой труд о французской революции, доведенный до взятия Бастилии), Блэйк познакомился в его квартире-клубе на Сент-Польс-Черчьярд с крупнейшими английскими вольнодумцами — Холькрофтом, доктором Прайсом, Пристли, Томасом Пэйном. Последнему — участнику освободительной войны Америки, автору знаменитой брошюры о правах человека и позднее члену французского Конвента — он даже спас жизнь, вовремя посоветовав бежать из Англии во Францию.
К сожалению, как у нас, так даже и в Англии еще очень мало или совсем не знают революционную поэму Блэйка, развенчивающую Лафайета, как и вообще тех людей в революции, кто любит цели и отшатывается от средств, нужных для достижения этих целей. Позиция Блэйка в этой поэме настолько остра и радикальна, что в дни его двухсолетиего юбилея раздался голос, назвавший Блэйка «величайшим революционным поэтом, которого когда-либо имела Британия». Голос этот принадлежит А. Кеттлю, поместившему статью о Блэйке в журнале «Марксизм сегодня»[33].
Арнольд Кеттль полностью напечатал поэму Блэйка в своей статье, с той не совсем в рамках «приличия» звучащей строкой о поведении дьявола (Nobody — по терминологии англичан), из-за которой, по мнению Кеттля, поэма эта и не вошла в издания Блэйка. С огромной поэтической страстью описаны в ней, как злые фигуры из народных сказок, французские король и королева; первый — как пожиратель людей, вторая — как сеющая чуму в городе, прекрасная собой ведьма. Лафайет, подобно незадачливому герою в сказке, должен был держать их под замком, но, увлекшись улыбкой королевы, проливая слезы жалости к ней, он выпустил пленницу — и чума вошла в город:
Fayette beheld the Queen to smile And wink her lovely eye And soon he saw the pestilence From street to street to fly.Поэт обращает к нему свой грозный укор за то, что он свои слезы жалости к королеве выменял на слезы горя, обрушившегося на французский народ. И Арнольд Кеттль говорит по этому поводу, что «Лафайет — это каждый высокодум-гуманитарий каждой революции. Он герой Кестлера, который хочет цели, но не может хотеть средств. Он Виктор Галанц, отдающий свои слезы жалости экс-нацистам, — слезы, которые принадлежат прежде всего чехам-антинацистам. Он, если быть честными, это — многие из нас, кто находит более легким осуждать на расстоянии, чем принять на свои плечи необходимую ответственность за суровые меры»[34].
Так мыслил о Лафайете и гражданин Блэйк, и его революционность нашла своеобразное преломление и в его философии, явно навеянной французскими утопистами.
Свою концепцию исторического процесса Блэйк изложил в 1793 году в нескольких строках философского сочинения «Брак неба и ада», где предварительный «аргумент» дается в стихах, а «функция» — в прозе. Вот эта концепция: без противоположностей нет прогресса. Влечение и Отталкивание. Разум и Энергия, Любовь и Ненависть необходимы для человеческого существования. Из этих противоположностей родится то, что религии называют Добром и Злом. Добро есть пассивность, подчиняющаяся Разуму. Зло — это активность, вытекающая из Энергии. Во всех священных книгах ошибочным является разделение человека на душу и тело, причем Энергия, именуемая Злом, считается порождением тела, а Разум, именуемый Добром, якобы происходит только из души, и будто бы бог будет мучить человека в вечности за то, что он следовал своим страстям (энергиям). По в человеке душа и тело едины, так называемое тело — это часть души, рассеченная пятью чувствами (органами чувств). Энергия — это единственная жизнь, и она исходит из тела, а Разум — это только периферия или внешняя окружность Энергии. Энергия есть вечное Блаженство.
В этих положениях, переводимых мною почти дословно, без труда можно узнать умственные побеги раннего материализма, широким потоком шедшего из Франции, от французских энциклопедистов. Здесь и разрыв с церковным аскетизмом, и подчеркиванье значения человеческих страстей (энергий) как положительных начал в человеке, встречающееся позднее у Фурье, отразившееся и у нас в гениальной речи о воспитании И. И. Лобачевского. Что мысль о положительном значении страстей, веками подавлявшихся церковью, не случайна у Блэйка, доказывает ее повторение в «Пословицах ада»: «Дорога эксцессов приводит ко дворцу мудрости», «Вы никогда не узнаете меры, не испытав безмерности». Иначе сказать, лишь через полное развязывание энергий, в борьбе противоположностей достигаются положительные цели и нормы жизни.
Темы рисунков и стихов Блэйка и есть, в сущности, высокая пропаганда средствами искусства освободительных идей французской революции, великих идей свободы, равенства, братства и достоинства человека, стоящего в центре мирозданья. Человек и его энергия предстают и в рисунках и в стихах Блэйка основной движущей силой истории. В одном из афоризмов он говорит: «Где нет человека, там природа бесплодна». А когда хочет излить свою любовь к природе в стихах, он восклицает совсем в духе антропоморфизма Дерсу, о котором так пленительно рассказал Арсеньев в своем уссурийском дневнике, — что и дерево, и зверь, и даже скала — это тоже люди. Только поняв систему мышления Вильяма Блэйка, можно разобраться и в сложной символике его рисунков, и в глубине духовного богатства его стихотворений, таких простых с виду. Интересна некоторая близость Блэйка к другому его великому современнику, Гёте, которого, он, по-видимому, не знал. Обращаю внимание исследователей на дословное совпадение у Гёте и у Блэйка двух замечательных мест.
Гравируя свою работу «Ворота рая», состоящую из шестнадцати рисунков и коротких надписей к ним, Блэйк начинает с фронтисписа, предваряющего всю книгу: «Что есть человек». На картине изображен лист растения, озаренный солнцем, и на нем в форме куколки, как у бабочек, лежит человек, а над ним белая гусеница, поедающая другой лист. Картина должна означать не только круговорот материальной природы, трансформацию ее форм от низших к высшей, но и роль солнца в этом процессе, И под картиной двустишие:
Солнца свет, когда оно разливает его, Зависит от органа, который воспринимает его.Тот, кто хорошо знает Гёте, не может тотчас же не вспомнить другого знаменитого двустишия, которым сформулировал Гёте свой эволюционный взгляд на солнцеподобность человеческого глаза:
Не будь глаз подобен солнцу, Он никогда не смог бы увидеть солнца.Это — поэтическое прозрение великих мыслителей XVIII века, плодотворность которого еще не исчерпана до конца даже и нашим временем.
В той же книжке Блэйка, где слово выгравировано вместе с образом, есть еще одно замечательное место. Звездная ночь, человек на узкой полоске нашей земли, серп молодой луны в небе, глаза и руки человека, обращенные кверху, и — светлая дорожка в виде узкого луча, бегущая от него через все небо к месяцу. Человек обнимает основанье этого луча, пытаясь взойти но нему, как по лестнице. И подпись:
«Я хочу! Я хочу!»
Спустя двести лет после рождения Блэйка его смелое «хочу» почти исполнилось, а гравюра, казавшаяся современникам бредом сумасшедшего, удивительно напоминает нашему читателю реальную трассу взлетевшей к луне ракеты…
К началу XIX века Блэйк подходил в расцвете всех своих творческих сил. Но материально ему жилось тяжело. Поэтому, когда богатый помещик Хэйли предложил ему перебраться к себе, в сассекскую деревушку, Блэйк принял его предложение. В Лондоне как будто ничто не держало его, — он похоронил там любимого младшего брата, художника Роберта Блэйка, друзья и единомышленники, собиравшиеся у Джонсона, рассеялись. И вот в 1800 году поэт перебирается в хорошенький коттедж на берегу моря. Сперва и он и жена его были необыкновенно счастливы. Однако счастье продолжалось недолго. Большой барин, Хэйли хотел иметь Блэйка только для себя и своих друзей. Узкие рамки деятельности, в которые он попытался замкнуть поэта, монотонность его общества, бездарность его книг, предложенных Блэйку для гравирования, — все это было зависимостью, невыносимой для Блэйка. Он почувствовал, что начал регрессировать в своем искусстве, терять необходимую ему духовную среду. Гравирование — особое искусство. Оно связывает художника с книгой, с большим миром другого творца и этим подсказывает ему новые приемы и образы в его собственном искусстве. Блэйк совершенствовал себя всю свою жизнь, он попытался сделать это и в обществе Хэйли — начал изучать греческий язык, чтоб читать Гомера, итальянский, чтоб читать Данте, но ничто не помогало, — Блэйк начал «застаиваться».
Ко всему этому прибавился и тяжелый случай. Садовник пригласил без ведома Блэйка одного драгунского солдата поработать в саду. Увидя этого чужого человека, Блэйк приказал ему удалиться. Вероятно, солдат, как и садовник, не считал Блэйка хозяином в коттедже и не ушел из сада. Вспыльчивый поэт вывел его «за локотки» и вытолкнул из калитки. Вспыхнула драка, солдат нашел свидетеля в лице одного из драгун и подал на Блэйка в суд, обвинив его в оскорбительных выкриках против королей. Это было в тяжелое время реакции, когда в Англии посылали на виселицу за одно только насмешливое словцо против принца-регента. Блэйку могло бы прийтись плохо, если б не Хэйли. Уже не посредственный «поэт и писатель», а эсквайр, владелец земли выступил на суде, и дело было решено в пользу Блэйка. Но для Блэйка деревенской жизни было довольно. Он сказал «хватит» и вернулся в Лондон.
Последние годы жизни Блэйка — борьба с большою нуждой, существование на грошовый заработок, на тягостную для его достоинства помощь друзей. Именно в эти годы он пишет огромные свои поэмы «Мильтон» и «Иерусалим», которые в соединении с написанными им ранее (в 90-х годах XVIII века) книгами так называемых «пророчеств» — «Америка», «Европа», «Видение дочери Альбиона» — почти еще не изучены литературоведами, или, как принято говорить о сложной системе образов Блэйка, еще не «расшифрованы». Любопытно, что почти одновременно с Блэйком или немногим позже его таким же приподнято-пророческим стилем о судьбах Европы писал Фурье во Франции. Смерть пришла к Вильяму Блэйку за несколько месяцев до его семидесятилетия — в воскресенье ночью 12 августа 1827 года. Он всегда считал смерть естественной вещью. Его любимой собственной гравюрой было изображение полуоткрытой в темную комнату двери, куда бесстрашно входит глубокий старик — такой он представлял себе смерть. И, умирая, Блэйк пел свои песни, а жена сидела рядом.
О Блэйке почти не было серьезных исследований. Его наследство, собранное в один-единственный том, для многих и на родине, и в других странах еще мало изучено и не до конца понято. Но Блэйк живет в народе, и биографию его дописывают живые и умные английские люди. Совсем недавно, 24 октября 1957 года, когда в Англии готовились торжественно отметить двухсотлетие со дня рождения Блэйка постановкой бюста его в Вестминстерском аббатстве, где похоронены многие великие люди Англии, один из таких живых и умных англичан поместил в газете «Таймс» нижеследующее письмо:
«Сэр, предстоящее открытие бюста Вильяма Блэйка, работы сэра Якоба Эпштейна, в Вестминстерском аббатстве взывает к двум комментариям:
1. Прошло уже 67 лет с тех пор, как Вильям Моррис заглянул в будущее (в «Новостях Ниоткуда») насчет «генеральной уборки из аббатства диких монументов, которые его забивают». Тремя годами позднее он жаловался (Обществу по охране древних памятников) на «ярмо их безобразия», «идиотские массы мрамора», «катастрофические и позорные предметы из мебели гробовщиков». Конечно, бюст работы сэра Якоба Эпштейна не будет ни массой мрамора, ни идиотским, катастрофическим, позорным. Но кто может оспорить тот факт, что аббатство забито до отказа?
2. Вильям Блэйк любил аббатство, и своим проникновением во внешние и внутренние формы готики в своих рисунках и гравюрах аббатства он во многом обязан этому чувству симпатии. Но он не любил государственных установлений. Справедливо ли в отношении старого еретика, друга Томаса Пэйна, иоахимитского[35] автора «Вечного евангелия», засунуть его рядом с приспособленцами и удачниками, которых он так яростно отвергал?
Образ Христа, каким видишь его ты, Величайший враг тому образу, каким вижу его я.Разве посмертная канонизация действительная услуга ему? И неужели и сам Моррис кончит тем, что станет «диким монументом»?
Преданный Вам Антони Маклин. Ист-Банк Коттедж, Зандвей, Кент».Думаю, что этот трезвый и остроумный голос здравомыслящего жителя Кента, цитирующего в органе английских консерваторов еретическое «Вечное евангелие», лучше всякого филолога раскрывает перед нами подлинного Блэйка и дает почувствовать живое присутствие великого английского поэта среди передовых людей его родного народа.
1957
VII. Шекспир глазами нашего времени
1
Даже сейчас, когда вы въезжаете на тихую уличку Стрэтфорда-на-Эвоне и вас окружают игрушечные домики с треугольниками чердаков, перепоясанные по фасадам деревянными балками, похожими на медовые рамы, вынутые из ульев, — даже сейчас кажется он вам не городом, а деревней. А уж четыреста лет назад этот старинный городок, несомненно, смыкался с деревней, к самым стенам его подходили крестьянские поля, фермерские усадьбы, торговля в нем шла крестьянскими товарами, а злободневнейшими интересами в ней были интересы тогдашнего сельского хозяйства. А интересы эти были очень острые — быть может, острейшие в истории старой Англии. Если вы сейчас поездите по английским дорогам, вас уж наверное удивят бесконечные цепочки плетней, огораживающих дорогу справа и слева — от лесов и полей, лугов и рощ. Захотите, как это привыкли мы делать у нас, размять ноги, выйти из машины и прогуляться в леску, а вот и нельзя — всюду, куда ни глянь, огорожено, всюду плетень, хэдж по-английски, — и сквозь частокол этих «хэджей» нигде не пролезешь, а если и пролезешь — натыкаешься на самый сердитый закон, огораживающий «божью природу» и «общие поля» от человека, — закон против вторжения (треспас) на чужую территорию. С «огораживаниями» общинных земель, насильственно отнимаемых английской знатью, владельцами крупных поместий от крестьян, чтоб — с ростом мануфактуры, суконного производства — пасти на этих отнятых у крестьянства землях свои тысячные овечьи стада, началась, в сущности, история современной Англии, «царицы морей», и недаром некоторые английские историки так и начинают свои книги с «хэджей», с обезземеливания крестьян. За пятнадцать лет до рождения Вильяма Шекспира произошло в Норфолке знаменитое крестьянское восстание Роберта Кэта, шедшее под лозунгом: «Мы снесем изгороди и заборы, засыплем канавы, вернем общинные земли и сровняем с землей все без исключения загородки, возведенные с позорной низостью и бесчувственностью»[36]. Даже короли целым рядом указов с конца XV по конец XVI вока боролись с этим произвольным захватом крестьянских земель, правда безуспешно. И, борясь против обезземеливания крестьян, они делали исключения для рощ и лесов, превращаемых лордами в свои охотничьи заповедники, развязывая этим знатным насильникам руки в их борьбе с браконьерами, стрелявшими дичь или удившими рыбу в незаконно захваченных помещиками угодьях. Обращаясь к жизни Вильяма Шекспира, мы прежде всего наталкиваемся на первую легенду, созданную историками на его родине: легенду «золотого века». Крупнейший современный английский стилист, историк-кэмбриджец Г. М. Тревелиян так и пишет в своей знаменитой «Английской социальной истории»: «Шекспиру удалось жить в лучшее время для страны… Лес, поле и город были в состоянии совершенства, и все три были нужны, чтоб сделать совершенным поэта»[37]. Насколько совершенен был лес — мы знаем хотя бы из биографии Шекспира, когда он вынужден был, спасаясь от преследований сэра Томаса Льюси, бежать из родного Стрэтфорда в Лондон — только из-за того, что охотился (браконьерствовал) в землях этого сэра: факт, хотя и с оговорками, но постоянно упоминаемы» в английских биографиях великого поэта. А насколько «совершенны» были ноля и дороги, приведем страничку из учебника истории: «… в результате огораживаний и захватов общинных полей и угодий… толпы нищих и бродяг переполняли дороги и села Англии. Многие из них принуждены были добывать себе средства к существованию преступлением… В положении бродяги весьма легко мог оказаться согнанный с земли мелкий крестьянин или потерявший заработок рабочий, которому для приискания места давался лишь месячный срок. По истечении этого срока безработный уже считался бродягой, который, согласно закону, изданному при Эдуарде VI, мог быть отдан в рабство тому, кто донесет на него как на «праздношатающегося»[38]. Преследования, которым подвергались невольные английские бродяги, Маркс назвал «кровавым законодательством против экспроприированных»[39]. И эти бродяги, объявленные «вне закона» («Outlaws»), становившиеся такими обычными на английских дорогах разбойниками, нам тоже хорошо известны, если не из биографии, то из произведений Шекспира. Великий поэт не обошел этого трагического явления своего «золотого века». В ранней пьесе «Два джентльмена из Вероны» (1591)[40] он приводит таких разбойников, называя их оутлос (внезаконники) и прося за них, устами своего героя, о пощаде у герцога: «Эти изгнанные из общества люди обладают многими ценными качествами… прости им… верни их из изгнания… они… исправились, они полны добра и годны для большой работы (great employment)…»
Все эти беглые справки, быть может скучные для читателя, необходимы, чтоб разрушить стандарт, укрепившийся в биографиях Шекспира. Не сыном мнимого «золотого века», а сыном бурного, исполненного огромных контрастов, беспокойного времени, когда начинали складываться и мощь, и бессилие, и богатство, и нищета Англии, был Вильям Шекспир. И лишь такое бурное время, а но мертвое царство мнимого всеобщего благоденствия могло напитать могучее творчество величайшего поэта той изумительной жизненной силой, какой дышат его творенья, не только не постаревшие за четыреста лет, но ставшие еще более нужными, еще более близкими нашему времени.
2
В одном из «игрушечных» домиков Стрэтфорда 23 апреля 1564 года родился первый сынишка после двух старших сестер, названный Вильямом. Отец мальчика торговал разного рода продукцией крестьянского труда — овечьей шерстью, зерном, кожей; мать была из зажиточной фермерской семьи, чьи поля прилегали к самому Стрэтфорду. И хотя маленький Вильям получил хорошее среднее образование в городской «грамматической» школе, где преподавали греческий и латынь, и рос в городе, но он с детства был окружен деревней и деревенской природой. Исследователи его творчества не раз удивлялись отличным знаниям Шекспира не только всех видов крестьянского труда, но и удивительно точным описаниям растений и злаков применительно к каждому времени года, россыпи метких народных словечек, пословиц и поговорок, упоминанию разных народных суеверий, например характерных английских «кружков из трав», завиваемых по ночам эльфами, — эти странные танцующие кружочки в травах попадаются в Англии и до сих пор — и нет-нет да мелькнут в современных романах… Но удивляться следовало бы не тому, что драматургия Шекспира проникнута поэзией родной земли и труда на ней, а наоборот, если б все это отсутствовало у него. Странно забыть, что величайший поэт мира, четыреста лет насыщающий своими произведениями театральные сцены всего человечества, проведший большую часть своей сознательной жизни в близости ко двору Елизаветы Английской, друживший с первыми вельможами Англии и получивший (правда, стараниями своего отца) даже дворянский герб, был и остался до самой смерти крестьянским сыном. Даже брак его носит типично крестьянский характер: он женился на девушке старше его на целых восемь лет, из зажиточной семьи, — видимо, по соображениям больше практическим, нежели по склонности.
Весь мир охватило его творческое воображение, и география его драм огромна. Италия, Дания, Греция, Богемия, новооткрытые океанические острова — множество «мест действия», где разыгрываются бурные человеческие страсти, Польша, Венгрия, Вена, далекая Россия («русский император» как отец Гермионы из «Зимней сказки»), Гвиана, Ост- и Вест-Индия в шутливых репликах Фальстафа из «Виндзорских кумушек», — и вовсе не важно, что Шекспир делает Милан портом, фантастически передвигая итальянские города к морю; вовсе не важно, что у него и Чехия (Богемия) оказывается на морском берегу, — а важен глубоко английский характер всех этих его заморских пейзажей: мягкий, холмистый очерк земли, яркая зелень лугов, кудрявые лиственные кущи, вьющийся по земле вереск, туманное очарованье торфяных болот и блуждающие по ночам светлячки над ними… Он переносит своих разбойников, «оутлос», на границу Мантуи, но лес, где они подвизаются, — типичный английский лес. И в той же Чехии (Богемии) разворачивается типично английский, жгуче современный для времени Шекспира праздник — праздник овечьей стрижки, идет сбор главного английского богатства, овечьей шерсти, и мы вдруг наталкиваемся на чешской земле на пресловутые «хэджи», а героиня поэтичнейшей пьесы Шекспира, «Зимней сказки», перечисляет цветы, свойственные каждому сезону года, и горячо возражает против искусства прививки, не желая видеть в своем саду ничего, что не рождалось бы естественно самою природой. II переодетый царь, как заправский садовник, поучает ее:
Искусство — тож дитя природы. Красит Она его. Мы ветку прививаем На грубую кору, мой друг, и дикий Ствол зачинает от природы высшей, Сам лучше делаясь, и так искусство Природу улучшает, иль, верней, Немного изменяет, оставаясь По-прежнему все тою же природой[41].Эти замечательные слова могли бы стать эпиграфом к бытию самого Шекспира. Десяткам поколений простых тружеников, работавших на земле, обязан Шекспир и своим огромным запасом творческой силы, и своим ясным гением, своим народным здравым смыслом и юмором, мощью чисто народного, чисто английского практицизма, который отмечают в нем все его биографы. Таланту своей быстрой апперцепции, умению схватить и осмыслить многочисленные и разнообразные интересы своего времени, несомненной начитанности, общению с творческими деятелями эпохи — этой прививке высшей природы, остающейся по-прежнему все той же природой, — обязан Шекспир колоссальным разворотом характеров и положений, глубиной духовной жизни своих драм и героев и гигантскими образами человеческих страстей и характеров. Если сюжетные положения он мог почерпнуть из английских и итальянских хроник, прочитанных и изученных, или богато черпать их из трудов своих предшественников и современников, то высота и мощь его творений, словно Гималаи возносящих свои вершины над плывущими, как облака внизу, столетиями, — эта высота и мощь является «высшей природой», переработанным опытом жизни само-го Шекспира. И здесь мы подходим ко второй легенде, которой само время, само углубленное изучение Шекспира наносит сокрушающий удар, отбрасывая ее как абсолютную нелепость: легенде о том, что «биография» Шекспира не подходит к гению его произведений и, значит, надо их приписать другим, «более подходящим» лицам, от всевозможных лордов Лейстеров, Соммерсетов до великого Бэкона Веруламского. Ничего более позорного, мне кажется, не придумывал досужий ум, — недаром легенда эта родилась за океаном, в стране без культурных традиции. С тем же произволом можно было бы создать легенду и о том, что универсальный гений Ломоносова не мог быть достоянием архангельского мужика, а под фамилией Ломоносова скрывались Шуваловы или немецкие академики или баловался сам Петр Великий. Именно биография Шекспира, его происхождение и все, что дошло к нам от его живой личности, необычайно подходит к нему, объясняет его, помогает понять всю мощь его гения. И если страшные образы королей и феодалов, изящные образы любви и ненависти, смешные и жестокие положения мог он почерпнуть из династических хроник, из итальянских новелл, то насытить своих героев мощью человеческих переживаний, раскрыть до предельной глубины их психологию помог ему опыт его собственной жизни, — больше, пожалуй, в маленьком Стрэтфорде, чем в большом королевском Лондоне. Если вдуматься в трагедию обманутого отца, разделившего до своей смерти свое имущество, раздвинутую Шекспиром до великого мирового смысла; в страшный и трогательный, безмерно оскорбляемый, способный возвыситься до социальных обобщений и тут же, униженно смиряясь, покориться перед вечной обидой образ Шейлока; в сварливость и жестокость женщины, подбивающей, подталкивающей руку убийцы-мужа, — то ведь глубины переживаемых ими страстей во всем их человеческом примитивизме, в их обнаженной жизненности легче было подсмотреть в деревенских образах и событиях, нежели под прикрытием городского лицемерия и лоска. Гёте назвал трагедию Лира трагедией каждого старого человека…
Возьмем изображение ревности у Шекспира. Уже много раз исследователи его драматургии указывали на то, что «Отелло» вовсе не трагедия ревности, а, наоборот, трагедия доверия, и делать Отелло синонимом ревнивца — это укрепившаяся историческая напраслина. Какой он ревнивец! Он любит, любит по-настоящему, а такая любовь самоотверженна. Он говорит о любимой:
О, если я найду, что ты, мой сокол, Стал дик, — твои я путы разорву, Хоть будь они из струн моих сердечных, И — бог с тобой: лети, куда захочешь![42]Но когда Шекспир хочет изобразить настоящего ревнивца, настоящую ревность, он употребляет крепкие простонародные выраженья, грубые слова, хотя произносит их король в «Зимней сказке», и эти грубые, мужицкие, полные терпкого, совсем но «аристократического», не придворного цинизма слова рождены до всяких подсказываний злых Яго, никем не внушены, кроме источника всякой ровности — нечистой подозрительности и задетого самолюбия:
Шептанья вечные, щека к щеке, Нос к носу, поцелуи прямо в губы, И смех и вздохи — ясный знак измены, И пожиманья ног, и эти прятки В укромных уголках…[43]В оригинале это замечательное «нос к носу» еще грубее и чувственней: «встреча носов». И не только не подзадориванья и науськиванья Яго, а наоборот — трезвый и мудрый Камилло, всячески успокаивающий и защищающий невинную Гермиону от подозрений своего взбешенного и укушенного самолюбием монарха, — вот в какой обстановке изображен Шекспиром настоящий ревнивец в его обнаженной, грубой человеческой страсти.
С сердечной теплотой рисует Шекспир простых людей, и, даже подсмеиваясь над неуклюжестью и наивностью, он одаряет их недюжинной смекалкой и здравым смыслом, — таковы пастух, крестьяне, бродяга Автолик в «Зимней сказке». Заканчивается широкое полотно «Сна в летнюю ночь», исполненное высокой поэзии; отступает колдовство этой особенной ночи, ночи середины лета, когда цветет папоротник и дозволены волшебные игры фей. Влюбленные парочки находят друг друга, афинский герцог Тезей мирится со своей женой, и граждане Афин дают в честь их праздник. Министр увеселений двора подносит Тезею программу торжеств, Тезей читает ее вслух — воспевание битв, вакханки, критическая сатира, — он отмотает все это, а последнюю — как неподходящую для брачной ночи. Но вот история любви Пирама и Тисбии, смешно и весело, — кто их изображает? И тут, после перечня профессиональных номеров, мы встречаем у Шекспира неожиданный зачаток «самодеятельности». Министр отвечает герцогу: «Люди физического труда (hardhanded men), работающие в Афинах». Кто же эти рабочие, самодеятельные актеры, на которых остановился выбор Тезея?
Очарование волшебной июньской ночи — «Сон в летнюю ночь» — заканчивают своей забавной игрой плотник (carpenter), ткач (weaver), столяр (joiner), лудильщик (tinker), кузнец или воздуходувщик, работающий мехами у горна (bellows-mender), — все основные профессии тогдашнего рабочего люда. И чем-то очень свойским, насмешливо-добрососедским веет здесь от речи Шекспира… А сама эта речь! Четыреста лег истекло со времени ее звучания. В английских изданиях к драмам приложен словарик, объясняющий значение некоторых вышедших из употребления английских слов. По если вы читаете Шекспира по-английски, не заглядывайте в словарик! Вам все будет понятно. Вам все покажется близким. Ни в величавом «ты» вместо теперешнего «вы», ни в изобилии французских слов, ни в латинских корнях — ни в чем не почувствуете вы архаизма. К вам приблизится бурное и величавое время — преступлений и действий, но и великих раздумий, эпоха грабежа и накопленья, династических убийств и народных волнений, освоенья маленькой нашей планеты, открытия новых земель и островов, тяги Англии в море, оживленья портов и гаваней, но и духовного наследования светлой эпохи Возрождения. За двадцать девять лет до рождения Шекспира был казнен великий английский утопист Томас Мор, за тринадцать лет до Шекспира вышел знаменитый английский перевод Ральфа Робинзона (с латыни) «Золотой книги об Утопии» Томаса Мора, бывшей во время жизни Шекспира на руках у многих образованных англичан и несомненно знакомой Шекспиру. Но не только Томас Мор, которому принадлежат гневно-обличительные страницы о положении английского крестьянства, сгоняемого лендлордами с земли, а и классические раздумья Монтеня («Опыты») выходили из печати четырежды еще при жизни самого автора и в годы творческой молодости Шекспира (1580, 1582, 1587, 1588). Знал ли Шекспир (читавший по-французски) прославленные в его время «Опыты»? Не только знал. Он почти дословно цитировал их. Сложное и полное контрастов время второй половины XVI по начало XVII века нам кажется сейчас временем человеческой молодости, а мудрым его современникам, таким, как Монтень, оно представлялось чуть ли не концом человечества, дряхлым, лицемерным, обросшим условностями, клонящимся к гибельному упадку.
В философские раздумья невольно вторгались мысли о бесплодности цивилизации с ее непосильным для народа трудом, о вреде технических открытий, еще более ухудшавших положение трудящихся, о необходимости вернуться к природе и первоначальной простоте. И когда открыли океанические острова с их «дикарями», жизнь этих дикарей, даже людоедов, каннибалов, представилась утом-ленным глазам мыслителя чем-то бесконечно свежим и прекрасным, спасением от развращенной цивилизации. Монтень писал в своих «Опытах» о каннибалах: «Мне досадно, что ничего не знали о них ни Ликург, ни Платой; ибо то, что мы видим у этих народов своими глазами, превосходит, по-моему, не только все картины, которыми поэзия изукрасила золотой век, и все выдумки и фантазии о счастливом состоянии человечества… Вот народ, мог бы и сказать Платону, у которого нет никакой торговли, никакой письменности, никакого знакомства со счетом, никаких признаков власти или превосходства над остальными, никаких следов рабства, никакого богатства и никакой бедности, никаких наследств, никаких разделов имущества, никаких занятий, кроме праздности, никакого особого почитания родственных связей, никаких одежд, никакого земледелия, никакого употребления металлов, вина или хлеба»[44].
А теперь развернем лебединую песнь Шекспира, его бессмертную «Бурю». Выброшенный на берег неведомого острова неаполитанский король со своими близкими бродит по безлюдному лесу, и старый, мудрый вельможа Гонзаго говорит ему:
…А если бы я был здесь государем, Хотите знать, что б сделал я тогда? …В противность всем известным учрежденьям Развил бы я республику мою. Промышленность, чины я б уничтожил, И грамоты никто бы здесь не знал, Здесь не было б ни рабства, ни богатства, Ни бедности; я строго б запретил Наследственное право и границы; Возделывать поля или сады Не стали б здесь; изгнал бы я металлы, И всякий хлеб, и масло, и вино; Все в праздности здесь жили б без заботы, Здесь не было б правительства… И буду я так славно управлять, Что затемню своим я управленьем Век золотой…[45]Это почти дословно. Совпадения идут и дальше, они есть и в «Зимней сказке», где героиня буквально словами Монтеня, говоря о природных цветах, возражает против прививок и всяких вмешательств в природу. Мест, где Шекспир перекликается с лучшими мыслителями своего века и эпохи Возрождения, — множество. «Гамлет» не родился на пустом месте. Философское раздумье над жизнью и временем, осужденье этого времени было в воздухе века, и образ Гамлета потому так близок и дорог человечеству, что гений Шекспира дал в нем обобщение глубоко реального, исторического явленья его современности.
3
Наиболее зрелые свои произведения Шекспир создавал уже в Лондоне, в течение лет 1594–1609. Испробовав множество околотеатральных профессии, он под конец прославился в Лондоне как драматург и хороший актер. Но кончать жизнь Шекспир вернулся в родной Стрэтфорд. Какая-то спокойная мудрость, многосторонний охват жизни, обширные знания встают перед читателем из двух завершающих его вещей — «Зимней сказки» и «Бури». В них он завещал человечеству то, что и раньше пронизывало все его творчество, — музыку. Нельзя отделить Шекспира от музыки, не только потому, что она сопровождает почти каждое действие его пьес, вплоть до кровавых стра-ниц «Макбета». Но и потому, что Шекспир оставил нам нравственное истолкование музыки. В «Венецианском купце» его даст Лоренцо:
Нет на земле живого существа Столь жесткого, крутого, адски-злого, Чтоб не могла хотя на час один В ном музыка свершить переворота. Кто музыки не носит сам в себе, Кто холоден к гармонии прелестной, Тот может быть изменником, лгуном, Грабителем, души его движенья Темны, как ночь, и, как Эреб, черна Его приязнь. Такому человеку Не доверяй[46].А в завершающей его творческий путь «Буре», где Просперо — в котором Шекспир как бы олицетворяет себя — отказывается от своего волшебного жезла и ведуньи-книги, он прощается с магией искусства, воссоздающего природу и человеческую жизнь, сам ставит точку над своим бытием и заканчивает свой монолог последним обращением к музыке:
Лишь одного осталось мне желать: Мне музыки небесной нужны звуки, Чтоб действовать на чувства тех людей, Которых ум я чарами расстроил[47].Невольно вспоминаешь слова старого Толстого о возможной гибели мира: вот только музыку жалко, сказал Толстой, выделяя ее из всего сущего.
Что дал и дает Шекспир человечеству? Попробуйте представить себе, что в одно прекрасное утро вы проснулись на земле нашей планеты без Шекспира. Все в ней остается, как было, но Шекспира никогда не существовало. И вы вдруг до остроты почувствуете обеднение, оскудение внутреннего мира человека. Нет и не было огромных образов, огромных страстей, возникших под его пером. Не было встречи Ромео с Джульеттой, убийства Дездемоны, монолога бездомного Лира в грозу, философского «быть или не быть» Гамлета, его тонкого профиля на фоне истекших четырех веков… Немыслимо это представить себе, страшно это представить себе, — Шекспир вросся в плоть и кровь человечества, он составная часть всей культуры. И с каждым годом множится его богатство, потому что растет человеческая мысль и учится находить в нем все новое и новое.
1964
VIII. Хьюлетт Джонсон
Советские люди знают и любят этого стройного, необыкновенно моложавого для своих лет священнослужителя в рамке седых кудрей вокруг высокого лба, с живым светлым взглядом и орлиным профилем. Они встречали его в Москве и в Средней Азии, на Украине и в Закавказье. Не раз поднимался он своей легкой походкой неугомонного, весь свет объездившего путешественника в президиум Конгресса сторонников мира. И мне посчастливилось видеть в Англии, как от восходит по ступенькам среди нескольких сот притихших слушателей, под кружевным переплетом необъятного купола Кентерберийского собора, на свою кафедру, чтобы произнести коротенькое вступление к дивному «Реквиему» Брамса, исполнявшемуся в соборе…
С этой кафедры в самом английском из городов Англии и в самом славном из ее старинных соборов — гордости английской архитектуры и истории — Хьюлетт Джонсон много, много раз говорил проповеди. Он вкладывал в них весь свой опыт увиденного и передуманного, всю свою живую душу современника, живущего на перегибе двух эпох — уходящей старой, капиталистической, и повой, социалистической. Мы не слышали этих замечательных проповедей, но их слышало множество англичан. В самые трудные минуты нашего строительства, когда на молодое социалистическое общество обрушивался поток клеветы и ненависти, с высоты церковной кафедры раздавался ясный, убедительный голос в нашу защиту. И сейчас, когда клевета опять возобновилась с повой силой, нам особенно отрадно услышать голос дорогого друга и мыслителя. Он звучит нам со страниц недавно вышедшей в Лондоне книги Хьюлетта Джонсона «Христиане и коммунизм», где собраны под одну обложку все произнесенные им проповеди.
Хьюлетт Джонсон — верующий христианин, он занимает высокое положение в английской церкви. Но христианство X. Джонсона — особого типа. Он один из тех редких, редчайших верующих людей, кто всей своей сове-стью чувствует противоречие между учением Христа и церковным его воплощением. «Честный исследователь, — говорит он, — находит много поразительных расхождений между христианством апостолов и христианством церквей, какое проповедуется и практикуется нынче». Вскрывая эти расхождения на ряде примеров, он показывает, как современная церковь, вопреки завету Христа, служит не идее добра и справедливости, а идее наживы и предпринимательства до такой степени явно, что частные предприниматели, «имея теперь в лице официальной церкви уже не критика, а союзника, во всю прыть пустились в погоню за наживой». Тем самым церковь морально разоружила себя, она «отреклась от исполнения своего долга». Этот процесс измены церкви евангельскому христианству сочетается, по Хьюлетту Джонсону, с отходом от диалектического материализма, заложенного в каждой настоящей религии, и с приходом к пагубному для религии идеализму и индивидуализму.
Выводы Хьюлетта Джонсона о материализме и даже диалектическом материализме религии для нас неожиданны: они совершенно противоположны нашему собственному представлению о философской сути религий. Но они аргументированы в книге очень свежо и смело, причем оказывается, что не один Хьюлетт Джонсон думает так, а еще и другие передовые мыслители англиканской церкви. Он приводит, например, интересную цитату из архиепископа Темпла: «Если бы меня спросили, какой момент в истории Европы я считаю трагическим, я бы ответил… тот период досуга, когда Ренэ Декарт (свободный от каких бы то ни было обязанностей) оставался целый день один взаперти в комнате с печкой». Именно в этот день Декарт сформулировал свое положенье: «Я мыслю, следовательно, я существую», и оно, по Темплу, как и по Джонсону, стало несчастьем для последующих веков, установив идеалистические приемы мышления. «Такая последовательность неверна, — восклицает Джонсон, — телега становится впереди лошади. Свобода жить должна стоять на первом месте по сравнению со свободой слова. Ни один младенец не требует свободы мысли, но каждый младенец требует свободу питаться». Идеализм дал церкви ложную теоретическую основу и помог превратить борьбу за справедливую жизнь на земле в отвлеченный идеал «царства божия на небесах», привел к нравственному компромиссу и падению служителей церкви, к распаду религиозного чувства, поскольку это чувство должно выражаться в братском ощущении бытия других людей, в коллективном понимании задач жизни, в преимуществе общественного начала перед индивидуальным. Капиталистический мир потерял чувство целого, он распался на одиноких индивидуумов, полностью антирелигиозных: «Абсолютно индивидуалистическое общество является абсолютно неверующим, сколько бы церквей оно ни строило».
Между тем на другом историческом полюсе нашего времени, в Восточной Европе, Хьюлетт Джонсон наблюдает совершенно противоположные явления. Отвергнув христианство и самое религию, молодой социализм осуществляет на деле все законы братской, проникнутой общностью интересов, равенством и справедливостью, человеческой жизни на земле. Подробно разбирает X. Джонсон все, что сделано и делается в нашей Советской стране в области народного образования, здравоохранения, социального обеспечения, права на труд, на отдых. Он рассказывает об этом, все время приводя соответствующие тексты из Евангелия, но самое изложение и раскрытие этих текстов не имеет ничего общего с церковным трафаретом и, нам думается, должно звучать могучей убеждающей логикой для миллионов простых верующих людей на Западе.
Вот один из примеров его аргументации. Многие из нас, прошедшие в дореволюционной школе обязательный «закон божий», помнят первую проповедь Христа, где он поставил над книжниками и фарисеями вдову из Сидона и какого-то сириянина, а взбешенные фарисеи выгнали его из города, повели на гору и захотели сбросить вниз. Никто в старой школе не задумывался на уроке, в чем тут соль. А соль, по Хьюлетту Джонсону, оказывается в том, что и сидонка, и сириянин, и больной самаритянин — все они были представители малых, униженных, притесненных народностей; и, ставя их в пример иудеям-фарисеям, Христос смело выдвинул для своего времени проблему национального равноправия. После такого чтения старого, знакомого текста Джонсон показывает решение национальной проблемы у нас, в Советском Союзе, привлекая попутно и капиталистическую действительность.
«Где вы найдете, например, в Южной Африке, Западной Африке или Центральной Африке, население коих намного превышает по численности население Средней Азии, свою собственную национальную Академию наук с 19 докторами и 90 кандидатами наук, какая имеется в маленьком Таджикистане? Таджикистан, население которого едва ли равняется одной четверти населения Кении, может ныне гордиться пятью тысячами собственных врачей и 58 газетами, издающимися на родном языке. На всем западном побережье Африки, население которого составляет 26 миллионов человек, не издается ни одной независимой газеты на национальном языке, которая делалась бы африканцами и для африканцев; здесь едва ли насчитывается в общей сложности два десятка библиотек, тогда как во всей Советской Азии с населением в 17 миллионов человек имеется 7407 библиотек».
При таком подходе к религии и социализму на первый план неизбежно выступают вопросы нравственности, и главная сторона, привлекающая Хьюлетта Джонсона в коммунизме, это именно этическая сторона. «Коммунизм как в теории, так и на практике по-настоящему нравственен», — восклицает он в книге и возвращается к этому много раз: «Пожалуй, именно в этой области (то есть в области морали) я особенно сильно почувствовал, и не только в России, но и во всей Восточной Европе, громадное облегчение совести, ощутил резкий моральный контраст между этим миром и западным. Путешествуя по коммунистическим странам, где бы я ни был — в городе, деревне или на курорте, днем ли, ночью, — я ни разу не видел ни в театре, ни в кино, ни в книжном магазине, ни в газете или журнале ничего такого, что было бы, с моей точки зрения, предосудительно видеть мальчику или девочке. Это я могу сказать только в отношении коммунистического мира».
Но глубокая нравственность коммунизма, по Джонсону, касается не только бытовых сторон жизни, она проявляется в том, что законченному, разрушающему всякое общество, всякую мораль индивидуализму старого мира коммунизм противопоставляет живительное сознание себя частицей в коллективе. Он пишет: «Именно потому, что коммунизму удалось восстановить… способность жить, сознавая себя частью целого, способность жить верой в силу, которую коммунист называет историческим процессом, определяющим судьбу человека (дело не в названии), он вновь воскрешает один из важнейших элементов веры в бога. Коммунист верит в нечто такое, что больше его, нечто такое, что в конце концов восторжествует и что воплощает в себе правду мира».
Хьюлетт Джонсон хорошо знает русскую историю и литературу, он цитирует Белинского, Толстого, Горького, дает блестящий анализ разницы западной и восточной церквей, роли православной церкви при царизме, способствовавшей развитию в русских людях атеизма, и характера православия как института (преобладание благотворительности и проповеди над обрядом в англиканской церкви, преобладание обрядовой стороны над граждански-проповеднической в православии). Говоря о старой России и о молодом Советском Союзе, он ни разу в книге не соскальзывает на то полузнание, при котором приводимые факты перестают быть убедительными. Наоборот, широкий его кругозор, умение обращаться с источниками, чисто английская черта необыкновенно ясной трезвости и осмысленности, с какою излагаются религиозные и философские положения, постоянное желание быть понятым простыми людьми, здравый смысл в самых, казалось бы, сложных вещах, которые принято считать «мистическими», делают его книгу одним из сильнейших человеческих документов.
Необыкновенно ясно излагает он и свое понимание диалектического материализма, прибегая к простым, каждому понятным примерам: «Посмотрите на дерево весной. Оно увеличивается в обхвате; кора его лопается, вдоль ствола образуются беловатые и зеленоватые трещины. Это новая жизнь рвется вверх и наружу, раздирая кору. Затем кора — теперь уже раздавшаяся — восстанавливается, чтобы служить защитой от земных бурь… Это новая деятельная жизнь вступила в противоречие с неподвижной корой и прорвала ее. Свежие ростки требуют свежей коры, подобно тому как новое вино требует новых мехов». Это почти по Энгельсу, но со вкрапленным и незаметно вливающимся в речь евангельским положением о новом вине и старых мехах. Все, чем богат опыт Хьюлетта Джонсона, что он видел в нескольких республиках нашего Союза, встречи, покорившие его воображение, цифры, подковавшие его знание, люди и новая их психология — все это привлекается им в проповедях, чтоб убедить, показать, заставить почувствовать интерес и доброжелательность к молодой стране социализма.
Много, много раз над страницами маленькой книги Хьюлетта Джонсона, полными глубокой и безоговорочной симпатии к нам, я ловила себя на чувстве невольной гордости за нашу родину, за великое дело коммунизма на земле, — и мне вдруг стыдно становилось за себя и многих из нас, не умеющих постоянно, остро, как на фронте войны, помнить и ценить сокровище, созданное нашими руками, и ярко пропагандировать его в своих собственных книгах, чтобы слово наше доходило до сердца читателей. Так сильна проповедь Джонсона, несмотря на чуждость его исходных положений марксизму!
Люди, подобные Хьюлетту Джонсону, не раз возникали и в прошлом. Из них выходили обычно борцы за очищение церкви, за обновление догмы, за церковную реформу. Деятельность Хыолетта Джонсона — другого типа. Внимание его направлено но на церковь, а на общество. Всеми доступными ему средствами, связанными с его личной глубокой верой, он стремится пробудить интерес своих прихожан и читателей к новому миру, возникшему среди гниющего остова старого мира. Своими словами и образами рисует он красоту и правду этого мира, показывает его как будущее всего человечества.
Удалось ли ему достичь цели, какую он сам себе поставил в начале книги, то есть доказать, что «между христианством и коммунизмом имеется множество точек соприкосновения на почве их деятельной и решительной диалектики»?
Мне думается, как бы ни отвечать на этот вопрос, нельзя не чувствовать, насколько раздвигается поле вашего внимания, сколько новых аргументов приходит вам в голову и какое теплое, братское чувство общности человеческих исканий, человеческих интересов охватывает вас при чтении его книги! И еще думается мне, что главное достоинство этой книги вовсе не в том, что она стремится доказать, а в том, что она действительно доказывает. А доказывает она, как свежий, честный ум нашего благородного современника рвется из лицемерия и фальши окружающего мира капитализма к гуманной и светлой практике новых общественных отношений. И красота этих отношений так велика для него, что он страстно, всем сердцем старается соединить ее с самым дорогим, что у пего есть на земле, — со своей чистой, младенческой верой в ранний коммунизм Христа и первых христианских общин.
1957
Итальянский дневник
I. Почти полвека Рим, октябрь 1961
Самый близкий человек, если не видишь его сорок шесть лет, узнается с трудом. Что же сказать о стране? Почти полвека отделили меня от того часа, когда зимой 1915 года в маленьком городке Бриндизи я спускалась по мосткам, в лодку, чтоб из нее, качающейся на бурном море, но скользкой веревочной лестнице взобраться на грязную, пахнущую смолой и рыбой палубу маленького греческого парохода. То был прощальный час со страной, где пришлось провести несколько месяцев в самом начало первой мировой войны.
Каким запомнилось мне лицо этой страны, любимой всем человечеством за красоту ее природы, горячий и открытый нрав населения, дивные сокровища искусства, собранные в ее музеях? Италию в ту пору зорко сторожили с двух сторон, сторожили ожидающими взглядами: немцы думали, что она «выполнит свой долг»[48], союзники надеялись, что она по примкнет к немцам, а сами итальянцы тайком готовились к неожиданному для всех выступлению — на стороне союзников. Но иностранец в Италии ничего этого не замечал или не хотел замечать, — он еще застал великую латинскую землю в тон се прелестной беспечности, какую любили и воспевали все «бедекеры» мира. Еще старые римские дороги пересекали ее, а старые итальянские ослики, разубранные лентами и побрякушками, взбирались по ее каменистым тропам; в городах еще ездили те самые одноконные веттурино с фонарями возле облучка, которыми в далекое время пользовался наш Гоголь; в Неаполе можно было встретить живописного «лаззарони», в Венеции ездить на настоящих гондолах, еще не изгнанных с Джудекки и Канале-Гранде моторными быстроходами и морскими трамваями. Автомобилей — раз-два и обчелся. Словом, это была веселая, бедная, беспечная Италия, грязная и прелестная. И, как в запачканной морской слизью перламутровой раковине, в ней матово светилась бессмертная жемчужина ее художественных сокровищ.
И вот ранним утром спальный вагон Москва — Рим остановился на перроне нового «Терминуса», великолепного городка-вокзала, с выходом в единственное метро, верней, единственную линию метро (вокзал — Колизей), и я спустилась из 1915 года в 1961-й. Мне удивительно повезло — по-тютчевски: «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые…» Почти два месяца, проведенных в Италии, десять городов, которые я объездила и обошла; дальние дороги, которыми удалось постранствовать, наконец, старый, испытанный метод нигде и ни в чем не пользоваться никаким средостением, будь то ученый гид или старый друг, а целиком отдаваться впечатленью, — метод, называемый мной «пешком и в одиночку», — помогли мне лицом к лицу, глаза в глаза встретиться с современной Италией в ее, как мне кажется, роковые минуты, — во всяком случае, в минуты, когда сама земля, казалось, бурлила под ногами. Есть в Неаполе вулкан, — не Везувий, разумеется, а его младший брат, Сольфатара, куда можно добраться пешком, чудесной дорогой к мысу Позилиппо. Это огромный круглый кратер, курящийся в отдельных местах серными испарениями. Корочка над ним затверделая, и вы ходите меж испарений, как в саду вьющихся дымов. Как будто безопасно, а все-таки там, глубоко внизу, что-то растревожено и раздражено, и если вы сунете в корку палочку, из отверстия дохнет на вас серой. Такой «Сольфатарой» казалась мне все время Италия, пока я ходила и ездила по ее земле, — и, как нарочно, в ее «затверделую корку» события то и дело втыкали палочку. А задача моя была — убегать от подземного дыхания, делать свое скромное исследовательское дело — сидеть в десяти крупнейших музыкальных библиотеках десяти итальянских городов, искать и находить старые, нужные для моей книги партитуры, заказывать их микрофильмы, добиваться на это разрешения, говорить, дружить и не дружить с десятками библиотекарей, музыковедов, архивистов — и, словно свечку от ветра, оберегать свой «восемнадцатый век», куда увела меня работа, от ветров и вихрей второй половины двадцатого. Но самый принцип «пешком и в одиночку» мешал этому. И прежде всего он столкнул меня с итальянской улицей.
Когда целый день подчас приходится проводить на улице, не заходя домой, то волей-неволей попадаешь в плен сегодняшнего дня, — разумеется, при знании чужих языков, что, как я уже не раз писала, советскому путешественнику абсолютно необходимо. Улица говорит с вами не только обрывками людских речей и восклицаний вокруг; она кричит сотней афиш, листовок, стенных объявлений, жирным шрифтом заглавий статей в киосках, надписями в витринах и на вывесках, названиями улиц и особенно записочками от руки на дверях ученых и неученых учреждений, пришпиленными кнопкой, — возле этих записок всегда толпится народ, и вы тоже начинаете «толпиться» с ними, по неистребимой человеческой привычке вызнавать, что там такое, чем интересуются другие. А как же приятно слышать и читать музыкальную итальянскую речь, так образно и так увлекательно передающую черты народного характера, тайны его историк! Словом, я не могла не «практиковаться» в чудесном языке, основы которого запомнила еще с гимназической латыни и расширила уроками перед поездкой. И вот, столкнувшись с сегодняшним днем, я уже не могла не сравнивать его со вчерашним. Какая поразительная разница с прежней Италией — разница цивилизаторская. Широкие, великолепные улицы, сверкающие витрины, поток автомобилей, молодец к молодцу полицейские (их подбирают, как некогда Фридрих солдат своих, по возрасту, по росту), надписи всех мировых торговых фирм, биржи и банки — сотнями, — видно, что старая беспечная Италия индустриализовалась и безумно торопится, безумно спешит… Но тут стоп.
Недавно, открыв книжечку очерков по Италии одного известного советского журналиста, я с изумлением прочитала на первых ее страницах восторженный дифирамб, пропетый автором по адресу «безопасности уличного движения в Риме и римской любви к пешеходу». Мне захотелось, прочитав, сделать трафаретный литературный жест (которого в жизни я ни у кого не наблюдала), то есть «руками развести». Ну и ну! И это было писано в то время, когда городские власти в Италии, печать, компартия и общественность итальянских городов буквально вопли испускали и делали всяческие, правда бесплодные, усилия, чтоб как-то уменьшить головокружительную смертность населения от несчастных случаев на улице. Каждый день каждая газета говорила о них. Инженер ведет машину с грязным смотровым стеклом, насмерть сшибает женщину, ранит двух маленьких детей; убита «беременная служанка 23 лет»; найден труп на дороге; двое мертвых, двое раненых на автостраде Милан — Турин; шофер выскочил из потерявшей управление машины, и его расплющил в лепешку грузовик; мотоциклисту, столкнувшемуся с автомобилем, оторвало ногу; женщина и юноша умирают под грузовиком при переходе римской улицы; шофер наезжает на мужа и жену, положение первого безнадежно… И тут же сообщение, что собрался специальный конгресс врачей но борьбе со смертностью на улицах от «несчастных случаев»; оказывается, эту смертность можно было бы подсократить на двадцать пять процентов, если б «врачебная помощь подавалась вовремя». Все это — в первые дни декабря и почти из одной газеты. А в те же дни «Унита» подводит итоги и публикует цифры: смертность от несчастных случаев на улице за полгода увеличилась на тридцать процентов, всего в эти шесть месяцев от нормальных, обычных смертей по старости и болезни умерло 82 746 человек, а от несчастных случаев 271 638 человек, то есть в три с лишним раза больше! Правда, несчастные случаи от участившегося и ускорившегося уличного движения всюду в Европе очень велики, но как раз в Италии мне пришлось прочитать об этом в газетах очень много.
Почему это происходит? Проведена масса превосходных дорог; заводы выпускают хорошие машины; городская жизнь кипит, она перенасыщена автомобилями. Но сигнализаций красным и зеленым на улицах в Италии сравнительно очень мало. По два-три разветвленных подземных перехода («соттопассаджо») в крупнейших центрах. Полицейских-регулировщиков явно недостаточно. В огромной части городских улиц, с их сумасшедшим автомобильным движением, машины летят не только с двух сторон, а подчас с третьей, четвертой (из переулков), поворачивают где попало, едут друг другу наперерез. Прохожие буквально кидаются в этот клокочущий поток, чтобы перейти улицу, и собственными плечами вынуждают автомобилистов притормозить. Как тут не сделать вывода: цивилизаторство… но не до конца. Не хватает, быть может, у городских учреждений средств, чтоб завести порядок, развитую сеть сигнализации? И это — при огромном внешнем росте богатства?
Но вот еще одно, для чего особенных средств не требуется. В Италии, как, впрочем, и в других странах европейского Запада, очень любят домашних животных. Любовь к милым пуделькам, обстриженным под верблюда или райскую птицу, сама по себе никак не мешает городу, если только эта любовь доведена до конца. У итальянских владельцев домашних животных она до конца не доведена. Ее хватает лишь на то, чтоб вывести животное погулять — непременно на тротуар, где оно оставляет свою визитную карточку; но не хватает на совочек и коробку, чтоб подбирать за ним. Не хватает, вероятно, и городских уборщиков. И пешеходу, кроме опасностей перехода улицы, грозит еще опасность запачкать подошвы на самом тротуаре. Опять задумаешься: цивилизованно, совсем как в других странах, — но… не до конца.
И еще уличное наблюденье. Культура города всегда измеряется удобством для горожан. Сотни тысяч туристов наводняют ежедневно Италию. Многие из них це-лыми днями на улицах. Где найти так называемые удобства? Есть, правда, в больших итальянских городах «отели диурни» — нечто вроде наших однодневных санаториев. В них можно принять ванну, причесаться, постричься, получить массаж, маникюр, электропроцедуру, купить железнодорожный билет. Помещаются они где-нибудь возле вокзала, на площади под землей или в глухих уличках возле рынков. Но, во-первых, за все в них надо платить, иногда — но произволу кассира — довольно большие деньги. Во-вторых, они работают не круглые сутки, даже не допоздна. А главное — их катастрофически мало, и находить их очень трудно. Коренные итальянцы скажут вам: зайдите в любое кафе! Но это опять сопряжено с расходами и с большим для вас напряженьем. И снова смутное ощущение — цивилизации, но не до конца, цивилизации, но в разрыве от бытовой культуры, — особенно заметное, когда сравниваешь с городами социалистических стран: там идет быстрый планомерный рост цивилизации вместе с культурой, и не для того, чтоб создаваемые вещи использовали живого человека, сдирая с него всюду, где можно, лишнюю копейку, а для того, чтоб живой человек использовал для себя создаваемые вещи, становящиеся по мере возможности дешевым или бесплатным общественным достоянием.
Я записываю эти мелкие уличные впечатленья от первого дня в Риме не потому, что сразу же захотелось обобщить их. Но, возвращаясь снова и снова в Рим из моих двухмесячных поездок по Италии и работ в итальянских архивах, я каждый раз испытывала это нарастающее ощущенье разорванности «двух Италий» — одной, бурно развившейся в ее индустриальном и финансовом броске вперед, и другой, интимной, загнанной в тихие улички городов, никогда в старой Италии не бывших провинциальными, а сейчас странным образом получивших печать провинциализма… Обобщение или, вернее, понимание пришло позже, когда были опубликованы в «Правде-) тезисы об европейском «общем рынке».
Вот уже четвертый год (а практически — третий) живет Италия в той «общей» Европе, экономическое начало которой положил 25 марта 1957 года так называемый «Римский договор». Дело шло тогда о создании «общего рынка» для шести государств: Федеративной Республики Германии, Франции, Италии, Бельгии, Голландии и Люксембурга. Эти государства провели сообща целый ряд мер: снизили таможенные пошлины в обоюдной торговле, удешевили промышленные и сельскохозяйственные товары (первые на пятьдесят процентов, вторые на тридцать — тридцать пять процентов), отменили ограничения в импорте промышленных товаров, ослабили валютные ограничения, предприняли целый ряд согласованных действий в области налогов, передвиженья рабочей силы и т. д. внутри своих стран и совместной линии в торговле с внешними странами, а также в выработке единого таможенного тарифа для ввоза товаров из стран, не входящих в «общий рынок». На первых порах это дало как будто блестящие результаты; они объективно перечисляются в «Правде». «Реализация Римского договора… содействовала росту капиталовложений, ускорила модернизацию предприятий… Снижение таможенных барьеров стимулировало переход к более массовому производству… Даже в своих уродливых капиталистических формах экономическая «интеграция» может дать толчок увеличению объема производства, внутренней и внешней торговле»[49], — пишет «Правда». Но вместе с внешним расцветом индустрии и торговли пришли его теневые стороны. Разорилось множество мелких предприятий, и сотни тысяч ремесленников, миллионы крестьян сняты с земли, — в одной только Италии «за последние 5 лет более 500 тысяч крестьян и батраков были вынуждены покинуть сельское хозяйство»[50].
Вот этот «бросок» вперед от толчка, данного «общим рынком», я и застала сейчас в Италии — одновременно с тем бессилием «обеспечить гармоничный рост экономики» и сговором монополий «за спиной народов, против их коренных интересов», о которых пишет «Правда».
Для меня это отразилось в первых моих беглых впечатлениях как странная денационализация древней итальянской культуры и своеобразные «ножницы» между ее внешним экономическим блеском и внутренней, интимной жизнью народа.
II. График на пьяцце Сан-Марко Венеция, ноябрь
Проснувшись после глубокого сна (сон в Венеции глубок и освежающ), я вместе с другими постояльцами маленького, одноименного с площадью отеля поспешила на пьяцца Сан-Марко.
Отель мой втиснут в углубление между узким, похожим на черный ход каналом и ступенями, ведущими на знаменитую площадь. Ранним утром по задворкам канала скользят уцелевшие от натиска моторных лодок старые, облезлые гондолы с чернорабочими в фетровых шляпах — они развозят по ресторанам и лавкам горы овощей, ящики с бутылками, морскую живность в чанах. Особое, шелестящее скольжение гондол но воде, хруст воды под веслом, бой знаменитых башенных часов с площади, какие-то эоловы звуки ветра и моря, проносящиеся, как дуновение, под аккомпанемент дробного (словно горох сыплется) стука и шарканья подошв пешеходов о мостовую, — вот главная гамма звуков, обволакивающая ваш слух. Ничего похожего на синтетический городской визг тысяч колес и моторов, — ничего, несмотря на близость промышленных центров, грязнящих чистоту неба; свежий морской воздух, даже под проливным дождем отражающийся в дождевых каплях чем-то голубым и небесным.
А дождь в этот ноябрь в Венеции был затяжной, и, когда я вышла на площадь, она почти вся оказалась под водой. Мокрые, почерневшие голуби слетались на плечи прохожих, как на телеграфные столбы. Прохожие шли но длинным деревянным мосткам, не рискуя ступить на площадь, — нога ушла бы тогда на добрую четверть метра в воду.
Путь мой вместе с другими лежал к кампанилле, на древней поэтической стене которой висел самый прозаический график. По широкому белому квадрату, покрытому клетками, очень медленно, но видимо для глаз ползла черная игла, указывая растущий подъем воды. В широкий пролет старой площади перед Палаццо Дукале было видно, как вздутое море наступало на берег черной чертой выше белой береговой линии. График на стене кампаниллы отмечал: максимальная высота прилива — 151 см — была 12 ноября 1950 года, а минимальная — 121 см — 14 февраля 1934-го. Люди стояли и поглядывали с опаской то на движение иглы, то на бурно вздутое море, и вся Венеция, уходящая в поблекшем золоте, в полустертых линиях своих кружевных фасадов, в сползающих со стен розоватых и голубых красках, казалась неимоверно хрупкой перед вздымающейся Адриатикой.
Собор святого Марка был открыт и слабо освещен, — там, в полутемноте, начиналась месса. Как в клубе до начала «мероприятия», стулья с высокими спинками и приступкой (вместо обычных скамей) стояли в углу собора, перевернутые сиденьями друг на дружке. Пришел служитель и начал расставлять их перед алтарем, а вошедшие в собор принялись рассаживаться. Зазвучал орган. Это был превосходный орган собора святого Марка, на котором органисты почитают за честь играть. Но прелюдия рассыпалась так приглушенно и скупо, словно начиналась не месса, а панихида по исчезающей Венеции.
В этот же день и час над входом в Палаццо Дукало (или по-русски — во Дворец дожей) широкое красное полотнище вывески возвестило, что здесь открыта выставка общества «Наша Италия», «защищающего Венецию». В маленьком зале были развешаны на стенах и разложены на столе десятки фотографий. Они сопровождались крупными надписями. И тот, кто провел на этой скромной выставке хотя бы один час, узнавал о Венеции больше, чем из сотни «бедекеров».
Вот она, Венеция, еще сто лет назад, — сколько зеленых пятен в ее сложных городских уличных переплетах, на той же площади святого Марка, на крохотных пятачках внутри города, где сейчас редко-редко увидишь одинокое дерево, да и то не в земле, а в кадушке, словно стоит оно не на улице, а в комнате.
Вот старый поэтичный квартал, уходящий отражением своих домов в зеленые воды канала.
Вот островок, весь покрытый парком. Сейчас этот островок застроен, от парка не осталось травинки, квартал потерял лицо. Энергичные выражения под фотографиями: «деградация античного облика единственного в мире города», «прогрессирующее уничтожение зелени на его улицах и вокруг Римской площади», «некомпетентная надстройка и застройка», «загрязнение Адриатики промышленным центром Маргера»…
Надписи раскрывали угрозу Венеции со стороны моря, постепенный подъем воды, размывание суши, ее уменьшение, сжатие. Они напоминали о том, что для вмешательства в архитектурное целое Венеции необходимо глубоко знать ее природный баланс, ритмическое соотношение земли и моря: «Природное положение Венеции определяется вековой борьбой земли и воды, и в то время, как земля неминуемо уступает, море с каждым днем становится все более угрожающим. В прошлом веке предполагалось спасти Венецию от воды рек и моря, которая пыталась обрушиться на лагуны. Сейчас, чтобы избежать ущерба от высоких приливов, исчисляемого в миллиарды лир ежегодно, предполагается комплекс мероприятий… Но, с другой стороны, вода и воздух в Венеции обладают ритмом, и соотношение их не терпит никакого вмешательства без глубокого знания местных условий…»
Страстный призыв к спасению родного города, к сохранению его античного облика, к бережливому и знающему обращению с ним, а в то же время желание «облегчить невыносимое положение живущих в нем», провести в старых домах необходимейшие санитарные меры, благоустроить их, очистить воздух и воду (от засолонения) — все это глядит на вас с плакатов, фото и надписей, с постоянных сравнительных столбцов «вчера» и «сегодня», причем сегодня оказывается все хуже и хуже вчерашнего.
Стоишь в маленьком зале патриотической выставки я тут же представляешь себе жизнь вне ее — обычную венецианскую жизнь, знакомую сотням тысяч туристов, художников, иностранцев. Вот зажигаются огни, десятки улиц и уличек, лабиринтом перекрывающих сухопутную Венецию, все эти «калли», «корти» и «камни», как зовутся они только в одном этом городе, внезапно трассируются огнями, словно ветки рождественской елки цветными лампочками. Никакой план не нужен, да и нет плана, где уместились бы все повороты и завороты шириной от локтя до локтя. Идете ли вы от Сан-Марко по залитой светом Мерчерии или любой другой уличкой, все тропинки ведут к Риальто, и надписи указывают стрелками — к Риальто, к почте, назад к Сан-Марко. Перешли вы Риальто и, сколько ни блуждайте, выйдете к белой Академии, к площади Маргерита, к единственной Римской, где стоят автобусы, готовые отвезти вас в Падую, Винченцу, — а эти автобусы так необыкновенно удобны, так прочны, так спокойно движутся и со стенки переднего сиденья так утешительно развлекают чудесными цветными картинами итальянских пейзажей, — уж не приснилась ли обществу «Наша Италия» близость какой-то катастрофы?
Вспоминается другой путешественник. Ровно сто семьдесят пять лет назад, 9 октября, Гёте записывал в свой итальянский дневник в Венеции: «Драгоценный день от утра и до ночи! Поехал мимо Палестрины в Кьоджу, где ведутся большие работы, называемые Мурацци, чтоб оградить республику от воды… Вообще Венеции нечего беспокоиться: медлительность, с какой действует море, дает ей тысячи лет времени, и венецианцы уж сумеют, умно помогая своим каналам, остаться хозяевами положения».
Но Гёте не предвидел того, что случится в Италии. Вернемся еще раз на выставку, перечтем еще раз надписи. Они составлены острее, чем печатный проспект, лежащий тут же на столах. Но и в них, и в печатном проспекте нет, в сущности, того адреса, к кому обращаются венецианские патриоты, нет имени обвиняемого. Кто же грозит неграмотными застройками, кто уничтожает зелень, не улучшает, а ухудшает жизнь рыбачьего населения? Ведь море, веками кормившее рыбаков, сейчас подступило уже к той Кьодже, рыбачьему поселку, и всем поселкам вокруг нее, где Гёте наблюдал строительство каменных охранных дамб… Не называя виновников, общество «Наша Италия» (и тот «Высший совет по общественным работам», заявление которого оно цитирует) становится, в сущности, «гласом вопиющего в пустыне». А предложения свои: с одной стороны, сохранить античный лик города в его традиционных чертах, с другой — увидеть Венецию «славной», «великой», центром Северной Италии, наряду с Генуей, Турином и Миланом, воротами между Западом и Востоком, то есть чем-то вроде старой могучей Венецианской республики, — оно делает внутренне противоречивыми. Что же происходит в Венеции на самом деле?
Насколько позволительно чужестранцу разобраться в сложной венецианской проблеме, используя беседы с жителями города и чтение газет, грозит Венеции не столько вода, сколько «большой бизнес» американо-итальянского капитала. Туризм для Италии — один из крупных источников ее дохода. Но туризм итальянский в нынешнем его развитии, особенно в таком центре, как Венеция, — это еще не «биг бизнес». Гостиниц мало, и они малы. Дорог нет — негде повернуться машине. А что, если засыпать кое-какие каналы, разрушить кое-какие старые дома, провести в Венеции вместо каналов большие удобные магистрали, по которым могли бы мчаться машины, да построить огромные, комфортабельные многоэтажные гостиницы, — получится выгодное помещение капитала, общее благоустройство (для тех, кто может платить за него), переход от кустарничества к широкому полотну «американского образа жизни»! Как мне рассказывали венецианцы, вот это и есть планы, угрожающие чудесному городу не с моря, а с суши. А море, конечно, тоже не останется нейтральным, поскольку «строительный размах» неизбежно нарушит тот самый природный баланс, тот ритм воды, земли и воздуха, которым поддерживается существование волшебного морского города. Не уйдет ли он в море, как некогда ушла Атлантида, и не унесет ли с собой все бесконечно прекрасное и дорогое человечеству, что создавалось веками гением итальянского народа?
На примере Венеции в очень острой степени видишь, в сущности, то, что происходит и в других итальянских городах. Милан, богатый и зажиточный, с большими научными учреждениями, крупной интеллигенцией и крупной индустрией, перестал быть прежним Миланом. Никто, видевший его пятьдесят лет назад, не узнает этого города. Пройдите от ставшего совсем непрезентабельным малюсеньского театра Делла Скала через роскошную торговую галерею Виктора Эммануила на площадь знаменитого Миланского собора. Вы попадете на стройку: пыль, камни, известь, грохот, деревянные мостки над вырытым котлованом, а чудный белый собор стал серым и кажется чихающим от пыли, когда взъерошенная стая голубей вдруг взлетает у его потемневшего входа. Это строится метро, и не нашли никакой другой трассы, как провести ее под мировым памятником итальянской готики, начатым в XIV веке. А Падуя, или Падова, как величаво звучит она по-итальянски, город бессмертно прекрасных зданий! Вы читаете на фронтоне одного из них надпись, вырезанную много столетий назад, а из ворот его дворика-музея бросается вам в лицо выхлопной газ, вонь, ругань, тяжелый хрип грузовиков. Может быть, это неизбежно, не знаю, — но почему-то в сказочных двориках сказочных городов Италии сейчас непременно устраиваются… гаражи.
Улучшает ли все это положение тех, кто создает материальные ценности на земле? Если судить по газетам — катастрофически ухудшает, обостряет противоречия, усиливает чувство безвыходности. Каждый день читаешь о забастовках рабочих, служащих, учителей.
В Венеции я только раз, в первый же день, заблудилась. Тщетно смотрела план, меняла очки, чтоб разглядеть уличные надписи, стояла бестолково в толпе и не знала, куда повернуть, и тут ко мне подошла очень старая венецианка — чья-нибудь, должно быть, прабабушка, если только не осталась она полной бобылкой на белом свете. Ноги у нее были отечные, неимоверно толстые, в чем-то вроде обмоток и в стареньких, починенных руками шлепанцах; платье светилось на швах, шея тонкая, как у ребенка, с головой, трясущейся от глубокой старости; белые с желтизной волосы под черной кружевной, штопаной-перештопаной косынкой, глаза выпуклые и ласковые, и добрый морщинистый рот, вобранный внутрь, какие бывают у очень деликатных людей. Я начала было свое «Дов’э, пэр пьячерэ…» — тысячный вопрос за день: где находится, скажите, пожалуйста, — и тут же осеклась. Мне сделалось стыдно утруждать такую полную старость. Старуха держала в руке очень заботливо, как дорогую вещь, пучок зеленого салата; единственный пучок, должно быть, к обеденному столу, с капелькой оливкового масла и маленьким «папино»; она торопилась восвояси. И я осеклась. Но она левой рукой, очень холодной, как у доживающих свой век людей, взяла мою правую руку (в левой я вверх ногами держала свой план) и дружески, сестрински, не знаю, как лучше назвать, закивала мне, помогая спросить, куда мне нужно. А потом, все держа за руку и все улыбаясь мне, семидесятидвухлетней, как ребенку, потому что самой ей было полных восемьдесят, повела за собой и объяснила, как надо идти, не путаясь на поворотах. Но когда я хотела было чем-нибудь отблагодарить ее, угостить пирожным, купить шоколадку, ее старое морщинистое лицо вдруг обтянулось в какой-то патрицианской гордости, в чем-то кладущей «табу» на всякую такую попытку, — и я, не удержавшись, только поцеловала эту венецианку, целуя в ней гордость народной доброты и дружелюбия, гордость тем, что, ничего не имея, она может дать другому, оказать кому-то помощь. Глаза у меня — от старости — на мокром месте. И, придя домой, я поплакала. Мне вдруг страстно захотелось, чтоб итальянский народ не мучился в заколдованном кругу своих проблем, которые нельзя разрешить, не разорвав этот круг и не став хозяином своего отчего дома. И чтоб у старой венецианки было к столу больше, чем один-единственный зеленый пучок салата.
III. Пармская гвоздика Парма, ноябрь
За день до моего приезда в Парму там случилось «очередное» событие. Пишу «очередное», потому что не в первый раз за последние месяцы фашистские молодчики, считающие себя итальянцами, бросают бомбы под любимые народом памятники, посвященные самым светлым страницам родной истории. На этот раз бомба была брошена под памятник «Партизану» на площади Маркони. Устроившись и оглядевшись в городе, я, разумеется, пошла на эту площадь.
Но прежде — о небольших итальянских городах и о Парме в частности.
Каждый город в Италии — как стихотворение, о котором хочется сказать, что оно «единственное». Нельзя их сравнивать друг с другом, нельзя ходить по «достопримечательностям», как это делают группы туристов, то есть сразу же смотреть картинные галереи, внутренности соборов, не пережив предварительно встречу с лицом самого города, с его цельным ансамблем, с его живым внешним обликом, потому что именно это лицо, этот облик отразились и в характере местных живописных школ, и в излюбленных красках местных художников — в колорите картин. Между Падуей и Вероной, к примеру, какой-нибудь час езды, а различаются они до полнейшего, абсолютного несходства.
Вы приезжаете в Верону из Венеции поездом — и вас сразу с вокзальной площади охватывает необычайный простор, масштабность, пространственная щедрость Вероны, перевитой красивым, полноводным голубым кольцом реки Адидже. К ее античной старине (древней арене, развалинам цирка-театра) приживаются как-то уютно памятники средневековья и Ренессанса (феодальный замок Кастельвеккио, элегантная площадь Синьории со статуей Данте, на голове которого любят сидеть голуби), и центром этого содружества веков служит двухтысячелетняя, но ультрасовременная Пьяцца-делле-Эрбе, где и в наши дни, так же как в древности, обретается открытый рынок всевозможнейшей зелени, пекут и жарят на железных печурках, шипят в оливковом масле воздушные оладьи, удивительно похожие на крымские чебуреки, висят гирляндами, в листьях, молодые апельсины, и острый их запах — особый итальянский запах поздней осени, начала созревания апельсинов — пронизывает воздух от раздавленных желтых корок под ногами. При мне, когда я собиралась пройти по старому ходу в Кастельвеккио, откапывали новый подземный ход туда, лишь недавно открытый. Работал маленький головастый экскаватор, пядь за пядыо открывались каменные плиты входа, и было интереснее смотреть на рабочих, балагуривших внизу, чем подниматься одной в холодные залы замка, где, кроме меня, ни единого посетителя не было. Так и осталась Верона в памяти простором ее площадей, синью ее реки, шипением оладий на рынке Эрбе, голубями на голове Данте, раскопками во дворе Кастельвеккио — чем-то очень светским, народным, терпимым и к людям, творящим историю, и к самой истории.
А вот Падуя, или по-итальянски Падова, легла в памяти совсем иною. Если Верона из любезности к туристам показывает им выдуманную могилу Джульетты и отчий дом Ромео, то Падуе совершенно не к чему выдумывать. В нескольких километрах от нее два местечка, Теоло и Лувильяно, оспаривают реальное рождение Тита Ливия, и самый современный факультет литературы Падуанского университета, «Ливиано», назван его именем; в Аркве, пригороде Падуи, умер Петрарка и сохранился его рабочий кабинет; ботанический сад Падуи вдохновил Гёте на «Метаморфозу растений»… Тесно от множества имен, а когда автобус из Венеции подъезжает к Падуе, как по бархату, — вы сразу оказываетесь в сжатом, стесненном пространстве, тесно застроенном гениальнейшими памятниками архитектуры.
Если вы приехали сюда во время фиеры (ярмарки в честь своего святого, потому что у каждого итальянского города есть свой святой), вам попросту не дадут ходить как попало, вас подхватит людской поток и понесет по узкой улице, не к ратуше и обычному центру итальянских городков, а к базилике Дель-Санто. Святой — Санто — так фамильярно, без имени, зовут здесь площадь и базилику Антония Падуанского, в ней похороненного. И когда вас вынесет праздничная толпа на эту площадь, вы не сможете не ахнуть. Словно сделанная руками нечеловеческими, как гигантская игрушка, в невероятной законченности своих строгих геометрических линий, с несколькими круглыми куполами между остроконечных, напоминающими что-то византийское и, во всяком случае, восточное, стоит — с ног до головы в каком-то совершенстве доделанности, замкнутости на самой себе, словно не вкопанная фундаментом в землю, а просто поставленная готовой на плиты площади, — самая очаровательная, — нет, не то слово, — самая убедительная базилика из всех базилик, а вокруг нее ярмарка.
В XVIII веке во время фиеры в маленьких итальянских городах не только звонили во все колокола и сотнями продавали изображенья святых: то было единственное время в году (кроме еще декабрьского карнавала), когда местные театры, не имевшие стационарных трупп, ставили с гастрольным составом оперы, специально к этому случаю заказанные композиторам, чаще всею на самую языческую тему. Так сочетались в день именин святого земная и неземная любовь народа… Красноватый оттенок знаменитых фресок Андрея Мантенья, которыми гордится Верона, словно отразил в себе красноватый оттенок всего города с его щедрым багровым солнцем на закате. По в Падуе, в крохотной церкви Марии Аннунциаты, вы наслаждаетесь строгими, человечными фресками Джотто и невольно ассоциируете их изжелта-смуглый отсвет и какую-то правдивую, берущую вас в плен убедительность со всем обликом смуглой Падуи. В сети узких, заменяющих реку каналов; в ранах разрушений, нанесенных войной; в тесноте густо застроенных домами-шедеврами улиц; в смуглоте и завершенности фресок Джотто и линий базилики запомнилась мне ученая, строгая, замкнутая Падуя, на дверях университета которой так неожиданно и так приятно было прочитать объявление о кружке студентов, изучающих русский язык.
Разные это города. И Парма, к которой я все никак не приближусь своим затянувшимся предисловием, тоже совсем другая, не похожая ни на Падую, ни на Верону, Парма — город музыки, родина дирижера Тосканини, место жизни и творчества Верди, погребения Никколо Паганини. Разыскивая как-то нужный мне старый театр, я незаметно дошла до кладбища и там, следуя за чьими-то похоронами, между склепами знатных итальянских фамилий набрела на четырехугольный, очень безвкусный, по-мещански, по-семейному сделанный памятник с невзрачным и непохожим бюстом великого скрипача. С четырех его сторон были вычурные надписи, видимо придуманные не очень интеллигентными родственниками, и только в одной из них мелькнуло что-то теплое: «Сердце щедрое, дававшее широко родным, артистам, беднякам…» Бедный Паганини, до чего же мало дали ему в ответ!
Так вот, сперва кажется, будто Парма даже не старый город, так много в ней, особенно в улицах, прилегающих к центру, какого-то мещанского XIX века, с домами-квартирами средней руки. Консерватория официально родилась ровно в одном году со мной, пинакотека перестроена и завершена в прошлом столетии, театр… я все разыскивала старый театр «Дукале», и наконец меня подвели к кинематографу-модерн, — оказывается, названному по старинке «Дукале» (герцогский). Но все это лишь на первый взгляд.
Корни культуры Пармы уходят очень, очень глубоко в прошлое, хотя город и не хвастается античными древностями. Моя однолетка, консерватория имени Бойто, выросла из тех маленьких придворных хоровых школ, где обучали пению и музыке для церкви и для сцены. Картинная галерея — одна из интереснейших в Италии — тоже выросла из маленьких частных коллекций. Собор, колокольня и баптистерий, совсем не похожие на «дуомо», «кампаниллу» и «баптистерио» других городов, стоят себе на площади, храня неизгладимую печать семи-восьми веков; тесно, рядами примыкающие друг к другу полуарки-окна собора в их однообразной симметрии и такие же, на пчелиные соты похожие аркады-окна баптистерия, особенно в темноте, когда на них брошен яркий луч прожектора, оттеняющий скупые линии и многочисленные черные впадины окон, — это суровый XII век.
Ну, а театр «Дукале»… я его все-таки нашла. Так назывался в XVIII веке театр герцогов Фарнезе, и он сохранил свое имя Фарнезе. Он и сам сохранился бы в целости, если бы во время войны на него не упала бомба, разрушившая его хрупкое деревянное совершенство, созданное в стиле и под влиянием Палладио. Выйдя из пинакотеки, я наткнулась на дверь с надписью: «Вход посторонним воспрещен». Там, за этой дверью, в одном из залой огромного каменного здания дворца Пилотта, пармские «пчелы», словно лепя соты из воска, доску за доской восстанавливают, в точности по чертежам, старый деревянный театр Фариезе с его амфитеатром над большой круглой ареной посередине и двумя рядами арок-лож над скамьями амфитеатра, — и в этом упорстве восстановления своей страны, упорстве наслоения нового на старое, мне кажется, одна из симпатичнейших черт города Пармы, носящая поистине «пчелиный» характер.
Я постучалась в дверь. Двое рабочих открыли мне. Хорошо узнавать вещи от тех, кто их делает собственными руками. Рабочие с охотой пустились в рассказы. Они сами все это узнавали в работе, где кто сидел, куда входил герцог с семьей, какая была в старину акустика и в чем была занятность спектакля для восторженных зрителей. Ну, а эта большая деревянная площадь в середине, похожая на бассейн? Она, оказывается, действительно была бассейном; в нее напускали воду, — вот до этой самой линии, показал мне рабочий; на воде плыли, по ходу спектакля, гондолы с зажженными фонариками, пели великие певцы и певицы, устраивались морские сражения, или, как в онере «Олимпиада», тут, спустив воду, показывали состязания, античный спорт, величавые шествия с факелами и флагами. И так как рабочие часто повторяли: «во время фиеры», — невольно подумалось: не от этих ли шумных празднеств на итальянских фиерах родилось и само слово «феерия»?
Разные, совсем не похожие друг на друга, стоят на небольших расстояниях (если нашим масштабом мерить) итальянские города. Но в этих разных городах есть одна общая святыня: великая дата праздника воссоединения Италии и движения Рисорджименто. Почти в каждом городе есть и свой музей Рисорджименто, правда не упоминаемый в путеводителях. Там вы увидите портреты участников движения, простое, широкое, по-мужицки обрамленное бородой лицо Гарибальди с добрым взглядом под прямой полоской бровей и высоким покатым лбом, увидите Джузеппе Мадзини с его обликом русского интеллигента-шестидесятника: в седой бородке, в стриженных под скобку волосах над ушами.
Есть и в Парме, городе героических партизан, грудью защищавших свободу от иноземцев, свои святыни народного патриотизма. Па площади Маркони, в центре города, стоит замечательный памятник «Партизану». Редко сейчас, в наши дни, современная тема так слитно сочетается с подлинным искусством, как в этом памятнике, который жители Пармы зовут «Монументо аль Партиджано».
Па высокой неотесанной глыбе — огромная статуя борца за народную свободу. За плечами его развевается короткий плащ, в руке он держит обращенное вперед с приспущенным дулом оружие, готовое тотчас же к бою. Ветер откинул и приподнял со лба пряди его густых, давно не подстриженных волос, щеки обросли щетинкой, на мужественном, спокойно-суровом лице — следы бессонных ночей, глубокого напряжения, непоколебимой воли, — борец, отлитый из одного куска; характер несгибаемо твердый; взгляд, устремленный дальше своего времени, мимо мелочей дня, и в каждом штрихе, в каждой складке одежды, в каждой вздувшейся на руке жилке то редчайшее качество, которое мы называем цельностью в человеке. Чудная статуя, достойная стоять среди бессмертной классики прошедших времен.
И вот под эту именно статую, совершенную в своей человечности, 9 декабря фашистские молодчики, почему-то считающие себя детьми Италии, подложили бомбу. Но монумент «Партизану» не взорвался. Он стоит, как стоял. Впрочем, кое-что вокруг него изменилось.
Я подошла к памятнику, когда на площади было сравнительно уже мало народу. Полицейские стояли в сторонке, зорко оглядывая каждого, и непонятно было, кого и что они сейчас охраняют. Но памятник, стоявший раньше на круглом газоне травы, все еще зеленой, оказался уже не на зелени, а как бы на крови: все пространство вокруг пего было закидано крупными красными свежими гвоздиками. Недавно прошел дождик, и на гвоздиках сияли его капли. А среди гвоздик были воткнуты палки с досками, покрытыми множеством надписей:
От «службы электричества»: «Мир, всеобщее разоружение! Нет фашизму, вива Сопротивлению!»
От «службы транспорта»: «Вива партизанам, смерть фашистам, вива мир!»
С разными вариациями эти «вива» и «нет» повторялись все по тем же адресам — ни один фашист не осмелился воткнуть сюда палку со своим лозунгом. Итальянцы обозначают «вива» (жизнь!) одной буквой, той самой, которую немцы зовут «дубль вэ» — двойное вэ — и которая пишется так: w. Если опрокинуть эту «дубль вэ», получится буква «м», и ею обозначается смерть, «морте». Вот выразительные иероглифы, созданные классовой борьбой современности!
Пока я списывала надписи под настороженными взглядами полицейских, к памятнику подошла большая группа школьников с пожилым учителем во главе. Он стал им объяснять что-то тихим голосом, а я протянула руку к одной близлежащей гвоздичке и встретилась с ним глазами. Ласка вспыхнула в этих немолодых, очень усталых глазах, и учитель кивнул мне головой. Жест говорил: возьмите, не бойтесь. В средней школе, где он, может быть, преподает историю, есть учебник, где школьники читают вдохновенные строки Мадзини: «Клятва молодой Италии»; по-итальянски они похожи на чудную музыку, и смысл их возносится необыкновенной звучностью каждого слова. Клятва дается именем любви человека к родному месту, к матери, родившей его, к детям, которые будут жить после него; во имя ненависти человека ко всякому злу, несправедливости, насилию, чужеземной агрессии, во имя стремления души и свободе и невозможности быть свободным, стремления души к добру и невозможности творить добро, во имя античной славы и современного позора, во имя слез итальянских матерей и сыновей их, умерших под пытками, в тюрьмах, в изгнании… Дивные слова, которые так отрадно, должно быть, учить наизусть по-итальянски. И учитель как будто повторял их детям, а может, они и сами хорошо помнили их из учебника.
Туристам, уезжающим из Пармы, есть что прихватить с собой для подарков домашним. Многие покупают глыбы знаменитого пармезанского сыра, неизменного спутника — в натертом виде — итальянского супа. В маленьких парфюмерных лавочках продаются флаконы всех размеров и на всякую цену знаменитой пармской фиалки, духов «Вера виолетта», помеченных годом их первого изготовления — 1870. Но я увезла с собой не сыр и не духи, а крупную красную гвоздику между страницами итальянского учебника истории — пармскую гвоздику от памятника «Партизану».
IV. Под портиками Болоньи Болонья, ноябрь
От Пармы до Болоньи поездом чуть больше часа, а настроение жителей и вся атмосфера города — деловитого, дружелюбного, шумно-торопливого — совершенно другие, не говоря уже о внешнем его облике. Этот внешний облик пытается определить каждый путеводитель на своем языке. Итальянцы (как и Гёте когда-то) называют его городом аркад, французы — городом колоннад, немцы, любящие точность, — городом «крытых проходов». Это — единственное место в Италии, чья архитектура сразу запоминается людьми, даже совсем не искушенными в зодчестве, потому что она уникальна. В итальянских городах крытые тротуары встречаются довольно часто; но чтоб все тротуары во всем городе (за ничтожнейшим исключением!) оказались крытыми, словно каждый дом выходит на улицу портиком, — это видишь только лишь в Болонье. Пешеходу не страшно летом жары и солнца, зимою дождей и снега, он все время идет как бы под сплошным каменным зонтом, отгороженный от улицы непрерывным рядом колонн.
Как и в Парме, я остановилась в так называемом «Жолли-отеле», самом современном детище модного «народного капитализма»: мне рассказали друзья в Милане, что в разных городах Италии (кроме наиболее посещаемых туристами — Флоренции, Рима, Неаполя, Венеции) группа предпринимателей построила ультрановые здания с маленькими комфортабельными номерами и втянула весь свой служебный персонал в их процветание. По словам рассказчиков, каждый служащий не то пайщик предприятия, не то получает премии и отчисления — словом, заинтересован материально в доходе от этих гостиниц. Не знаю, насколько оно верно, могу только сказать, что в квадратиках «Жолли-отелей» можно отлично поработать, принять душ и хорошо выспаться, а последнее в Италии для советского человека не так-то легко: после наших пружинных кроватей, неумеренных немецких пуховиков, чешских взбитых подушек, огромных французских лож в альковах или под балдахинами — твердые и узкие итальянские кровати с их совершенно плоскими и твердыми как камень подушками — вещь, к которой не сразу привыкнешь.
Освоиться с Болоньей можно тотчас, даже по заглядывая в план. Как огромный компас, возвышаются на ее центральной площади две сестры-банши — высочайшая, Азинелли (около ста метров), и поменьше, Гаризенда (около сорока девяти метров). Они стоят, как две ноги Гулливера над станом лилипутов, ничем не разукрашенные и по увенчанные в своей суровой неказистости, а как бы обрезанные ножом, — два длиннейших, узких, вытянутых неимоверно к небу ящика, но когда долго поживешь в Болонье, начинаешь любить их очевидное безобразие, любить вместе со всем коричнево-красным городом. Надо только приехать сюда не как турист, а с определенной деловой задачей, и, если нужное вам учрежденье в центре, две сестры-башни становятся вашими надежными указателями, а видимый наклон Гаризенды (падающая башня) воспринимается вами как поклон.
Работа моя была в коммунальной библиотеке имени падре Мартини — самой знаменитой музыкальной библиотеке всего мира, известной под старым названием «Лицео Музикале».
Задолго до Болоньи и уже спустя много дней после нее мне пришлось немало поработать и в других библиотеках и оценить драгоценную возможность чувствовать себя в итальянском городе рабочим человеком. Рано утром в Венеции я с местными служащими и рабочими поджидала пароходик-трамвай на остров Сан-Джорджо, и вот уже шумела зеленая волна под бортом, свистел ветер, донося с того берега певучий звук колокола, и мы причаливали прямо к дверям великолепного здания Фондационе Чини. Там находилась нужная мне библиотека с драгоценным собранием старых либретто, принадлежавшим когда-то Роланди. Я уже свыклась с тем, что на Западе частные собрания, входящие в библиотеки, сохраняют имена своих прежних дарителей или продавцов и так и входят в каталоги, помеченные этими именами. Свыклась и с тем, что в итальянских музыкальных библиотеках почти всюду (за малым исключением Пармы и Флоренции) директорами их были женщины. Встреча с ученой итальянкой, подчас очень молодой или моложавой, блестяще владеющей французским языком, прекрасно знающей состав своей библиотеки (или архива), в кругу помощников, тоже почти всегда женщин, — вот одно из самых приятных для меня итальянских впечатлений. В Венеции, например, я работала с синьорой Риттой Казагранде. Рабочий день в библиотеках короток. Зимний день тоже. За зеркальным» окнами тихого кабинета, окруженного до потолка полками с манускриптами, угасал перламутровый венецианский закат. А мне разрешали почти одной засиживаться и засиживаться, и синьора Казагранде засиживалась вместе со мной.
То же самое было в Милане, в большой городской библиотеке Ля-Брера. Все четыре главных действующих лица этой обширнейшей, находящейся возле знаменитого музея библиотеки были женщинами: директриса (профессор и доктор) Эмма Коген-Пирани; вице-директриса доктор Ванда Монтаниро, две библиотекарши — Эдуарда Мози и милая, маленькая, сразу заинтересовавшаяся моими поисками, словно это было ее личное дело, Мафальда Сангалли. Замечательна оперативность этих библиотек. Чтоб получить у нас очень старое или очень редкое издание, надо немало помучиться и прождать по меньшей мере сутки. В Милане мне понадобилось издание уникальное — знаменитый журнал XVIII века, называемый «Кафе», где передовые мыслители своего времени, братья Пьетро и Алессандро Верри, Чезаре Беккариа и многие другие, члены масонской ложи, друзья французских энциклопедистов, корреспонденты Д’Алембера и Дидро и поклонники Вольтера, — подобно нашему Новикову с его журналами, — помещали самые смелые критические статьи. И вот драгоценные два тома, издания поистине уникальные, были разложены передо мной ровно через две минуты после их заказа. И что еще интересно: узнав мою тему и каким ничтожным временем я располагаю, ученые итальянские библиотекарши сразу же устраивали меня за столиком и за книгами, а «оформление» приходило гораздо позже и так, что я его даже не замечала: отстукивалось заявление о целях и предмете работы моей, и я на нем только расписывалась, потом наклеивалась марка, ставился штемпель, и копия вручалась мне, как обыкновенной читательнице библиотеки. Вообще надо сказать одно: в бюрократизме и волоките я нигде в самой Италии — по контрасту с получением визы для въезда в нее — не могла обвинить ни одного итальянца, с которым пришлось за эти два месяца иметь дело.
Еще случай, о котором следовало бы задуматься некоторым нашим редакциям. Есть в Италии современная многотомная «Энциклопедия делло Спеттаколо». В пей собрано все, что относится к искусству, и особенно театральному. Участники се — авторитетные ученые. Но в одной из специальных статей на нужную мне тему (все тот же XVIII век) я нашла ссылку на имя, которое могло попасть в нее только но ошибке[51]. Еще из Москвы я снеслась с автором статьи, и он мне ответил, что «в грехе неповинен», — имя было вписано без его ведома самой редакцией. Тогда, будучи в Риме, я решила отправиться в эту редакцию, чтоб найти корень и причину ошибки. Был последний день моего пребывания в Риме. В памяти моей еще стояли во всей их свежести исхоженные вдоль и поперек города Италии; улицы их, как и римские, по доброму совету Тараса Шевченко, рекомендовавшему «щупать землю ногами», я действительно успела основательно «перещупать ногами». Но в последний день, на площади Езедра, ко мне подошел самый обыкновенный извозчик (веттурино) и предложил — как до революции предлагали извозчики московские — «мигом домчать» куда надо. Он поторговался о цене, махнув рукой на помещенный рядом с облучком счетчик, похожий на счетчики такси, — и я, неожиданно для себя, взгромоздилась на высокую извозчичью пролетку и важно проехала по главной улице Рима во второй половине XX века на самом обыкновенном извозчичьем «ваньке». У дворца Дориа, где помещалась «Энциклопедия», среди десятка элегантных машин пегая лошадка остановилась, я слезла и расплатилась с моим извозчиком. Время наступало обеденное, но редактор музыкального отдела, любезнейшая молодая докторша Луиза Павелини, тотчас приняла меня. Была нажата кнопка, еще одна синьора принесла папку с «делом», и было установлено по рукописи, что вышеупомянутое имя вовсе не внесено редакцией, а уже стояло в авторской статье, — старый ученый просто забыл об этом. Казалось бы, дело сделано. Однако доктор Павелини, разговорившись со мной о теме моей работы, заинтересовалась сама, откуда могло попасться старому ученому неверное имя. Она перебрала тут же несколько других энциклопедий и каталогов последнего года, и в одном из них, «Универсальном словаре опер» Умберто Монферрари (1955 год, Флоренция), нашла ту же самую ошибку — имя, которое, по всем данным истории и хронологии, стоять там не могло. И Луиза Навелини, забыв об обеде (почти невозможный случай на Западе), тут же при мне написала письмо к Монферрари во Флоренцию с вопросом, откуда и почему он поместил имя, исторически никак не соответствующее месту. Письмо было написано от имени редакции «Энциклопедии», со всеми нужными печатями и подписями, а мне было обещано тотчас же переслать ответ Монферрари по моему московскому адресу[52]. Когда обе стороны заинтересованы, во-первых, в том, чтобы оказать услугу самому делу, во-вторых, в том, чтоб помочь в порядке любезности и друг другу — корень ошибки наверняка будет раскопан и ошибка исправлена.
Еще одно должна тут прибавить из чувства справедливости: в «Новом мире» печатался недавно интересный рассказ польского писателя о том, какие воистину страшные препятствия чинили ему в библиотеке Ватикана при ого занятиях на чисто научную тему и в конце концов закрыли ему доступ туда. Но в этой рабочей библиотеке (не той, что показывается каждому туристу за плату и раскрывает свои уникальные издания и чудесные фрески, а внутренней, где работают ученые монахи) мне довелось провести чудесных два часа в поисках нужной мне справки, и помогал найти ее милейший профессор Паоло Кюнцле — «скритторе делля Ватикано», как он сам себя назвал. Получила я доступ даже в секретный архив Ватикана, где микрофильмировала нужный для моей книги план Рима XVIII века, — тоже без особых препятствий. Для разрешения понадобилась лишь справка, что я член-корреспондент Академии наук Советской Армении.
Но я опять далеко-далеко ушла от милой Болоньи. У не наверное бургомистр Болоньи, очень известный в Италии член компартии, часто поминается добром в этом городе, и своими и приезжими. Именно здесь чувствуешь с особой силой, как много делают итальянские коммунисты для органического развития родной страны и поднятия коммунальной культуры ее городов. Жить в Болонье дешевле и легче, театры ее доступней, общественные здания отапливаются. В центре непрерывного уличного движенья легко переходить улицы благодаря удобнейшему «соттопассаджо», снабженному, кстати сказать, всеми нужными для приезжего удобствами. Приводит этот подземный переход на четыре основные городские артерии. Одну из них, улицу Уго Басси, я вспоминаю с особой благодарностью. В Италии лучшей кухней считается тосканская. Когда в Вероне хозяин маленького бара захотел вывесить рекламу, он написал, что тут кормят по-тоскански. Но ни тосканская, ни венецианская, ни римская, никакая другая (изрядно наконец надоедающие своей пряностью) не пришлись мне по душе так, как рабочая «самообслуга» (сельф-сёрвис), устроенная совсем по-московски на улице Уго Басси. Дешевая и свежая еда за столиками, быстрота, с какой можно ее получить, разнообразие и, главное, что-то по-настоящему демократичное сделали этот ресторан воистину самым удобным в Италии. Возвращаясь домой из Лицео Музикале, я всегда сворачивала на Уго Басси и, неся оттуда домой на ужин неизменную югурту (европейскую простоквашу), часто ловила себя на мысли, что вот так же возвращаешься зимой, поработав, к себе из Ленинской библиотеки.
Лицео Музикале — учреждение с мировой славой; придя туда в первый раз, я не без робости предъявила свой докторский билет. Но пока мы с неизменной синьорой библиотекаршей обменивались французскими фразами, над моим ухом раздалась вдруг чистейшая русская речь. Высокий, плотный мужчина с мягким, большим лицом славянского типа и самой благодушной русской улыбкой поманил меня за собой, поскольку я, оказывается, хотела попасть не вообще в библиотеку, а в его, музыкальный, департамент. Это был главный «библиотекарио» отдела, Наполеон Артурович Фанти. С ним и его помощницей, коммунисткой Альдиной Валентиновной Филиипи, мы провели долгие часы за всевозможными фолиантами.
Судьба Наполеона Фанти — это целый роман. Его предок, итальянский солдат, пришел с армией Наполеона в Россию и застрял в России навсегда, женился на русской, сохранив, однако, свое итальянское подданство, и передавал из рода в род — в память 12-го года — потомкам своим имя «Наполеон». Потом, уже в наше время, маленького Наполеона родители вывезли в Литву, а из Литвы, уже взрослым, великолепным пианистом, он вернулся в Италию и остался работать в библиотеке. Друг и помощница его страстно хочет своими глазами взглянуть на Россию, старательно выговаривает по-русски «спасибо» и «до свидания»… И такими своими, бесконечно милыми показались мне эти два одиноких, простых человека среди мировых сокровищ Лицео Музикале — автографов величайших композиторов мира. Вокруг них, в папках, хранились драгоценные оригиналы, почтительно поминаемые в каталогах. А «последний» русский Наполеон с детской гордостью вынул из своего ящика свежие номера «Советской музыки» и «Литературной газеты» и показал мне прочитанные им статьи. Я приехала в далекую Болонью, чтоб взглянуть на пожелтевшие письма чешского композитора Йозефа Мысливечка, адресованные крупнейшему музыкальному теоретику XVIII века падре Джамбаттиста Мартини. А главный «библиотекарио» мирового музея Сказал мне с гордостью: «Вы знаете, чей у нас есть автограф? Арам Хачатурян прислал нам свой неоконченный романс… И если бы, если бы еще Дмитрий Шостакович добавил бы хоть полстранички своей какой-нибудь рукописи к этому щедрому дару!»
Удивительная вещь дружба. Мы думаем, например, что ее можно заполучить, как адрес в записную книжку, за банкетным столом, на митинге, на конгрессе, на фестивале… Но настоящая, подлинная дружба может родиться за одним-единственным столом в мире — за рабочим столом, у людей, занятых общим трудом, интересным и дорогим для каждого из них.
V. Город Леонардо Флоренция, декабрь
Все длинное тело Апеннинского полуострова, даже если не заглядывать в книги, а только глядеть вокруг, — это огромный наглядный урок истории европейской культуры, какой она развивалась в образах, картинах и памятниках — от античности до нашего времени. Через христианские катакомбы Рима, награбленные сокровища крестовых походов, готику, Ренессанс, могучие фигуры национального объединения, ставшего исторической классикой для других народов, этот наглядный урок можно показать пальцами гида и увидеть собственными глазами. Но нигде во всей Италии эта материальная связь памятников искусства с историей не познается так отчетливо, как во Флоренции.
Я выехала из Болоньи в пасмурный зимний день. Ехать совсем недолго, из области Эмилии в область Тоскану; но дорога пересекает Апеннинский хребет, поезд то и дело ныряет в туннели; а когда нырнул и вынырнул за полчаса до Флоренции, в Прато, — от зимы не осталось и помину. Яркая голубизна неба, потоки солнца, воздух мягок по-летнему, вороты гимнастерок распахнуты, — суровую декабрьскую Эмилию сменила мягчайшая Тоскана.
Двадцать раз я давала себе слово, будучи в Италии, не писать о живописи, не повторяться, не надоедать читателю после таких компетентных очерков, как хорошая книга В. Прокофьева «По Италии». Но есть встречи с картинами, о которых нельзя не сказать свое слово, потому что они на каждом шагу напоминают о себе и сопровождают вас в путешествии. Был в XVIII веке замечательный художник, немец по рождению, англичанин по образованию, итальянец, а точней, неаполитанец по работе: Иоганн (или Джон, или Джованни) Дзоффани. Он написал «Концерт странствующих музыкантов». И когда вы сейчас в Италии где бы то ни было встречаете бродячего музыканта с его инструментом, вы невольно, неизбежно вспоминаете Дзоффани, так поразительно передал он образы людей, живущих музыкой.
На переднем плане картины трое: справа (на картине) сидит скрипач, и по его напряженному лбу и прижмуренным векам вы догадываетесь, что он слеп; слева стоит, в разодранных штанах, спущенном на старый башмак чулке, в черной бархатной шляпе, с палкой и тарелкой в руках, тот, кто собирает деньги и, может быть, подтягивает певцам; а в центре сидит виолончелист, и этот смотрит прямо перед собой, не на вас, а куда-то в глубь своих мыслей, таким безнадежно сосредоточенным, скорбным взглядом нищеты, а в то же время — с такой задумчивостью профессионала, знающего каждый звук, извлекаемый его смычком, что забыть эту склоненную над инструментом голову, эти пальцы, горстью нажавшие струны, эту ногу в толстом белом чулке просто невозможно.
Когда я села в Болонье в вагон, я увидела на лавке вот такого виолончелиста с картины Дзоффани — и весь час не могла не думать о страшной силе искусства, схватывающего что-то основное в человеке, что повторяется снова и снова в смене поколений. Двести с лишним лет, а все так же, только во втором классе поезда, а не на задке дилижанса или пешком, странствует этот бродячий виолончелист со своим толстым спутником в поисках заработка. Вместо белых чулок у него белые носки, вместо кафтана — очень изношенное драповое пальто, виолончель слегка изменила очертанья, волосы не падают на плечи, но взгляд — тяжкая задумчивость, какое-то недоумение перед беспросветностью жизни, какие-то профессиональные заботы — может быть, о программе, о канифоли для смычка, о запасной струне, — и весь человек вышел из картины Дзоффани. Так самый въезд во Флоренцию оказался для меня связанным с мыслями об искусстве.
Флоренция совсем мало в чем изменилась. Легко узнать знакомые улицы, знакомые места; нет шума новостроек. В старинном театре на улице делле Перголе толпится народ, как два века назад, покупая билеты; сияют все те же люстры, но не розовым теплом восковой свечи, а холодным светом электричества, и те же фрески на стенах, казавшиеся роскошью в XVIII веке, кажутся сейчас ветошью. Только вместо итальянской оперы сейчас тут гастролируют румыны. Хозяин гостиницы «Красные ворота» — «Порта Росса», выбранной мною за старомодность и за названье, подавая план и газету, сказал мне с гордостью: «Флоренция осталась такой, как была».
Но стоит развернуть газету — и странная законсервированность Флоренции вся, словно губка, пропитывается сегодняшним днем. Еще в конце октября, когда я только что приехала в Рим, газеты пестрели заголовками: «План Фанфани», «Реорганизация высшей школы по плану Фанфани», «Кризис школы и план Фанфани»… Проходя мимо стен Римского университета, я видела, как какой-то студент трудился над печатной афишей. В афише было сказано: доклад о плане Фанфани как выходе из кризиса школы, а студент густым карандашом вычеркнул лишнее, приписал от себя два слова, и вышла математическая формула: план Фанфани равен кризису школы в квадрате. Студенты волновались весь ноябрь и декабрь, и по самым разным поводам, но было ясно, что предстоящая реорганизация не устраивает ни учащихся, ни преподавателей. В начале декабря прошли массовые забастовки: бастовали педагоги всех средних школ (кроме католических, которые объявили себя солидарными с забастовщиками, но продолжали работать). Лекторы университетов обратились к правительству; студенты выступили против ответного решения правительства… Под всем этим волненьем, надолго заполнившим газеты, можно было разглядеть причины экономические: учителям не выплачивают полагающиеся пособия, лекторам не платят за добавочные часы, добавочные часы постановлено оплачивать лекторам из увеличенной студенческой платы за нравоучение, студенты протестуют против увеличения платы за учение и т. д. и т. д., заколдованный круг урезанного бюджета на школу, красноречиво сказывающегося в мрачном жесте государственных служащих, когда, отвечая на ваши вопросы, почему не отапливают библиотеки, не систематизируют музейные экспонаты, не чистят улицы, они поднимают к вам пальцы и потирают эти пальцы друг о друга: монет не дают, вот в чем загвоздка.
Но экономические причины не объясняют полностью ни кризиса школы, ни широкого плана выхода из него, ни постоянного волнения студентов. Солидная буржуазная «Мессаджеро», когда я была в Италии, поместила об этом целую серию объемистых статей, суть которых сводилась к критике нынешнего положения в университетах, где наблюдается резкий разрыв практики и теории. В медицинских институтах, например, наука не движется и не развивается, потому что научное звание (профессор) тотчас привлекает к его носителю избыток больных, а значит, и заработок, и ученому выгоднее стать практикующим врачом, нежели заниматься дальше невыгодными научными изысканиями. В каждой области такое же явление — практиковать выгоднее, нежели двигать науку. Как пример для подражания «Мессаджеро» приводит Америку и американские порядки, что напоминает нам, кстати сказать, как сами американские газеты, жалуясь на свои университетские порядки, с завистью отзываются о нашей советской школе. И эта ссылка на Америку тоже помогает понять сущность происходящего.
У своих флорентийских друзей я узнала о плане Фанфани; в основе его лежит требование политехнизации высшей школы, увеличения числа учебных часов для студентов на три-четыре часа в день (сейчас занимаются не больше четырех часов); словом, такая реорганизация, с помощью которой можно быстрее подготовить необходимые кадры физиков-атомщиков, биологов, химиков, нужных той Италии, что стремится вплыть оснащенным кораблем в русло американской политики и ратует за американские базы в стране.
Сам по себе политехнический поворот в программах высшей школы, так благотворно сказавшийся на нашей школе, — явление, разумеется, положительное, отвечающее задачам века. Но мне думается, именно в Италии этот поворот должен был вырасти органически, из существа итальянской культуры, а не насаждаться насильственно, по-американски. Именно в Италии никогда не было того резкого отрыва техники от искусства и культуры, который пережила в XIX веке остальная Европа и который так естествен для Америки, не имевшей великого материального наследия двух тысячелетий. Ведь Америка не знала у себя на земле памятников греко-римской культуры, а у себя в обиходе — древнейших традиций античной философии и культуры, которые были бы так освоены и перемолоты ее современностью, как в городах Италии. Именно Италия унаследовала от Греции тонкое понимание техники, «технэ», — не голо технически, а подобно особому виду искусства. И развитие науки в Италии никогда не шло путем абстрактным — особенно это относится к Флоренции. Зайдем с читателем, минуя галереи Питти и Уфици, туда, где связь науки с искусством особенно зрима.
Город Леонардо и Галилео, двух флорентинцев, глаза и руки которых всегда работали одновременно с мозгом, город, известный своими великолепными изданиями трудов ученых — не только флорентинцев родом — и своей прекрасной полиграфической базой, гордится и еще одним учреждением, в своем роде единственным, — «Музеем истории науки».
В нескольких комнатах второго этажа этого замечательного музея находятся хранимые «кустодием», Джузеппе Рэджини, сборища уникальных глобусов, научных инструментов Галилея, итальянских, английских, голландских, французских телескопов, пробирок алхимиков и банок с загадочными составами вроде «филандино акватико», — казалось бы, хаотическая смесь не экспонатов музея, а редкостей старинной кунсткамеры. Но, приглядевшись, вы видите в этом хаосе нечто присущее каждому предмету и придающее ого многообразию некое единство.
Современные глобусы — это сетка долгот и широт, и в ней очертание морей и материков по единственному подобающему здесь принципу — точности. По старинные глобусы не начинались с этой абстракции. Вот огромные шары, покрытые изображением зверей и растений, всевозможными символами, показывающими, где что водится, где кто живет, — и то, что внешне похоже на орнамент, становится образным языком познания. Или вот универсальный квадрант Волькмеро с буссолью, дневными и ночными часами, — казалось бы, строгий инструмент астрономов начала XVII века. Но помимо деталей, нужных для его целей, — всевозможных делений и стрелок — он в свободных промежутках меж ними весь изрисован вьющимися украшениями, его стойки сделаны кудревато и с такими фантастическими завертушками, словно это ножки дворцового атласного кресла. Две подзорные трубы Галилея вращаются на такой же художественной подставке: глаз останавливается прежде всего на ней, а уже потом на трубах, и вы попросту любуетесь научным инструментом, как произведением искусства. А начатки простого клинического термометра! Он рождается совсем по простым. Между его прямым назначеньем и его формой всегда лежал очень окольный путь, путь изображения, украшения, символизации, как если б «прямое назначенье» в науке нужно было во что бы то ни стало скрыть под пологом искусства или, быть может, привлечь к нему через «приятность» и «красоту»: чудесная хрустальная зверушка с перекатывающимися внутри шариками; длиннейшая трубочка на пучке фарфорового кружева — вот первые термоскопы и термометры. Если б сидеть в этом музее и писать историю точных наук по материальному собранию научных инструментов, то это был бы настоящий экскурс на тему «Связь науки с искусством».
Национальный характер — вещь очень стойкая, такая же стойкая, как родной язык. Итальянские творцы науки шли своим путем образного мышления, начало которому положил когда-то поэт-ученый Лукреций Кар. Конечно, приходят времена, когда прошлое становится как будто «мертвым сокровищем», отодвигается от современности, не вступает с нею в живое общение и даже кажется современнику чем-то давно пережитым, наивным, детским. Но, например, в наших новых, социалистических обществах происходит нечто совсем другое. Уж мы ли не архисовременны, мы ли не воздаем честь самой передовой науке, мы ли не строим величайшие, труднейшие аппараты, последнее слово техники, — и отправляем человека в необъятные космические путешествия? А вот логикой естественного развития наших новых обществ, в основе которых лежит непримиримое «нет» войне, они, эти общества, с высот своей техники, обращенной к будущему, притягивают к себе крепкой исторической связью глубину прошедших времен — культурное наследие своего народа. И оживают древние языки, просыпаются пеплом засыпанные могилы прошлого. Поэмы и научные трактаты, легенды и памятники старины, летописи и древние инструменты, до которых еще недавно было дело только седым исследователям, фольклористам, архивистам, с космической скоростью приближаются к нашему дню, доходят до народного сердца, оживают в массовом, народном сознании, и без них уже становится как-то даже неуютно, некультурно жить дальше. Недаром именно в нашей стране, так радикально сумевшей повернуть школьную программу в сторону точных наук, выдвигается сейчас со всей остротой проблема наук гуманитарных, необходимость резкого улучшенья их преподавания и подготовки учителей-гуманитариев!
Именно в Италии с ее великим культурным наследством чудовищными кажутся мысли о войне, об атомных базах; чудовищным предстает современный отрыв ее цивилизаторства от органического развития родной культуры. Разве не может именно Италия подсказать современности лучшие решения о выходе из всяческих кризисов, нежели американские методы этих решений? Я уверена, что лучшие люди Италии, работающие не на войну, а на мир, поймут меня, как понимают это итальянские коммунисты и левые католики.
В музее, о котором я только что рассказала, как, впрочем, и во всех почти учебниках для средней школы, находится большая картина Чанфанелли «Алессандро Вольта показывает Наполеону первые эксперименты с электрической батареей». Сидит в белых брюках в обтяжку уже начинающий слегка обрастать жирком прославленный завоеватель, именовавшийся в стихах «гением войны». А перед ним стоит человек мира и мысли, высокий, стройный ученый, с тонким лицом и высоким лбом гения, с нервными итальянскими пальцами «артиджано», или, по-латыни, «артифекса», — слово, которым равно обозначают-ся ремесленник, техник и художник, — и в эту минуту такими ничтожными кажутся Наполеон и его дело и такими великими Алессандро Вольта и его дело. Страны, перекроенные Наполеоном, давно изменили все свои очертанья; земли, отнятые у пахарей и политые кровью тысяч жизней, давно вернулись к своим народам. А Вольтова дуга осталась Вольтовой дугой навеки, и пламя ее пылает в тысячах установок…
VI. Неаполитанские куклы Неаполь, декабрь
Поезд идет вниз, вниз, к концу итальянского «башмачка» на географической карте, и вам кажется, будто знакомая Италия, страна классической старины и выросшего рабочего класса, отступает куда-то совсем далеко, а на ее место надвигается нечто новое и незнакомое.
Неаполь — это еще не конец «башмачка», а только его середина, но это уже совсем другая, незнакомая Италия, проделавшая за полвека свой собственный путь развития. Если Север оброс фабриками и заводами, Рим стал центром крупной индустрии, то Неаполь развивался как международный порт. Все совершенней становилась техника кораблестроения, все крупней океанские пароходы, и все чаще стали они заходить, один за другим, в живописный Неаполитанский залив. Если вам посчастливится найти комнату с окном на море, вы каждый день можете видеть очертания этих больших, белых, распластанных на воде птиц, словно крылья поднимающих трубы и флаги и телом своим подчас закрывающих горизонт. Каждый такой пароход вываливает в шлюпках на берег, обычно к вечеру, толпу своих матросов в формах и бескозырках, слегка отличающихся одна от другой, с якорями на рукавах. Еще несколько лет назад, как мне рассказывали, американские матросы вели себя здесь разухабисто и драки были обычным явлением. Сейчас эти матросы ведут себя с населением вежливо, и «контакты» их с местными жителями видишь на каждом шагу.
Когда я только попала на улицы Неаполя, я была оглушена и потрясена царствующей тут безвкусицей.
Каждый итальянец — стоит лишь взглянуть на длинные пальцы и овальные ногти итальянских рук — это потенциальный художник-искусник, выдувающий в Мурано пленительные переливы венецианского стекла; инкрустирующий кожу изящнейшими рисунками в мастерских Флоренции; долбящий розовую, мясного оттенка, скорлупу жемчужной океанской раковины, чтоб вырезать из нее на ювелирной фабрике под Неаполем, в Пинетта, тончайшую традиционную камею; обжигающий в печах волшебных деревушек Вьетри-Майори яркую по рисунку и расцветке, ликующую своим наивным весельем народную керамику; вставляющий мозаику из кусочков дерева различных оттенков в полированные деревянные коробочки Сорренто, — словом, создающий то знаменитое прикладное искусство Италии, совершенство которого славится из века в век.
Немало очагов этого прикладного искусства (камеи, кость, дерево, фарфор, керамика) находится неподалеку от Неаполя, вдоль его извилистых береговых шоссе, от Помпеи до Сорренто. Но что же вместо этого искусства обрушивается сразу и в массовом количество на беззащитную голову туриста в самом Неаполе, как только он приедет сюда и выйдет на улицу? Огромные, в рост пятилетнего ребенка, безобразнейшие куклы с выпученными глазами и паклей волос, в аляповатых одеждах, чаще всего в раздутых подвенечных платьях, сшитых на скорую руку, без всякой попытки создать что-либо изящное. Самый грубый, самый неприхотливый набор безвкусных разряженных кукол-девиц, тесными рядами стоящих вдоль улиц у киосков, у стен, у дверей магазинов. Я долго но знала, кто же покупает и на кого рассчитаны эти куклы. Мне странным, чудовищным показалось в центре прикладного искусства, где славятся коралловые брошки, камеи, крохотные модели музыкальных инструментов — словом, настоящие изделия местных кустарей, — видеть эти перлы безвкусицы, словно на посмешище выставленные рядами. Но эти куклы кормят неаполитанских ремесленников: их любят покупать американские матросы, и делаются они специально для американцев. Так в первую очередь вторгся выросший порт на неаполитанскую улицу.
Поздно вечером зажигаются пестрые огни — не очень в Неаполе яркие даже в центре, и город наполняется звуками шаркающих шагов; по трое, по двое, иной раз рядами, как на марше, отстукивают свой сухопутный рейс моряки но улицам Неаполя. Не слышно ни песен, ни музыки, но можно увидеть сценки «контакта»: газетчик, быстро закрыв свою будку, выторговывает у моряка новенький дождевой плащ; другой моряк, повернувшись лицом к фонарю, покупает что-то у таинственного прохожего, прикрывающего это «что-то» в ящичке так, чтоб никто, кроме покупателя, его не видел. Настежь раскрыты бары, продавцы в белых фартуках выволокли на тротуар огромные корзины с длинными хлебцами, начиненными ветчиной. И хотя это воскресный день и в городе все с утра, кроме церквей, было наглухо закрыто, — ночью словно расколдованы замки и засовы. Вся улица торгует с лотков, с рук, с тележек. Под фонарем видна склоненная, чисто отмытая для берега шея — из матросского воротника; худое лицо со впадинами иод глазами; торопливые, гортанные звуки чужой речи. Какая-то странная портовая бессонница в воздухе, словно все жители вот этих темных узеньких переулков, хозяева этих лавчонок, женщины у горячих мангалок, помешивающие ложкой каштаны, и даже худые кошки, вылезшие из углов, ждут ночей и но спят ночей, готовые услужить, продать, купить — словом, выполнить нужную для куска хлеба процедуру, ставшую здесь городской профессией…
И вдруг я вспомнила замечательного писателя Александра Грина, каким он был в первые годы революции в старом Питере, — брюки в сапогах, тельняшка, испитое лицо, впадины под глазами, — недобрый и недоверчивый, замкнуто ото всех обдумывавший свои фантастические города, свой небывалый Зурбаган, наполненный моряками со всех концов света. И тотчас сама вообразила себя не в Неаполе, а в Зурбагане.
А что, если действительно вообразить себя во сне, в романе? Ходить, ничего не боясь, по самым глухим местам? Все увидеть, что только можно, и пройти сквозь стены, как сквозь тени, не задевая, не ощущая их?
Дуга Неаполитанского залива делится Муниципальной площадью на две части — правую и левую. Правую я всю обошла, до самого Санназаро, до мыса Позилиппо, еще в первые же дни. Это роскошная часть Неаполя, с отличной набережной, прогулка на целый день. Начинается она с зеленых сквериков большого Палаццо Реале и тихо идет себе вдоль синего моря, под ветерком и солнцем; слева — синяя синь до горизонта, любители ловят рыбу удочками, сидят рыбаки на лодках, свесив за борт ноги, а справа — дворцы-гостиницы. Дойдешь до Санта-Лучия, мрачной груды Кастель-дель-Ово слева, — и можно, доверившись рекламе, спуститься вниз, в ресторан «Ля Берсальера», у самого моря, где пахнет йодом и вареными каракатицами, заказать знаменитый «дзуппе ди пеше» — рыбный суп — и потом не знать, что делать со всякой морской нечистью, наваленной перед вами в глубокую тарелку. Уха не уха, аквариум не аквариум, а впрочем, едят, и вы съедите, да еще под музыку, за которую тоже надо положить на тарелочку сто лир. И опять идешь, до перехода через мостовую направо, в парк, где вас встретит уже настоящий Аквариум со светящимися в полутьме витринами и шевелящейся за стеклом разновидностью той самой нечисти, которую вы поглощали в «Берсальере». А за Аквариумом — еще парк, детский Луна-парк со всевозможными аттракционами, молчаливый и пустынный в эту декабрьскую пору года. По вы поднимаетесь оттуда все выше, выше, к туннелю, чтоб пройти по сырой, скользкой от зеленых мхов тропинке к могиле-бюсту спутника Данте по Аду и Чистилищу, поэта Вергилия, и к могиле поэта Леопарди. Тут тихо, вряд ли заглядывают сюда туристы, тянет вековой сыростью, и лишь громыхают по временам вагоны проносящейся внизу по туннелю электрички. Много раз проходила я этой дорогой, с ее домами и набережными, ресторанами и машинами, — вплоть до горячей земной корки Сольфатары, о которой уже рассказала выше. Но вот левая сторона дуги от Муниципальной площади…
Левая сторона дуги ведет в царство порта и портовой нищеты, ютящейся в глухих закоулках, и по ней я рискнула пройти, как если б во сне шла страницами фантастического Зурбагана. Утром, под неожиданным дождиком — левой стороне даже небо не покровительствовало, — в пыли, медленно превращавшейся под ногами во что-то похожее на цемент, шла я по широкой вначале улице Марина, а потом свернула налево и углубилась в сумерки узких закоулочков. Много раз писалось про живописное (гиды называют его «питореск») выстиранное белье итальянцев, свисающее для просушки на вольном воздухе чуть ли не из каждого окна, переброшенное на веревках через улицу, сушащееся на балконах и заборах. Нo тут с пего просто капало вам на голову. Много раз слышала я восхваленье наших восторженных кинолюбителей по адресу итальянских неореалистических фильмов. Но тут, в портовых закоулках Неаполя, я убедилась, что эти фильмы даже несколько лакируют действительность. Нищета, увиденная мною: странные подобия крыш над черными яминами дверей; грязь, в которой копошились дети; старухи, искавшие на помойках съедобных объедков; слепой, ощупью пробиравшийся вдоль степы, с вытекшими, сгнившими, как плоды гниют, больными глазами, — весь этот мир, в котором, казалось, нет завтрашнего дня, охватил меня физическим ознобом. Я попала, видимо, в центр неаполитанской безработицы. И все-таки, несмотря на невозможность, казалось бы, жить человеку в таких условиях, и дети, и старухи, и даже слепой казались до странности беззаботными, — стоило только выглянуть сквозь пелену дождя яркому лучу солнца…
Вечером ко мне в гостиницу пришли гости.
Но тут надо опять сделать отступление. Как раз с Неаполем я уже два года была в переписке. За городом, в местечко Понтичелли, живет старый ученый-музыковед, во многом помогший моей работе, профессор Улисс Прота Джурлео, с женой, донной Розой[53], и было большой радостью для меня воочию познакомиться с этой чудесной, преданной друг другу четой. Чтоб попасть к ним, надо было добраться до вокзала окружной везувианской дороги и трястись с полчаса в полуразбитом вагончике до небольшого городка. Вокруг всего Везувия идут эти человеческие поселенья на богатейшей вулканической почве — чуть ли не на самой застывшей лаве, и вы понимаете, почему, хотя Помпею и залило когда-то огненной лавой, люди по-прежнему селятся тут и построили новую Помпею в нескольких километрах от старой: сады, сады, фрукты, словно из фарфора, груши и яблоки с полкило весом каждое, виноград, прозрачней и краше которого я не видела, — и как же покинуть эту землю, хотя она еще содрогается, и бог его знает, о чем думает старик Везувий! И в самом Неаполе на улице Чезаре Россароль живет издательница прогрессивного журнала «Ностро темпо» («Наше время»), синьора Мария Терезия Кристофано, с которой я тоже состояла в дружеской переписке. Когда я в первый раз попала к пей, я ожидала увидеть обычную редакцию с конторскими столами. Но вместо этого попала на квартиру, где синьора Кристофано, незамужняя и бездетная, живет, работает, редактирует и издает любимое свое детище — журнал; будучи учительницей, она тратит одну треть своего скудного учительского жалованья на его издание. Много интересного рассказала мне эта самоотверженная, милая женщина и умная журналистка, чего не доискаться ни из каких газет, — и это она привела ко мне гостя — крупного неаполитанского писателя-коммуниста Луиджи Инкоронато.
Средних лет, с ироседыо в густых волосах. Инкбронато, прежде чем взяться за перо, жил, должно быть, трудной и полнокровной жизнью, — родился он в Канаде, легко объясняется на трех языках, знает свой Неаполь до тонкости. Первая его книга — «Скала а Сан-Потито» — вышла в 1950 году и получила премию Хемингуэя, второй роман — «Губернатор» — премирован городом Неаполем, а в этом году он будет печатать «очень острую книгу» и не уверен, выйдет ли она благополучно в свет. Называется этот новый его роман «Мы покупаем детей»[54].
Постепенно увлекшись живым материалом своей книги, профессионально и страстно, как все писатели мира, он стал быстро, яркими мазками, словно картину набрасывал, передавать нам, что и как хотел сказать в романе. И передо мною словно повторилось все виденное в темных закоулках Неаполя — нищета без предела, без надежды на завтра, голод без счета дней, отупляющий, бесконечный, родители, продавшие все с себя и продающие последнее, уже отрывая от себя, — дитя свое, и дельцы, на купленных детях создающие себе дело, потому что дело это может принести деньги…[55]
Так я узнала кусочек горькой правды о Неаполе. Позднее, когда пришлось впервые опубликовать мой «Неаполитанский очерк», он вызвал целую бурю негодования у кого-то из живущих в Москве итальянцев. Жаль, что этот негодующий господин плохо знает собственную периодику и особенно неаполитанскую литературу. В том самом июньском номере журнала «Nostro tempo», на который я выше ссылаюсь, есть в передовой статье поучительные строки о том, почему пришлось своеобразной неаполитанской литературе, занимающей особое место в литературе общеитальянской, принять такие черты меланхолии, — ведь описывает она нищету людскую… Привожу эти горькие правдивые строки по-итальянски: «…E vero anche questo ma fino a un certo punto, giauche del caleidoscopo variopinto ed esulerante che Napoli — cielo e marefu agli spettatori ottoceateschi, se guardiamo in panoramica le prospettive die narratori contemporali, segnatamente i più pensosi, vediamo afforare ben poso: piuttosto melanconiche dissolvenze о spietata distesa sulla miseria degli nomini»[56].
Жаль, что нельзя процитировать всю передовицу!
VII. Дон-Карлос и дон Камилло Неаполь, декабрь
В тот самый вечер, когда я вернулась из нищих и голодных портовых закоулков Неаполя, а писатель Луиджи Инкоронато рассказывал мне содержание своей будущей книги «Мы покупаем детей», в знаменитом неаполитанском театре Сан-Карло состоялась премьера оперы Верди «Дон-Карлос».
Помня о том, как попадают на наши большие премьеры люди искусства и как театры наши идут навстречу и своим и приезжим писателям, художникам, артистам, музыкантам, чтоб они послушали и посмотрели впервые выносимое на народ зрелище и обсудили его — за кулисами, в кабинетах дирекции, на страницах печати, — я заранее стала хлопотать о билете. В кассе театра на меня уставились, как если б я спросила билет в царство божие; даже администратор выглянул в окошко, чтоб увидеть небывалого чудака. Моя членская книжка «Европейского содружества писателей» не произвела на них ни малейшего впечатления. Тогда я обратилась к портье гостиницы, сдала ему все свои документы, письмо к директору театра, изрядную сумму (кресло на премьеру в партер — «польтроне» — стоило десять тысяч лир) и попросила раздобыть мне билет (на этот раз в памяти моей стояла другая аналогия, как граф Монте-Кристо раздобывал своим друзьям места в оперу во время римского карнавала). Портье замялся, он ответил, что места расписаны за полгода вперед, и что-то промямлил о возможности «вывода из зала, даже если пропустят», — и это было просто загадочно.
Утром загадка разрешилась. Печать Неаполя действительно здорово откликнулась на премьеру! «В Коррьере ди Наполи» ей была посвящена целая полоса со множеством иллюстраций. В «Иль Маттино» — полполосы, но мельчайшего петита. Заглянув в петит, я увидела, что там вместо текста стоят имена, имена, имена, от министра коммерческого флота и до неведомых Анджелы, Джулии, Киары таких-то… По именам, предшествовавшим фамилиям, можно было видеть, что все они женские; среди нескольких сот имен, приведенных петитом, только министр, префект да два-три адмирала и генерала были, несомненно, мужчинами. Тогда я взялась за «Коррьере». Там был текст.
В тексте рассказывалось, какие величайшие труды и старания были затрачены до премьеры… звонили телефоны, бегали взад и вперед девушки с картонками, подстерегали у дверей репортеры, подслушивалось, узнавалось, сравнивалось, и наконец эти глубокие терзания и переживания закончились. Вот синьора Мария Камилла Вавино: прозрачная тень слегка намекает на линии живота и ног, атласный плащ со шлейфом прикрывает до пят ее бока. Вон донна Адриана Аквавива д’Аргона в кружевах и шелку, синьора Тета Капассо, обернутая, как покупка, тряпками трех цветов… и еще, и еще, и рядом с именами донн, синьор и синьорин неизменная добавка: ателье такое-то. Премьера с чудесным певцом и актером Борисом Христофом; музыка Верди в одной из наименее известных его опер; блестящий старый театр во всей красе его старинной росписи; сцена, с которой два века пленяли слушателей голоса величайших певцов и певиц мира, — прославленный Сан-Карло — все превращено в модное «гала́», показ неаполитанскими богачихами и обветшалым, но изо всех сил «шагающим в ногу» с буржуазией дворянством женского пола своих туалетов, ради которых модистки и портнихи Неаполя не спали ночей. И наутро каждая ищет свою фамилию в петите, и воображаю, какая трагедия разразится среди газетчиков, если хоть одна фамилия будет пропущена…
В Америке для белых и черных есть отдельные вагоны, входы и выходы; в Италии в театре Сан-Карло для посетителей верхних галерей театра тоже есть отдельные входы и выходы: они не могут встретиться с «чистой публикой». Неаполитанские друзья сказали мне, что портье был прав: меня действительно вывели бы, если бы я смогла купить билет и появилась в партере без вечернего туалета. Учительница с большим стажем, крупная общественная деятельница, за много лет, по ее признанию, не была в Сан-Карло, — средства не позволяют ей это удовольствие. Но если интеллигенция не в состоянии слушать хороших певцов; если в этой классической стране музыки так редки концерты (за два месяца и в разных городах мне удалось попасть только на один, в миланский Ла Скала, где дирижировал Кондрашин, а в программе были Прокофьев и Шостакович); если, наконец, даже на улицах, даже в церквах все меньше и меньше музыки, то каким же искусством может насладиться народ, чем живет артистическая душа этого народа, создавшая на все времена и всем людям на потребу дивные художественные памятники?
Остается как будто одно — кино. Правда, оно тоже дорого.
Триста, двести лир за один билет — это обед для бедного человека, а ведь в кино редко пойдешь в одиночку. Но большая часть горожан — ремесленники, продавцы, механики, учащиеся, домашние хозяйки, — все они хоть изредка, да ходят в кино. Мы в нашем Советском Союзе знаем и высоко ценим итальянских неореалистов, показавших Италию как обратную сторону медали — в ее безработице, нищете, неказистости жилья и улиц, солидарности и душевной доброте бедняков. Но надо сказать правду, которую я неоднократно и от самых разных лиц слышала в Италии: эти картины не пользуются популярностью среди огромной массы итальянского населения. Заплатив свои выцарапанные из бюджета двести — триста лир, средний итальянец хочет получить за них то, чего так мало в его жизни: отдых и удовольствие. Но бередить собственные раны — не значит отдохнуть и порадоваться. Да еще если нет круглого сюжета, зло не наказывается, добро не побеждает. Ему тяжело смотреть на то, что глаза его привыкли видеть вокруг. И тут, используя могучее искусство кино, выступает на сцену агитация, очень тонкая и умная.
Чтоб познакомиться с ежедневной кинопищей, выбрасываемой на потребу населения в городах Италии, некоторыми итальянскими газетами заведен хороший обычай. Они печатают краткую характеристику каждого фильма, не давая им оценки, но определяя содержание. Прогрессивная «Паэзе сэра» делит фильмы даже на графы — трагические, комедийные, сентиментальные, юмористические, салонные, детективные. Зритель выбирает по вкусу — посмеяться, поплакать, полюбоваться на чужую роскошь, пережить чужую любовь, поохотиться вместе с сыщиком за таинственным преступником. Среди всех этих американских, немецких, французских боевиков остановило меня одно название, потому что перед дверями кино, где я прочитала его, в маленьком итальянском городке, толпилось много народу, и я едва-едва заполучила билет. Название было странное — «Дон Камилло, монсеньер, но не слишком» (ма нон троппо).
Когда я попала наконец на свое место и даже, по примеру моих соседей — большей частью рабочих и жителей окраины, купила пакетик необыкновенно вкусного итальянского мороженого, мне прежде всего стало ясно, что зрители предвкушают удовольствие и настроены на отдых: то ли фильм был уже старый, то ли был он серийный, воспроизводящий ту же тему с теми же актерами. А главного героя фильма, «дона Камилло, монсеньера, но не слишком», играл действительно актер гениальный, обдумывающий и выбирающий свои роли, — знакомый и советскому зрителю, несравненный Фернандель. Что же заставило его выступить в маленькой, бескрасочной комедии, лишенной романа, без красивых женщин, красивых пейзажей?
Опять перед нами были те слагаемые, которыми так остро пользуются новые кинорежиссеры, — маленький нищий итальянский городок с населением в убогих домишках, живущим скученно, мелкой своей жизнью, в борьбе за кусок хлеба, с интересами, не выходящими за пределы крохотной коммуны. По с теми же слагаемыми сценарий этого фильма имел сюжет — по-диккенсовски закругленный и для советского зрителя совершенно неожиданный: в глухой городишко, где «синдак» (бургомистр) коммунист — а в очень многих итальянских городах эти выборные должности занимают коммунисты, — посылается священником крупный прелат, живущий в своей прекрасной большой римской квартире, — дон Камилло. Веселый и живой Фернандель, с. его некрасивым лицом добродушной мартышки, прибывает в убогий городок. Он преисполнен жизни, юмора, добрых чувств, хорошего настроения, короче говоря — поп-весельчак, хоть и поп, но «не слишком», не грозящий адом и загробными муками, снисходительный к грехам человеческим. А монсеньера ожидают борцы — борцы против «опиума народного»: бедная чистая комната, на стене серп и молот, портреты вождей Октябрьской революции; за столом — синдак, большой, черноусый, в рабочей блузе и сапогах, и другие члены местной компартии. Типаж дается почти любовно: хорошие, честные рабочие люди, ни тени гротеска, ни тени задней мысли. И вот начинается борьба местных коммунистов против растущего влияния веселого дона Камилло, понимающего душу и характеры людские, беседующего в пустой церкви якобы с богом, но на деле с собственной совестью, полушутя-полусерьезно. Конфликты разыгрываются остросюжетно, рассказывать о них я не буду, но с каждым кадром растет «подстрочник» фильма: какой чудный, настоящий, обаятельный пастырь и какие честные, наивные, полудети все эти добряки коммунисты, ведь и тот и другие хотят настоящего добра людям, так давайте же поработаем рука об руку, дадим это добро… Конфликт без отрицательных героев, борьба между двумя положительными силами современности, похожая на любовную и оканчивающаяся любовно. Когда снова вызывают веселого пастыря в Рим, провожать его высыпает весь город во главе с синдаком. Я смотрела на зрителей. Все улыбались, утирая слезы. Произошла полная душевная реакция на отдых, на удовольствие, на победу добра и — главное — на обаяние великого актера, отдавшего свой большой талант на дело католической пропаганды. Надо было видеть и почувствовать зрителя в кино на рабочей окраине, чтоб понять, насколько сильна эта пропаганда. И стало как-то ощутимо понятно, через настроение этой простой рабочей публики, своеобразие итальянского парадокса: связи левых католиков с коммунистами в некоторых вопросах малой и большой политики.
Четыре раза возвращалась я из моих скитаний по Италии в Вечный город. И всякий раз товарищ-журналист задавал мне один и тот же вопрос: ну как, подвели итоги?
Подвести итоги под впечатлениями от одной из самых интересных, самых сложных и самых противоречивых стран, да еще за слишком короткое время, — вещь невозможная. Все дни, с конца октября по первую половину декабря минувшего года, почва подо мной, как на корке кратера Сольфатара, волновалась, словно вот-вот извергнет пламя и лаву; и все время, как на реальной Сольфатаре, на этой почве в полной безопасности разгуливали туристы. За полвека Италия баснословно разбогатела — заводами, фабриками, машинами, дорогами, и в той же большой степени обнищал ее народ, обеднела ее интеллигенция и умножились жалобы в культурных учреждениях и безденежье. Италия с ее сокровищами — это ведь уже мировая ценность, всему человечеству принадлежит ее прошлое, из рук ее молодые варварские народы Европы получили великое наследие Греции и Рима, а латинский язык лег в основу языков европейских. Казалось бы, беречь и беречь ее, как общее благо всего человечества, — а на пути моем не попалось города без зияющих на бессмертных памятниках ран от бомб. Я спросила в Падуе перед одним таким памятником: да чья же это была бомба? И прохожий ответил без улыбки: «А вот тех самых, кто строит у нас базы для новых бомб».
Мы знаем, что нейтральные Швеция, Швейцария, Австрия существуют под этим спасительным флагом нейтральности, а Италия, как говорилось в век паровой энергии, «на всех парах» мчится к новой войне, к той политике, что неизбежно кончается войной… Десятки других противоречий можно было бы насчитать. Но я лучше закончу рассказом, который услышала от крупного казахского писателя Сабита Муканова. Он видел собственными глазами в далеком алма-атинском саду такую сцепку: по садовой дороге тяжело прыгала лягушка; она прыгала и стонала, потому что не хотела прыгать, — в конце дороги, вытянувшись на хвосте, стояла с разинутой пастью кобра. С каждым прыжком, испуская стоны, приближалась лягушка к ее раскрытой пасти…
Змеиный гипноз охватил тело Италии. Вы словно слышите стон ее — но она делает прыжок за прыжком к разверзнутой пасти кобры. Прервет ли она свой путь к гибели? Сможет ли деятельный и сильный, умный и полный жизни итальянский народ остановить ее перед роковым прыжком?
Рим, 1962
VIII. По Сен-Готтарду в Турин
Когда наездишься вдоль и поперек по белу свету, перестаешь ахать и удивляться. Но переезд из Швейцарии в Италию через Сен-Готтард так вас встряхивает, что немыслимо удержаться от восклицаний.
Это трудно передать словами, это надо пережить. Из забрызганного дождиком осеннего Цюриха вы спокойно выезжаете утром, спокойно смотрите в окно вагона на знакомую живопись природы — стальные глади озер, охру и кармин, размазанные среди оставшейся кое-где зелени. Но со станции Флюэлен озера медленно отступают. А горы, как гигантские танки, начинают двигаться на вас со всех сторон, вырастать, подобно теням на закате, до жутких устрашающе-грозных размеров. Голые горы, почти вертикальные, с торчащими клыками вершин, разрезанные пропастями необъятных глубин, над которыми поезд летит по таким невидимым кромкам твердой земли, что кажется: рельсы протянуты мостиками над бездной. И все тесней стены, все выше вершины, все меньше неба над вами, живопись сменилась графикой, краски — черным и белым.
Но вдруг — маневр отступленья: громады отходят, на вас хлынула синева — и в просвете ущелий далекая панорама вечно белого как сахар альпийского горного кряжа. Вниз, по склонам, бежит целая армия елок одного роста, одной формы — словно ровные ряды пехотинцев, одетых в одинаковые куполы снега, которого ничья рука не касается, никакой ветер не сдувает, до того плотно и первозданно уселась на эти ели зима. Все молчит и сверкает, только совсем внизу хрустит льдинами речка, но вы ее не слышите, звук лишь мерещится вашему глазу, ослепленному снегом и льдом. Весь этот сверкающий мир длится секунду — и задвигается снова, как оконце волшебного фонаря. Вниз смотреть страшно. Червячок вашего поезда, видимый на поворотах, с невероятной смелостью пробирается над пропастями в чернеющие окна туннелей. И вместе с восторгом и ужасом перед природой вы неизбежно задумываетесь о человеке — маленьком существе с двумя руками, таком, казалось бы, ничтожном рядом с ней. Этот крохотный комочек разрезал каменные стены, пролез в самое сердце гиганта, подчинил его своему замыслу и при этом одарил вас удивительным ощущением полной безопасности.
Наконец — самый длинный туннель, а за ним — возвращение из зимы в осень. Снег исчез, гор как не бывало, вокруг сады и холмы, чуть переменились названья мест и очерки зданий. Это мы из немецкой перевалили сквозь толщу гор в итальянскую Швейцарию, где, кстати сказать, сделано недавно какое-то необычайное палеонтологическое открытие: раскопаны в Монте-Сан-Джорджо окаменелые скелеты доисторических предков людей, — в Цюрихе читают об этом лекции. И уже Киассо — граница Италии.
Я начала свое новое итальянское письмо 1966 года с Сен-Готтарда не только потому, что впечатление было очень сильно. Характер этого впечатления, при всей его сугубо эстетической, «пейзажной» природе, имеет некоторый «инженерный» оттенок. Слитное, художественно-инженерное ощущенье Сен-Готтарда повторилось у меня, как это ни странно, и на подступах к нынешней моей итальянской теме, в мирном городе Турине, на широкой туринской равнине с едва видимыми сквозь туман (где-то далеко-далеко, на горизонте) Альпами. Вот почему Сен-Готтард стал как бы эпиграфом к этой теме.
Турин — столица итальянской области Пьемонт. Крупные города Италии отстоят друг от друга на небольшие расстояния, каких-нибудь двух-трех часов езды, но почти каждый из них — столица своей области: он имеет резко отличительные особенности, начиная с архитектуры, изделий и видов промышленности и кончая кулинарией и выпечкой хлеба. В некоторых из этих столиц говорят даже наречием своей области, не вполне понятным для тех, кто привык к общеитальянскому литературному языку. В Турине, например, к вам часто обращаются в учреждениях и магазинах по-пьемонтски и, лишь узнав, что вы но местный житель, переходят на общеитальянский язык. Нас долго поучал шофер разнице: по-итальянски — «синьора», а по-пьемонтски — «мадама»; по-итальянски — «синьорина», а по-пьемонтски — «дотта»… Приехав и оглядевшись на новом месте, мы тотчас отправились по первому данному нам адресу.
Квадрат центральной площади; аркады обрамляющих ее улиц, скульптуры у льющейся струи фонтанов; силуэт необычного декоративного растения в кадке; величавое палаццо с каменным кружевом дверей; зимний воздух, пронизанный розовым туманом, терпкий, как апельсинная корка, и запах от этих свежих корок на улицах — все это Италия, все это как песенка Миньон из гётевского Вильгельма Мейстера:
Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen… …Kennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach… Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach…[57]И учрежденье, куда мы вступили и где шаг наш сделался звонким от блестящей гладкости пола, от огромности почти пустого холла, — хоть ролики надень и катайся, — и эта дворцовая щедрость на кубатуру жилья, необычная для деловой конторы, — все это тоже Италия.
Но навстречу нам вышли люди, и они оказались нашими, советскими людьми. Здесь, на центральной площади древней пьемонтской столицы, закладываются первые камни того, что должно вырасти за тысячи километров отсюда, на берегу «волжского моря», против кудрявых рощ Жигулей, — в советском городе Тольятти, центре будущего нашего нового автомобильного производства.
С октября 1966 года в Турин стали съезжаться советские специалисты самых разных профилей: конструкторы и энергетики, строители и технологи, литейщики и кузнецы, красильщики и кузовщики — всех не перечесть, — общим числом до шестидесяти. В день нашего приезда они еще не все съехались. «Каждый день прибывает кто-нибудь», — говорят в конторе. Молодого начальника этой группы (где и все другие, мне кажется, не превышают возрастом четырех десятков лет, а кое-кто и до них не дотягивает), Евгения Артемьевича Башиджагяна, то и дело отрывают от беседы: нужно куда-то срочно ехать, кого-то встречать, размещать, устраивать, на что-то давать ответы. Но главный «рабочий день» всей группы не в конторе. На окраине Турина, в деревушке Мирафиори, лежат ровные прямоугольники цехов основного гигантского заводского комплекса ФИАТ. На этом заводе, в его проектных мастерских и в его цехах, наши инженеры должны решить две основные задачи их длительной (до двух лет) командировки: во-первых, консультирование итальянских проектировщиков, работающих сейчас над чертежами нашего будущего завода; и, во-вторых, учение самого производства.
В ту первую минуту, когда советские инженеры вышли нам навстречу в огромном итальянском холле, я вдруг пережила нечто неожиданное, — словно ветер первых советских пятилеток повеял на меня, ветер далеких строек, лихорадочного возбуждения мысли и волн, чувство начала, так хорошо знакомое старым ветеранам советского пера. Десятки прошедших лет надвинулись образами целых поколений наших инженеров, одного за другим, — от гоэлроевцев, еще только сидевших в кабинете, от восторженных строителей Волховстроя, от командиров первых больших строек, срабатывавшихся с приглашенными к нам американцами, до блестящего поколения, выпестованного организаторским гением Серго Орджоникидзе. Вспомнились дорогие мне образы инженеров уральских заводов, в пургу и мороз на снежных пустырях монтировавших привезенное из Москвы оборудование в первую зиму Отечественной войны, — да так, что варежки гремели на руках от заледенелого пота… Вихрем налетело все это в память.
Но когда мы уселись для беседы, я поняла, что этого нового поколения инженеров еще не знаю и оно чем-то существенно отличается от прежних. Чем?
Мне хотелось до своей собственной поездки на завод узнать от наших специалистов, что именно привлекло их внимание больше всего и каковы их собственные впечатления от ФИАТа. Помню, как в старые времена, бесчисленно раз держа в руках блокнотик и карандаш, я выслушивала специалистов во всех концах нашего Советского Союза и даже написала где-то в очерке, как, подобно андерсеновской сказке о цветах в саду, каждый пел мне свою песенку, в границах своей задачи, своей специальности. Самым частым и самым знакомым словом для журналиста было в те годы слово «объект». Каждый в первую голову видел предмет, который надлежало ему создать, построить, закончить. И это чувство своего «объекта» и целевой законченности его как главной задачи было, музыкально выражаясь, лейтмотивом наших прошлых бесед. А сейчас перед нами имелись целых два «объекта», да еще каких огромных: наш будущий завод в Тольятти, где ежедневно с конвейера должны сходить две тысячи машин — шестьсот тысяч автомобилей в год, и туринский ФИАТ, выпускающий не две тысячи, а пять тысяч машин в день, миллион в год. Казалось бы, по-прежнему, как в далеком прошлом, беседа начнется с описания этих «объектов». Но я ошиблась. Но буду тут приводить отдельно каждый рассказ, тем более что уж наверное сами рассказчики так или иначе коснутся их в собственных статьях или докладах, а попытаюсь суммировать лейтмотив услышанного в том его общем смысле, какой, мне думается, стал отличительным признаком нового мышления советского инженера. С первых же слов нашей беседы исчезло прежде всего само понятие «объекта» как законченного целого. Передо мной словно стены расступились или скобки поднялись над старым представлением о том, будто с постройкой завода задача будет закопчена. Направление интереса неожиданно перешло для меня с целевого продукта, с автомобиля, на станцию его обслуживания.
Я узнала новую для себя вещь, — во всяком случае, над ней не приходилось задумываться. В Америке, например, непосредственно заняты производством автомобилей и живут зарплатой за это производство около шестисот тысяч человек, а обслуживают готовые автомобили и тоже этим живут около шести миллионов человек, то есть в десять раз больше. Автомобиль не кончается тем, что он сделан: автомобиль только начинается с этого. Он живет, и для того, чтоб он жил дольше и лучше, тянутся от него десятки цепочек в разные стороны. Во-первых, автомобиль — это значит дороги, максимально хорошие дороги («итальянцы хорошо их строят: сперва кладут бетонное ложе, а потом покрывают его асфальтом», — сказал собеседник). Но и хорошие дороги — это не только хорошая езда, повышающая предел скорости, а и более долгий срок службы запасных машинных частей («тогда и покрышек много не нужно»), и большая степень безопасности («можно при меньшей пыли и грязи, при лучшем состоянии дорог применять не ободковые тормоза, как у нас, а дисковые, более эффективные»). Но и дорога, подобно автомобилю, должна жить и быть наготове, — а это значит, иметь вдоволь станций обслуживания.
На станциях обслуживания концентрируется главная жизнь автомобиля, верней — главная поддержка этой жизни. Мне, кстати, часто приходилось удивляться за границей, как легко сменяют друг друга у руля разные люди в машине и как часто садится править эдакая вихреватая девица, почти подросток, и никто не спрашивает у нее документов и даже — вот ужас — никто не принюхивается ко рту шофера, чтобы оштрафовать его за алкогольный душок (а он тут, при дальнем пути, преспокойно выпивает за обедом свою бутылочку), — всё вещи у нас невозможные. Вихреватая девица бойко крутит баранку, но, если спросить у нее, куда наливают бензин, а куда масло, — она не ответит. И главное — не надо ей это знать. Все за нее знает тот, кто подойдет к ее машине со станции обслуживания. И вот огромный интерес вызвала у наших инженеров (а этот интерес передался и мне в беседе) — система гарантийности продления жизни своих машин во всех частях света, принятая предприятием ФИАТ. Продает он автомобили во многие страны; и в тех странах, куда продает, он так организовал их обслуживание и снабжение запчастями, что на любой заправочной колонке, на любой заправочной станции хозяин машины может отремонтировать свой «фиат».
Позднее, в ночной Генуе, нам довелось самим побывать на одной из таких станций. За бензинными колонками был настежь открыт огромный зал, чистотой и белизной похожий скорей на больничный. Не спеша ходили в нем люди в белых халатах. Вдоль стены, вместо наших ям, были подъемники для осмотра машин, — и автомобили покорно висели над мастерами, как у дантиста в кресле. Таких больших станций обслуживания, сказал нам шофер, в одной только Генуе — четыре…
Вопрос о запасных частях меня, как собственницу «Волги» и вечных из-за нее страданий, разумеется, тотчас остановил: а как с ними? И тут я услышала рассказ о непременном, как тень сопутствует солнцу, обеспечении каждой машины при ее создании соответствующим их количеством. И опять вспомнилась удивительная забота, во-первых, о «приданом» и, во-вторых, о точном адресе этого «приданого», встречаемая за рубежом даже в такой, казалось бы, стихийной области, как производство детских игрушек. Я видела, например, кукол в Швейцарии, уже поименованных на самой фабрике. Имена их стоят под ними — «Амелия», «Китти», «Элеи», «Розамунда», и для каждой имеется коробка с платьями, башмачками, пальто, сшитыми именно по ней и тоже помеченными ее именем. Приданое с адресом. Эта сцепленность предмета с его потребностями особенно интересна в мире автомобилей, где «приданое» из запчастей, рассылаемое во все страны мира, имеет достаточное их количество и точно рассчитано на каждую марку машины…
Пока шла беседа, складывалось главное впечатление от нашей новой инженерии. Шире и всеохватней стал их интерес к объекту своей специальности. Шире и глубже понимание задач общей технической культуры, необходимости и неизбежности поднятия этой культуры — для того, чтобы «объекты» наших строек могли дольше служить человеку и постоянно повышать коэффициенты своего полезного действия.
С такими первыми мыслями-впечатлениями мы приготовились ехать на следующий день в Мирафиори, основной заводской комплекс ФИАТ.
IX. На заводе Мирафиори
Сперва небольшое, но очень нужное предисловие. Огромный комплекс ФИАТ, по своей технике не уступающий крупным автомобильным производствам Америки, — это, разумеется, капиталистическая система монополий самой последней формации, приспособившаяся к новым временам, то есть к более утонченным методам эксплуатации рабочего класса. Можно было бы не один газетный столбец исписать, рассказывая читателю о таких методах. По не в этом сейчас моя задача как писателя и не это входит в задачу посланных на ФИАТ советских инженеров.
Наши советские инженеры приехали по договору в длительную (до двух лет) командировку на ФИАТ не для изучения капитализма и не для того, чтоб тратить драгоценное время на его критику. Перед ними производство, достигшее, благодаря огромной конкуренции, высокой технической организованности; при перемене общественных отношений такие производства, по Марксу, облегчат переход к коммунизму. Они представляют для нас, людей нового мира, огромный интерес именно с этой стороны. Мы хорошо помним слова Ильича в его полемике с примитивными «левыми» буквоедами-коммунистами: «…Я сказал, что нужно, если мы правильно понимаем свои задачи, учиться социализму у организаторов трестов»[58]. Изучить последовательные звенья этой организованности и, где можно и нужно, освоить и перенять их для будущего нашего завода — вот цель, поставленная перед советскими инженерами. И вот почему и мне, советскому писателю, придется пойти сейчас не по легкому и очень знакомому нам пути критики капитализма, а по более трудному пути нахождения, обдумывания и обобщенья тех полезных черт чужого для нас производства, о которых стоило бы рассказать нашим читателям.
Итальянская зима в этом году ужасна. Если пять лет назад я плакалась в Венеции на то, что пройти но площади Сан-Марко нельзя без мостков, то сейчас залита водой уже не одна площадь, а вся Венеция, и к ней близко подошла гибель. Разметаны многие сокровища из музеев и архивов Флоренции, подмыты сотни старинных зданий. Дождь льет и льет, вздутые реки — устье По, река Арно в Тоскане, река Рено в Эмилии — обрушиваются на города и деревни; подступают к берегам волны Адриатики. Тучи, туман, — «nebbia», «nebbia», ужасаясь, говорят шоферы. Сорванные мосты, искореженные дороги, плавающие жилища… Но нам удивительно повезло. В Турине все дни сияло на бледно-голубом небе солнце, а туманы, всегдашняя особенность туринской котловины, ютились где-то по микроклиматам, не выползая на большое небо.
В такое ясное утро мы подъехали к зданию правления ФИАТ. Нас встретил у входа высокий худощавый итальянец, синьор Джорджо Амприно, вице-директор завода по связям и сора боте с Советским Союзом. Знакомое лицо, знакомый голос, — оказывается, это синьор Амприно показывал нам в Москве машины ФИАТ на итальянской промышленной выставке. Он провел с нами весь день, безропотно водя нас по бесчисленным залам и цехам и не сетуя на пропущенный обеденный час, свято соблюдаемый на Западе. Человек я дотошный и, хотя показывать проектные мастерские не принято, попросила начать именно с них. Мы прошли холл — опять отполированные, сияющие полы; отполированные итальянские мраморы, редкие кусты в кадках, никаких украшений и ничего мягкого, разводящего пыль в помещении. На стене — перечисление павших в бою с фашистами: Турин был основным очагом Сопротивления, и в окрестных горах сражались партизаны. Лифт — и мы вступили в длиннейший коридор, по обе стороны которого справа и слева за стеклянными стенами находились проектные бюро — светлые кабинеты со столами, досками на столах и ущемляющими картон на досках большими подвижными циркулями. Система широкого коридора с проходом в середине и застекленными комнатами по обе его стороны, типа банковской, встретилась мне и в классах технических училищ в Швейцарии и в Италии. Удобство ее — полное использование оконного света для работающих и возможность для проходящего все видеть, не мешая работникам и не отвлекая их внимание на тех, кто проходит мимо. В образцовых, виденных мною школах, как и на ФИАТ, — множество посетителей, делегаций, туристов, b трудно представить себе, какое столпотворение вносили бы они, проходя гуськом между столами или станками. Мы шли по бесконечному ряду этих бюро, и люди в белых рубашках, склоненные над чертежами, не обращали на нас никакого внимания. Добрели почти до конца второго коридора, когда советский наш спутник, ленинский лауреат, инженер Алексей Сергеевич Евсеев, придержал меня за локоть: «Вот тут проектируется наша будущая машина…»
Основа ее уже существует, это небольшая «Fiat-124», нечто среднее между нашими «Волгой» и «Москвичом». По проектировщики приспособляют эту машину к нашим дорожным и природным условиям, дают ей более сильный мотор, — и вот тут-то и помогают им своей консультацией наши советские инженеры.
Выходя из коридоров, спускаясь и поднимаясь по лестницам, я имела возможность подметить одну деталь, которую, как мне кажется, очень стоило бы оценить и у нас. В блестящих от полировки стенах и на площадках не все, конечно, бессмертно: кое-где расшатается от времени кафель, сойдет кусочек краски, наберется в углу пыль или мусор. У нас и для ремонта, и для наведения чистоты есть свои часы, когда жизнь предприятия останавливается. Но тут я впервые поняла смысл слов «поддерживать чистоту». Для ремонта и уборки здесь нет своего часа — они делаются постоянно, как бы на ходу. Покуда мы шли, кто-то в углу закрашивал кусочек стены, кто-то вставлял в раствор новый квадратик кафеля, кто-то подбирал лопаткой в ведро мусор. Их было ничтожно мало, этих признаков текущей жизни материи, но они исправлялись сразу же, с ходу, подобно тому как солнце «с ходу» высушивает случайные пятна влаги. Невольно пришло в голову медицинское сравнение: как было бы хорошо, если б вот так, на ходу, тотчас же подмечались и устранялись с самого их начала пятнышки недомоганий в человеческом организме…
В проектных бюро я почти не заметила женщин, как не увидела их и на самих заводах ФИАТ. Если в архивах и библиотеках Италии вы с удовольствием встречаете чуть ли не исключительно женщин с сокращенной приставкой «Dott.» к фамилии (докторесса, то есть получившая высшее образование)[59], то на техническом факультете университетов их не видно. Я спросила о цифрах, и мне ответили: на ФИАТ почти все рабочие — мужчины и только три процента женщин, главным образом в конторах.
Переход из здания правления в главный сборочный цех завода происходит как-то совсем незаметно, словно из двери в дверь. Цех занимает огромное пространство, но прежде чем мы вошли туда и разглядели его, нас остановила в самом начале цеха проезжавшая мимо маленькая автомашина с площадкой перед пей и двумя поднятыми вверх стальными щупальцами, похожая на наш автопогрузчик, но поменьше размером. Машина подъехала к внутренней степе, у которой, во всю ее ширину и до самого потолка, стояли друг на друге ящики, ящики, наполненные — каждый — сверху донизу деталями одного какого-нибудь типа. Щупальца у машинки вытянулись, задрались, подняли ящик, превратились в горизонтальный спусковой мостик, по которому ящик легко скользнул вниз на площадку, опять прижались к машине, — и на этот раз она понеслась в цех, к тому рабочему месту у конвейера, где требовалась взятая ею деталь. Как ни странно покажется такое сравнение, но чем-то — непрерывным жужжанием, полетом туда и сюда, вытягиванием и втягиванием усиков, стаскиванием капелек-ящиков и неутомимой, непрерывной доставкой их на рабочие места — вся эта процедура, которую мы наблюдали несколько минут, напомнила мне пчел, доставляющих капли меда в соты. Вся подача деталей механизирована с начала до конца: в цехах, где каждая из этих деталей изготовляется, она сразу же укладывается в соответствующий ящик; у степы сборочного цеха ящики в определенном порядке ставятся друг на друга. И «ауто-пчелка с усиками» развозит их непрерывно, так что стоящий у конвейера рабочий никогда не остается без нужной ему детали.
И вот мы вступили в главный сборочный цех, где имеются шесть линий для одновременной сборки шести машин разных моделей и разного цвета (у ФИАТ машины десяти цветов). Сперва я, честно признаться, не то чтобы не разглядела огромное, насыщенное предметами, перекладинами, мостами, дугами и канатами пространство, уходящее в необъятный купол, но как-то вовсе не разобралась в нем. Мне показалось, что я вышла в порт, где сгрудились на причалах сотни кораблей с торчащими мачтами, мостиками, трубами, вымпелами. Все в первую минуту предстало неподвижным. Тогда я ухватилась глазами за одну точку, решив разобраться сперва в ней. Откуда-то сверху сползал пустой кузов машины и как будто остановился над выбранной мною точкой. Рабочие, орудуя подъемниками, снизу вверх, забили в нутро этого пустого кузова задний мост и мотор, и кузов, уже получивший сердце и желудок, двинулся на своем подвесном конвейере дальше. И только когда он заметно двинулся, я оглянулась вокруг и увидела, что все движется, — движется по только вдоль своих линий, протянутых, как струны, по склоняющимся горизонталям. Едва заметно для глаза двигались кузова даже в процессе оснастки их нутра; медленно, как птица на вертеле, поворачивались эти кузова то спиной, то боком по мере введения нужной детали, а вокруг все полно было круговым движением. Неустанно по кругу вращались гигантские браслеты с подвешенными на них мелкими инструментами, периодически приближаясь к каждому месту работы, так что рабочий, протянув руку, мог снять то, что ему было нужно; двигались такие же подвесные мосты, что-то подвозя и увозя наперерез горизонталям; над самыми нашими головами и под куполом происходило непрерывное, целенаправленное движение. И в цехе слышна была очень тихая музыка этого кругового верченья — тихий, металлический скрежет, легкий протяженный звук металла, что-то вроде трения, постоянного касания вещей друг о друга. Осмотревшись, можно было различить скольжение шести разных кузовов друг за другом, и мы увидели тот, что будет родоначальником нашей, усовершенствованной, машины, — изящный, еще пустой кузов «Фиат-124», плавно спускавшийся к поджидающим его «внутренностям» — заднему мосту и мотору. Наш «фиат» будет сильнее этого, он станет делать до ста сорока километров в час. И у него еще нет своего имени, — да и его самого пока еще нет на свете, но он уже захватил наше воображение.
Смотрим другие линии, уже свыкшись с конвейером, видим, как обмывают паром кожаные сиденья, непрерывно ползущие друг за другом к своему назначению. Советский наш спутник, Алексей Сергеевич, — по профессии литейщик и патриот кузнечного цеха. Он убеждает нас посмотреть «кузню», где штампуются, прессуются и выковываются детали, вертящиеся над нашими головами, и мы покидаем сборочный цех, чтоб поехать в кузнечный. Но должна еще сказать несколько слов о той непрерывной вспомогательной математической работе, которая сопровождает на сборке движение частей конвейера. Все записывают внизу счетные машины. Вверху идет музыка круговращенья, внизу закрепляют ее в подсчете времени, места, числа — математика. Счетные машины вообще встречаешь в Италии довольно часто, — они окружают вас «кассами» произнесенных слов, помноженных чисел, обменных денежных операций почти всюду, где человеку надо произвести хоть небольшой умственный подсчет.
Минута — и мы почти въезжаем в кузню. Встреча с начальником цеха, маленьким, большеголовым, широко улыбающимся Владимиро Ливиантони, — он и Евсеев, видимо, уже сжились на работе и зовут друг друга по имени. С инженерами и рабочими разговоры велись у нас невозбранно, а рабочие так охотно вступали в беседу, что, по словам наших инженеров, их и остановить подчас трудно. Тесной группой мы гуляем по застекленному зданию-модерн, похожему на вокзал аэропорта. Чуть пожарче — вот и вся разница. Те же чистота, здоровый воздух, терпимый для ушей шум. Нам показывают гордость цеха, новую машину фирмы Пельц из Западной Германии. В ее застекленном чреве купается в масле множество металлических кружков, а из пасти она выплевывает, быстро, как пулемет, уже кружки с прокусанным внутри отверстием — готовые шестеренки. Эту машину пустили сейчас для нас, — она свою порцию работы уже сделала. Эта машина выплевывает восемьсот деталей в час, сразу заменив двадцать рабочих. И так как деталей получается выше надобности, она стоит полдня незагруженная, ожидая увеличения производства. А вот у нас (мы собираемся этот автомат выписать) шестеренками ее будут снабжаться из Тольятти все наши другие автомобильные заводы.
Но самым интересным в кузне оказалась не сама кузня. Самым интересным сделался обеденный перерыв. Рефлекс у западного человека на обеденную еду, выработанный десятками поколений, — это двенадцать часов дня. В ФИАТ только на заводах Мирафиори занято шестьдесят тысяч человек. И все эти шестьдесят тысяч человек обедают в одно и то же время, а на обед им положено тридцать минут. Каждый цех — это, по существу, отдельный завод, и у каждого цеха своя организация питания. Но сперва — где оно происходит?
Стрелка часов приблизилась к половине двенадцатого, рабочие места пустеют, люди направляются к лестнице, и мы тоже идем за ними смотреть, а улыбающийся синьор Ливиантони прижимает нас к стенке, чтоб мы не задерживали и пропустили идущих наверх рабочих. Наверху — передняя с нумерованными шкафчиками, такими же, как у инженеров проектного бюро: каждый подходит к своему, достает полотенце. Дальше умывальня с круглыми бассейнами посреди. В бассейны бьют из кранов по радиусам, в разные стороны, непрерывные струйки, — без толкотни каждый успел помыть и вытереть руки. Еще дальше — белокафельное пространство с плоскими ваннами; в одних — горячая, в других — холодная вода. В первых стоят металлические судки с едой, а из вторых торчат горлышки бутылок. Итальянцы привыкли к вину за обедом и приносят его с собой — оно здесь дешевле минеральной воды. Это тип домашнего питания. Рабочий приносит с собой герметический судок с домашней едой, и за полчаса до обеда эти судки уборщица ставит в кипящую воду, а бутылки в холодную. За полчаса до еды пища в судке согревается, а вино в бутылке охлаждается. Рабочий, проходя, вынимает свой судок и бутылочку. Теперь он входит в столовую — опять большое пространство. Оно уставлено столиками на четыре человека, и столиков больше, чем нужно. Каждый привык к своему месту. Мы проходим по коридору и видим, как они не спеша едят из судков горячую пищу и, переговариваясь, запивают ее из бутылочки. Без толкотни, без суетни происходит обед трехсот с лишним человек всего цеха, а кончается таким же неспешным вставанием за несколько минут до полоненного получаса. И в это же время на других заводах-цехах обедают десятки тысяч других рабочих. Кое-где вместо питания домашнего есть горячая кухня с четырьмя блюдами на выбор (мясное, рыбное, мучное, овощное), заказываемыми на завтра; придя в столовую, рабочий находит тарелку с заказанным на своем постоянном месте. Но домашнее питание дешевле, и оно предпочитается.
Я несколько раз повторила слово «не спеша». Все с избытком укладывается в положенные на обед тридцать минут, потому что рабочему не приходится и секунды тратить впустую. Все организовано в вымеренном, нормальном ритме, не вызывает побочных нервных усилии на ускорение, поиск, липшие жесты. Все мягко и спокойно ложится на нервную систему, и этот ритм сберегает незаметным образом нашу мускульную и умственную энергию.
Для социалистического завода вопрос о производительности труда — один из решающих вопросов вообще. Без роста и развития производительных сил нет социализма. Рационализация технологических процессов, автоматизация, повышение технических знаний — все это вещи, о которых мы постоянно говорим, все это знакомые-перезнакомые факторы поднятия производительности. По есть еще одна вещь, не менее важная для работающего человека, — такая организация всего распорядка его действий в цеху и в заводском быту, чтоб производительные силы его, а именно потенциальная энергия мускулов, нервов, мозга, органов чувств, не растрачивались бы на лишнюю, непредусмотренную отдачу, на раздражение от недостающей детали, волнение от вынужденной гонки, мотание в поисках инструмента, злобу на простой, на отсутствие места в столовой, на изматывающее ожидание, — много всего скопляется непереносно тяжелого для человеческих нервов там, где нет выработанной культуры умного расхода времени, ясной последовательности разумных действий. Недаром Владимир Ильич, говоря о производительности труда, требовал перенять все прогрессивное в системе Тэйлора. Напомню его слова: «Последнее слово капитализма в этом отношении, система Тэйлора, — как и все прогрессы капитализма, — соединяет в себе утонченное зверство буржуазной эксплуатации и ряд богатейших научных завоеваний в деле анализа механических движений при труде, изгнания липших и неловких движений, выработки правильнейших приемов работы, введения наилучших систем учета и контроля и т. д. Советская республика во что бы то ни стало должна перенять все ценное из завоеваний науки и техники в этой области. Осуществимость социализма определится именно нашими успехами в сочетании Советской власти и советской организации управления с новейшим прогрессом капитализма».
Разумное сбережение в человеке его потенциальной нервной силы и заботливая охрана ее, мне думается, станут для каждого из нас, творческих работников, а при коммунизме творческой станет каждая работа: от каждого по способностям, — важным звеном организации нашего рабочего дня.
Когда поздно вечером, переполненная увиденным, я раскрыла дневник и собралась все это записать, чтоб не забыть, мне пришло в голову только одно слово. И это одно слово, как сумму впечатлений огромного дня на ФИАТе, я и записала у себя коротко: ритм.
X. Школа Аньелли
Пять лет назад в итальянских газетах велись горячие споры о школе. Все соглашались на том, что со школой неладно, что высшая школа готовит плохих инженеров-практиков и надо усилить технические факультеты преподавателями, прибавить часы для физико-математических наук. Вот только платить за эту нужную реформу, сколько мне помнится, министерство отказывалось, и тогдашний министр просвещения предлагал, как выход, увеличить плату за обучение в университетах, то есть заставить расплачиваться за реформу самих студентов. А студенты протестовали, бастовали и демонстрировали.
Улучшилось ли положение за пять лет, я точно не знаю. Но в мастерских собственной школы ФИАТ, считающейся одной из лучших в Западной Европе, мы увидели немало молодых инженеров, окончивших технический факультет университета и приехавших сюда, в Турин, в простое, казалось бы, училище (у нас оно подошло бы под определение фабрично-заводского повышенного типа), чтоб увеличить свои практические знания. Вещь, вообще говори, необычная.
Школа, о которой я пишу, носит имя Джованни Аньелли, имя почитаемого в Турине первого основателя — в конце прошлого века (1899) — автомобильного завода ФИАТ. В ее проспектах подчеркивается, что она «готовит юношей к работе современной».
Но прежде чем рассказать об этой школе, мне хочется сказать несколько слов о том, какова в целом образовательная система в Европе. Если не касаться деталей, то в этой системе (как и у нас в царской России) осталось нечто от средневековья, когда обучение имело — в его первоначальном и прямом значении от латинского слова «школа» — характер схоластический. С течением времени вещи меняются, стареют, отстают от самого времени, и оно, время, разоблачает их отсталое состояние в новом звучании их собственного имени. Так, «схоластика» стала в устах европейских народов терять постепенно свой прямой смысл и приобретать значение сухого, абстрактного, безжизненного книжного направления мысли. Что осталось «схоластического» в учебной системе Западной Европы? Если прибегнуть к грубой схеме, то вот, например, график народного образования в Италии, схожий с тем, что делается и в Швейцарии, и во Франции, и в Англии. Сперва пять лет начального обучения, обязательного для всех, и три года среднего, замыкающего общий, одинаковый цикл. После него дети зажиточных классов, буржуа и аристократы, идут в лицеи (колледжи) для пятилетней учебы, а уже из лицеев в университеты. От средневековья осталось как бы привилегированное значение классики и гуманитарных наук, связанное с представлением о высшей форме образованности, принятым в высших слоях народа. Часть этого зажиточного юношества идет также вместо лицея на два года в подготовительный техникум, а из него не на гуманитарный, а на технический факультет тех же университетов. Но мы уже видели выше, как мало получают практических знаний будущие инженеры, кончающие этот факультет. Другая часть молодежи, из незажиточных слоев, из простого народа, — если она вообще куда идет после начального обучения, — поступает в пятилетние технические (ремесленные) училища.
График этот с различными вариациями повторяется во многих странах. Обнаженное его существо, связанное с классовой борьбой, открыто показано на истории дореволюционной русской школы, когда в 70-х и 80-х годах прошлого века выросла в России пропасть между классическим и реальным образованием. Удар по такой системе нанесла сама жизнь, во-первых, огромным развитием техники, во-вторых, растущим техническим превосходством Америки, где с самого начала школа была поставлена на более демократическую, более деловую ногу. Чтоб конкурировать с технической мощью Америки, капиталистической Европе до зарезу нужна другая образовательная система, более приспособленная к своему времени, более практичная. И вот почему образцовые мастерские, какими может похвастать школа Джованни Аньелли при ФИАТ, притягивают к себе внимание не одних только итальянских промышленных предприятий, нуждающихся в хорошо подготовленных рабочих кадрах, а и других западноевропейских монополий.
Большое новое здание школы Аньелли расположено не на территории ФИАТ, а уже в самом городе Турине, по улице Данте. В холле нас встретил директор школы, профессор Альдо Перони, седовласый и осанистый итальянец, видимо привыкший к потоку посетителей и увлеченный своей школой. Он произнес перед нами вступительную речь, а мы с полчаса стояли, слушали и записывали, потому что того, что говорил Перони, в планах школы не было. На технических факультетах университетов, записывали мы, теории отдается семьдесят процентов времени, а практике — всего тридцать процентов. В школе Аньелли наоборот — семьдесят процентов времени отдано практике. Но и теорию преподают не лекторы, а те же инженеры с ФИАТ, за счет своего рабочего времени. Естественно, что у них теоретические положения сами собой переходят на станок, на показ практического действия. В школе тысяча двести учеников: тысяча постоянных, кадровых, а двести — это приезжающие со всех сторон, иногда из разных стран, подчас дипломированные молодые инженеры, на полгода, на год, пополнить свои знания. Кадровые ученики поступают в первый класс пятнадцати лет, заканчивают третий класс — восемнадцати, семнадцати лет. Они получают маленькую стипендию. По мере перехода из класса в класс стипендия немножко возрастает; но увеличение по-настоящему ученик получает не по классу, а по мере своих успехов в ученье. Каждому из окончивших гарантирована работа на заводах ФИАТ…
«А если?..» — прервали мы, и Перони докончил за пас: «А если захотят пойти работать в другое место — мы препятствий не чиним. Да вот, пожалуйста, десять наших учеников захотели поохать в Советский Союз, чтоб работать на будущем заводе Тольятти. Они сейчас по своей инициативе изучают русский язык. Учителя в Турине есть: русские эмигранты, итальянец, окончивший русский университет; и даже (тут все посмотрели в мою сторону) среди преподавателей русского языка есть один армянин».
Заключая это «предисловие», директор посоветовал нам, чтоб легче разобраться в массе учащихся, запомнить «опознавательные знаки»: все кадровые ученики одеты в хаки; на рукавах у них нашиты полосы, числом по их классу — одна, две полосы, три полосы; остальные двести — приезжие — в синих рабочих костюмах. И тут, раздав нам великолепные проспекты на атласной бумаге, профессор Перони сдал нас другому «гиду» — небольшому худощавому старику по имени Джованни Рака, бывшему учителю, проработавшему на ФИАТ несколько десятков лет, а сейчас «консультанту-пенсионеру», приходящему в школу по своей доброй воле или, точней, по влечению старого сердца. Он тоже носил опознавательный знак почетного ветерана ФИАТ: золотой, размером с монетку, кружок на груди с тремя брильянтиками. Что мне определенно понравилось на ФИАТ — скажу здесь в скобках — это отсутствие значков, какими кишат сейчас чуть ли не все страны мира, значков, потерявших свой прямой смысл служить опознаванию чего-нибудь и превратившихся в «сувениры». Эта страсть к сувенирам, отнявшая от вещи ее прямое служебное назначение, ее, если можно так выразиться, бытовую честность и превратившая ее в баловство, в «сувенир», в безделушку, но гениальному русскому слову, — вещь без всякого дела, — кажется мне одной из форм массового психоза, на манер абстрактного искусства. Заводы ФИАТ, к большому моему удовольствию, пренебрегли «значком», какие нацепляют вам на грудь всевозможные дни юбилеев, спортивные дни, туристические гиды, профсоюзы, праздники песен и даже рестораны, где вы поели в компании. На заводах ФИАТ в полной мере использовали знак как отличительную пометку, в помощь человеку, для сбережения его времени. В первый же день, когда пришлось отыскивать нужного нам начальника цеха, куда-то уехавшего, я с благодарностью почувствовала это облегченье. На территории завода не пришлось спрашивать первого встречного и останавливать разные машины: начальник цеха легко отыскивается — он ездит в машине с красной полосой на кузове, а мастера — в машинах с желтой полосой.
Но тут синьор Рака прервал мои размышления. Он довел нас до обширной ученической раздевалки и показал на множество нумерованных шкафчиков, где ученики хранили свои личные вещи. Ни один не был заперт. Мы раскрыли несколько в разных местах; там были костюмы, снятые, чтоб облечься в форму хаки, спортивные принадлежности, портфели, связки книг, шарфы, бумажники, все разные вещи, кроме одной, одинаковой у всех, — полотенца.
Поднявшись на второй этаж, мы увидели за стеклянной стеной класс теорий — большой, как и все классы, с полками книг, удобными столиками; за одним из них, подперев голову ладонями, сидел один-единственный «теоретик», углубившийся в страницу с формулами. Зато в мастерских было полно — словно залито тускло-бежевой краской «хаки» с крапинками синих пятен. Надо было бы исписать немало страниц, чтоб рассказать о мастерских в школе Аньелли, необъятных размеров каждая. Они были отмечены огромными надписями по-итальянски, смысл которых но всюду был нам понятен; чередовались слова я, наконец, университетское слово auditorio, то есть аудитория. А если перевести все по порядку, то — склад машин; отделения для ремонта, реконструкций, электрики, электроники, радио, лакировки, высоких напряжений; лаборатории для экспериментов, чертежей, планировки, деревянных и металлических конструкций, психодидактики; зал для испытания моторов; аудитория для преподавания теории, для рисования; главная аудитория… Я не перечислила и половины. Мы шли широкими пространствами этих отделов и лабораторий, уставленных всевозможными машинами и аппаратами. Вокруг них было деловое оживление, содружество нескольких возле одной машины, мальчишеский энтузиазм одиночки, негромкие переговоры группы, — все они что-то делали, вымеряли, чертили, сверлили, не сводили глаз со стрелки, указывавшей напряженье, склонялись с легкой кистью в руке над ватманом. Каждый «ушел» в свое дело, мы шли среди занятых, «ушедших», поглощенных людей, нам интересно было смотреть, как и что отражается на их лицах, куда и почему двигаются их пальцы. Нам была интересна не столько работа, сколько психология их возраста, направленность их работы, и я страшно хотела — хотя времени для этого у нас не было — заглянуть в «лабораторию психодидактики» и узнать, что же в ней делается. А что делалось в «отделениях», мы уже знали от нашего гида. Мальчики возвращали в строй послужившие машины, обновляли и ремонтировали инструменты, делали модели для выставок, чинили, пробовали, испытывали реальные вещи, учась на этом своей будущей профессии и соединяя ученье с полезным делом. Сильнейшее впечатление от школы Аньелли было все-таки от ее оснащенности и простора, ее огромных мастерских, где готовился не инженер, не конструктор, а простой рабочий. Мы никак не могли добиться ответа, развивает ли школа Аньелли не только мастерство, но и пытливость, выдумывают ли мальчики что-нибудь от себя, изобретают ли. Но большое увеличение стипендии не в связи с переходом в старшие классы, а от реально достигнутых результатов учения (слово «результат» сказано было но этому случаю письменно и устно) давало как будто положительный ответ на наш вопрос.
Мне кажется, именно в школе Аньелли можно по-настоящему понять и личность главного действующего лица на ФИАТ — его почетного президента Витторио Валлетта, создавшего вместе с десятками тысяч талантливых рабочих и инженеров тот безупречный ритм, каким мы любовались на Мирафиори, и ту структуру всех предприятий ФИАТ, где целое точно сцеплено с частями. Я уверена, что из всех своих титулов он больше всего дорожит работой и званием профессора-педагога, недаром в его биографии есть такие строки: «Университетские опыт и подготовка сделали из Витторио Валлетта страстно увлеченного школой, преподаванием и всеми проблемами технической, научной и профессиональной подготовки юношества для труда…»
После осмотра школы оставалось еще немного светлого дня, и мы опять, на прощанье, поехали в Мирафиори. Комплекс заводов ФИАТ на площадке Мирафиори — это целый городок, но очень маленький и компактный. Машина в несколько минут пронесла нас по трем с половиной километрам его длины и полутора километрам ширины, где расположились почти все цехи, создающие автомобиль, от кузни до сборочного цеха, откуда он выходит готовый, и больше того — до железнодорожной станции, собственной станции завода, где готовые автомобили погружаются на платформы, — ФИАТ экспортирует их в немецкую Швейцарию, во Францию, Англию, Южную Америку. Мы увидели множество готовых машин, ожидающих отправки. Но вот, промчав нас по гладкой восьмерке прокатного трека, приподнятого сбоку, от чего мы почувствовали себя чуть ли не в цирке, наш автомобиль нырнул в туннель. На небольшом пространстве завода нам встретились два таких туннеля — по-городскому освещенных ожерельем лампочек, с двойным движением туда и оттуда. ФИАТ расположен на ровном месте, без холмов и оврагов; препятствий, чтобы прорезать их туннелем, здесь нет. В городе, правда, строят туннели тоже на ровном месте, но там это делается для разгрузки напряженного наземного движения. А ведь тут и движения большого нет — чистые, ровные, почти пустые аллеи асфальта между цехов. Я стала делать то, чего никогда не делаешь в туннелях, единственном месте на земле, где неинтересно смотреть по сторонам, — стала всматриваться в обе его стороны, и в электрическом свете увидела вдруг нечто вроде сказочной пещеры Аладдина: стена одного из туннелей на всем ее протяжении оказалась длинным рядом внутренних шкафов для ящиков с запасными частями, в степе другого мы увидели множество еще не заполненных кузовов автомобилей, следовавших в строгом порядке друг за другом, а с левой стороны шли в стене толстые чугунные трубы — кажется, от канализации. Два дня подряд наверху в цехах мы были свидетелями, как организуется рабочее время на ФИАТ, по гётевской формуле: «без спешки и без остановок». А сейчас, объезжая компактную расстановку цехов снаружи, заглянув в туннели, мы стали свидетелями экономнейшей организации пространства.
— Хотите взглянуть на ФИАТ с водонапорной башни? — спросил наш спутник.
Машина вынеслась из последнего туннеля на площадь, которую любитель поэтических сравнений мог бы назвать «площадью белой Лилии». Холодный ветер гулял по ней, напоминая, что кончается не сентябрь какой-нибудь, а серьезный месяц ноябрь. «Лилией» на площади возвышалась огромная чаша на бетонном стебле высотой в шестьдесят метров. У меня нет большого опыта по части водонапорных башен, и я не знаю, какой они бывают архитектуры вообще. Если трезвый инженерный ум возмутится сравнением с лилией, готова привести другое; пинию с ее веникообразной верхушкой на длинном стволе или опрокинутый вверх дном зонтик на высоченной палке. Придумайте что хотите, лишь бы соблюсти пропорции: очень маленькое место, взятое внизу под фундамент; очень большую высоту бетонного ствола, выросшего над ним; и широчайшую шляпку-чашу наверху, с поднятыми кверху краями. Лифт поднял нас на высоту этой «царапки неба», как в точности переводится небоскреб с итальянского. И мы вышли на круглую огороженную площадь, с которой на многие мили вокруг был виден Пьемонт. День уже угасал, но очень медленно, — словно розовые пятна на горизонте были писаны сухой темперой. Внизу зажигались огни Турина; подальше, на склонах холмов, темнели шнурочки не то виноградников, не то садов, где прятались разбросанные домики, еще жившие розовым отсветом в окнах догорающего солнечного ободка. А совсем далеко, так, что дыхание захватило, стояла величавая цепь Альпийских вершин, вечно белых, царственно неподвижных и удивительно легких, словно лебяжьи крылья, раскинутые перед полетом. Отсюда рукой подать было и до Франции, и до Швейцарии. В двух с половиной часах езды лежал мой любимый Гренобль, в двух часах — Женева. А группе наших инженеров обещали в праздник экскурсию на Маттерхорн, до которого уж и совсем близко… Хотелось стоять и стоять и впитывать все это в память, зная, что никогда больше но увидишь. Но главное все же было под ногами башни — четкие прямоугольники цехов ФИАТ, вытянутые в длину, как трубы гигантского органа.
Что такое ФИАТ? Каковы тенденции его технического развития? Что поучительно в этом развитии? Нам ясно, кому он принадлежит, какая общественная система использует его. Не станем останавливаться на ежегодной чистой прибыли акционеров, извлекаемой из дико эксплуатируемого труда многотысячного коллектива рабочих и выражающейся в десятках тысяч миллиардов лир. Возьмем лишь ту материальную основу, о которой говорил Ленин, что она станет базой для будущего коммунизма. Что же мы видели в этой материальной базе полезного сейчас для социалистического производства? Организацию целого, при которой продукт производства, автомобиль, является лишь звеном для широкой технической культуры, для постройки дорог, станций обслуживания, соответствующего количества запасных частей. Организацию времени, при которой рабочему не приходится тратить лишние силы на бесполезную затрату мускульной и мозговой энергии. Организацию пространства, при которой различные части производства целесообразно сближаются и каждая «пядь» рационально используется. Мы видели это в цехах ФИАТ, видели это как принципы развития самой техники на ее очень высокой стадии. И наконец, тенденция, касающаяся самого продукта. Пятнадцать лет назад в Турине ездили на велосипедах и мотоциклах. Сейчас в городе, по словам нашего инженера, насчитывается восемьсот тысяч машин при населении в миллион двести тысяч человек. Могло ли бы это быть, если б на ФИАТ производилась машина-люкс, нечто вроде фешенебельного и воспеваемого во многих романах «Альфа-Ромео», автомобиля для немногих, или вроде тех изысканных и вычурных по форме автомобилей, какие сейчас выставляются в виде новинок в европейских салонах? ФИАТ производит в основном дешевую машину и постепенно удешевляет ее еще больше. (Правда, одна генуэзская жительница, отвозившая нас ночью из дискуссионного клуба молодых генуэзских художников домой на своем дешевом «фиате», сказала мне: «Он дешев, я дала за него пятьсот пятьдесят тысяч, но дело в том, что он мог бы быть продаваем на сто тысяч лир дешевле…») ФИАТ производит не только дешевую, он производит изящную машину. Эстетика изящного противоположна эстетике роскошного. Само слово «изъят» говорит, что изящество рождается от изъятия всего лишнего и ненужного. А роскошь возникает из обрастания лишним и ненужным. Тенденция производства в сторону массовости — это тоже прогрессивное качество заводов ФИАТ, хотя здесь оно рождено погоней за максимальной прибылью.
И еще одно, чем мне хочется поделиться с читателем, очень интимное, очень, кажется, спорное, но реально мной пережитое. Когда я ходила по ФИАТ, а потом стала его описывать, я поймала себя на чувстве «утопии». Чем-то напоминающим утопию — от древнегреческого острова «Панхеи» до «города Солнца» Кампанеллы, чем-то почти нереальным становилось описание под моим пером, — ведь именно так необычно, «утопически» воспринималось и увиденное. Но почему? Ведь оно было сугубо реально! И вот в поисках ответа для самой себя я пришла к мысли, что оттенок утопичности рождается от несоответствия высокого достижения техники с теми отсталыми производственными отношениями, среди которых она существует.
Построим наш собственный ФИАТ — или, лучше, Тольятти — у себя дома, и впечатление чего-то утопического исчезнет.
Турин, 1966
XI. Театр Эдуардо Москва, 1962
Расступается, метя просцениум своей тяжелой золотистой бахромой, знакомый занавес. На классической сцене Малого театра, перевидавшей за свой долгий век лучших русских актеров, возникает целостное явление: «театр Эдуардо».
Москвичи знают лучшие пьесы Де Филиппо чуть ли но наизусть, они много раз шли у нас. Но то, что мы сейчас смотрим из вечера в вечер, кажется не отдельными пьесами, а единым рассказом с продолжением, — недаром сам автор, издавая сборники этих пьес, называет их «рассказами» и даже музыкальным термином «кантата», подчеркивая их единство.
Читать эту продолжающуюся «кантату» сплошное наслаждение. Де Филиппо начинает каждую свою драму как повествование, подробнейшим образом описывая декорации, словно сам их расставляет перед вами, — и вы еще до прихода в театр чувствуете себя как дома в этих комнатах, широко раскрытых на улицу, в этой убогой тесноте изношенной мебели, среди людей, представленных вам драматургом с анкетной обстоятельностью. И все-таки, чтоб до конца попять глубинный смысл драматургии Де Филиппо, надо увидеть ее на театральной сцене. Тогда сквозь современную оболочку сбитых с толку безработных парией, высохших от старости скупцов, мелких лавочников, великодушных потаскушек, разбитных спекулянток, жуликоватых швейцаров, остряков карабинеров из народа — ярко проступит перед вами многовековая традиция итальянских театральных типов, выработавших свою типовую законченность даже не десятками, а добрыми двумя сотнями лет театральных воплощений.
Нот нужды искать истоки театральной культуры До Филиппо в явлениях XIX века, — они идут глубже. Подобно тому как Неаполь гордится созданием своей оперы, он может гордиться и своей комедией, основные черты которой выявляются уже в XVIII веке. Но, несмотря на свою классическую традиционность, «театр Эдуардо» необычайно современен, он, может быть, самое современное, что сейчас создано театральным искусством Западной Европы и Америки в ответ на потребность народных масс. Перекликается этот театр и с сюрреалистическими пьесами Вильяма Сарояна, и с Брехтом, и с «Ночным гостем» чешского писателя Ашкиназе, а не только с кинодраматургией Чарли Чаплина, с которой его обычно сравнивают. Чем перекликается — ответим исподволь.
Итак, раздвинулся занавес. Перед нами обнищалая неаполитанская семья; в нездоровой обстановке войны каждый чувствует свое отчаянное положение как что-то временное, пришедшее с войной; и в этом «временном» положении как будто слабеет моральная ответственность за все, что делается ради куска хлеба. Тут и мелкая перепродажа дефицитных продуктов, склад которых — под семейной постелью; и тайная торговля «чашечкой кофе», выпить которую забегают с улицы; и вечный страх ареста за спекуляцию, заставляющий отца семейства притвориться покойником перед зорким начальником карабинеров. Это еще безобидно как будто, но война продолжается, союзники оккупируют Италию, американские солдаты наводняют Неаполь, спекуляция вступает в «высокий класс» валюты и брильянтов. Энергичная мать семейства, еще год назад считавшая лиры десятками и сотнями, став спекулянткой, считает их тысячами и миллионами. Сын ее становится вором, он свел компанию с бандитом, и они вместе крадут из автомобилей дефицитные части; дочь соблазнена американцем и брошена им. Казалось бы, обычная картина разложения семьи под страшным воздействием порочной военной обстановки. Такова пьеса «Неаполь, город миллионеров».
Или другая пьеса: опять обнищалая чета; чтоб найти кров над головой, муж соглашается занять квартиру в пустом палаццо XIII века, где никто не живет и жить не хочет, потому что в этом мрачном помещении водятся, как говорят, привидения. Чета въезжает в этот страшный дом со своим убогим скарбом, но красивая молодая жена разоренного неаполитанца имеет любовника, и тот понемножку украшает это мрачное жилище, приняв вид доброго привидения. Такова пьеса «Эти призраки».
Если б голый сюжет, который я здесь передаю, был единственным в этих пьесах, перед нами как раз и была бы более или менее традиционная схема театрального зрелища. Но особенность и новизна драматургии Эдуардо Де Филиппо заключается как раз в том, что к традиционным театральным образам итальянского театра Де Филиппо прибавил еще одно лицо, ничего общего с традиционным типажем не имеющее. Это лицо рождено нашим временем. Оно возникло в ответ на душевную жажду миллионных народных масс. Оно не национально в узком смысле слова — его бытие общенародно. Это лицо — то самое «дитя», которое две тысячи лет назад легендарный пророк поставил среди взрослых «грешников», дитя голубиной кротости и змеиной мудрости, источающее вокруг себя незримые ионы редчайшего человеческого качества — доброты и любви к человеку. Потребность в таком персонаже охватила сейчас театрального зрителя Запада, как жажда. О доброте (всепонимающей, всепрощающей) пишут послевоенные поколенья молодых американцев — например, вождь знаменитых «битников» (битое поколенье) Джек Керуак в своей «Исповеди». Ею полны рассказы и пьесы Сарояна, о ней мечтают, хотя по-разному, Сэлинджер и Ремарк, Чаплин и Брехт.
«Дитя», поставленное среди грешников, это всякий раз талантливейший актер Де Филиппо в самых разных оболочках. То он — отец семейства Дженнато в «Неаполе, городе миллионеров»; то незадачливый супруг изменницы жены, дон Паскуале, верящий в привидения, — в пьесе «Эти призраки». Его наличие «среди грешников» — это своеобразное наличие «реагента», вызывающего особую реакцию. Посмотрите, чем заканчиваются почти все пьесы Де Филиппо: присутствие отца (Дженнато в «Неаполе, городе миллионеров»), его доброта и неосуждающая, понимающая, прощающая ласка очень чистого, умудренного страданьем человека волшебно усмиряют и перерождают матерую спекулянтку, его жену, словно освобождая ее от внутренней нечистоты и делая беззащитной перед добротой мужа; сын, завзятый воришка, становится честным; дочь от поцелуя отца словно высветляется, сбрасывая горькую горечь души; светлее как будто стало в комнате, человек сделался опять человеком, «разложение» оказалось наносным.
Такая же реакция в «Этих призраках», но там «дитя» среди грешников носит другую оболочку. Паскуале — не Дженнато; он не мудр, а наивен, как ребенок, попросту глуповат; но он бесконечно добр и любящ, он так верит в доброту, что через эту большую веру он верит и в доброго призрака. И когда он открывает свою душу перед любовником жены, считая его этим «добрым призраком», — с тем тоже происходит реакция. Обманщик потрясен душевной чистотой того, кого обманывал, он одаряет мужа и уходит навсегда, как персонаж из сказки.
Даже там, где Де Филиппо играет незавидную роль слабохарактерного, сластолюбивого хозяина, исковеркавшего жизнь служанки и любовницы Филумены Мартурано, — реакция на доброту и справедливость преображает его и делает человеком, хотя «реагентом» на этот раз является сама Филумена, а не ее хозяин. Доброе воздействие человека на человека, преображение человеческой души иод влиянием человеческого благородства, глубокой чужой доброты — вот главная эмоциональная сила пьес Де Филиппо.
Народы западного мира стосковались по доброте, по той вечной, старой как мир эмоции, которая заставляет хоть на минуту поверить, что короста порока и зла наросла на душе человеческой под влиянием внешней причины — социального бесправия и несправедливости — и эта короста может мгновенно спасть с души, мгновенно преобразовать ее, если в общество вступает «реагент» — человек доброго сердца, чистый и любящий, как дитя. Он становится как бы источником света для сидящих в темной комнате — и людям верится, что такой свет может изгнать из жизни даже темную тень войны.
Таков психологический выход для социально задавленных, исковерканных жизнью людей в длинной «кантате» характеров и положений Эдуардо Де Филиппо. Пусть «сказка» не так просто кончается в самой жизни! Но зритель, покидающий театр после спектаклей Эдуардо, благодарен ему за то мгновенье душевной тишины, ту чистую веру в преображение человека и мир на земле, которые пережил он своим сердцем в театре.
XII. Художник Грегорио Шилтян
…il realismo е, a mio parere, l’unicavia da seguire dell'attuale decadenza; questo e il com pito che io considere come la missione della mia vita ed al guale ho dedicato mia pittura.
Gregorio Sciltian[60]Есть что-то ярко привлекательное, вызывающее гордость за человека и невольную симпатию, исполненную уважения, когда мы видим одинокое человеческое усилие, направленное на борьбу «против течения». Два этих слова — «против течения», — со всевозможными их вариациями, легли в основу многих книг и многих героических образов литературы прошлого века, начиная с героя-пораженца романа Шпильгагена «Один в поле не воин», кончая героем-победителем Ибсена «Одинокий человек — самый сильный» («Бранд»). Стать одному в слабый человеческий рост против мощного потока, слитого в одно целое и направленного по самому неуклонному течению — течению времени, — это ведь почти сказка, почти легенда о богатыре. Таким богатырем встал навстречу времени, против потока, несущегося по его руслу, художник-армянин, живущий и работающий в среде живописцев, чье искусство выросло из французского импрессионизма. Окруженный всеми видами современного пластического идеала, отражающегося в зданиях, мебели, одежде, технике, транспорте, поэзии, музыке, даже самом синтаксисе языка в его укороченной структуре, каким предстает человеческая речь в новых английских и французских романах, — Грегорио Шилтян говорит современному искусству самое безоговорочное «нет», и говорит при этом очень своеобразно и очень по-новому. Конечно, есть и на Западе художники, пишущие в старой манере, но они не идут так далеко в своем безоговорочном отрицании, и многие из них почти неизвестны в своем творчестве, не выходящем за пределы эклектики. Конечно, есть и на Западе множество зрителей и профессионалов (и если бы люди были откровенны, это множество удвоилось и утроилось бы), не испытывающих удовольствия от современной живописи. Но и тут люди не идут далеко, — они делятся на категории: одни говорят, что ценят «талантливое» и только отвергают халтуру, потому что ведь так легко сейчас любому «подладиться» под манеру и стиль «настоящих» крайних художников, хоть и непонятных без объяснения, но отмеченных талантом; другие высоко ценят начало нового направления в живописи, ставшее уже бесспорно классическим, — французский импрессионизм раннего Пикассо, молодого Модильяни, — по отвергают все, что за этим следует.
Грегорио Шилтян ни с какой стороны не может быть причислен ни к одной из этих категорий. Его отрицание обосновано философски, развито в стройную логическую систему, много раз высказывалось как своеобразный манифест. В 1956 году вышла в свет на итальянском языке в Милане, в издательстве Хёпли, его книга «Живопись реальности, эстетика и техника», где он помимо историко-философского обоснования своей позиции дает целый ряд профессиональных рассуждений и практических советов молодым собратьям по кисти — в главах о рисунке, живописи, композиции, портрете, натюрморте, «обмане зрения» (trompe d’oeil), пейзаже. И наконец, последнюю треть книги он посвящает беглому описанию студии художников, выбору кистей и уходу за ними, подготовке полотна к картине, закреплению красок по ее окончании и т. д. Эта книга — лишь предварение его повой большой книги на французском языке, выходящей сейчас в Париже, где коротко намеченное в первой монографии будет широко развито и полемически заострено.
Что же резко отличает позицию Шилтяна от других западных реалистов, не желающих следовать за модерном? Прежде всего — решительное и не боящееся никаких обвинений в мракобесии и реакционности осуждение «поворотного пункта в истории живописи», за которым, по его мнению, последовали ее, то есть живописи, декаданс и саморазрушение. Этим поворотным пунктом Грегорио Шилтян считает французский импрессионизм. Да! Все, что восхищает нас в Сезанне, Ван Гоге, Матиссе, Гогене, все, что пленило глаза новых поколений своими легкими, неожиданными, неопределенными линиями, лаконизмом и смелостью мазков, туманной прелестью красок, широким земным воздухом вокруг них — пленэром, живой неясностью их или, наоборот, дикарской яркостью и примитивизмом рисунка, — все, что так неожиданно, таким свежим ветром ворвалось в устоявшуюся школьную живопись прошлого века, Грегорио Шилтян беспощадно и сурово осуждает, как начало гибели искусства, того искусства, что родилось из стремления правдиво воспроизвести, вторично воссоздать природу, дать вечное бытие материальному миру, в котором мы живем. Но разве не материальны эти жемчужные набережные Сены в их фантастическом сумраке, эти смуглые тела таитянок, эти странные натюрморты, эти полотна, на которых отдыхает и чувственно наслаждается наше зрение? Разве не ближе они к реальности, нежели серые лубки натуралистов, безвкусных ремесленников, копирующих окружающее без искры подлинного понимания природы? Я хочу, чтоб читатель понял правильно мою собственную позицию, когда я пишу о Грегорио Шилтяне, отдавая дань восхищения его высокой технике и великолепному мастерству. Я не согласна с основным его положением о том, что французский импрессионизм был разрывом со старой живописью и родоначальником крайностей современного абстракционизма. Я считаю импрессионизм необходимой художественной реакцией на пошлятину крайнего натурализма и органической стадией в развитии живописи, отнюдь не ответственной за такой же пошлый, как натурализм, ставший обывательски-модным, крайний, современный модернизм. Но я против несерьезного отношения к такому большому общественному факту, как творчество Шилтяна, и хочу честно понять и проанализировать его.
Итак, Грегорио Шилтян считает, что вина за разрушение живописи абстракционистами и прочими течениями падает на французский импрессионизм, «сведший с пути» эволюцию пластического искусства. Шилтян отнюдь не касается халтуры, ему нет дела до халтурщиков ни той, ни этой стороны, ни до ремесла подражания крайнему модернизму, ни до ремесла подражания традициям прошлого. Он разговаривает о вершинах. Он признает вершины за вершины, талант за талант, и, когда берется, например, профессионально говорить о лучших вещах импрессионистов, вы слушаете его с наслаждением, так как с вами говорит глубокий профессионал, понимающий все достоинства и все волшебное очарование противника. Но он ставит философский вопрос — как и с каких позиций и каким воссоздает мир импрессионизм. По его мнению, для старой живописи, с первых дней ее существования и до вершин классицизма, главной целью было воспроизведение природы (примат объекта), а сущностью импрессионизма, этого «поворотного пункта» в ее истории, стало самоутверждение индивидуального видения природы (примат субъекта); и то, что естественно выявлялось на полотне в поисках художником наиболее правдивого, наиболее жизненно верного воспроизведения натуры, — его индивидуальность и его манера — стало ставиться во главу угла работы, как бы предписываться самой натуре, — небо такого-то, деревья такого-то, город такого-то, как если бы существовали эти небо, деревья, город лишь как отражение особенностей видения данным человеком мира. Иначе говоря, по Шилтяну получается, что «идеализм» пришел на смену «материализму». Вот очень грубо и обрубленно — в арифметической схеме — то, что вычитывается из теоретических высказываний Грегорио Шилтяна. Признавая в первых импрессионистах их крупные таланты, он судит об их пути, о той дороге, которую они открыли своей школой, как бы по всему последующему поколению художников-послеимпрессионистов, пошедших открытой импрессионизмом дорогой и дошедших но ней до крайнего солипсизма, этой последней «станции» на пути субъекта к себе самому.
Можно представить себе, как ненавидит сейчас Шилтяна огромное большинство современных западных художников, держащих в своих руках и выставочные залы, и журналы, и художественные издательства, а главное — работающих в тесном контакте с архитекторами, театрами, городскими властями, дирекциями крупных начинаний, вроде выставок, парков, курортных строительств и тому подобное. Мне было очень странно, например, не увидеть в Брюсселе, во «Дворце искусств», на Международной выставке 1958 года ни единой картины Грегорио Шилтяна, хотя в 1928 году он выставлялся в Брюсселе, а в брюссельском «Королевском музее» висит его «Морячка» («Marinette»), и, только ознакомившись с его монографией и с его артистической судьбой, я поняла, почему это произошло.
Нам в Советском Союзе, где кое-кому из нашей художественной молодежи, ищущей новых путей в искусстве и увлекающейся западными течениями, трудно пробиться на стены выставочного зала, невозможно представить себе обратное явление: трудности, стоявшие и стоящие на пути художника-реалиста Грегорио Шилтяна на Западе. Весь путь становления его был невероятно напряженной борьбой, не знающей никаких компромиссов. Вот именно эта упорная и жестокая принципиальность, не позволившая ему прибегнуть хотя бы к видимости примиренчества, с помощью которой он мог бы включиться или «подключиться» незаметно к общему потоку модернизма, присвоив своей собственной живописи какой-нибудь защитный «изм» и тем избавив себя от бездны врагов, неприятностей, трудностей, — эта суровая и непреклонная позиция «одного против всех», борца «против течения» и вызывает невольно, как бы ни относиться к теоретическим высказываниям Грегорио Шилтяна — а я считаю их ошибочными в отношении импрессионизма, — огромное уважение к нему и к его удивительной судьбе.
Но значит ли это, что сам Грегорио Шилтян как художник является обыкновенным традиционалистом, лишенным элементов новаторства и не знающим лихорадки поисков новых выразительных средств? В посвященной ему в 1949 году монографии критик Вольдемар Джордж (монография издана на французском языке в Италии) не только отрицает это, но и пишет, что Шилтян широко использовал некоторые формальные достижения модернистов — «принимает кубизм… тенденцию возвращать, как говорил Поль Сезанн, формы природы к кругу, цилиндру и пирамиде» — и продолжает и углубляет метафорическую школу Кирико и Карра (Chirico et Carrà). Он сравнивает его с Сальватором Дали, подчеркивает его урбанизм, полное отсутствие пейзажа в его картинах и в конце концов, исчерпав все эстетические категории и сравнения, приходит к любопытному заключению о том, что первоначальный смысл и этимологию слова «революция» (revolution) попросту забыли: «В механике революция обозначает полный поворот по кругу» (tour entre d’une rone). Пуссен, говорит оп, был, конечно, реакционером по отношению к Рубенсу, — он вернулся к античной живописи, и его единственным учителем был Рафаэль. Моне вызвал когда-то скандал своим «Завтраком на траве». Но Моне, обвиненный критиками в свое время как опрокидыватель всех законов живописи, сейчас обвиняется некоторыми знатоками (érudits) в том, что он исходит от классицизма. И в конце своей статьи Вольдемар Джордж обобщает: «Хотя жизнь форм состоит в постоянном развитии, она не может избегнуть закона возвращений». Революцию он расшифровывает, таким образом, как возвращение к началу, приближаясь этим толкованием к гётевскому принципу обновления человечества через новые и новые катаклизмы цивилизации: «Der Mensch muss wieder einmal ruiniert werden»[61]. Ибсен прибег, после Гёте, к образу своего пуговичника из «Пер Гюнта» и к теории переплавки.
Я так подробно остановилась на монографии Джорджа для того, чтоб читатель мог попять, как сложно и надуманно отношение к Шилтяну на Западе даже тех, кто признает и ценит его искусство, и к каким сложным ухищрениям прибегают они, чтоб «оправдать» своеобразный реализм Шилтяна, так резко расходящийся с общим течением в живописи. Нужны ли эти ухищрения и что, собственно, прибавляют они к нашему пониманию полотен Шилтяна этой попыткой «почесать правой ногой за левым ухом», то есть завуалировать ненужной и неуклюжей сложностью факт очень простой и ясный сам по себе, о котором художник лично говорит во весь голос общепонятными словами?
Развернем опять монографию Шилтяпа и вчитаемся в его профессиональные советы молодым художникам. Когда-то, изучая творчество Тараса Шевченко, я с интересом остановилась на его высказываниях о живописи. Сам тонкий и сильный художник, любимый ученик Брюллова, Шевченко так советует в своих письмах: овладение рисунком — вот первое и главное дело для живописца; «семь лет рисуй, потом малюй». Эта классическая заповедь Брюллова, дважды отвергнутая в наше время — натуралистами с их приматом рисунка и раскрашиванием картин и модернистами с их «малеваньем» сразу, без «рисованья», — эта брюлловская заповедь, учившая руку великой гармонии между нахождением контура вещей и симфонизмом палитры природы, встречается вам тотчас, как один из первейших советов, у Шилтяна. Он пишет: рисунок — это субстанция искусства живописи («Il disegno è la sostanza dell’arte pittorica»). Как-то в разговоре он сказал, что он ученик «русских итальянцев» — Брюллова, Иванова. И, читая его советы художникам, я не раз вспоминала это признание. Очень интересно все, что он пишет о портрете человека, считая портрет чуть ли не самым сложным и трудным делом художника. Слегка подсмеиваясь над современными утверждениями о том, что сходство с оригиналом не обязательно, так как для модернистов портрет должен передать субъективную идею художника о своем оригинале, он детальнейшим образом разбирает, как именно передать подлинное сходство с па-турой, как закрепить на полотне всего человека в его реальном бытии. Большое место он отводит предварительному изучению своей «натуры», изучению пластическому, глазами художника, и притом очень целостному; одежда, манера носить ее, фактура материала, складки, указывающие на характер привычных движений, — все это входит в понятие целого. И главной заботой портретиста, по его мнению, является умение найти «гармоничную позу». В избранной позе для Шилтяна выражается характер индивидуума, и, заняв эту, присущую ему, позу, человек сидит перед ним как бы в обнажении своего характера, своей системы выработанных привычек, и сидеть ему легко и естественно. Слово «позирует», связанное в нашем представлении с чем-то искусственным, затруднительным для человека, приобретает у Шилтяна совсем другой смысл: человек принимает именно ту позу, которая для пего естественней и привычней всего, как выражающая его постоянную «складку». Вот в этом смысле читается совет Шилтяна: выбрать гармоничную позу. Но сам оригинал вовсе не «знает» этой своей гармоничной позы, ее находит для пего художник, изучающий свою натуру пластически, от расположения волос на голове до складок одежды. Пейзаж считает Шилтян искусством второстепенным, ниже портрета и натюрморта, причем приводит для этого простые и неожиданные аргументы: для пейзажа надо слепо идти за природой, нельзя создать нужного освещения, всего того, что достигается в четырех стенах студии; нельзя, например, «снять» мешающий общей композиции склон горы, нельзя менять расположение целого, а для того, чтоб найти желаемую композицию природы, такой ее мотив, чтоб он отвечал твоему желанию, понадобятся, может быть, месяцы исканий. В этом рассуждении о пейзаже видишь, как недопонимает Шилтян эволюционной необходимости в живописи технических завоеваний импрессионизма. Но в то же время тут приоткрывается и взгляд его на творческую роль художника-реалиста. Не все то, что есть в природе, реально для искусства. Он приводит любопытный пример с картиной Караваджо «Il cesto di fruttа». Она поражает таким подлинным реализмом, что — вам кажется — перед вамп сама природа, стоит протянуть руку, чтоб ощутить ее. Но этот иллюзионизм действительно достигнут огромным отбором и творческим вмешательством в реальность объекта. Если после картины Караваджо посмотреть на реальное cesto di frutta (пучок овощей), с которого картина писана, то оригинал покажется хуже картины, менее выразительным, более смутным («un poco smorta, un poco sbiadita, oserei dire meno viva del sao specchio dipinto» — «немного поблекший, немного полинялый, смею сказать, менее живой, чем его художественное изображение»).
Немало места в книге посвящено натюрморту, которому Шилтян отдал в своей жизни большую дань. Тут сиять начинается с рассказа о том, куда и как он ставит предметы, какое освещение дает нм, как разыскивает нужные вещи у антикваров. Любовь его к материн, к дереву, ткани до такой степени сильна, что у Шилтяна есть излюбленные модели-манекены, как у иных художников излюбленная ими живая натура-модель. Придя в первый раз к нему в его миланскую квартиру, где за жилыми комнатами, увешанными картинами старых мастеров, находится его ателье, я сразу же, в передней, почти испугалась, наткнувшись на сидевшую фигуру деревянного человека с каким-то тюрбаном на голове. В его немного лукавом лице с мелкими чертами, отполированном временем и бесполом, в прямом движении его руки, сгибающейся лишь у плеча и локтя я сразу узнала модель многих картин Шилтяна, поразительных по разнообразию выражения этой неподвижной деревянной модели: вот он сидит с палитрой в руке и кистью в другой перед белым натянутым полотном, оглядываясь на своего невидимого хозяина («Angolo di studio», 1948); вот он уже не в роли художника, а в роли музыканта, с цилиндром на голове вместо тюрбана и гитарой в едва разжимаемых деревянных пальцах; и лицо его, слегка откинутое, опять приняло как бы повое выражение уже не вглядывания, а вслушивания («Allegra serenata», 1951). Вот он покорно и уже без шляпы, кажущийся еще совсем юным, держит на плече наброшенную ткань (рисунок «Этюд драпировки» 1942 года); и опять он в картине 1947 года, где среди вещей, лежащих и повешенных, из круглой рамки на стене выглядывает его торс с гитарой, — картинка в картине. Я так привыкла потом к этой мертвой деревянной модели, что почувствовала ее своеобразную жизнь в квартире художника, где собраны старые картины итальянских школ и всевозможные антикварные предметы, и всякий раз, вступая в переднюю, дотрагивалась до нее в знак приветствия.
Читая и перечитывая советы и наставления, изложенные деловым и ясным языком в книге Грегорио Шилтяна, видишь, как он обучает молодого художника старой технике письма, забытому, трудному и взыскательному, всю жизнь продолжающему свое совершенствование техническому мастерству живописца. Грегорио Шилтян прошел огромную школу этого мастерства. Можно признавать и отвергать, любить и не любить его, но отрицать этот высокий класс мастерства, наличие почти классического совершенства приемов живописи, глубочайшее знание школы высоких мастеров прошлого никак нельзя. Этого не посмеет даже самый лютый противник Шилтяна. Как-то в дружеской беседе Шилтян сказал: «Если я вижу, что художник сумел сделать руку и на полотне настоящая, правильно трактованная рука, я говорю: это художник. Но когда не умеют точно и верно воспроизвести, — это не художники, это неграмотные в искусстве». Грамота, школа, подлинное освоение пройденного человечеством — без этого, говорит он, нельзя позволить себе «преодолевать» школу и насиловать ее законы. Их прежде всего необходимо познать, а потом уже ставить перед собой задачу их преодоления.
В числе натюрмортов, которые, кстати сказать, Шилтян чаще всего берет из мира неживых предметов, есть так называемый жанр «inganno» по-итальянски; «trompe d’oeil» — по-французски; «обман зрения» — по-русски, — такая передача предмета в двух измерениях полотна, что получается полнейшая иллюзия его стереоскопичности, достигаемая тенью, контуром, соотношением вещи с ее фоном до такой предельной выразительности, что невольно проверяешь ее рукой. Шилтян пишет, что к этому жанру «inganno» современные художники относятся пренебрежительно, хотя именно с такого «inganno» — точного воспроизведения — началась, по античному преданию, сама живопись, и целью всех великих художников было перенести жизнь на полотно, сделать объект искусства настолько «похожим» и живым, чтоб он остался в этом втором бытии жить века. «Обманы зрения» доступны лишь на высшей стадии знания техники живописного мастерства. И это своего рода экзамен высшего класса зрелости для мастерства, нечто вроде листовской «Кампанеллы» для пианиста. Виртуозная техника с тончайшим пониманием материального мира просто поражает зрителя в таких вещах Грегорио Шилтяна, как его «инганно» от 1941 года, где открытка, пришпиленная к стене, кажется отходящей своим концом от стены, или «инганно» из коллекции А. Мондадори, где на деревянной обшивке кнопками, крест-накрест, пришпилены два красных ремня, а за ними заткнуто много предметов, от газеты до перышка, и перышко своим острым концом кажется отступающим, словно отдуваемым ветром от стены. Возникает вопрос: доставляют ли такие чисто технические выдумки глубокое эстетическое наслаждение? Не стоит ли этот натурализм за пределами искусства? Но спросим себя и о другом: а доставляет ли наслаждение технически виртуозная, как иногда говорят, «демонически» виртуозная игра пианиста? Жизнь отвечает на это утвердительно. Чем же привлекает человека техническая виртуозность? Может быть, слово «демон» (греческое «daimon») разъяснит тут некоторый психологический момент в созерцании и слушании предельно виртуозного: удивление силе и мощи, умению человека преодолеть границы возможного для него. Нельзя отказать зрителю и в этом естественном удивлении демоническим мастерством Грегорио Шилтяна в его предельно виртуозных «инганно», которые он, с каким-то жестким кокетством, вставляет иной раз миниатюрными деталями в свои большие полотна, — и вдруг отступает у пего от карниза большой картины на религиозную тему белый свиток, словно он не нарисован, а наклеен тут; или плывут обнаженные ступни «Мадонны Армении», висящей в Эчмиадзинском храме, заставляя видеть и чувствовать воздушное пространство за ними.
Вещи, материальные предметы — самые неожиданные и, казалось бы, самые трудные для живописца, выбранные по принципу «трудности изображения», глядят в таком «embarras de richesses» — затрудняющем изобилии — с полотен Грегорио Шилтяна, что кажутся основной его страстью. Он с необычным тщанием, необычной нежностыо к материальному телу земной вещи, пусть самой убогой, вроде грязной бахромы на обтрепанных брюках нищего, или клочка разорванного письма на полу, или марки, наклеенной на конверт, или старой, порыжелой, пропыленной временем страницы раскрытой книги с ее печатью прошлых веков, пишет и пишет свои «натуры», наполняя ими комнату, стену, стол на картине. И иногда, не довольствуясь отражением этого густо собранного, переполняющего узкое пространство вещевого изобилия на своей картине, он вдруг отражает уже отраженное в висящем на стене зеркале. Его занимает так написать кисею девичьей шали, чтоб под ее прозрачными складками был виден предмет за ними; или яркие полосы света на стеклах очков, чтоб за ними, слепящими ваш собственный взгляд, глядели на вас глаза человека с портрета. И оспаривать тот факт, что предела живописной виртуозности, достигнутого Грегорио Шилтяном, вряд ли достиг в Италии какой-нибудь другой живописец, нельзя. Но это и не станут оспаривать критики. Слышать приходится другое: «Все это так, виртуозность предельная, но очень мало вкуса в этом нагромождении, и переданные с такой жизненной точностью предметы и люди фактически по живут на полотне». Возражение серьезное, в нем стоит разобраться.
Вкус — понятие очень сложное, отразившее свою сложность в сотнях поговорок на всех языках мира и у пас, на русском: «на вкус и на цвет товарищей пет». Но при всей сложности существует некий экстракт художественного вкуса, уточняемый и утончаемый каждой последующей эпохой, и на этот неопределимый, но уловимый вкус — вещи Грегорио Шилтяна, так резко противоположные всему тому, что сейчас окружает его и культивируется на Западе на каждом шагу, как будто, во всяком случае на первый взгляд, не могут поправиться. Тут нужно вспомнить тоже поговорку, вернее, мудрое старое немецкое изречение о том, что для понимания поэта надо отправиться в страну поэта. А «страна поэта», окружение, которым живет Шилтян, — это мир уходящих в прошлое и живущих уже как бы в «коме», как сказали бы медики, или в «коде», по слову музыкантов, старых, изжитых общественных отношений. Милан — центр блестящей итальянской интеллигенции и итальянской индустрии, центр окрепшего, но уже дегенерирующего в пасти американского удава итальянского капитализма. Он живет очень шумной, очень оживленной на вид и даже как будто процветающей торговой жизнью, но не вокруг La Scala, не вокруг собора, не вокруг La Brera, как это было в прошлом. Я была в Милане в ноябре прошлого года и попала в La Scala не на оперу, которую там редко удается теперь услышать, а на… нашего Кондрашина, дирижировавшего симфониями Прокофьева и Шостаковича. В картинной галерее La Brera было пустынно, и стены, увешанные дивными созданиями человеческого гения, отдавали только эхо одиноких моих шагов. А собор… тот самый, о котором когда-то Герцен, в своих декабрьских письмах 1867 года, от 18-го — М. Мейзенбург, от 20-го — И. С. Тургеневу, писал из Милана, почти задыхаясь от смешанных чувств восторга и юмора: «Я смотрю на эту мраморную беловежскую чащу здешнего собора. Такого великого, изящного вздора больше не построят люди» и «После Венеции мне еще ни разу не довелось видеть такую каменную глупость, как этот огромный мраморный собор, такой безумно-прекрасный, бесцельно-возвышенный, сталактитово-сумасшедший. Да, человек велик только в безумии», — тот самый миланский собор, безумно-прекрасный, сталактитово-сумасшедший, — похож сейчас на белую курицу, попавшую под грязный дождик. Под ним строят метро. Белые перышки его поблекли в своем ажуре, он стоит даже по анахронизмом, даже не «каменной глупостью», а каким-то жалким комочком в этом огромном торговом центре, и представляешь себе, как будут в нем дребезжать органные мессы и мигать электрические свечи, когда каждые пять минут станут проноситься под ним подземные поезда.
Страна поэта — это сложная и удручающая страна, диктующая современности свои абстрактные линии, бессмыслицу своих сознательных искажений природы (денатурализацию) как способ спастись от нее и бежать из нее. По, живя в ней, Грегорио Шилтян ухитряется твердо стоять на ее старой почве, давшей миру каноны искусства и названия эпох по состоянию и школам этого искусства. Он не считает, что линия развития этих канонов и этих школ прошлого оборвалась в наше время. Он не хочет бежать. Он хочет продолжать линию классического развития живописи и видит в этом свою миссию. По именно поэтому, стоя на земле обеими ногами, прокламируя единственным выходом из декаданса реализм, Грегорио Шилтян не может не быть верным своей, окружающей его натуре, не быть верным методу того классицизма, который — опять по слову тонкого судьи, Герцена, — «щупает мир рукой». И «натура» его — в своей последней маске мнимого оживления, в своем смертном подобии Ренессанса, в улыбке, похожей на гримасу, в жесте, похожем на rigor mortuis, как говорят в детективных романах о наступлении смертной инертности тела, — не может не передаться правдивой его кистью на полотно. Он не денатурализует природу на манер модернистов, которым любая неграмотность их кисти может помочь сойти за новаторов, деформирующих природу. Но сама природа, с высокой точностью реализма, невольно передает ему как мастеру свою легкую, начинающуюся, подобно первым симптомам, деформацию прежней жизнерадостной своей сущности. Утверждающий реализм становится, таким образом, разоблачающим свое время и свое окружение, — может быть, без малейшего на то желания самого мастера. И тут мнимая «безвкусица» в этой собранности разноликих вещей становится просто откровением времени, страшной магией ушедшего прошлого без власти его над необратимым временем, в страшном противоречии его с современным вещным миром, будь это «Sigarettes modernes Players» наряду со старыми навигационными инструментами («Путе-шествия», 1941) или библейская Сусанна рядом со стариками в современных сюртуках («Сусанна и старцы», 1939). Не деформируя, а воссоздавая с виртуозной точностью, Грегорио Шилтян больше рассказывает о страшной деформации человеческого быта и сознания, переживаемой нынешней западной цивилизацией, нежели любой левацкий «новатор», деформирующий на своих полотнах не «натуру», а краски, линии, каноны искусства.
Самое сильное, что создал Шилтян в своем необычайном творчестве, к пониманию которого приходишь по сразу, а путем долгого, вдумчивого изучения, — это, конечно, портреты и те большие композиции («Филателист», «Бродяги», «Вакх, приходящий в таверну», «Школа воров», «Навигатор» и др.), где фигурируют люди в их портретной точности и где письмо и мышление достигают вершин художественной типизации. Очень обидно, что огромное число этих лучших его картин находится во владении частных лиц и распылилось по частным коллекциям, и приходится судить о них по репродукциям, правда великолепным, в таком превосходном издании, как Хёпли и Lacca. Выставка всех работ Грегорио Шилтяна становится сейчас, особенно в нашей стране, сугубо желательной, для того чтоб такое острое явление современности могло быть правильно понято, философски осмыслено и дискутировано нашим временем, а это правильное понимание помогло бы и самому Шилтяну сделать последний шаг — пробиться к живой натуре, к новому человеку, человеку труда, рабочему, новому революционному деятелю, расчищающему дорогу для будущей свежей жизни человечества, чтоб ворвался этот свежий ветер и на его полотна, наполнив их достойным подлинного художественного реализма содержанием и поборов сухой пессимизм его теперешней «натуры».
О Грегорио Шилтяне писано было множество раз во множестве западных газет и журналов, но, к сожалению, вплоть до цитировавшегося много Вольдемара Джорджа, это написанное не содержало о нем настоящего, нужного слова, а либо сопричисляло его к лику современных «измов», либо пыталось извинить его и замаскировать под эти «измы». Вряд ли все это помогло Грегорио Шилтяну в развитии его большого таланта. Помогла, может быть, в выборе реализма сама жизнь художника. Родившийся, как и Мартирос Сарьян, в Нахичевани-на-Дону 20 августа 1900 года[62], он прошел серьезную школу Венской Академии искусств и с 1925 года переселился в Италию, где и натурализовался. Помню его совсем маленьким черноглазым мальчуганом, которому сестра моя любила рассказывать сказки. Талант рисовальщика и острое внимание к миру окружающих вещей, умение точно ответить на вопрос: «А ну-ка опиши, что ты видел» — ярко проявлялись в нем уже с тех пор. В Италии первые годы художник, так резко разошедшийся с модным и всесильным модернизмом, переживал немалые трудности и долго бедствовал. Он рассказал мне, как, гонимый нуждой, бродил но дорогам Италии, заходя в бедные деревушки, рисовал крестьян и пастухов, и эти картины, правившиеся народу и покупавшиеся за гроши простыми тружениками, давали хлеб и ему, бродячему художнику. Такова была в Италии первая его школа близости к природе и к простому человеку — и жаль, что он замкнулся от нее впоследствии четырьмя стенами студии.
Среди картин Грегорио Шилтяна есть одна, которая, на мой взгляд, возбуждает много мыслей и каким-то образом ассоциируется с горьковским «На дне». Написанная в 1945 году, она принадлежит, как «Филателист», «Навигатор», «Отъезд», к тому периоду творчества Шилтяна, когда оп, освободившись от прежней, очень сильной зависимости от итальянских классиков (замечательная классическая композиция 1936 года о Вакхе в трактире), находит, оставаясь верным своему человеческому типажу, уже чисто оригинальные шилтяновские черты и стиль. Это — «Бродяги». В упомянутом мной «Вакхе в трактире» еще мягкая, бархатистая трактовка материи и голого тела, еще сумрачный общий колорит, напоминающий Караваджо, скульптурные, тщательно выписанные, бронзовые голые тела, залитые огненно-дымным светом вечерней фабричной городской окраины в типичной староитальянской манере. Повешенная в музее, картина эта могла бы легко быть принята за полотно XVI–XVII веков. Но уже лица трех сидящих за столом совершенно разных по типу людей, присевших выпить, говорят об оригинальном шилтяновском выборе натуры. Один, может быть, музыкант; другой — слесарь, с инструментами, аккуратно положенными на пол; третий — полуинтеллигент, полукультурyый рабочий в синей майке, с газетой в кармане пиджака, висящего на спинке стула. Возле них стоит типичный изжелта-бледный пьяница с испитым лицом и влажными от пота волосами, упавшими на лоб. Все четверо, обернувшись, глядят на вошедшего голого прекрасного юношу, с виноградным венком на кудрях, один — с досадой на вторжение, другой — с изумлением от неожиданности, третий — по-пьяному пристально, четвертый, с газетой в кармане, — повернувшись спиной к нам, лицом к Вакху, — поднимает ладонь, как бы отстраняя видение Вакха, поднявшего розовую портьеру. Вы уже можете сказать кое-что о каждом из них, но вы не могли бы рассказать их истории, раскрыть их души.
Но в «Бродягах» вы это можете, и больше того: вы не можете не увидеть перед собой жизни и характера каждого. В центре картины, на ящике, сидит книжный человек, немного схожий с Лукой из «На дне», настолько, насколько может быть похож опустившийся на дно доморощенный философ Запада на русского «божьего человека». Он облысел, у пего не хватает переднего зуба. Глаза слезятся по-старчески, руки опухли. Подагрическими пальцами левой руки он держит на коленях книгу и, читая, поднял палец правой руки и ее комментирует. Справа от него, лежа на животе и подперев голову рукой, думая о споем и по-мальчишески безразлично к взрослым, слушает курносый мальчик. За спиной его задумался — горько и пристально — безработный. Он молод, но всего насмотрелся, хочет и почти не может верить печатному слову. А рядом с ним разуверившийся, больной, опустивший низко голову в фетровой шляпе, отекший пожилой бродяга с мешком на плече, уже уставший, но — призадумавшийся над мудрыми, серьезными и, должно быть, малопонятными ему словами беззубого толкователя. И на коленях, подсевши к нему, уперши щеку в палку, присоседился последний из этой компании, самый рваный, босой, с лицом бандита, но жаждущего покаяться, помолиться и потом снова погрешить, — его душа тесней всех лепится к читающему, а губы готовы цинично ухмыльнуться над собой. что за люди и в каких говорящих позах взяты они художником! Понимаешь вдруг, какое огромное значение вкладывал он в слова «гармоничная поза», когда писал свои советы для начинающих. Именно позой рассказывает о себе его видавший виды, умеющий хлебнуть рому, ни бога, ни черта не боящийся морской волк («Il Navigatore», 1941) с лихо закрученным усом. Именно в позе узнавали мы изящно-жеманный в своей наследственной родовитости, но такой унылый и безвыходный в этом доживающем век свой ефрейторском аристократизме, мрачный характер потомка древнего рода (портрет герцога Граццано Висконти, 1941); и такой человечный, с безвыходной тоской на простом рабочем лице, такой трогающий за душу характер уличного музыканта, перебирающего клавиши своей гармонии («Тоска по родине», 1941), — пожалуй, самый человечный, самый добрый из всех портретов Шилтяна. Когда вживаешься в каждую его картину, в каждый натюрморт его, начинаешь лучше понимать творческий путь этого своеобразного художника. И начинает хотеться, чтоб жизнь ворвалась в его полотна и, забыв о мертвых вещах, он схватил и передал своим ярким мастерством нового человека нашей планеты, нового наследника всех ее несметных ценностей, созданных человечеством. Потому что изжитым и усталым окружающим его людям, этому умирающему обществу, в котором живет он и пишет, — воистину уже тяжко жить, и накопленный материальный багаж давит им плечи, теснится в самом просторном, самом богатом жилье их, теснится, не находя выхода, не находя ценителя. И наследие веков, которым так дорожит Шилтян, рвется в широкий мир будущего, где сумеют принять его в жизнь и оценить.
Так, не ставя себе никакой разоблачающей задачи, реализм Грегорио Шилтяна превращается, подобно самым левым течениям в искусстве, в суд и осуждение старого мира.
1962
XIII. Язык Петрарки
Вышел из печати долгожданный учебник итальянского языка[63]. Мне пришлось как-то писать о странном у нас равнодушии к этому красивейшему языку. Предпочтение много лет отдавалось испанскому. Это объяснялось, конечно, растущим интересом к народам Южной Америки, говорящим по-испански. Но диапазон итальянского отнюдь не меньше и не менее практически важен. Ведь не говоря уже о том, что и в Америке, и в Англии, да и в других странах существуют в городах целые кварталы, населенные итальянцами, и вы легко можете услышать звучную речь Торквато и Петрарки на улицах Лондона, Чикаго, Сан-Франциско, — нельзя забывать, что итальянский язык — один из четырех государственных языков Швейцарии, и вы в Тессинских Альпах, во многих местах Граубюндена встретите его как официальный язык учреждений, да и в части Югославии жители говорят по-итальянски. Но дело, конечно, не в статистике и географии. Место Италии в мировой культуре куда значительнее ее географических размеров: в некоторых областях науки и техники ей принадлежит одна из ведущих ролей; научная и художественная литература у нее великолепна. И ко всему этому присоединяется давнишняя наша собственная традиция. Русские классики, русское образованное общество XVIII и XIX веков учили итальянский так же, как французский. Разверните «Египетские ночи» Пушкина, где описывается приезжий итальянец-импровизатор. Знатный петербуржец Чарский разговаривает с ним по-итальянски, и, хотя он говорит ему, что «в обществе» итальянских стихов не поймут без переводчика, большая часть присутствующих на вечере, оказывается, прекрасно их понимает. А Тургенев, у которого несколько поколений читателей училось воспитывать свои вкус к красоте! Кто из нас мог забыть очарование его «Вешних вод», маленькую итальянскую кондитерскую в немецком городке и бессмертный образ Джеммы…
Так вот, невнимание к итальянскому, по счастью, исправлено. За короткое время изданы целых четыре словаря, два карманных и два объемистых, а наконец появился и учебник. Он вышел в ИМО (Издательство международных отношений) и даже просто как учебник, носящий особые черты, выделяющие его из серии таких учебников, заслуживает доброго слова.
Начать с того, что он очень требователен к студенту и вообще к любому, кто захочет им пользоваться. С первых же страниц вы видите, что он обращен к интеллигентному, добросовестному и сознательному ученику, ценящему фактор времени. Учебник назван «практическим», и это совершенно точное определение его особенности: никакого размазывания лишним многословием того, что может быть понято сразу; скупой лаконизм в перечислении основных грамматических правил; стройная последовательность изложения в хорошем рабочем темпе. И оттого, что нет лишних слов, не повторяется много раз то, что понятно с одного раза, — и правила и слова запоминаются гораздо крепче и скорее, словно не написаны они черным по белому, а говорятся вам устно, от лица к лицу, с доверием к вашей памяти и умственной способности. Практичность учебника сказывается не только в этой как бы ускоренной методе изложения, но и в стремлении его автора свести до минимума всякую случайность в выборе примеров и всякий излишек в собственном изложении. Примеры почти все жизненны, ясны, взяты из сегодняшней Италии — ее современных писателей, газеты «Unita» и прогрессивного журнала. Они не только современны, но местами злободневны. Очень хороши приводимые диалоги, вопросы и ответы — не только потому, что они могут пригодиться учащемуся в жизни, а и потому, что они даются на живом, сегодняшнем языке итальянской молодежи, итальянских газет. Весь материал учебника приобретает, таким образом, познавательное значение: одновременно с языком учащийся знакомится со страной, ее жизнью, проблемами экономики, политики и культуры. И все это предельно лаконично, предельно легко, как бы с ходу усвояемо. Чувствуется, что в основу учебника легло долгое устное преподавание языка, выработавшее в преподавателе секрет большой доходчивости всего того, что обращает он в своей речи к учащемуся.
Может ли данный учебник быть самоучителем? Легко ли с его помощью овладеть языком, скажем, заочнику или ученому, желающему научиться читать? Я бы ответила утвердительно при условии определенной интеллигентности ученика. Правда, словарь, которым постепенно вы овладеваете по учебнику, недостаточен для научного и художественного чтения, он дается в нешироком, чисто практическом объеме. Но зато учебник прививает навыки самостоятельного расширения этого словаря, дает важнейшие грамматические ориентиры и заинтересовывает настолько, что вы сами хотите перейти к более серьезному и трудному чтению. Это большое его достоинство. Не забудем, как охотно учащийся, окончив курс, забрасывает учебник, как что-то, с чем, слава богу, пришла минута проститься навсегда. С «Практическим курсом итальянского языка», изданным ИМО, такое «прости навек» вряд ли случится.
При втором издании следует исправить кое-какие опечатки, не попавшие в перечисление, напечатанное в конце книги. И очень хотелось бы посоветовать автору учебника суммарно дать хотя бы самую краткую характеристику языковых отличий — диалектов венецианского и неаполитанского.
1964
Голландские письма
I. Приезд с приключеньем
Кажется, Смоллетт сказал, что лучшая форма путешествия — это пешком. Но уж если нельзя на своих двоих или на четырех лошадиных ногах, так лучше поездом — поездом с попутчиками, проводником, чайком, остановками на станциях и теми разрезами социально-географических пластов, какие бегут перед вами в окнах, справа и слева. Когда мне пришлось опять, после девятилетней разлуки, отправиться в Англию, я поехала не старым своим путем через Прагу — Париж — Лондон, а новым — через Берлин — Роттердам — Харидж, чтобы на несколько дней остановиться в Голландии. Наш вагон, единственный беспересадочный, должен был пересечь кусочек Западной Германии и через Бенилюкс подъехать прямо к пристани голландского порта Хук-ван-Холланд, откуда пароходы идут в Англию на Харидж.
Было уже темно, когда поезд подошел к Берлину. Должно быть, немало советских людей наблюдало из окон эту панораму сменяющих друг друга частей Берлина, демократического восточного с его остановками «Берлин-Ост» и «Фридрихштрассе» и — Западного Берлина с его станцией «Зоо» («Зоологический сад», или, как называли его у нас в старину, «Зверинец»). По сути, небольшая западная часть Берлина использована Бонном как своеобразный плацдарм для рекламы западнонемецкого «процветания». Не успевает поезд отойти от «Фридрихштрассе», как начинается эта реклама: море ослепительных разноцветных огней, заливающих широкие улицы, как комнаты и коридоры раскрытого настежь дворца. Станция «Зоо» — вся из стекла, в модных квадратных линиях.
Рассчитанная поразить своей нарядностью, эта часть Берлина производит скорей впечатление искусственной театральной декорации, за которой нет живого мира. Не знаю, как на других, но на меня гораздо более сильное впечатление произвели два разных киоска, перед которыми остановился наш вагон. На станции «Фридрихштрассе» — это книжный киоск, доверху полный заманчивыми книжными обложками; на станции «Зоо» — это винный киоск «Шультхейс» со всеми видами бутылок на его витринах. Как ни примитивно такое противопоставление, оно невольно заставляет задуматься.
Когда вы въезжаете в большие города любых государств, от Москвы до Парижа, — их органические центры, выросшие вместе с историей всей страны, начинают мелькать первыми своими очертаниями в окнах поезда отнюдь не театрально-нарядным зрелищем, а непременно деловитыми задворками — той черновой, окраинной жизнью труб, глухих стен, расходящихся путей, мостов, коротких туннелей, за которой чувствуешь биение пульса огромного, надвигающегося на вас центра. И эфемерная картинка западноберлинского «процветания» по сравнению с ними сразу обнаруживает свой рекламно-показной характер. Право же, скромная станция «Фридрихштрассе» с ее книжным киоском больше похожа на добрую старую Германию книг и музыки до войны 1914 года, где пришлось мне готовить в Гейдельберге свою магистерскую диссертацию, чем этот американизированный бар на «Зоо».
Спать не хотелось, и я ворочалась на своей койке, чтоб с пяти часов прилипнуть к окну. Белый, тусклый свет начал расцеживать ночь. Мы проезжали Вестфалию. Здесь уже запахло северным соседством, Скандинавией. Начала меняться архитектура. Красные кирпичные домики, вытянутые треугольничком вверх; на одном, плоскокрышем, — нечто вроде огромного самовара, по форме не поймешь — труба или какая-то устаеовка. Появились на красном белые обводные черты: белые наличники, белые рамки вокруг окон, по карнизам, — словно все обшито тесьмой. Сыро и вымоченно, солнце бледным анемичным шаром катится за поездом, все кажется в дыму, и в дыму наплывает курорт для ревматиков. Границу вы сразу воспринимаете «орфографически»: по эту сторону Ольденцаль, по ту сторону Ольдензаал, — милое голландское дублирование буквы «а»; и, переехав границу, вы как бы сразу попадаете в дублирование тех первых черточек нового в пейзаже, в архитектуре, которые только намечаться начали в пограничной Западной Германии.
Не знаю, какую другую страну можно полюбить так сразу, как Голландию. И совсем не знаю, за что. Может быть, за то, что современный человек, изнервничавшийся от всевозможных экспериментов, экстравагантностей, эксцессов — вообще всяких «эксов» западной культуры, укорачивающих ему жизнь, которую он как будто бесчисленно, до самой смерти, пробует и начинает, пробует и меняет, — тут вдруг, на голландской земле, познает солидность и серьезность единственного, позабытого новым веком, старомодного качества: постоянства. Я пишу не об экономике и культуре, а о том первом впечатлении, какое получаешь от характера реклам, витрин, новостроек, уличной жизни, одежды людей, в их какой-то стабильности против моды и новшеств. Даже на самых людных улицах голландской столицы пришлось мне проверить это впечатление.
Но возвращаюсь к дороге. Красные треугольнички домов, замелькавшие в окне поезда, постепенно приняли свой склад и лад. В противоположность старинным немецким вторым и третьим этажам, выдвинутым, как ящики комода, над нижним этажом и слегка нависающим над улицей, — появилась деревенско-голландская, выдвинутая вперед, как подбородок, коробка первого этажа, ступенью на улицу, а над ней — отступающий назад второй этаж, выходящий на крышу первого, как на балкон. Черные с белым коровы пасутся в одиночестве, каждая — на участке своего хозяина. Окна кажутся у нас впалыми, как глаза, вдвинутыми в стену, смотрящими изнутри. У голландцев окна похожи на очки, нахлопнутые снаружи, и обязательно с белыми наличниками, белой рамочной оправой. Так и выпучены эти окна, словно рыбьи глаза или корабельные иллюминаторы, на вас. Любовь к выпуклости, пузатости — пузатенькое авто, лобастый электровоз, — по Голландии мы едем на электрической тяге. Скошенное сено на лугах собрано в прямоугольники, похожие на чемоданы, а большие стога, словно чайники, под деревянными крышками, и эти крышки повсюду — над сеном, над сжатым хлебом. Белоснежные гуси на пруду, как россыпь водяных лилий. Круглые бензобаки стоят шарами на ножках, изогнутых как у стульев рококо. А вот плоскокрыший одноэтажный дом на несколько квартир, — окно и дверь, окно и дверь, у каждого квартиранта своя дверь, и, то ли для красоты, то ли чтоб не перепутать, одна дверь покрашена в розовую, другая в голубую, в красную, синюю краску. Городок на канале, как в Венеции. Лодки на причале у каждой двери, как в Венеции…
Все это — еще не Голландия, все это лишь тот социально-географический разрез в окне поезда, о котором я сказала выше. Но вот мы проехали индустриальный Амерсфоорт, проехали Утрехт, и проводник — наш советский проводник этого советского вагона — торопливо сказал мне:
— Вы хотите в Роттердаме слезть? Сейчас Роттердам. Поторопитесь, тут стоит полминуты.
Полминуты! Вся сырая женская душа всколыхнулась во мне, и я, уже ничего не спрашивая и не слушая, но глядя в окошко, поволокла опрометью свои вещи на площадку. Проводник едва успел вынести их за мной, как поезд двинулся, и кусочек родного дома, родной советский вагон уплыл от меня. Я осталась одна. Я была в Голландии. Я была в Роттердаме. Но позвольте, что же это за Роттердам? Перрон, на который я слезла, был совершенно похож на наш дачный, высоко над полотном, безлюдный. И по обе его стороны тоже безлюдно, а города — никакого. Ни даже станции, ни даже носильщика. И меня решительно никто не встретил, хотя мы надавали множество телеграмм. А из всего голландского языка я знала только фразу, зазубренную в детстве с балладой Жуковского «Каннитферштан». По опыту долгой жизни я была уверена, что нигде не пропаду, но все-таки, если говорить начистоту, самую малость струсила. Тяжелые вещи таскать мне одной не под силу, а главное, неизвестно, куда таскать, и отойти от них было страшно. Мысленно я уже писала письмо друзьям, заманчиво составлявшееся: «Начать с того, что я не там слезла». Но где я слезла?
Тут показалось в этой пустыне живое существо — небольшого роста юноша с рюкзаком за плечами, в треуголочке и куртке защитного цвета, с чем-то на плечах вроде простых нашивок. Разговорились мы с ним по-английски, и я узнала, что настоящий Роттердам, Роттердам-Центральный — в нескольких километрах отсюда и наш поезд там не останавливается, а проезжает прямо в Хук-ван-Холланд, и, должно быть, именно там и встречали меня. А теперь надо пробираться в Роттердам на дачном поезде или в такси. Мой спаситель не оставил дела на полпути, подхватил мои вещи, освоился очень быстро с моим характером, услышал мою биографию, рассказал свою. Он был студент, возвращавшийся на побывку к отцу в Роттердам, и звали его Петер Вальтхаус. Но вот Роттердам-Центральный. Где уж тут смотреть, встречают ли! На перроне столпилось множество народа, приходили и уходили поезда, выбрасывавшие новую и новую порцию народу.
Петер сделал мне знак — и мы опять пошли. Перед окошком какого-то бюро, где проверяют билеты и дают информацию, мы в два голоса начали рассказывать мою одиссею. Из кассы выглядывало прелестное молодое лицо голландки того же розово-белого цвета, как цветы в вазе. Она выслушала, потом проверила мой билет и взяла телефонную книгу. Через секунду в советском посольстве отозвались.
Но советское посольство находилось за десятки километров, в Гааге. Покуда за мной приедут, надо было ждать, и я позвала Петера, хорошенькую голландку в окошке, сестру ее, сидевшую за стеной, подругу сестры — всю голландскую компанию, принявшую участие в моем спасении, — попить в ресторане кофейку. Из сумочки я торжественно извлекла десять гульденов, и на все десять гульденов мы славно отведали хлеб-соли на голландской земле, а когда принесли сдачу, то в сдаче оказались целехоньки все эти десять гульденов, и мои новые друзья чуть ли не клятвенно уверили меня, что именно так полагается.
Друзьями мы сделались настоящими. Голландские девушки — Фелиситас и Майелла Шмитц — рассказали, где они служат, как работают, сколько получают и чем добавочно пользуются от компании (прежде всего — скидкой и ресторане). Мы разговаривали по-немецки и по-французски, по-английски и по-голландски — и в последнем случае я усиленно дублировала все гласные буквы, сопровождая их могучим «каннитферштаном». Мы хохотали от каждого слова, и нам было весело. Нам было хорошо, потому что мы сделались друзьями и потому что голландцы — это голландцы. Парод, который всерьез принимает жизнь и ничего не делает наполовину.
Я до сих пор переписываюсь с Петером, Фелиситой и Майеллой, и мне хочется послать им сейчас через весь Бенилюкс свое сердечное пожеланье доброго счастья в новом году.
Приехавшие за мной ожидали, вероятно, встретить смертельно перепуганную заблудившуюся старушку, получившую хороший урок: не слезать где попало или, по русской поговорке, не соваться в воду, не зная броду. Но я встретила их с гордым достоинством, окруженная молодыми голландскими друзьями, тем поколением, которому интересно, что такое Москва и советский писатель. И в руках у меня был большой букет красных и синих гвоздик, первый букет голландских цветов, полученный в подарок от голландцев.
Гаага, 1965
II. Глазами Петра
Голландцы называют Гаагу «большой деревней». Она белая и очень тихая, но тишина в ней совсем не деревенская, а скорей дворцовая или тишина большой приемной, где ожидающие разговаривают понизив голос. Чем-то, может быть своими функциями, она похожа на Вашингтон, — именно в ней происходят конгрессы, совещания, заседания, дипломатические приемы. Если б в ней не было «Мадуродама», о котором разговор напоследок, я сказала бы, что из всей Голландии в Гааге меньше всего голландского.
Первый свой визит мне хотелось отдать царю-плотнику, но не потому, что это — проторенная дорожка для всех наших туристов. Календарь придвигает к нам дату, немаловажную для русской культуры. Мы будем ее справлять во всех частях света и уж во всяком случае — вместо с Голландией. Дата эта — 30 мая 1972 года — не так уж и за горами: триста лет со дня рождения Петра Великого.
Почему Петр выбрал своим первым «визитом» в Европу именно эту маленькую страну и вдобавок — маленький город в ней, Заандам? Из-за кораблестроения, которому хотел выучиться? Обычно так отвечают историки. Голландия долго шла первой в важном деле создания кораблей, ультрасовременном тогда, как у нас теперь самолетостроение. Но к году посещения ее Петром, в самом конце XVII века, слава ее уже слегка померкла, и на первое место начала выходить Англия. Петр не мог этого не знать — не зря он из Голландии переехал в Англию. Историки не любят «личных мотивов», как любим их мы, писатели. Но есть, при въезде Петра в Голландию, одна личная черта, на которую нельзя не обратить вниманья. О ней задумываешься, ее невольно хочешь развить.
Летом 1697 года, — чтобы быть точной, 18 августа, в самом начале дня, — Петр Первый приехал в Заандам в одежде простого рабочего, под именем Петра Михайлова, по, хотя это был приезд «инкогнито», все ужо знали, кто к ним едет. И вот, не успевши ступить с борта корабля на землю, царь разглядел среди заандамовцев знакомое лицо, некоего Геррита Киста, — и, здороваясь, кивнул ему. В домике Киста он и остановился, прожил в нем, работал и спал в нем, согнув к подбородку свои могучие колени, чтоб уместиться в спальной нише, и прославил этот домик на века.
Мне кажется, даже царю в его молодые годы, да еще из такой неотесанной страны с диковинными нравами, как старая матушка-Русь, не очень-то ловко было попасть в новый западный мир в простой одежде, без придворной знати, без царских регалий. Как и всякому человеку, молодому царю должно было быть вначале конфузно (западные историки без конца упоминают о его плохих манерах и перечисляют ошибки в этикете), и огромнейшим подспорьем для него могло стать знакомое лицо там, куда он впервые попал, — друг-заандамовец, мастер Кист, с которым он еще на родине познакомился, возможно даже говорил с ним о Голландии, был им приглашаем туда. Человек, знакомая душа, опора в чужой стране — вот, вероятно, личный мотив приезда Петра прежде всего в Заандам, веселый кивок его через толпу и такое простое, сер-дечное, легкое для пего житье-бытье в домике рабочего-мастера.
Миром, окутанным легендами, сделалось пребывание царя в Заандаме. И надо сказать, что нигде в отечественных музеях у себя на родине Петр не окружен так своими земляками, как в этом бедном домике, закованном его царскими наследниками (вплоть до последнего Романова) в безвкусные каменные оболочки — футляры. Множество русских записей в книге посетителей падает не на годы и даже не на месяцы, а на каждый день. Мы поставили свои подписи в середине дня, после того как с утра этого дня, 22 июля, несколько страниц было уже заполнено подписавшимися.
Сюда, на встречу с царем-рабочим, гостившим у рабочего, являлись во множестве моряки советских кораблей, заходивших в голландские порты, группы наблюдателей за судостроением (по советским заказам), туристы, писатели, артисты, композиторы, художники — и не просто постоявши, расписавшись и уйдя обратно, а (неизвестно, кто первый!) придумав оставить тут, царю на память, что-нибудь, малость какую-нибудь из новой, советской земли: коробку спичек, открытку, вид Ленинграда. Эти дары сторож-голландец свято бережет за особой витриной, где, кстати сказать, раскрыта и книга Алексея Толстого о Петре в переводе на голландский язык… Потомки Геррита Киста еще живут в Заандаме, и, кажется, сторож домика — один из них.
Под плоховатым бюстом Петра четыре знаменитых стиха «То академик, то герой…», написаны по-голландски и читаются удивительно понятно.
Кстати о переводах. Друзья частенько смеются над моей привычкой прихватывать за рубежом один и тот же текст выступлений на разных конгрессах в переводе на многие языки. Но как часто самая, казалось бы, незначительная разница в переводах дает уловить характерную черту той нации, на язык которой переводится документ!
В домике Петра лежит для туристов справка о нем, переведенная на три языка. Для примера вот некоторые сравненья. Французский перевод начинается так: «Царь Петр, желая образовать подданных своей империи…» Немецкий: «Петр Великий, чья основная мысль была — внутреннее строительство своего могучего государства…» И наконец, английский: «Царь Петр, чье большое желание было сделать свою империю великой…» А ведь текст, с которого перевод сделан, один и тот же! Но первый напирает на просвещение, второй — на благоустройство, а третий — на величие империи, по-своему истолковывая мотивы русского царя.
Еще интересней то место, где говорится о непосредственной работе Петра. Француз — о том, что делал Петр, поступивши на верфь к предпринимателю Рогге: «Он работал инструментами и изучал чертежи». Немец: «Царь не только живо интересовался чертежами, но и работал своими руками на производстве». И наконец, англичанин: «Он возился с инструментами» (plied the tools), «по его главным интересом были чертежи» (but his chief interest was the designs). Ну разве не встает перед нами в этих простых примерах направление мыслей если не трех народов, то трех представителей языка этих народов — французского, немецкого и английского? Вежливое и слегка равнодушно-формальное французское объяснение замысла и деятельности Петра. Немецкое (при основной склонности немцев к теории, к абстрактности) удивленное подчеркиванье практических свойств Петра — не брезгал работать даже собственными руками! Английское, где здравый смысл практичного англичанина, привыкшего смотреть на соседей «в оба», сразу заподозрил в Петре и замысел увеличить империю, и главный интерес не к работе с инструментами, а вот именно к чертежам. Разве по поучительны эти разные интерпретации одного и того же текста, одного и того же факта?
А как сами голландцы?
У меня не было такой справки на голландском языке, но зато был перевод известного четверостишия, и, так как переводчик не старался соблюсти «художественность», ритм и рифмы, им должна была руководить при переводе только точность. Перевод действительно точен, но не совсем. Там, где на русском языке Петр предстает перед нами в разных аспектах, то академиком, то героем, то мореплавателем, то плотником, — голландский переводчик уточняет не свой перевод, а текст, который он переводит. Вместо «академика» у голландца «ученый» и вместо словечка «то» у голландца всюду «то как», а это меняет дело. Не плотник, а как плотник, не герой, а как герой; в довершение всего заключительная фраза «на троне вечный был работник» переведена как «на троне был вечно работающим, вечно деятельным». Иначе сказать, для голландца Петр не перевоплощался то в одного, то в другого, по, оставаясь самим собой, овладевал многообразными функциями и проявлял их. Это, быть может, тончайший нюанс, в переводе вряд ли даже заметный, но для меня он был очень важен. Я ехала в Голландию, чтобы взглянуть на нее глазами Петра. А он первым долгом поискал глазами знакомого голландца… И вот этого голландца, символического «Геррита Киста», я и хотела увидеть, разгадать, понять, — представить себе человеческие особенности народа, в страну которого я приехала.
От Гааги до Заандама — не очень далеко, вся Голландия малюсенькая по сравнению с нашими пространствами. Мы мчались вдоль больших квадратов осушенной земли, поросших густой травой, — на пей лениво лежали сытые, выхоленные коровы. Осушенные квадраты земли — польдеры — до того уж известны советским читателям, что слово «польдер» прочно вошло в наш очерковый лексикон. О странной земле, лежащей ниже уровня моря и отвоеванной у воды, писали все, кому удавалось побывать в Голландии. Кое-что, правда реже, упоминается и о том, чем эта отвоеванная земля отмечена в статистике.
Наиболее интенсивно населена — Голландия.
Очень большое долголетие людей (средний возраст семьдесят два года) — в Голландии.
Одна из самых низких цифр детской смертности — в Голландии.
Наивысший урожай с гектара в мире — в Голландии.
Наивысший доход с квадратной мили — в Голландии.
Наивысший удой с коровы — в Голландии.
Наивысшая цифра рождаемости в Западной Европе — в Голландии…
Но если обо всем этом читатели наши наслышаны, то совсем мало или вовсе не знают они главного: чем была эта благодатная земля, на которой первые голландцы поселились, и чем были сами голландцы, когда начали свою работу на пей.
Есть одна неприхотливая и совсем не рекламная книжка, написанная не голландским писателем, а голландским инженером из голландского водного управления, Иоганном ван Фееном. В ней он просто, в сопровождении технических рисунков и графиков, рассказывает об истории строительства голландской земли… земли, которой сперва не было вообще.
Один из арабских купцов-путешественников посетил в девятом веке север Европы, нынешние Нидерланды. Он шел по непроходимой смеси воды и грязи, оставив в своем описании презрительное слово «себша»: земли там нет, одна себша, то есть соль с трясиной. Фризы, саксы и франки получили в дар от судьбы вот эту самую «себшу», вдобавок непрерывно объедаемую, ломоть за ломтем, ненасытной пастью моря, и они не убежали от нее, бежать было некуда. Они приняли то, что природа, наделившая германцев, славян, кельтов горами и лесами, долинами и рощами, сунула им под самый конец эти ошметки земли без земли, воды без воды, — и стали на них работать. Двадцать два столетия работали тут племена, составившие голландский народ, — из года в год, из месяца в месяц, изо дня в день, с часа на час, с малых лет и до самой смерти отвоевывая у моря свою «себшу», осушая и превращая ее в сушу и создавая из бесструктурной, мертвой, соленой земли плодоносную почву.
Есть хороший японский фильм — «Голый остров». Но что такое «Голый остров» перед титанической былью истории, называемой сейчас «Голландия»? Ехать учиться у нее можно многому. Десятки видов и форм плотин, дамб, укреплений; сотни форм каменных кладок и сцеплений; машины, переворачивающие землю на полтора метра вглубь; машины, укладывающие дороги с нежностью, с какой мать укладывает ребенка спать; машины, вычерпывающие моря и озера, словно это котелок с борщом; особый вид тростника, reed-seed, которым засевают с воздуха осушенную почву, делая ее структурной и внося в нее бактериальную жизнь…
Началом всех этих работ был человек, его рука и лопата. А рука голландца — не простая. Мне рассказывали мои друзья, что, когда родится ребенок в голландской семье, от самой бедной до самой богатой, мать берет его ладошки — чуть только он начнет понимать — и показывает ему на них две извилинки (они всегда есть на ладошках!): знак М, а если перевернуть, будет W (посмотрите у себя, вы их найдете!), — и говорит своему ребенку: М — это человек (Mens по-голландски), a W — это работа (Werk). Человеку надо работать, человек родится, чтоб работать, — и это большое счастье, большое, большое счастье с первых шагов на земле знать свое назначенье.
Даже если то, что рассказали мне мои голландские друзья, только легенда, переходящая из рода в род, надо преклониться перед создателями такой семейной легенды! Но я думаю, что слова матерей, сказанные детям на заре их жизни, отнюдь не легенда в Голландии, а великая воспитательная традиция. И мне кажется — острые глаза царя Петра отличили еще в России, на ладонях знакомых голландцев, на ладони Горрита Киста, этот особый знак М — W, человек — работа, и захотели повидать страну, где люди умеют трудиться, любят трудиться и считают труд назначением человека.
Заандам
III. Прогулка по Амстердаму
Из Заандама, если следовать обычными тропами туризма, едут в приморские рыбачьи деревушки-музеи, где все как будто (и сами туристы в это свято верят) рассчитано именно на показ, за который если не платят деньгами, то расплачиваются покупкою дорогих сувениров — деревянных башмаков, моделей лодочек и яхт, всякого рода кукол в национальных одеждах.
Я тоже отдала дань этому маршруту, заехала в Фолендам, но сильно сомневаюсь, чтоб серьезный народ так уж и ходил в своих тяжелых деревянных шлепанцах ради удовольствия одних только туристов. Не забудем, что во время последней войны по улицам больших сибирских городов четко постукивали деревянные подошвы сандалий. Такие же яркие, необыкновенные, сохраняющие весь свой старый быт, все сложности национальных одежд, рыбацкие деревеньки есть и на знаменитых островах Эстонии; туда тоже ездят туристы, но было бы смешно воображать, что тамошние рыбаки соблюдают свой уклад и внешний свой облик только «для красоты» и чтоб наезжие надоедливые зрители глазели на них.
Описать всю прелесть Фолендама очень трудно, не впадая в стиль восклицательный. Вы подъехали к самому серому морю (оно тут серое, гривастое, грозное). Волны, как молоты, бьют и бьют о высокий берег. На самом берегу, стена к стене, лепятся узкие, в острых треугольниках черепичных крыш, разноцветные домики из знаменитого голландского кирпича (смеси торфа и глины). В море колышутся тоже разноцветные паруса рыбачьих лодок, синие, желтые, красные, и тоже в форме острых треугольников; а переведя с них глаза на деревенские домики, вы невольно представляете себе и эти домики как тесную флотилию лодок со вскинутыми крышами-парусами.
По узкой улице снуют жены рыбаков и девочки в длинных платьях с нарядными белыми фартуками и в белых накрахмаленных чепцах — тоже острой треугольной формы. Улица, правда, полна лавчонок с сувенирами, и немало стоит туристских машин, держась чуть не на честном слове, — на узких пятачках крутого берега, но кроме сувениров — рыба, рыба, еще подпрыгивающая на прилавках, морская живность всех ракообразных пород, а рядом жарят картошку (горячая жареная картошка очень популярна на Западе, а у нас почему-то этого вкусного и дешевого лакомства нет в отдельной продаже), пекут рыбу, все пропитано рыбьим запахом, но не противно.
Фолендамцы живут отнюдь не сувенирами, а рыбой. И попробуйте-ка попросить в лавке фунтик картошки, когда пробил час закрытия торговли. Не отпустит вам хозяин ни за какие деньги — пришел час для семьи, на велосипедах съезжаются из школы ребятишки, задул северный ветер… И тут удержишься на ногах только в тяжелых деревянных башмаках — рыбацких башмаках — профессиональной, отнюдь не маскарадной обуви. Ветер рвет паруса в грозном сизом море; раздувает, как паруса, крахмальные чепцы и гофрированные фартуки; зажигаются и мигают лампы в домах. Нелегкая, но целесообразная жизнь в Фолендаме, отлично рассчитанная на дружбу с сердитым морем. Фольклор родится не как эстетика, он дитя нужды и надобности, и там, где на колючей стерне разрывается городская обувь, куда уместней дешевые лапти.
Уже стемнело, когда мы въехали в Амстердам. Вечер я потратила на чтение путеводителя об этом тысячелетнем городе, построенном «на костях селедки», как шутят сами амстердамцы, — тысячу с лишним лет назад здесь была бедная рыбачья деревушка. По путеводителю в нем такое множество вещей, нужных для осмотра, что я оставила лишь самое для себя важное: дом Рембрандта, Городской музей с Ван Гогом и Карелом Аппелом и архитектуру, не «показную» в городе, а разные мелкие уголки и улички, куда редко забегают приезжие.
Чтоб попасть в дом Рембрандта, нужно было как раз пересечь по грахтам (улицам, идущим вдоль каналов), переулкам со съестными лавочками, крохотным площадям и подворотням чуть ли не весь город к вокзалу, туда, где раньше был еврейский квартал и где на Йодепбреес-траат (Еврейской улице) стоит старый дом великого художника.
Развернув план, я отправилась в свою многочасовую пешеходную прогулку по Амстердаму. Мне хотелось прежде всего посмотреть расположенные вдоль грахт жемчужины старой амстердамской архитектуры, так называемые «старые дворцы», где, по каталогу, туриста ожидает интересная вещь.
Пятьдесят лет назад мне довелось стоять жарким январским днем — потому что даже январь в Греции жарок — перед розоватыми от бактерий колоннами Парфенона. Не было слов выразить свое наслажденье от синевы неба, на которой почти телесно, почти с совершенством живого, теплого тела человеческого, поднимались эти колонны, казалось бы такие далекие от человека с его земными горестями и радостями. А они — как ни парадоксально звучит это — очень близки человеку, ближе, чем самая утилитарная постройка нового времени. Дело в том, что греческая архитектура в своей высокой мудрости щедро использовала оптический принцип, она всюду в своих величайших постройках учитывала, как будет видеть человек эту постройку, и секретами своего строительства шла навстречу человеческому зрению так, чтоб он видел перед собой именно гармонию, а не ее, пусть ничтожное, нарушение из-за особенностей человеческого зрения. Если строить колонны абсолютно одинаковыми по толщине снизу доверху, то человеческому глазу они покажутся в середине как будто чуть похудевшими, ставшими тоньше, и для того, чтоб этого не случилось, греки-архитекторы делали середину колонны чуть потолще, чуть припухло. Глаз не видел утолщения, он видел гармонию ровной, стройной колонны.
Эта высшая степень архитектурного искусства — ответ на запросы человеческого зрения, то, что делает искусство греков бессмертным, — оказалась налицо в Амстердаме, в знаменитых дворцах-домиках на грахтах, построенных еще тогда, когда грахты были в центре города. «Дворцами» они были во времена их созданья; сейчас это узкие, многоэтажные, плотно сдвинутые старые особнячки с крышами-треугольниками, с течением времени усложнявшимися: сперва — старая, простая форма гребней с карнизами по углам, потом более сложная, где гребни идут кверху ступеньками и справа и слева; нарядная, где ступени заменены витиеватым рисунком, заканчивающимся наверху колпачком; еще более нарядная, в завитках рококо, с лежащей наверху скульптурой животного. Следующим этапом развития была уже плоская, как стол, аттика, с украшающими ее стоячими скульптурами. Но об аттике речь здесь не идет.
Когда вы смотрите на эти прелестные старые домики, вам кажется, что они наклоняют к вам треугольные головы, как в поклоне, — вот это и есть учет человеческого зрения, оптическая иллюзия, достигавшаяся строжайшими правилами, по которым архитектор в те века строил. Если б но эти правила, учитывающие человека в его главном органе восприятия, зрении, — возможно, домики как бы откидывались от вас назад, то есть отходили верхушкой от вашего зрения… Пишу «возможно», потому что не знаю причины этого строительного фокуса. Но самый принцип, высокий принцип человечности в воздвижении зданий, огромное использование оптической иллюзии в древней и средневековой архитектуре кажется мне завидной чертой гуманизма, которую повое (новейшее) время частенько совершенно забывает.
Так я шла, глядя вокруг, и раздумывая, и вспоминая приверженность голландцев к точному соблюдению правил в другой области, правда, тоже у них знаменитой: в области выращивания тюльпанов. Сколько об этих тюльпанах писалось! Как ездили и описывали наши туристы Алкмаар и его цветочную выставку! Сколько привозили для своих садов и огородов купленных луковиц… А вот об одном не пишут у нас: какое многовековое знание, выработавшее целый ряд правил, лежит в основе голландского разведения тюльпанов. Было, например, на опыте доказано, что тонкие тюльпаны хорошо растут на песке дюн лишь при условии, чтоб уровень воды (water table) всегда держался на двадцать два дюйма ниже земли — не на двадцать один или двадцать три, а вот именно только на двадцать дна. И с величайшей, ювелирной точностью голландцы — выращиватели тюльпанов — соблюдали этот уровень, словно грань брильянта. Не потому ли они и цари граненья брильянтов, что умеют ювелирно соблюдать точность даже там, где действует по тончайший резец, а лопата?
Хоть я и шла по городу, заглядывая в двери съестных лавчонок, я думала не только о городе, не только о грудах живности, о незнакомых видах рыб, салатов, копчений, начинок, паштетов, то и дело отпускавшихся с прилавка в чаду ароматнейших запахов, — я думала о почве, какую голландцы сумели сделать из своей «смеси грязи и соли».
Немцы, в последнюю войну грабившие все оккупированные ими страны, вывозили из Голландии вагонами — знаете что? Почву. Почву, ювелирно возделанную, творчески созданную столетиями. Почву, дающую (цифры 1948 года) с одного гектара 4260 килограммов урожая пшеницы, в то время как Англия в этом же году дала 2820 килограммов, Франция — 1910, а хваленая Америка — 1110.
Но вот шумный «проезжий» угол, где надо не зевать, переходя на улицу Йоденбреестраат с ее синагогой и церковью Арона и Моисея, почти упирающейся в Ботанический сад. Здесь тридцатитрехлетний Рембрандт купил себе дом (№ 4–6) и прожил в нем двадцать лет, пока не пришлось его продать в уплату долгов. Здесь пережил он смерть своей первой жены, Саскии, написал «Ночной дозор», сделал огромное количество рисунков на библейские и еврейские темы, пользуясь живой натурой, постоянно встречавшейся ему на улице и на паперти синагоги.
Рембрандта как великого живописца знает весь мир. Но Рембрандта как непревзойденного, гениального рисовальщика, умевшего двумя-тремя линиями жизненно точно передать натуру, знают гораздо меньше. Это знание получаешь, посетив дом на Йоденбреестраат, где не только развешало и показывается собрание почти всех его гравюр и кое-что из рисунков и документов, но и сохранены в специальной маленькой комнате возле прихожей все инструменты его гравирования и дается подробное объяснение его гравировальной техники.
Тем, кто читал переведенный у нас роман Тойна до Фриза «Рембрандт», будет интересно пройти по всему дому с его старинной мебелью, заглянуть в комнату учеников, в комнату сына художника, Титуса, в спальню Саскии. Должна честно признаться, что как ни хорош роман Тойна де Фриза, как ни приближает он к нам окружение великого мастера, события его жизни, образы его современников и особенно его смерть, но дано это — подобно знаменитым нидерландским интерьерам — семейной сценой, психологией любви и ненависти, влюбленности и дружбы; а так как материала для полного индивидуального раскрытия внутренних психологических коллизий членов семьи Рембрандта и его учеников было у автора мало, получился некий общий психологический портрет, причем больше сына Рембрандта, Титуса (как он учился, возмужал, женился), нежели самого Рембрандта.
Пишу это потому, что творческая биография великого нидерландца, великого, как крупнейшие фигуры итальянского Ренессанса, еще не написана, а многие загадки именно творчества Рембрандта так и не разрешены до сих пор, и даже Тойн де Фриз, к сожалению, почти не поставил их перед собой.
Идя бесконечным рядом Рембрандтовых гравюр и стараясь проникнуть в духовный интерес и творческую мысль, двигавшие художником при выборе той или иной темы, я набрела на одну из таких загадок и не нашла ни в Голландии, ни в Москве, ни у Тойна де Фриза и ни в одной из доступных мне книг о Рембрандте ее разгадки. Примерно в 1652 году, сорока шести лет от роду, Рембрандт рисует странную фигуру ученого над манускриптами; ученый в халате привстал из-за стола и глядит в окно, а из окна льется свет, видна таинственная криптограмма типа масонских, — и надпись на этой гравюре: «Доктор Йоханнес Фаустус», в скобках: «(Иоган-евангелист?)» По каталогу англичанина Хайнда (А. М. Hind. A Catalogue of Rembrandt’s etchings. London, 1923) это рисунок № 260 во втором томе. До Рембрандта, сколько знаю, никто не отождествлял автора Апокалипсиса, юношу-евангелиста, со средневековым доктором Фаустом. Вопросительный знак, знак сомнения (в авторстве? в собственном предположении?), поставлен ли он музейными работниками или самим Хайндом? Даже этого я не могла узнать на месте. Гравюра сделана в один год с другими библейскими рисунками Рембрандта — «Молящимся Давидом», «Поклонением волхвов», «Христом, произносящим проповедь», «Звездой трех царей» — той самой, что вела пастухов и царей к яслям Вифлеема. Много ландшафтов писал в этот и предыдущие годы Рембрандт, а за год до своего странного евангелиста Фауста он создал потрясающий рисунок слепого Товия, сгорбись пробирающегося вдоль стен не библейского, а как будто амстердамского закоулка, словно сам больной Рембрандт перед своей смертью.
Когда я вышла из дома Рембрандта, меня охватили шумы и краски нашего двадцатого века. Но Амстердам, почти и не виденный мною, вдруг показался до того знакомым — через Рембрандта, через все, что передумалось и его доме-музее, что я, почти не спрашивая, по старым, незнакомым улицам, по какой-то площади России, вышла к узенькой Ломбардстеех — прямо к дому, где знаменитый голландский поэт семнадцатого века Йост ван ден Вондель работал в последние годы своей жизни бухгалтером. И он, этот Вондель, был как добрый знакомый; и в Государственном музее, куда я добралась через весь город, добрыми знакомыми были современники Рембрандта, Франс Хальс и Рейсдаль, и ученики его, Филипс де Конинк и Говерт Флинк, узнанные через роман Тойна де Фриза, хотя, может быть, и не такие, как у него. Но так велика сила художественного слова, что оно может продиктовать вам свою трактовку истории.
Амстердам
IV. Еще один …дам
Кроме Государственного в Амстердаме необходимо посмотреть Городской музей, где хорошо представлен Ван Гог, во всей детской чистоте его красок и наивной привлекательности его штриховой манеры в портретах. После этого гениального большого ребенка в живописи — с его добрым взглядом и свежим воздухом его лаконичных пейзажей — идите смотреть Карела Аппела.
Вам покажется сперва, будто вы попали в мастерскую сумасшедшего обойщика, буйно размазавшего все свои краски в поисках лучших образцов для стенных обоев. Но терпенье всегда лучший судья. Терпеливо идя из залы в залу, разбираясь в этих судорогах красного, черного, фиолетового, оранжевого, синего, в завитках, бубликах, кружках, спиралях, — вы начинаете различать то, что можно обозначить человеческим словом. Во-первых, глаза. Из яркости необыкновенно интенсивных красок и коловращения их завивающихся потоков, словно стекающих с кисти, почти всюду на вас смотрят глаза или то, что можно назвать глазами: два неодинаковых круга, две впадины, две выпуклости, устремленные на вас с полотна. Облик этих картин страшен — челюсти (если это челюсти) выдвинуты вперед, и кажется, будто вы слышите зубной скрежет (масло, 1964, под названием «Спор»); белоглазое нечто на голубом подобии лица тащит за собой желто-синей тряпкой — подобием руки, — как ребенка, красную круглую голову-шар (масло, 1964, «Женщина с головой»). Это — из более постижимого в его живописи. Об этой живописи написано с десяток монографий; ее можно увидеть в галереях голландских городов, Нью-Йорка, Лондона (Тэйт-галерее), Белфаста, Брюсселя, Цюриха, Осло и у множества частных коллекционеров. Карела Аппела воспевают в стихах.
О нем пишут как о «варварской музыке». Вот строки поэта:
Он подобен земле, большой горячий желудок. Это — натуральная вселенная. Это — Аппел.Сперва вы склонны иронизировать и даже возмущаться. Но повторяю — терпение хороший судья. Во-первых, как там ни остри, но два длинных яйцеподобных лица — это действительно двойной портрет профессора Лупеску и Мишеля Танье, но которому нельзя не почувствовать человеческие индивидуальности. Во-вторых, комочек вихрей («Долли», 1962) — это настоящая собака. В-третьих, все это дано в вихревом движении; поразительная чистота и цельность этих красок, не знающих нюанса, — букет их сам по себе отраден зрению; и хотите вы или нет, — стихийный мир Аппела притягивает вас. Карел Аппел в Голландии, и этом классическом царстве реалистической живописи, занял свое место, каким бы он ни казался странным.
Уже под конец дня я вернулась из Амстердама в Гаагу, с грустью чувствуя, что не удалось ни повидать Лейдена, ни порыться у букинистов, ни поглядеть в архивах первые издания Яна Амоса Коменского и квартетов Мысливечка. Гаага в этот вечер жила дипломатическими приемами, и белые ее особняки светились ажуром своих окоп.
Я уже боялась, что мне ничего другого, кроме прогулки по этим чинным, немым улицам, не предстоит, как друзья предложили проехаться — совсем недалеко, в предместье Гааги, чтоб посмотреть «еще один…дам».
На войне с немецкими фашистами, 10 мая 1940 года, отличился один молодой голландец, почти мальчик, — Жорж Ляйонель Мадуро. Он был командиром небольшого взвода зеленой молодежи. Набросав смелый план захвата занятой немцами за рекой Флит виллы Левенбург, он с необычайной отвагой, во главе своего взвода, выполнил этот план, бросившись в атаку и захватив в плен немцев. Ему присужден был посмертно рыцарский диплом. Но этот погибший смельчак был единственным сыном у своих родителей. Как увековечить память его? Как сделать, чтоб их мальчик, гордость их, остался жить в памяти у голландской молодежи, продолжал бы приносить пользу родному народу? Только родительские сердца и только, пожалуй, в Голландии могли найти поразительный ответ на такой вопрос.
Голландия — страна бесконечных плотин, «дам», и многих городов и городков у плотин — Роттердама, Заандама, Фолендама, Амстердама, — почему бы не обогатить ее еще одним «дамом» — городком «Мадуродам», в основу которого легло бы любимое имя? Вот какая мысль мелькнула у родителей погибшего героя. Построить новый голландский город, Мадуродам! Идея захватывающая, но в основе ее — ничего особенного: еще один город среди сотен других… Нет, Мадуродам должен быть не просто новым городом. Что-то в нем должно ни на что другое, ни на какой другой город не походить — город вечной молодости, вечного детства… Так, постепенно — от одной мысли к другой, одного совета к другому — возникло и осуществилось под Гаагой нечто, куда мы сейчас, по зеленым аллеям улиц, мчались на машине.
— Мы едем удачно, — сказали мне друзья, — еще не совсем стемнело. Сперва увидим это при дневном свете, а потом посмотрим в вечернем освещении и останемся допоздна.
Что именно увидим, я еще не знала, потому что мне не договорили, на чем решили остановиться родители молодого Мадуро, чтоб увековечить его память. Но вот машина быстро сделала поворот, и мы подъехали к обыкновенной кассе, где продавались билеты. С каталогом в руках мы вступили в замкнутый мир, где на небольшом сравнительно пространстве, тесно сгрудившись башнями, колокольнями, зданиями всех эпох, прорезанный, как лабиринт, извилинами одной-единственной улицы, — возник город, где даже высокие постройки не везде доходили до подбородка двенадцатилетней девочки. Город-игрушка с улицей в три с половиной километра. Город-игрушка, где все было настоящее, строившееся крупными архитекторами с главным архитектором С. И. Боума во главе, но уменьшенное в 25 раз против настоящего размера.
Мы вошли в этот город, подчиняясь порядку следованья в каталоге, и увидели, какая мысль легла в его основу: показать на одной-единственной модели настоящего города всю Голландию, какая она есть, взяв из разных городов — Утрехта, Лейдена, Дельфта, Роттердама, Харлема, Амстердама, что у них есть самого интересного, и воспроизведя это в точной копии, добавив крестьянскую ферму с со угодьями, гавань, аэропорт, все виды транспорта, увеселений, культурных памятников; соблюдая хронологию — начав с тысячелетней давности и доведя до наших дней; и дать всему этому жить и дышать, колесам двигаться, часам ходить, колоколам звонить, музыкантам играть, кораблям плыть, автомобилям мчаться… В дневном освещении мы увидели зримую, полную голландскую энциклопедию, в два с половиной часа дающую огромный объем знаний но в голых понятиях, но в образе и звуке.
Сперва мы подошли к старинной ратуше Биненхоф, переделанной во дворец, где жила бывшая королева Вильгельмина и живет сегодняшняя королева, ее дочь Юлиана. Перед подъездом стояла крохотная золотая карста, а вокруг почетный караул. Раз в год, в третий четверг сентября, двери подъезда распахиваются, выходит королева, и зрители могут видеть парад и торжественную процессию по пути ее в парламент. Идя дальше по улице, вы последовательно проходите через века, от древней крепости на острове Оост-Воорн, городских ворот и водопровода XVII века, церкви Миноритов, виллы бургомистра, бюста Рембрандта — до бесплатной городской библиотеки, знаменитого голландского банка и здания газеты, на крыше которого бегут светящимися буквами новости дня, как у нас на крыше «Известий». Концертный зал, в воротах его автомат-касса. Бросьте в нее монетку — и из миниатюрного концертного зала польются настоящие звуки симфонического оркестра… Таких касс-автоматов много перед вокзалом, гаванью, казармой, каруселями, парком с народными увеселениями. Желающие положить монетку стоят живой очередью, и музыка звучит непрерывно, сменяясь — веселая на серьезную и опять на веселую; непрерывно хлопают двери, маршируют солдаты, крутит шарманку бродячий музыкант, взлетают качели, бегут и бегут под музыку лошади, верховые и впряженные в тележку, крутя в бесконечной езде публику на карусели; из туннеля выходит, гудя, поезд, ведя товарный состав; бегут по автостраде автомобили разных марок, и гордо, медленно отходит от пристани пароход с нарядной публикой на корме… Вся эта жизнь пробуждается вместе с монеткой, брошенной в кассу-автомат.
Но одно здание работает бесплатно; это — церковь. Церковная служба не требует ни завода, ни оплаты. Из узких окон доносится глубокая мелодия органа. Идет месса, поет хор, — как в настоящем храме… Мы побывали перед витринами огромного торгового универмага, точной копии с гаагского. Увидели здание конгресса, клуб студенческого объединения в Дельфте, фабрику из города Лейдена, старинные городские весы на площади против ратуши, почту, кино, университет в Лейдене… Перечислить все, что в течение двух с половиной часов разворачивалось перед нами, просто немыслимо, — это было настоящее странствование по городу, хотя самый город и был игрушечный.
Тем временем стемнело, и вдруг всюду перед нами зажглись огни. Вспыхнули лампы на улицах, прожектор осветил памятники, дом Спинозы. Одно за другим осветились окна в домах. Разноцветные рекламы, пестрые огоньки стадионов и парков, волна белого света на аэродроме, в гавани, на вокзале — все как всамделишное; и как настоящий вечер в большом городе — воздух вокруг пропитался таинственными зовами неведомых встреч, зовом несбыточного, той странной душевной приподнятостью, когда ждешь от жизни чуда. Новые толпы зрителей наполнили узкую уличку Мадуродама. Со всех сторон опять полилась музыка. В игрушечных парках из игрушечной кишки стали поливать настоящие маленькие деревца, осыпанные цветами. И по-настоящему запахло в Мадуродаме душистым ароматом цветов.
Мы увидели странную группу: шли друг за другом большие взрослые люди, ведомые девушкой-гидом. Они останавливались возле каждого здания и, покуда девушка им рассказывала, протягивали руки и ощупывали здание, с потолка до фундамента, обводя пальцами окна и двери. А девушка объясняла им: это окно, это дверь. Впервые в жизни слепые сверху донизу ощупывали многоэтажный город! Так модель чуть ли не всей Голландии помогла тем, кто был слеп от рождения, почувствовать и через осязание, руками, — увидеть свою родину, попять, что такое окружающий их городской мир.
Невольно приходила в голову мысль о философском смысле тех элементов, которые, казалось бы, ничего философского не имеют в себе: размера, объема предметов. Уменьшение огромного города в двадцать пять раз дало возможность слепому охватить его руками и познать его форму, что раньше было немыслимо для него.
Ну, а если нарушить размеры в другую сторону? Что такое любовь нашей современности к грандиозному, к небоскребам, к огромным залам и стадионам, а от них — к тем абстракциям в искусстве, в музыке, какие создаются без учета диапазонов человеческого восприятия, все меньше и меньше считаются с отпущенной человеку природою мерой вещей, с резервами его слуха, его зрения и — главное — его нервной системы? Значит ли это, что человек должен все время расти из своих пределов, учиться расширять диапазоны приемлемого для пего в звуке и в зрении?
Так мы шли по сказочному Мадуродаму, прощаясь с милой Голландией и мирно философствуя. А наутро, наскоро простясь с Гаагой, мы уже мчались на машине к Хук-ван-Холланду, где в сизом тумане, на сизых волнах очень неспокойного моря покачивался у рейда пароход «Королева Эмма», который должен был повезти меня в Англию.
Хук-ван-Холланд, 1965
Опять в Англии
I. Девять лет спустя
В Хук-ван-Холланде, голландском порту, обдуваемом всеми ветрами и прохладном даже в летний день, транзитные пассажиры оглядеться не успевают. Только седое, серое море перед ними бьется в берег, качая корабли на причале, да чайки, черно-белыми штрихами чертящие морскую седину, взлетают и прядают над водой. И только длинная, не очень элегантная «Королева Эмма», совершающая ежедневные рейсы монаду Голландией и Англией, стоит, дожидаясь путников, почти впритык к пристани.
Носильщики освобождают вас от вещей, и вы эти вещи уже не увидите вплоть до Хариджа. Легко, словно в трамвай, поднимаетесь вы на борт; спальных кают и вообще кают, кроме гостиной и ресторана, — нет. На борту — два ряда сидений; у стены обычные стулья, а в первом ряду, у самого края, длинные, на мужской рост, шезлонги, возлежать на которых маленькому человеку дьявольски неудобно, а переменить позу или встать требует акробатических усилий. Все норовят запять именно эти шезлонги, чтоб видеть море. В буфете — целые горы белых запечатанных коробок знаменитого голландского шоколада с ликером, разбираемых с быстротой молнии, всякие сувениры и с десяток английских детективов. Я запаслась детективом и погрузилась в шезлонг, а что было дальше, не пожелаю врагу.
Говорят, в тихие дни восемь часов переезда просто не замечаешь. Первые два часа я действительно не замечала, но вот на середине пути скольжение перешло в покачивание, а покачивание — в выворачивание ваших внутренностей. Потемневшее небо словно взбивалось ложкой вместе с почерневшим морем, волны заглядывали белыми лохмами к нам в стекла, и весь этот «гоголь-моголь» усиленно подступал к вашему горлу.
Но зато есть что-то невыразимо приятное в прибытии к берегу. Незадолго до него вы вдруг вступаете во внезапно затихший мир. Веет соленым ветром от распахивающихся дверей, опускаемых стекол; неизвестно откуда, еще до остановки, появляются английские носильщики; вещи ваши опять исчезают куда-то без вас, а вокруг поднимаются с шезлонгов бледные, как и вы, фигуры, потягиваясь, надевая шляпы, набрасывая пальто, и вы идете к выходу, покуда «Королева Эмма» скользит между множеством труб, парусов, черных палуб к сереющему под благодатным дождиком английскому порту Харидж. О слоновых бивнях и брильянтах, как изощрился написать кто-то из наших очеркистов, таможенники не спрашивают. Обычно они отмахиваются от вас, когда вы пускаетесь в перечисление того, что содержится в чемодане. И вот уже дачный, довольно потрепанный вагончик бежит к Лондону мимо маленьких английских городов, нахохлившихся под дождем.
Девять лет как я не видела Лондона. В темноте, мигающей слезливыми огнями, мокрый, мрачный, надвигается вокзал Ливерпуль-стрит-стэйшн, как и все вокзалы — удобно и характерно для Лондона — в самом центре города, на его улице и по имени его улицы, со спуском в метро того же названия. Негр-носильщик подхватил мои вещи. Странное чувство овладело мною (фраза банальна, а содержание точно). Девяти лет словно не бывало, все вдруг сразу вспомнилось с удивительной ясностью: линии и перекрестки метро под землей, линии и перекрестки улиц на земле и весь этот город, четкий, как на ладони, со всеми своими suburbs (окраинами), хоть и славится он чрезвычайной своею запутанностью.
Эту запоминаемость всего английского, вплоть до неразберихи денежной системы и до административных названий всей страны — судя по входящим в нее частям, то Великобритании, то Британии, то просто Англии, с Ирландией и без, с Шотландией и без, с Уэльсом и без, — я проверяла на многих, бывавших тут по нескольку раз, и немало раздумывала над ней.
Понять Англию очень помогают сами англичане, издавая, как нигде в другой стране, подробнейшие справочники о себе. Раз в год выходит огромный официальный томище «Britain», где можно найти статистику, номенклатуру и классификацию всех сторон сложной британской социальной жизни. В 1965 году вышла новым изданием поистине драгоценная книга Антони Сампсона «Анатомия Англии», где на семистах двадцати страницах вас словно за руку вводят во все тайны государственного управления Англии, начиная с покоев королевы, ее прав и финансов, кончая школой, спортом, бухгалтерией, тред-юнионами, рекламами, телевидением… Вы персонально знакомитесь в ней с нынешними министрами, их внешностью, привычками, недостатками, смешными и положительными сторонами; с ролью дипломатии, банков, отдельных парламентских говорунов. Даже план расположения зданий и комнат на правительственной улице Даунинг-стрит и даже дружелюбное выражение лица у швейцара премьер-министра — все это становится вам известным из книги, написанной толково, свободно и с юмором, присущим английскому перу.
Ничего, казалось бы, не скрывает о себе Англия. Ни в каких, казалось бы, выражениях по стесняется она, открывая свое лицо. И никто так не умеет смеяться над ней, как сама она над собой. Помню, девять лет назад я развернула самый дорогой и самый популярный путеводитель по Англии. Начинался он с первой же страницы приблизительно так: «О нас, англичанах, было известно до войны, что мы отличаемся неумением вкусно готовить пищу, хотя сырые продукты у нас всегда свежие и доброкачественные; сейчас можно сказать, что готовить пищу мы так и не научились, зато продукты наши перестали быть свежими и доброкачественными». Кто, какая еще страна зарекомендовала бы себя таким способом в путеводителе для туристов?!
Но вот, при внушительной литературе самой Англии об Англии, при удивительной легкости запоминания всех ее странностей и нелогичностей в структуре, деньгах, названиях улиц, нумерации домов и тому подобном, что, собственно, знаем мы глубоко об Англии, как представляем себе ее лицо, казалось бы совершенно открытое чужому взгляду?
Мне думается, нет маски более загадочной, чем это открытое лицо. И нет более интересной задачи сейчас для журналиста-международника, нежели разгадать эту загадку Англии, разгадать так, чтобы можно было представить себе ее будущее, верней, представить себе желательность того будущего, которое было бы не только наилучшим для нее, но и органичнейшим, отвечающим ее самым глубоким национальным корням…
Сезон в Лондоне, в противоположность Парижу, начинается с весны и длится все лето. Найти помер в гостинице почти невозможно, если не закажешь его за недели вперед, так переполнена английская столица приезжими в эти летние месяцы. Мне посчастливилось заручиться номером в старомодной гостинице, на вывеске которой две пары лошадок цугом мчат во весь опор старинный кеб времен Диккенса с кучером в высокой шляпе с кнутом в руке. По-русски ее название «У верстового столба», по-английски «Майл-стоун» — придорожный камень, отмечающий милю. Поистине жалко иногда, что мы наш красочный «Славянский базар» и прочие старые названия заменяем так часто на иноземный лад, но это между прочим. Под вывеской диккенсовского кеба я прекрасно выспалась в эту первую ночь, а наутро, чтоб не разбрасываться, наметила себе две главные темы, захватившие меня еще девять лет назад: проблему английской школы и проблему английского театра.
Но прежде чем приступить к пим, следовало посмотреть Лондон, каким он стал за истекшие годы, Лондон, покинутый мной во дни Суэца и тори, а увиденный вновь во дни Родезии и лейбористов.
Дождик прошел, сероватый день глядел в окно, на стол подали традиционный завтрак — овсянку, жареные копчушки (kippers), хотя, убейте меня, не понимаю, дли чего надо копченую селедку жарить или подогревать, эмбрион масла, баночку старинного английского мармелада Чиверса и на редкость безвкусные кофе и ломтики тоста. А рядом с завтраком — горку газет, о которых опять хочется сделать лирическое отступление.
В Англии вы заказываете нужные вам газеты у портье гостиницы на определенный срок, и они доставляются вам каждое утро к завтраку, с проставлением их стоимости в счет, который оплачивается в конце пребывания. Единственное «но» — невозможность получить таким образом, как и трудность добычи в городе, необходимой вам «Дейли уоркер»[64], ее отказываются «выписывать» и продавать в большинстве газетных киосков. Во Франции еще проще: каждое утро в парижском отеле, где я останавливалась, хозяин посылал мне в комнату со своей карточкой и «комплиментами» бесплатный номер «Фигаро». Как бы ни были вы вооружены против этой буржуазной газеты, вы невольно заглядывали в нее и убеждались, что ведется она интересно и даже печатает с продолжением перевод нового романа Агаты Кристи. «Юманите» получать можно было, вступив в переговоры с коридорным…
Уступая веянью времени, я выписала вместо «Таймс», несколько поблекшей во дни лейбористов, более компактный «Гардиан», перебравшийся из Манчестера в Лондон, но осталась верна воскресным «Обсёрверу» и «Санди таймс». По совету друга прибавила к ним «улицу» — несколько вульгарную, но интересную «Дейли миррор» — и заказала, чтоб быть как следует «в курсе», пачку их за прошедшие дни.
Английские газеты надо читать умеючи. Для начала — перегните «Таймс» или «Обсёрвер» на середине, там, где идут передовица и «письма к издателю». Чего только и кто только не пишет в этих посланиях! Помню, девять лег назад, в разгар Суэца, какой-то шотландец написал издателю: «Сэр, я восхищен Насером. Давно пора подрезать нос Англии. Выражаю чувства шотландцев». Газета напечатала без всяких комментариев, как и всегда при публикации писем: только на следующий день некто, подписавшийся членом «Юнион-Джека», выразил негодование, как смел этот шотландец «приписывать свои чувства всем шотландцам». На этот раз, проглядывая свою пачку, я испытала не меньшее удовольствие.
Приход лейбористов к власти явно повлиял на полевение газет. «Дейли миррор», например, написала о плане, по которому, если б он прошел, королева должна была бы оплачивать жилплощадь Букингэмского дворца, а при ее отказе власти на общих основаниях могли бы вывезти из дворца телевизоры, стиральные машины, автомобили, мебель и т. д. Но вот письмо к эдитору, подобного которому на моей памяти раньше не встречалось. Некая миссис от имени «цветных» (coloured ce-citizens) пишет: «Сэр, как сладка была бы месть, если бы наши цветные сограждане заявили: «Что ж, хорошо, Англия! Мы не нужны тебе — обходись без пас. Мы все отправляемся по домам». Искренне ваша Е. Хейкок». Разбираясь дальше в газетах, я наткнулась на драматическую причину этого письма.
Некая вульверхэмптонская фирма, через своих агентов распродавшая триста новых домов на большом участке земли, отказалась продать один из них индийцу: такую инструкцию дал агентам землевладелец. Англия, сконфуженная этим событием, ответила пикетами перед домом фирмы, всевозможными выступлениями на собраниях и митингах, статьями в газетах… Но частная собственность в Англии вещь непоколебимая, и хозяин, не желавший видеть на своей земле цветных, стоял на своем. Событие не «мелькнуло», оно растеклось по газетам. оно попало на больное место.
Не входя в «общий рынок», Англия[65], как известно, имеет свою «общину», по-английски Commonwealth, но совсем точно переводимую у нас «Содружеством наций»; иначе говоря, это народы, входящие в зону английского языка, английского влияния и английского фунта стерлингов. Подобно членам «общего рынка», члены «Содружества наций» могут перемещаться между своими странами без виз и когда угодно въезжать в Англию.
До последних десятилетий, точней, до тридцатых годов между наплывом в Англию и эмиграцией из Англии сохранялся какой-то баланс. В годы с 1871 по 1931 из самой Англии эмигрировало в поисках работы около четырех миллионов человек. Но с 1931-го начинается обратный процесс: вливается из Европы четверть миллиона просящих убежище; вливается все больше и больше из «Содружества» — Нигерии, Британской Вест-Индии, Южной Родезии: за каких-нибудь два года (1960–1961) только из Вест-Индии перебралось в Англию около ста двадцати тысяч человек. Это заметно на глаз. Девять лет назад мне как-то приятно было видеть в Лондоне резко контрастирующую с расизмом Америки картину дружелюбия к людям цветной окраски — неграм на службе в метро и троллейбусах, китайцам, индианкам, везущим в колясочках своих ребятишек, — они явно были в Лондоне как дома. Но сейчас на лондонских улицах встречаешь самих англичан чуть не как исключение, и, забегая вперед, передам слова одной колючей пожилой англичанки, живущей где-то между Лондоном и Оксфордом. Она приезжала в столицу делать покупки и несколько раз встречалась со мной за обеденным столом в «Лайонс-корпер-хаус». Она сказала: «Пришло время hell to pay[66], с процентами платить долг. Мы их колонизовали, а вот сейчас они нас колонизуют. Да, да, Англия превращается в их колонию!»
Что еще было в газетах, покуда, обмакивая тост в холодный кофе, я их разворачивала одну за другой?
Острые статьи по вышедшей книге о сексуальной жизни молодежи, — книга почти из анкет и статистических справок, с неутешительными данными.
Бесконечные статьи о необходимости школьной реформы и ее трудностях (эти я отмечала для вырезки).
Застройка зеленого пояса вокруг Лондона. Когда я раньше проезжала по маленьким местечкам на север к Хельмсфорду, на юго-восток к Севеноукс, — там были зелень, дубы, рощи, а сейчас множество новостроек и даже высотные здания. Эти здания появились по всей Англии, но не такие, как у нас — с широким постаментом нижних этажей и красивым их суживанием кверху, — а прямоугольными высокими кубиками. Застройка не только лондонских окраин, но и всей зеленой Англии с исчезновением ее полей и рощ — это тоже больное место.
А вот и самое больное: фунт поскользнулся! Фунт стерлингов, этот стержень английской жизни, дал крен…
Чувствуя себя слегка «в курсе», подобно рядовому лондонцу, получившему свою утреннюю газетную зарядку, я вышла на улицу. Гостиница моя была в самом центре Южного Кенсингтона, откуда по прямой линии мимо кенсингтонских садов, массивного круглого Альберт-холла и ограды Гайд-парка можно было пешком пройти, «о слишком опасаясь попасть под машину, до самого центра Лондона. Что изменилось тут внешне за истекшие девять лет?
Явно нехотя и очень медленно Лондон стал обновляться архитектурно, построив кое-где новые многоэтажные здания и даже в самом центре — за Шефтсбери-авеню — нечто вроде умеренного небоскреба. Более интенсивно стал он американизировать свои ресторанчики. Появилось множество забегаловок под вывеской «Уимпи» (Wimpy), где тут же в несколько минут жарят для вас котлетку и подают на хлебе с кусочком сыра и помидора поверх нее или, немного дороже, половину жареного цыпленка. В знаменитых «Лайонс-корнер», число которых тоже выросло, появилась «самообслуга». Все это скоро, споро, чуть вкуснее, чем раньше. Дешевая демократическая «фиш энд чипе» — жареная без косточек рыба в сухарях с жареной картошкой — проникла кое-где в средние рестораны, куда раньше ее в меню не допускали. А в общем — питаться в Англии стало гораздо легче и вкуснее. И в то же время как-то невесомей стали тяжелые (на вес) английские деньги. Общее подорожание не сразу чувствуется, как и то колебание фунта, которое отразила биржа и о котором заговорили газеты. Но если вы приехали в Лондон спустя девять лет, вы пе можете не заметить, что на те же расходы, без видимой, казалось бы, разницы в ценах, денег уходит у вас больше, чем раньше. И это вы с вашими «суточными», а как же те, кто здесь живет и работает?
Мы наблюдаем зигзаги политики лейбористов, их паломничества к «дяде Сэму», сговор с Америкой, продажу за денежную помощь ярко выраженного голоса своего собственного народа, поднятого против войны с Вьетнамом, против расизма в Южной Родезии, наблюдаем с горечью, с болью. Но наследство, полученное лейбористами от тори, действительно тяжелое. Видишь это со стороны, глазами заезжего гостя, и словно чувствуешь себя на неустойчивой, колеблющейся земле, — куда поплывет она, эта земля, этот небольшой, в сущности, остров, жители которого, как моряки, называют и в книгах и в разговоре Европу континентом? И действительно ли единственный выход для нее — в проамериканской политике?
Лондон, 1965
II. Прогулка по Лондону
Вот один из бесчисленных исторических парадоксов: при ярко выраженной нелюбви англичан к иностранцам и ко всему иностранному — жилось и живется иностранцам в Англии удивительно приятно. Трудно разобраться, отчего это происходит, но факт тот, что русские люди в былые времена не раз прочно оседали на житье в Лондоне, и не только потому, что искали в нем политическое убежище. Русские богатые люди, например некто Урусов, оставивший интересные мемуары, строили даже дома в Лондоне — строили, а не покупали, силясь на свой лад сделать их «по-нашему» и вводя в эпоху повсеместных каминов центральное отопление…
Одна из причин приятности жизни в Лондоне — это его климат, о котором зря говорят, что он будто бы плохой. Конечно, если зеленый пояс вокруг города будет истреблен, климат ухудшится, но пока что лондонский воздух очищают его огромные прекрасные внутренние парки, крупнейшие и красивейшие во всей Европе. Зелень и дыхание океанов-морей, со всех сторон омывающих британский остров, озонируют, фильтруют городской воздух, делают его летом почти дачным. Лондонских туманов, так помогших всяким ужасам в сюжетах детективов, я не пережила, но вряд ли они хуже той ужасной, пронизывающей, удручающей мзги, какая нередко зимой окутывает континентальную красавицу Прагу.
Вторая решающая причина — это впечатление, что до вас тут ровно никому нет дела, никто не обращает на вас никакого внимания, даже если вы кастрюлю наденете на голову или пройдетесь по улице вверх ногами. И это равнодушие к вам и действие мягкого, очищенного лесным озоном воздуха начинают мало-помалу успокаивать человеческие нервы, всегда будоражимые городскими шумами; дают вам хороший сон и счастливое просыпание. Даже когда дождик идет, даже когда небо серое, вы просыпаетесь, как при солнышке, и бодро выходите на прогулку. А прогулок в Лондоне — без конца!
Первый свой визит мне, как газетчику, захотелось сделать на Флит-стрит и в его дворик-переулочек Гоу-сквер. Если верить легендам, в Лондоне есть места, куда английские работники идут как бы на поклон и профессиональное «благословение». Возле знаменитой площади Скотланд-Ярд есть угловое кафе, в верхнем этаже которого, за стеклянной дверью, прячется комнатка Шерлока Холмса, перенесенная сюда с Бейкер-стрит. Заглянув сквозь стекло, вы видите восковую фигуру Холмса, какой опа помещалась у окна на улицу, чтоб обмануть бдительность врага — профессора Мориарти; по стенам на полках атрибуты жизни Холмса, его длинная трубка, любимая скрипка, халат и тому подобное; и сувениры его знаменитых дел — морда баскервильской собаки, фосфоресцирующая по вечерам; змейка из «Пестрой ленты»… Так вот, вступающие на службу полисмены приходят будто бы в это кафе, на по-клоп к Шерлоку Холмсу, великому литературному шефу их профессии, а кстати и кружку пива выпить. Но если этот рассказ — из ряда лондонских легенд, то уж посещение дворика Гоу-сквер газетчиками с Флит-стрит — самая настоящая правда.
На Гоу-сквер стоит старинный дом в три этажа с аттикой (а по-нашему — с чердаком), где двенадцать лет (1748–1759) жил доктор Самуэль Джонсон, создатель фундаментального английского толкового словаря, не только не потерявшего своего значения и сейчас, но во многом послужившего истоком современной семантики и философии семантизма. Называется он так: «Словарь английского языка, в котором слова прослежены от их оригиналов (in which the words are deduced from their originals) и иллюстрированы в различном их значении примерами из лучших писателей, к чему прибавлены история языка и английская грамматика».
Флит-стрит в Лондоне — улица крупных газетных трестов, так же как Харлей-стрит — улица модных врачей. Казалось бы, какое дело газетчикам до ученого доктора, создавшего два тома толкований английских слов в их прямом и косвенном значении? По вот вы вступаете с шумной улицы в сумрак старинного переулочка, где сразу становится очень тихо; вы видите дверь в переднюю, опоясанную вместо обычных задвижек крупной тяжелой цепью, чтоб не входили зря и не мешали работать. Дом и аттика, где под низким потолком с шестью переписчиками вместо современной машинки создавал Самуэль Джонсон свой гигантский труд, пережили за два с лишним столетия пеструю судьбу, переходя из рук в руки. Дом был гостиницей, его бомбили фашисты, превратив в пепел аттику. Но он восстанавливался, вырастал из пепла, принимал прежний свой вид и особый характер.
Устроители пишут о нем, что его не загрузили мебелью и всякого рода вещами, передающими аромат эпохи, потому что перегиб в показе эпохи зачастую заслоняет личность самого жильца, для которого и создан музей. И на самом деле, в том немногом, что здесь собрано, — главным образом в портретах друзей и современников Джонсона — ярчайшим образом виден этот исполин английской нации, не только своими трудами, но и всей своей личностью. А личность его — крупная, с тяжелой походкой, от которой скрипели ступени лестниц; с большой мясистой головой под завитым, как баранье руно, напудренным париком; с короткой, вросшей в плечи шеей и тем гомерическим, нутряным хохотом, от которого, казалось, дрожали стены; с невидящим левым глазом, придававшим его лицу вместо беспомощности выражение острой пристальности, — так и встает перед вами во всей своей жизненной роли. Встает не как автор, не как ученый, не как узкий профессионал слова, а на гётеанский лад, перелицованный в английскую оболочку, — учителем жизни и мастером.
Представляю себе английского газетчика, прибегающего в этот дом для зарядки. Он может листать знаменитый словарь в поисках нужной ему цитаты или из любопытства глядеть на портреты и картины вокруг: вот Джонсон в окружении своих друзей, в созданном им самим клубе, а друзья — чудесный Гольдсмит, актер Гаррик, музыковед Бёрни, литература, театр, музыка; и самое главное — мастерство общения, потребность общения, как традиция, созданная Джонсоном не меньше, нежели словарь, и значащая, пожалуй, тоже не меньше. Мне кажется, Самуэль Джонсон с огромной силой внушает газетчику, что работа со словом — всегда литература, в каком бы жанре ни велась, — и всегда искусство.
Словарь сам по себе настолько интересен, что оба тома первого издания, лежащие на столе в аттике для обозрения, почти всегда заняты. Казалось бы — пыль веков, свыше двух столетий… Но, раскрыв наугад второй том, я так и засела за него, покуда служитель не выпроводил меня деликатно из музея. Мне попалось словечко lap-dog, комнатная собачка, которую дамы держат на коленях. Приведены различные применения этого слова у писателей Попа, Драйдена, Коллье. Но когда читаешь фразу Коллье: «ласкать, задабривать собачку, чтоб снискать милость у се хозяйки», — не можешь тотчас же не вспомнить грибоедовское «собаку дворника, чтоб ласкова была». Совпадение? Или это реминисценция из английских источников у автора «Горя от ума»?
Мы ведь почти не прослеживали старинных связей английской и русской литератур, как делали это для французской. А могли бы встретить самые неожиданные сюрпризы.
Как-то я раскрыла томик Мэри Элизабет Брэддон с со романом «Плод Мертвого моря». Начала читать —» страшно стало. Привиделось что-то до жути знакомое, что-то вселявшее в детстве ужас. Странная, безлюдная улица, ведущая из города к морю; пустынный берег с темным пятном на нем. Каждый шаг по мере приближения к этому пятну усиливает этот детский ужас — вот-вот волосы встанут дыбом. Темное пятно обозначилось. Это мертвое тело мужчины. И мертвец — с незакрытыми глазами — завораживает предельным по жуткости, но ускользающим воспоминанием… Да ведь так начинается одна из главок самого странного, противоречащего традиционной русской манере, самого «западного» рассказа Тургенева «Сон»! Читал ли Тургенев модную в те годы писательницу Брэддон? Припомним даты, условия, место. На английском языке «Плод Мертвого моря» появился еще в 1868 году. Он был переведен на французский язык и был издан в Париже в 1874 году[67]. Где был в это время Тургенев? Он жил в Париже и внимательно следил за всеми французскими новинками. Жуткое очарование первых страниц романа Брэддон, их странное и сильное воздействие на читателя не прошло, мне кажется, бесследно для автора «Призраков», и вот меж декабрем 1875 года и весной 1876-го он пишет свой «Сон». Брэддон имела в ту эпоху сенсационный успех, переводилась почти на все языки мира, и, хотя критики не относились серьезно к ее творчеству, романами Брэддон зачитывались, а ее трехтомной «Авророй Флойд» (1862) восхищался Лев Толстой…
Но вернемся к доктору Джонсону. Он остался бы для нас только автором словаря, если б ему не посчастливилось, как Гёте, найти своего Эккермана. Эккерман преданно записывал разговоры с мудрецом, не комментируя его бытия. Биограф Джонсона, Джеме Босуэлл, был сам одарен гением. Он написал книгу «Жизнь Джонсона», в которой не только сохранил для человечества живую личность, глубочайшим образом типичную для английского народа, но и создал образец биографии, признанной всеми литературоведами мира как лучшая из лучших. В ней живет и дышит давно умерший человек с той достоверностью бытия, с какой смотришь на сверкающие звезды, забывая, что эти звезды умерли. От характера его родителей, раннего детства, Оксфордского колледжа, где учился Джонсон, пряча в аудитории голые пальцы ног в дырявых сапогах, и так и не окончил его по бедности, — до глубокой старости, тоже не очень обеспеченной, — шаг за шагом, день за днем прослеживает Босуэлл своего героя, ювелирно занося на бумагу его разговоры, мысли, поступки, — ювелирно, но не беспринципно.
Основной принцип его книги взят у самого Джонсона из «Рэмблера»[68]: уважение высказывается только правдой. «Я пишу не панегирик, а Жизнь, — предупреждает Босуэлл читателя, — ни один человек, каким бы прекрасным он ни был, не может быть совершенством, и в каждой картине должна быть тень, как и свет». Босуэлл не переведен на русский, и это большая потеря для советского читателя, хотя подвигом было бы 1490 страниц убористого шрифта с их латинскими цитатами и необходимостью обширного комментария перевести так, как они того заслуживают, языком точным и евангельски простым, без пафоса и романтики, повышения и понижения голоса. А сокращать эту книгу было бы кощунством. Трудно представить, кто смог бы взять на себя такой труд.
Еще раз по комнатам, по немногим экспонатам — жадным взглядом приезжего, который не очень надеется побывать тут снова. Портрет красивого негра — это Барбер, верный слуга Джонсона, ходивший за ним, как нянька, после смерти его жены. Ему Джонсон оставил в завещание все, что у пего было. Трогательное письмо сорокасемилетнего Джонсона, уже прославленного, к романисту Ричардсону, автору «Клариссы», знакомой нам но «Евгению Онегину»: «Сэр, я вынужден просить Вашей помощи. Я подвергнут аресту за долг в пять фунтов восемнадцать шиллингов…»
Жадность моя прерывается звоном цепи, — музей захлопывается за мною; но время еще не отходит в прошлое. Оно тут, в этих небольших переулках вокруг Флит-стрит, где неподалеку от дома Джопсона жил Оливер Гольдсмит. У пего на двери цепи не было, а только обыкновенный молоточек, каким вместо звонка давали о себе знать в ту эпоху гости. Дом, где жил Гольдсмит, уже разрушен, но молоток — этот живой голос дома, язык входной двери — уцелел. Он, как реликвия, хранится в таверне «Йе олд чешир чиз» («У старого чеширского сыра»), хранящей почетную дату своего основания на вывеске: 1667.
Старинная таверна на Винной улице заслуживает отдельной прогулки, хоть она и неотделима от дома-музея Джонсона. Кто только не перебывал в пей, каких остроумных эпиграмм, веселых застольных песен, картин и зарисовок руками больших художников не создано в ней за прошедшие столетия! Среди имен посетителей вы читаете имена принцев крови, премьер-министров, епископов, президентов, Чемберлена, Теодора Рузвельта рядом с Чарли Чаплином, Диккенсом, Честертоном, Конан Дойлем, Бенджамином Бриттеном, Сарджентом, Мэри Пикфорд, Дугласом Фербенксом… Газетчики поедают тут кровяные бифштексы, старики пьют эль и ждут дня в неделе, когда на кухне таверны в огромном котле будет вариться знаменитый английский пудинг; туристам показывают собственный уголок доктора Самуэля Джонсона и его любимое, свято хранимое кресло.
Остро чувствуешь здесь, в этой таверне, роль застольной беседы в английской литературе, — зарождение рассказов Чосера и возникшие в дыму длинных трубок неясноголубые очертания мистера Пиквика, эсквайра. Понимаешь, как могло великое создание национальной литературы, «Записки Пиквикского клуба», родиться под пером газетчика, на улице газетчиков, поблизости от монументальной фигуры патрона газетчиков, автора «Толкового словаря». Мне очень хотелось задержаться в таверне, чтоб осмотреть все ее реликвии, но надо было поспеть в Блумсбери, чтоб купить новое оксфордское издание Босуэлла и вышедший в 1963 году, правда безбожно и не всегда убедительно сокращенный американским профессором МакАдамсом, словарь Джонсона.
Хорошие книги в Англии продаются не всюду. Дорогое оксфордское издание надо или искать в нескольких больших магазинах центра, или заказать заранее, или идти в «интеллектуальный» квартал Блумсбери, где находится на Малет-стрит серьезный университетский книжный магазин. Я шла туда пешком, через солидный старый Лондон, раздумывая, за что, собственно, одни наши писатели привержены к Парижу, а другие, как я, к Лондону.
В столицах мира, конечно, сконцентрирована история страны; но еще больше, чем история страны, национальный тип человека; и, пожалуй, еще больше, чем облик человека, — способ его жизни и как этот способ приятен или неприятен вам самому. Про Париж самый умный француз, Стендаль, писал: «В Париже вас одолевают уже готовые суждения по любому вопросу, словно вас хотят во что бы то ни стало избавить от труда мыслить, оставляя вам единственное удовольствие — быть красноречивым». И еще: «В Париже человек беспрерывно отвлекается». В этом смысле Лондон — полная противоположность Парижа. Предоставляя вас самому себе, он заставляет вас мыслить самостоятельно; и его тесные ущелья улиц, подобные горным теснинам, его деревенский зеленый простор паркой сжимают и концентрируют вашу мысль, ничем не отвлекая. Может быть, поэтому я так глубоко дышу в Лондоне и так люблю его. Французы и сами отлично представляют себе британца, по крайней мере, такой француз, как Жюль Верн; когда нужно было дать квинтэссенцию собранности, сдержанности, концентрации чувства и мысли — оп выбрал для лучших своих романов англичанина Фнлеаса Фогга, шотландцев Грапта и Гленарвапа.
По пути в Малет-стрит я вышла на Грейт-Расл-стрит и очутилась перед Британским музеем — да зараз и зашла в него, пройтись по всему его величавому каре, десятки раз описанному очеркистами. Британский музей, как когда-то наш Румянцевский музей, был и остался симбиозом музея и библиотеки, храпящим не только великие сокровища искусства и археологии, но и громадные книжные фонды. Как очень немногим счастливцам на этом белом свете, мне привелось девять лет назад провести несколько дней в занятиях в его знаменитой «Лайбрери», но только не в маленьком круглом зале, где работал Ленин, а за длинными столами-пюпитрами его восточного отдела, над рукописью английского перевода самой трудной поэмы Низами, «Сокровищницы тайн», — и я всегда с благодарностью вспоминаю Кристофера Мэйхью, в те годы члена Британского совета, облегчившего мне доступ туда….
Но, заговорив о Британском музее, я совсем не намереваюсь пугать читателя его описанием. Мне хочется обратить внимание на ту степень концентрации мысли при острой способности к членораздельному анализу (всегда сопутствующих одна другой), какие характерны для британской культуры и в быту превращаются в драгоценное качество, именуемое у нас «здравым смыслом». Весь этот день они были главными лейтмотивами и в серьезной классической музыке моей первой прогулки — и завершились вот этим единственным листом в моей руке, за который я добровольно дала шиллинг у входа в «Бритиш мьюзеум». Лист, точнее, листок — попросту официальный план музея. Громаден и прекрасен ленинградский Эрмитаж. Кто из приезжих в город Ленина не зайдет липший раз приобщиться к его духовным богатствам? Но, десятки раз побывав в нем, я все еще путаюсь в его залах, держа в руках толстые каталоги.
А вот листок «Бритиш мьюзеума», не менее грандиозного по объему собранных в нем сокровищ. И всего страничка. И на этой страничке, где использованы четыре краски (красная, синяя, зеленая и желтая) и три формы (рамочка, штриховка, слитный цвет), дан как на ладони весь распорядок, по которому вы без ошибки пройдете по всем залам и сразу найдете все, что вам нужно. А вверху — для удобства — помещен неизменный указатель запада, севера, востока и юга.
Вот, между прочим, и за этот компас, который никогда не забывают ставить для вашего удобства англичане, здравомыслящая раса мореплавателей, — я и люблю Лондон.
III. Музыка и поэзия
Что странно и всегда поражает приехавшего на Запад советского человека: мы так много и часто читаем и слышим о западном ультрамодернизме во всем разнообразии его кличек; мы печатаем в наших журналах (в «Иностранной литературе», например) анкеты, казалось бы, крупных, если не крупнейших, представителей западного романа, — и по всему этому выходит, что там, в странах капитализма, искусство сделало невероятный скачок, стало предельно заумным, изобрело какие-то непостижимые методы разговора со зрителем, читателем, слушателем; и старые формы перестали быть формами вообще, само понятие «форма» стало как будто призрачным, поскольку сигнализация искусства осуществляется без ее помощи… роман уже не роман, соната уже не соната и т. д. Начитавшись всего этого, вы едете на Запад, как в страну, испытавшую по меньшой мере катаклизм, видимый невооруженным глазом. И вдруг — все предстает перед вами так (или за ничтожнейшими изменениями так), как было в ваших поездках пять лет, десять, двадцать лет назад…
Разбираясь по возможности объективно в самых крайних новинках литературы и искусства, вы замечаете, что, может быть, это и архиново и, может быть, в этой архиновизне что-то такое и есть, — но оно скучно. Упаси боже исповедаться вслух, что вам скучно, перед человеком коммерческого склада. Он тотчас ответит: «Но это приносит бешеные деньги, это продается, как ничто другое, за это десятки, сотни тысяч долларов платят, а значит, нравится публике, а если нравится публике, значит, не скучно». Вы попробуйте спорить с такими аргументами!
Живя поблизости от Альберт-холла, где еженедельно даются так называемые променад-концерты с замечательными программами, показывающими и старое и новое, я бегала туда каждую неделю. У кассы за билетами всегда толпились милые, страшно знакомые люди, до удивления похоже на москвичей, толпящихся у кассы Большого зала консерватории. Часто, забывшись, я даже обращалась к пим по-русски. В круглом зале Альберт-холла, с его хорошей акустикой и сиденьями амфитеатром, я прослушала в этот мой приезд самые разные вещи, от старинной симфонии Гайдна, именуемой «курочкой» за подражание в ее начале куриному кудахтанью (№ 83), и ранних вещей Моцарта до самых последних новинок, исполнявшихся впервые. И за целый месяц на этих концертах самый большой, я бы сказала — оглушительный, успех, по восторженной реакции всего зала, вызвало исполнение Сарджентом, прекрасным английским дирижером, знакомой-перезнакомой Четвертой симфонии Чайковского.
Эту симфонию я слышала много десятков раз. Но в Альберт-холле словно услышала ее впервые. Сарджент творил чудеса, и оркестр творил чудеса: в симфонии по только по-новому открывался композитор, говоривший с вами потрясающим по своей прозрачности языком, но и внезапно, словно занавес вдруг поднимался, в знакомых местах обнаруживались глубины, которых вы раньше не замечали. Поздней знакомые англичане, слушавшие этот концерт по радио, признавались мне, что были ошеломлены силой и новизной трактовки Сарджента, которой «никак от него не ожидали».
Если б это произошло в Москве, наверняка на следующий день восторг массы зрителей был бы отмечен в печати и появился бы если не разбор глубокой трактовки дирижера, то, во всяком случае, благодарный абзац в статье по его адресу. Но тщетно искала я хоть что-нибудь, хоть строчку об этом высоком художественном исполнении в газетах, — их не оказалось. А между тем каждому среди нескольких сот слушателей Альберт-холла было в какой-то мере ясно, что, во-первых, исполняя симфонию, дирижер нашел как бы отдушину для себя в мире подлинного, горением духа вызванного искусства и наслаждался непроизвольно, наслаждался творчески; а во-вторых, и оркестр, до этого раздиравший инструменты (все еще приспособленные к классической сфере тонов!) бесконечными интерпретациями музыки модерн, хорошей и плохой, но всегда требовательной к инструменту и к уху, — тоже дал себе разрядку в чистом наслаждении близкой душе и сердцу классикой. Можно сюда и третье добавить: и слушатели — вся масса их, показавшая это в овациях, — насладились попросту, насладились красотой, забыв о моде. И все эти три факта оказались неинтересными для печати, не стоящими отзыва.
Тогда я несколько дней собирала разные вырезки: что хвалят, где хвалят и за что хвалят, стараясь проверить эти хвалы собственными впечатлениями. Года четыре назад в Италии мне пришлось сделать такую проверку по газете «Паэзе сэра», имевшей хорошую привычку рекомендовать кинозрителям недельную программу фильмов, деля их по жанрам (психологические, любовные, социальные, комедии, приключения и т. д.), а разделив по жанрам, отмечать в некоторых местах и качество. С делениями по жанрам все было правильно, с отметками по качеству не все и не всегда, но я делала уступку субъективности вкуса («кому нравится поп, а кому попадья»). Между тем в английской печати мне встретилось явление, которое я назвала (после многочисленных проверок) практическим выводом «как раз наоборот».
Вот восхваляется в вечерней газетке или на обложке самого романа (цитатой, подписанной названьем уважаемой газеты, взятой из уважаемой рецензии явно уважаемого автора) только что вышедший бестселлер какой-нибудь. Бегу его покупать, чтоб не опоздать (как бывает у нас с интересными книгами). Вечером, предвкушая удовольствие, зажигаю ночник, комфортабельно устраиваюсь, разрезаю страницы, если они не разрезаны, и — ах! Через десять, двадцать минут зевота раздвигает челюсти, глаза смыкаются. Скучно! Не просто скучно — бездарно. Не просто бездарно — претенциозно! Читать немыслимо. Когда я попросила умного англичанина разъяснить мне эту странность — почему хвалят то, чего разжевать нельзя, он мне ответил: «Вот именно потому. Хорошее само пробьет дорогу, а с такими книгами издательству нельзя терпеть убыток, такие книги требуют рекламы. Часто даже уважаемые авторы рецензий в той или иной форме оплачиваются заинтересованными в них коммерчески. Иногда это, впрочем, делается по личной дружбе».
После такого объяснения (снимаю с себя за него ответственность) я и заручилась правилом «как раз наоборот». Вижу книгу без рекламы на обложке или афишу без хвалебной цитаты из газет — покупаю книгу или билет; а есть цитаты и рекламы — бегу подальше. И это правило ни разу меня не подвело.
Как-то в гостях, развернув журнал, я наткнулась на обычные сейчас во всем западном мире стихи без рифм, без выдержанного размера, и, на мой неискушенный взгляд, чаще всего — без особого глубокого смысла. Хозяин сперва попытался объяснить мне всю необыкновенную красоту этих новых форм поэзии, добавив, что старомодные рифмы и размеры сконфузили бы сейчас автора, как если б женщина вышла на улицу в турнюре и фижмах. Говоря это, он даже улыбался мне, как старому ребенку. Прошло полчаса. Речь шла без перерыва об английской поэзии. Говорившие горячились. Температура в воздухе повышалась. Лицо хозяина блестело, глаза блестели, он даже несколько охрип. Встав и подойдя к полке, он достал какую-то хрестоматию, провозгласил на всю комнату свое непереводимое: «Dear me!», а после пего более вразумительное:
— Да вы найдите мне что-либо подобное во французской поэзии того же времени! Написано в тысяча семьсот пятидесятом году! Слушайте! Слушайте!
И хозяин прочел с удивительным чувством из «Элегии» Томаса Грэя, написанной свыше двухсот лет назад на деревенском кладбище, следующие четыре стиха:
On some fond breast the parting soul relies, Some pious drops the closing eye requires; Ev’n in the tomb the voice of Nature cries, Ev’n in our ashes live their wonted fires.Тишина наступила в комнате. Каждый из нас терял кого-нибудь, каждый хоть изредка думал, что и сам должен уйти, — и мы словно услышали уходящую душу, как, «умирая, ищет она опоры на груди близкого»; как «угасающие глаза требуют благодатных, благочестивых слез»; как «даже из могилы кричит голос Природы, голос жизни»; и «даже в пепле нашем живут привычные огни…».
Все это сказало было старомодно-выспренними словами, почти примитивным ритмом, с примитивной рифмой. Но каким звенящим колоколом прозвучала эта четырежды повторенная рифма, усиливаясь с каждой строкой и углубляя ее смысл к самому концу! Кто-то, подмигнув соседу, заметил: «А ведь четверная рифма!»
Знаток французской средневековой поэзии попробовал вмешаться. Он процитировал Франсуа Виллона — тоже о смерти, и не двести, а пятьсот лет назад, и «не сентиментальные, а социальные, с галльским перцем»:
Je connais que pauvres et riches, Sages et fous, prêtres et lais. Nobles, vilains, larges et chiches, Petits et grands, et beaux, et laids, Dames à rebrassés collets, De quelquonque condition, Portant atours et bourrelets, Mort saisit sans exception. (Я знаю, что бедных и богатых, умных и дураков, знатных и простонародье, толстых и худышек, маленьких и больших, красавцев и уродов, дамочек сомнительного поведения и надменных дам — смерть всех хватает без исключения!)Но его никто не хотел слушать. Начались цитирования музыкальнейших поэтов XVIII и начала XIX века, так любимых покойным нашим Маршаком. Достали с полок Вильяма Коллинза, Вильяма Блэйка, Джона Китса, полилась английская речь без всякой модной скороговорки — чтецы старались не заглатывать, а полнозвучно произносить каждое слово, чтоб мне, иностранке, было понятно.
Наутро я отправилась в особую прогулку — навестить дом-музей Китса.
Мне уже пришлось писать о прелести английских парков. Они прекрасны не только своими размерами, зеленью лужаек, свободным ростом деревьев, но и свободой для человека, для детишек и для любимых англичанами собак. Все лондонские парки прекрасные, но самым прекрасным стал для меня Хэмпстедский с его холмистыми лесными далями и полной отрешенностью от города. Сюда но воскресеньям, с едой в корзинках, на целый день поднимаются рабочие семьи. Здесь можно увидеть усталого за неделю парня в рабочей блузе, прикорнувшего под деревом на снятой с плеч куртке и сладко отсыпающегося за все шесть дней раннего вставанья. Шелестят над ним ветви, изредка свеивая иглы на сухую землю; брызжет сквозь ветви редкое солнышко, когда оно выступает золотым ободком из-за туч, а он спит себе. И часто я сама, как он, забыв о своем полиартрите, засыпала на этой земле, куда хаживал с семьей Маркс и где с Надеждой Константиновной бродил Ильич.
Если выбраться из парка на городскую улицу, можно найти в узенькой Флэш-уолк лавочку букиниста, с кучей наваленных старых книжек по шиллингу за штуку — девять лет назад они шли по шести пенсов. Букинисты и в Англии и во Франции не знают, что у них есть, и на конкретную просьбу дать то-то и то-то не могут ответить, но рыться самому в книжных кучах и даже читать часами не возбраняется.
Хэмпстед сто лет назад был деревней, о которой поэт сказал: «Тому, кто долго был пленником города, отрадно взглянуть на прекрасный открытый лик неба». Хэмпстед сейчас уже не деревня, а коренная часть Лондона, излюбленное место для житья артистов, художников и даже лейбористских министров, — но небо над ним все еще открыто. И оно открыто над тенистой, обсаженной деревьями, тихой улицей, где стоит дом-музей Джона Китса, автора приведенных выше строк.
Пройдя весь парк, я пришла в гости к тому, кто жил на этой земле всего двадцать пять лет, а творчески, создавая и печатая стихи, всего пять лет — и за эти пять лет нажил себе незабываемое имя. Вы входите в цветущий, прекрасно содержимый сад, где на аллейках даже свеянного листа нет — все прибрано. Дом-музей Китса — это вилла, просто, но с большим строгим вкусом построенная. Внутри тоже все очень строго и чинно — никакой мягкой мебели, ни пуфов, ни диванчиков, — деревянные жесткие стулья, маленькие столы возле стен на тонких ножках; до зеркального блеска отполированные голые полы. И только камины у боковых стен, вдоль которых идут дымоходы с типичными, воздетыми над крышей трубами, как пригоршня указующих в небо перстов, — только эти камины говорят о старинном английском уюте у потрескивающих, льющих тепло бревен.
По если новичок, ничего не знающий о Китсе, впервые войдя сюда и оглядевшись, подумает: «Здорово жили английские поэты! До чего же много комнат и как все блестит!» — он сделает великий грех в отношении Китса. Дом-музей Китса — вовсе не дом Китса. Он жил в нем у чужих, приютивших его друзей, в двух комнатках; и за свой век (1795–1821) пробыл здесь недолго, хотя и самую счастливую полосу жизни, короткой, как век воспетого им соловья. У Китса не было не только дома, но и собственного угла. И голову он приклонил, умирая, к чужой подушке плохого чужеземного отеля в Риме.
Умирающим на этой чужой подушке нарисовал его любящий карандаш друга, Йозефа Северна, которому Ките сказал свои последние слова: «Северн — я — подними меня — я умираю, — я умру легко, не пугайся — будь тверд и благодари бога, что это пришло». Графика записи этих слов сохраняет предсмертную прерывистость речи и сознания, сколько он забот причинил другу. Джон Китс умор от чахотки, как раньше умерли его мать и брат.
Историки литературы считают его родоначальником «эстетизма» в поэзии, ссылаясь главным образом на знаменитую формулу: «Красота — это Правда и Правда — это Красота: вот и все, что мы знаем на земле и что нам надо знать». Но слово «эстетизм» в применении к Китсу кажется кощунством. В доме-музее собраны аккуратные юношеские тетрадки от эпохи, когда он учился медицине в лондонском госпитале, его диплом аптекаря и медика, письма к друзьям и к невесте, локон, срезанный с его почти девичьей головы Северном, все мелочи, сопровождавшие такую короткую и сиротскую жизнь Китса, такую бедную вещами и событиями, что, разглядывая их, чувствуешь жгучую несправедливость ранней юношеской смерти. В своем обращении к Ипокрене, музе вдохновения, в знаменитой «Оде к соловью», Китс писал:
…покинуть мир не зримым никому, Развеяться с тобой под сумрак леса, Развеяться, исчезнуть — и забыть Все то, чего ты никогда не знала, — Усталость, лихорадку, муку быть, Стенанья ближних за стеною слышать, Смотреть, как старость тянет лямку жизни[69] А юность, в немочи исчахнув, гибнет…Это ли «эстетизм», характерный прежде всего своим холодом! Ведь тут отчаяние!
Начитавшись Китса, я совсем закисла и даже поплакала, но вечером меня опять ждала музыка, и какая музыка! Друзья, узнав, что я не слышала «Реквием» Бриттена, самого талантливого современного композитора Англии, и очень огорчена, что должна уехать, не дождавшись его объявленного исполнения, раздобыли для меня пластинку… Бриттен — сильный и мужественный талант, давно прибегающий к поэтическому тексту в своих симфониях и тяготеющий, как Шостакович, к ораториальным формам. В «Обсёрвере» было напечатано его интервью, совсем для нас неожиданное. Когда Бриттена спросили, над чем он думает работать, композитор ответил: «Буду писать музыку на стихи советского поэта Евтушенко…» Как оказалось позднее, он написал ее на стихи Пушкина.
И вот начала крутиться пластинка. С жадностью, но и со страхом, что вся эта неделя, посвященная поэзии и так близко подвинувшая ко мне тему смерти, охватит душу еще и магией похоронного отпевания, наклонилась я к проигрывателю. Но, словно подслушанный Томасом Грэем «крик Природы» из самой могилы, полился каскад свежих, сильных, трагических, но полных прозрачной ясности звуков, и они охватили меня той утешающей Красотой, которую Ките назвал синонимом Правды.
IV. Судьба друзей и знакомых
Зависть берет, когда читаешь в некоторых наших зарубежных очерках длинные монологи на социальные темы, какие обычно произносят друзья авторов этих очерков в разных странах. Да еще с помощью переводчика, поскольку авторы незнакомы с языками своих друзей! Да еще когда в очерках львиная доля газетного пространства заполняется именно этими обоюдными монологами!
Попробую и я рассказать тут о моих английских друзьях. Правда, никаких монологов приводить не могу, потому что их не было; да и обрастала я друзьями случайно, по ходу своей жизни или по собственному вкусу и выбору, через переписку. Не буду говорить здесь о тех, с кем познакомилась только в этот мой приезд. Но старые друзья, те, кого успела узнать девять лет назад и даже раньше, — где они, что сделала с ними и куда повела их жизнь в эти истекшие годы, полные для нас таких больших исторических событий? Вот вопросы, задававшиеся мною самой себе еще на пароходе в Англию, когда качка позволяла думать. И естественно, по приезде в Лондон я стала разыскивать этих друзей и возобновлять прерванное с ними знакомство.
В Лондоне девять лет назад жила хорошая армянская семья с англизированной — по очень давнему житью своему в Англии — фамилией Эпрехэмьян. В этой семье, как обычно в армянских зарубежных семьях, интересовались своими земляками из далекой Советской страны, и однажды я получила приглашение пообедать у них. В небольшом доме лондонского Suburb’a встретила меня старая мать семейства, и мы сели за стол, уставленный армянскими блюдами и даже травами, словно и не в Лондоне, а в Ереване. Но вот чего не могло быть за одним столом в Ереване: три сына со своими семьями — один, хозяин всех благ на столе, бакалейный лондонский торговец; брат его, с артистической черной бородкой и гвоздикой в петлице, член английской консервативной партии, тори, очень известный музыкальный критик, Феликс; и третий брат, Фрэнк, физик и коммунист, ассистент профессора Бернала. Три разных мира, три разных политических убеждения, три по-разному славных человека…
С Феликсом и с Фрэнком я тотчас сдружилась, но за девять лет потеряла их из виду. И вот Фрэнк опять сидит передо мной, постаревший, раздавшийся в плечах, и делится семейными новостями: Феликс сейчас в Париже, он все так же ведет музыкальный отдел в «Санди тайме»; старушка мать умерла; а сам он — на отлете: большой пароход с членами Общества борьбы за мир отходил в дни моего пребывания в Лондоне в далекие рейсы по гаваням, и на этом пароходе он собирался побывать в Ленинграде и в Москве. Поступательное движение по выбранному много лет назад пути, по пути партии коммунистов, вело эти годы Фрэнка, и сейчас он в числе активных борцов за мир, «как физик — редактор журнала «Научный мир» («Scientific World»), издающегося в Лондоне на нескольких языках. Мы с ним долго беседовали на главную для меня тему — об английской школе. И, раздумывая позднее о Фрэнке, я представляла себе его очень прямую дорогу из прошлого к будущему, по-настоящему полную оптимизма.
Захотелось мне узнать о совсем другой — литературной — судьбе писательницы, очень далекой от нас и наших убеждений, с которой меня познакомили на лестнице по выходе из конгресса ПЕН-клуба, тоже девять лет назад. Должно быть, из-за общепринятой вежливости эта писательница, шотландка Наоми Митчисон, пригласила меня тогда побывать у нее в Шотландии. Не раздумывая долго, с рюкзаком на плечах, я тотчас поехала в ответ на приглашение и ехала с тьмой всяких приключений, сперва в Глазго — город с революционными традициями, потом пароходом по Клайду, и шел обязательный шотландский дождь, а на корме девушки продавали ромашки в пользу какого-то благотворительного дела, и мы усердно мокли, и мокли бумажные ромашки, приколотые к нашей одежде, а вдоль стальной, изрешеченной, как пулями, крупным дождем реки скользили суровые, нелюдимые шотландские берега; потом, причалив к берегу, перебралась я на автобус, с автобуса — в машину встретившей меня Наоми и, наконец, в ее замок не замок, поместье не поместье, не знаю, как назвать, — «мэнор» — большой, самый главный в деревне, многокомнатный дом «Каррадэйл-хаус», где привелось пожить несколько дней.
О Наоми Митчцсое можно было бы написать целый очерк, так чудесно приобщила она меня ко всему шотландскому — к дивным народным песням, спетым членами ее клана, которых она в один из вечеров собрала у себя со всей деревни; к рыбацким обычаям через обветренного высоченного рыбака, с которым опа в ту пору вела большую дружбу; через самый обиход этого не то поместья, но то замка, где по воскресеньям, отпустив всю прислугу, она сама шла, повязав фартук, доить своих огромных коров и выгребать вилами навоз из коровника…
Писать она успевала удивительно, на длинных отдельных листочках, которыми потом одарила и меня, — писать те стихи без рифм, какими обычно полны зарубежные журналы, и нечто вроде обрывков больших поэм, — мне казалось, читая их, как и книги, подаренные ею, что Наоми Митчисон занималась литературой скорее как любитель, а не профессионал. И за девять лет, время от времени заглядывая в английские литературные обозрения, я что-то не находила в них ее имени. Переписывались мы с пей недолго.
И вот, опять приехав в Лондон, я послала ей открыточку, назвав ее по-прежнему по имени… Но в ответ опа меня по имени не назвала. В ответ, тоже на открытке, она сухо сообщила мне, что уезжает в Африку, в Южную Африку, и что-то о «человечности», о замысле будущей книги. Открытка, писанная, видимо, наспех, имела в себе нечто отклоняющее, некий флюид политического холодка, — может быть, как выражение разных наших позиций в африканском вопросе, не знаю. Но больше я ей не писала, и в Шотландию съездила другой дорогой, через Эдинбург. Памятуя о холодке в письме Митчисон, я не решилась дать о себе знать ее сыну, эдинбургскому профессору, с которым тоже как-то обменялась в былые годы дружескими письмами… Так что в области шотландской дружбы образовался у меня тупик — impasse, как говорят англичане.
Со старым, не только моим, но нашим другом, Джэком Линдсеем, вышло совсем по-другому, но иначе и быть но могло. Джэк — когда с общими знакомыми говоришь о ном — всегда был и остается для нас тем, что выражается двумя короткими словечками «а dear» — милый… Дорога в Эссекс, все так же неинтересная, по задворкам и небольшим местечкам, уже раз проезженным мною из Хариджа. Пересадка, всегда совершаемая с некоторой боязнью опоздать или попасть не туда, куда надо. Маленькая станция — и Джэк на перроне со всей семьей, с красивой пополневшей голландкой-женой, Метой, и двумя детьми, появившимися на свет в эти годы, со школьником Филем и моей тезкой Эллен-Мариэттой, безбровой девчушкой, лицо которой до странности похоже на Леонардову «Джоконду».
И вот мы опять сидим в их дачном домике, где Мета занимается своей керамикой, лепя и обжигая глину, а Джэк пишет, — он много написал за эти годы, третий том автобиографии[70], большую книгу о Давиде и художниках эпохи французской революции[71], новый роман с яркой цветной обложкой чуть ли не детектива, роман об одиночестве и любви[72], а сейчас занят почти открытием. Он изучил мало кому известные записные книжки знаменитого английского пейзажиста Тернера; нашел в них стихи — поэзию художника, которого до сих пор человечество знало только как поэта красок. И в этих стихах — тот самый социальный оттенок, каким светится поэзия его современника, Вильяма Блэйка. Вот об этом — о жизни Тернера — Джэк Линдсей и хочет сейчас написать книгу.
Мы сидим вместе, словно и не протекла почти десятая часть столетия. Мета с гордостью показывает мне хвалебный отзыв школьного начальства о Филиппе; Джэк приносит письмо к нему из Балашова, написанное советским учителем на превосходном английском языке. Тут чувствую гордость и я — за наш саратовский город Балашов, за неведомого советского труженика, так свободно и глубоко беседующего с Линдсеем о его книгах на родном языке Линдсея…
Однажды утром, развернув газету, в отделе объявлений о концертах я встретила знакомую фамилию. Теперь мне предстоит рассказать о друзьях, найденных по собственному вкусу и выбору — еще задолго до знакомства с ними, через экран и переписку. Лет десять назад московские экраны обошел фильм, надолго задержавшись на них: «Записки Пиквикского клуба». Москвичи говорили об этом фильме с восхищением. Но поговорили — и забыли. А я не могла забыть.
Это, конечно, субъективно: фильм, исполненный с редчайшим совершенством, показался мне лучшим в мире после нашего «Броненосец «Потемкин». Редчайшее совершенство создало не только исполнение актеров, давших — каждый, от первого до последнего, — бесспорную пластическую трактовку знакомых миллионам читателей образов Диккенса, да так, что, повидав их, вы просто ужо не сможете представить себе эти бессмертные литературные образы в иной оболочке. Совершенством была и музыка, пронизавшая фильм от первого до последнего кадра. Я переслушала на своем веку множество музыкальных сопровождений кинокартин, но считаю, что лучше, органичней, соответственней происходящему на экране, чем эта музыка к «Пиквикскому клубу», не было, да вряд ли и может быть.
В свое время об этом фильме, об игре в нем центральной фигуры, какой сделался не Пиквик, а жулик Джингл, о музыке, сопровождавшей картину, я написала большую статью, и она была переведена на английский язык. С композитором фильма, талантливым молодым Антони Хопкинсом, я вступила тогда в переписку, а приехав в Лондон — подружилась с ним и даже получила от него в подарок последние страницы рукописи музыки к «Пиквику». Артиста, игравшего Джингла, в ту пору не было и Лондоне, — он снимался в каком-то фильме в Калифорнии; но и не встретившись лично, мы с ним обменялись добрыми письмами.
И вот сейчас в газете я встретила имя Антони Хопкинса: он должен был дирижировать камерным оркестром (типа оркестра нашего Баршая) на исключительно интересном по своей программе концерте в старинном южном городке Сассекса, Чичестере.
Не говоря уж о самом концерте, мне важно было посмотреть Чичестер с его знаменитым собором, где находится памятник поэту Вильяму Коллинзу, уроженцу этого городка; посмотреть хоры другой церкви, Францисканцев, — они памятны тем, что были местом судебных ассиз, осудивших поэта Вильяма Блэйка за то, что он прогнал солдата из ворот своего сада. И третий поэт, Ките, тоже побывал тут, в Чичестере, в доме № И на Истгейт-сквер. Там, уже чувствуя приближение своей смерти, в 1819 году начал он писать свой «Сочельник св. Агнесы». Да и сама дорога в Чичестер, мимо великолепного замка Арундель, была заманчива…
И вот, уже после концерта, чтоб не опоздать на последний поезд в Лондон, мчимся мы вместе с корреспондентом «Известий» М. Стуруа по темным уличкам Чичестера к вокзалу. Улицы словно сузились, сблизились от упавшей черноты ночи. Свету совсем мало, черный шпиль церкви похож на меч, вознесенный над притихшим городом, и невольно вспоминаются дивные аллитерации на букву «ш» из «Оды к вечеру» Вильяма Коллинза:
…air hush’d, save where the weak-ey’d bat With short shrill shrieks flits by on leathern wing… (…в воздухе ш-ш-тихо, лишь полуслепой упырь[73] с коротким, пронзительным криком пролетит на замшевых крыльях…)Вернувшись в Лондон, мне хотелось отдохнуть и поразмыслить. Но прежде всего надо было отдохнуть, — не где-нибудь в лондонском парке, лежа на траве, а по-нашему, по-советски, на пляже у моря, вдыхая соль и йод морского ветерка. Выбрала самый популярный английский курорт, Брайтон, — благо, он в двух шагах от Лондона, — встала ранехонько и вот уже в десять часов утра лежу на чудесном открытом пляже, перебираю красивые камушки — не такие, как в Коктебеле, но тоже разрисованные морем, и думаю — о вчерашнем концерте, о Джэке, о судьбе английских друзей.
Мы застали Антони Хопкинса еще на репетиции, без фрака, в рубашке с засученными рукавами, потного от жары. Он обрадовался встрече и, хоть не до нас ему было, успел сообщить о себе — приглашен в Корсику, но до тех пор — приходите — будет на Би-би-си показывать бетховенские квартеты… А потом начался концерт, мы услышали Генделя и Гайдна, маленький оркестр звучал чудесно; редко исполняющиеся арии Генделя пел превосходный певец Хиддл Наш. Очень старая, знаменитейшая английская актриса, на которую даже просто посмотреть, не то что услышать, мечтают тысячи лондонцев, привезенная в роскошном лимузине и встреченная перед театром, как особа королевской крови, Сибила Торндайк, прочитала старческим, но натренированным, как редко у молодых актрис, голосом забавный рассказик «Соловьи Генделя» о соперничестве певиц… Ее слушали в полной тишине, отдавая дань и этой почетной старости, и титулу «дамы», полученному ею от королевы.
Казалось бы, все хорошо. Но Антони Хопкинс похудел. Он постарел и как-то осунулся. Но, может быть, переработался? Я следила за пим в эти годы — правда, немножко. Он делает в Англии большую, достойную работу, пропагандирует классику, без конца выступает на радио, конферирует, конферирует. Девять лет назад у пего была «Интимная опера»; на курорте в Челтенхэме он давал чудесные коротенькие оперы восемнадцатого века, «Дон Кихота» Перселла, итальянцев. Есть у него и немало своих опусов — для флейты, для голоса, для фортепьяно, — целую пачку их я привезла тогда с собой. Помню, как советовала ему из музыки к «Пиквику» создать оркестровую сюиту — назвать ее «Веселой старой Англией», «Праздничной», «Диккенсианой», — только чтобы не пропала она, а Хопкинс отшучивался. Сейчас у него новый коллектив, оркестр «Pro arte». И опять пропаганда классики — святое дело в век чудовищного визга джазов. Но…
Челтенхэм — аристократический курорт. Чичестер — старомодный центр, с усыпальницами герцогов. Залы как там, так и тут небольшие. Публика — большей частью из Лондона, и как тогда в Челтенхэме, так и сейчас в Чичестере — машины, машины, машины, целое стадо машин перед театрами. А если сравнить публику ну хотя бы с теми, кого мы называем «народ», — то не подойдет это словечко к старикам и старухам, к особого вида кастовой молодежи, к тем, кто глядит в старомодные лорнеты на маленькую фигурку дирижирующего Антони, любимца этой публики. И невольно спрашиваешь себя: неужели лучшее в искусстве, бессмертное в искусстве, музыкальная классика — лакомство для консервативной части Англии, для стариков и старух с лорнетами, неужели оно «фэшнебль», нечто вроде обратной стороны монеты, на которой с одной — решка джаза, с другой — орел Генделя?
Хорошее дело Хопкинса потухает без среды, вырождается без воздуха, без простора, без доступа народных масс и — даже подумать, не то что сказать, страшно — приводит, быть может, к совсем обратной цели: бросает в сторону «толпы» весь этот крикливый модерн, словно это пища «демоса», «массы», понимаемых со знаком минус, — а тут для избранных, для немногих сохраняет аристократический кусок классики… Конечно, яркий и тонкий талант Хопкинса, его большой вкус, его духовное изящество никак не вяжутся с возможностью такого вывода, но этот вывод невольно приходит в голову. И, думая об этом, я не заметила, как даже собранные красивые камушки на пляже в волнении и обиде побросала один за другим в море.
Неужели нет для моего друга Антони, автора гениальных страниц к «Пиквику», иного пути в жизни, иного поля деятельности? Что, если бы он увидел у нас, как слушает классику настоящий народ, без кавычек, в рабочих клубах, в народных консерваториях? Да ведь и на променад-концертах классику слушает английская публика без кавычек. И если бы Хопкинс написал свою оркестровую сюиту, она прорвала бы вокруг него эту оболочку интимности и, наверное, дошла бы до трибуны Альберт-холла.
Джэк Линдсей в одной из своих критических работ рассказал, как во время войны лондонский оркестр выезжал в рабочие районы, туда, где люди ни разу в жизни не видели и не слышали оркестра. Игру на одном инструменте — дудке, аккордеоне, скрипке — они знали, но тут увидели целое скопление инструментов, и все они, все эти инструменты вместе, подняли свои голоса сразу. Джэк чудесно описал, как притихла огромная толпа слушателей, какое нервное потрясение, почти восторг пережили люди. Вот чего не хватает сейчас искусству Англии — нового, свежего, неискушенного восприятия тех, кто создает своими руками весь материальный мир человечества, от вещей до хлеба.
Но сам Джэк Линдсей? Он написал эту статью очень давно. Став прочной ногой в Англии, оп, австралиец, сперва рвался к народу, ходил по рабочим районам пешком, сам пробовал работать физически. Он стал коммунистом. Он написал первый реалистический роман о современном рабочем классе в Англии, о жилье рабочих, о невыносимых условиях, в каких они живут. Был ли этот роман по-настоящему поддержан, подхвачен, разобран в том его большом политическом значении, какое эта первая попытка имела? Тут, думается мне, и наша доля вины. Сколько помню, настоящего, серьезного, критикующего и стимулирующего, поддерживающего и подсказывающего — ничего не было сказано об этом романе, кроме статьи Елистратовой. Годы идут. Жизнь становится труднее. И научная тема у Джэка Линдсея стала теснить тему рабочего класса. Мягкое, почти славянское лицо Джэка с посеребренными висками, с появившимися глубокими морщинами встало передо мною… И я задумалась еще об одной судьбе.
Но о ней — в следующий раз.
V. Размышления о театре и актере
Девять лет назад, по пути к самой крайней точке Англии, Лэндс-Энд, я решила навестить «королеву детективов» Агату Кристи в ее корнуэлльской резиденции. Но предварительно запросила письмом, можно ли. На письмо ответила секретарша, что, к сожалению, миссис Агата Кристи не будет дома, опа едет в Лондон участвовать в постановке своей новой пьесы.
Секретарша писала правду. Лондонские газеты известили вскоре, что «тетка Агата», как они ее неуважительно назвали, занята инсценировкой своего очередного романа и переживает все бури авторских конфликтов с режиссерскими трактовками. Но меня особенно поразил анонс в колонке объявлений о том, что другая ее пьеса, «Мышеловка», идет в Лондоне два года без перерыва.
А в этот приезд, развернув густой петит театральных анонсов, я увидела все ту же «Мышеловку», но с указанием, что идет она в Лондоне уже тринадцатый год. Советский зритель привык представлять себе спектакль, не снимаемый с репертуара (а их у нас немало), как повторяемый на сцене, среди других спектаклей, ну раз-два, ну несколько раз в год. Но когда в Англии пишут «идет тринадцать лет», — это значит, что определенный театр[74], снятый частным предпринимателем, поставил (на риск) с набранной группой актеров такой-то спектакль; и подобно тому как построенная фабрика выпускает одну-единственную продукцию, создаваемую изо дня в день, этот театр из вечера в вечер, а иногда утром и вечером воспроизводит все тот же один-единственный спектакль тринадцать лет.
Прекратился спрос на фабричную продукцию — и фабрика закрывается. Перестал ходить зритель на данный спектакль, и он снимается. Он снимается без замены готовым новым, так как новый будет уже опять коммерческим предприятием со снятием свободного (как бы сдаваемого внаймы) театра, с собираньем труппы, с нахождением пьесы и тем же «ва-банк», как говорили картежники, или решением идти на риск.
Совершенно иная, в корне отличная постановка театрального дела, нежели у нас. Возьмите карандаш и подсчитайте, сколько это будет раз для группы актеров тринадцать лет подряд играть «Мышеловку», — даже не шесть раз в неделю, а восемь (дважды по утрам и вечерам, в четверг и субботу), с отдыхом в воскресенье и небольшой летней передышкой. Даже радиола, если заводить ее тринадцать лет ежедневно, выйдет из строя.
А как актер? Повторять и повторять одни и те же интонации, те же слова и жесты, с монотонностью заводной игрушки, — годы подряд, потому что на это все еще есть спрос, все еще валит зритель, а газеты кричат о грандиозном успехе, и успех надо поддерживать, использовать, отжимать до последнего фартинга, — вот судьба английского актера, и еще добавить надо: в лучшем случае. В худшем спектакль прогорает, предприниматель разоряется, актеры оказываются не у дел.
Забудьте в Лондоне нашу домашнюю привычку смотреть недельную программу МХАТа или Малого (или любого театра), чтоб выбрать из недельного разнообразия, куда и на что интересней пойти. В Лондоне выбирают но спектакль из недельной программы театра, а театр — с его годовой программой одного-единственного спектакля. Казалось бы, как не надоест это зрителю и откуда набирается зритель на одно и то же? Но я уверена, что на иные спектакли (в том числе и на «Мышеловку») лондонского зрителя хватит еще на двадцать лет — вплоть до конца семидесятых годов нашего века. И тут надо объяснить — почему.
Театральный зритель вест-эндских театров Лондона (расположенных в лучших, богатых кварталах города) идет поразвлечься, как пошел бы в клуб, уверенный, что за свои деньги он купит удобство. Сидит он на мягком, пальто может, свернув, спрятать под сиденье, кофе и чай заказывает на антракт, и ему подают его на подносе там, где он сидит; входит и выходит без толчеи — дверей много; воздух в большей части театров кондиционированный; кое-где — к сожалению — разрешается даже курить; еще недавно был обычай дезинфицировать залы после спектаклей и оповещать об этом в программах… А качество спектаклей всегда «на уровне» и — главное — не расстроит на ночь, не заставит сильно пережить, глубоко задуматься. Так выродился театр в стране классических шекспировских подмостков, превосходной драматургии и едва ли не лучшего в мире актера.
Я не пишу тут о смелых новаторских попытках рабочих театров и клубов; не пишу и об английских «стационарных» труппах с определенным, главным образом шекспировским, репертуаром, — их положение немного иное, и они показывают не один, а несколько спектаклей в год. Московский зритель знаком с некоторыми из них, зпает и любит вдумчивых, обаятельных актеров — Поля Скофилда, Лоуренса Оливье.
К сожалению, посмотреть новые экспериментальные спектакли мне не удалось. Но вот, побывав в Стратфорде и повидав «Венецианского купца» в исполнении лучшей «шекспировской» труппы, я едва досидела спектакль до конца, так мертво и безжизненно, без проблеска социального содержания шла эта острая вещь Шекспира.
Не мудрено, что в лондонских старых, заслуженных театрах пустовато бывает в зале. Между тем у англичан есть превосходная старинная социальная комедия, беспощадно, хоть и добродушно, высмеивающая ранние побеги нынешнего «джентльмена»: «Она снисходит, чтоб победить, или Ночь ошибок» Гольдсмита[75], которая, как наши «Недоросль», «Ревизор» или «Горе от ума», могла бы держать театр наполненным в любое время, всякий раз в злободневной оригинальной трактовке. Но за оба посещения Англии я нигде, ни разу не слышала и не читала, чтоб ее ставили. Буду рада, если ошибаюсь!
За месячное мое пребывание в Лондоне программы тридцати девяти основных театров (включая хэмпстедский театральный клуб) оставались теми же, с одними и теми же рекламами в анонсах. О пьесе Пристли в «Кpuтерионе»: «Стоит переплыть Атлантический океан, чтоб посмотреть ее!» О «Сыне Обломова» в «Комеди»: «Самый забавный спектакль за много, много лет!» Об «Убийстве сестры Джорджа» в театре «Герцог Йоркский»: «Лучшая комедия Вест-Энда за много, много времени!» О фарсе «Тарк» в театре «Гаррик»: «Я катался от смеха в кресле!»
О «Блуждающем огне» в «Принце Уэльском»: «Бесподобно забавно!» О «Поймай-ка меня, товарищ!» в «Уайтхолле»: «Буря хохота!» Что ни пьеса — лучшая за много лет; что ни драма — сильнейшая в сезон; что ни комедия — умрете со смеху! Да еще добавленье кой-где — пятый, шестой год исполненья.
Я выбрала наудачу несколько менее зазывных и, разумеется, «Сына Обломова». Нашему Обломову везет в Лондоне: он шел и всерьез, как переделка романа, и в шутку, под вывеской «Сына», но с тем же сюжетом и с невыносимой развесистой клюквой в виде соблазнительницы — Агафьи, похожей на испанскую красотку, и с огромной, на всю сцену, кроватью, где возлежал в ночном белье «сын Обломова». Программа содержала цитаты из критиков о том, что «Обломовка — это Россия» и «обломовизм» — это болезнь славянского характера и жизнь русского общества. Посмотрела в Риджентс-парке на открытой сцене разыгранную молодежью шекспировскую комедию «Как вам угодно», поставленную с добрыми намерениями, в духе пасторали, но бог мой — до чего скучно и с какой резвой Розамундой, не имевшей ни грамма тонкого поэтического очарования шекспировской героини, хотя и расхваленной рекламами до небес!
Общая черта всего, что я успела посмотреть, — крайнее убожество постановки при огромной актерской культуре.
Поскольку каждый спектакль — коммерческий риск, экономят на всем: декорации на самую дешевку, костюмы, даже неизменные вина и сигареты — от фирм за рекламу в программах; и невозможное, унизительное музыкальное сопровождение с помощью то граммофона, то старенькой пианолы, то пианиста за сценой, которого в старые времена звали «тапером». Дребезжанья этой музыки, к счастью, почти не слышно. Вспоминаешь невольно все великолепие наших блестящих постановок с настоящими художниками, как Вирсаладзе; с подлинным оркестром перед сценой, с неистощимыми выдумками, как у Вахтангова и Завадского в Москве, у Акимова и Товстоногова в Ленинграде и у московской театральной молодежи.
Но при всем убожестве лондонских постановок есть нечто, превращающее убогую сцену в подлинный «храм искусства». Я имею в виду высокое качество слова на английской сцене. Оно превосходно произносится, потому что, как правило, у актеров удивительно ясные, натренированные голоса с отличной дикцией, поставленные школой так, как в Италии два века назад ставились (с ударением на диафрагму) голоса певцов. И оно, это слово, превосходно выбрано, потому что тексты комедий и драм, которыми, будучи глуховатой, я всегда заранее запасалась в оригинале, так написаны, что даже читать их глазами, а не только слушать со сцены — доставляет большое эстетическое наслажденье. Казалось бы, салопные пьесы, с салонными сюжетами. Но как они написаны! Как остроумны и блестящи диалоги, сколько неожиданного в повороте действия, в создающихся на сцене ситуациях. И драматургия (даже сегодняшнего дня), и мастерство актера (даже сейчас) в Англии на очень высоком уровне. Только уровень этот, поддерживаемый высоким классом эстетических требований, очень нестоек и может (а пожалуй, и должен) катастрофически покатиться вниз, если к эстетическому совершенству не прибавятся высокие человеческие страсти и глубокие социальные требования современности. Нет этих глубин в изящной английской драматургии нынешнего дня — и неизбежно мельчает актерское мастерство.
Просматривая театральные программы, я наткнулась на один спектакль и на одно, дорогое для меня, имя. В изящном вест-эндском театрике «Королевы» (Куинс) шла пьеса отличного современного драматурга и поэта, Ноэля Коуарда, с названьем, взятым из шекспировской «Двенадцатой ночи» и в точности просто непереводимым («Present Laughter»), и с участием, в качестве режиссера и главного действующего лица, артиста Найджла Патрика. Шесть вечеров подряд, а по четвергам и субботам днем и вечером… Я взяла билет на дневной спектакль.
Советский зритель знает Найджла Патрика по изумительной трактовке им роли жулика Джингла в «Записках Пиквикского клуба». Он так сыграл деклассированного бродячего актера, что создал как бы ревизию диккенсовского романа. Заново перечитав текст Диккенса после этой игры, я девять лет назад в статье об английском кино рассказала о глубокой актерской трактовке этого текста и не хочу повторяться тут. Но то был текст гениального Диккенса. А здесь салонный драматург Коуард, тонкий и умный, но далекий от всяких глубин.
Легкая любовная пьеса. Герой ее — «первый любовник», актер, от которого, устав от его бесчисленных измен, ушла жена; он живет холостяком в маленькой квартирке с лишней комнатой для гостей; у него лакей, горничная и пожилая секретарша; к нему без конца идут письма поклонниц и сами эти поклонницы, обычно вдруг вспоминающие на вечеринках, что забыли ключ от своей квартиры… и нельзя ли выручить их, дать им переночевать в его свободной комнате? Так происходит дело в пьесе Коуарда, которую я раздобыла и прочла перед тем, как идти в театр. Есть в ной еще молодой человек из породы оксфордских интеллектуалов, в очках, — он тоже влюблен в актера и читает ему наставительные речи. Есть антрепренеры и деловые «продюсеры», устраивающие ему турне, и молодая жена одного из них, тоже «позабывшая ключ от квартиры». Пьеса кончается истерикой актера, бегущего из своей холостяцкой квартиры, осажденной, как крепость, к собственной жене… Вот и всё в пьесе. Никакого как будто подтекста, всё на грани водевиля. Неужели Патрик — глубокий и думающий актер — сыграет это с тем актерским удовольствием, без которого творческий артист вообще не возьмется ни за какую работу? И может ли он сделать во всем этом хоть какое-нибудь открытие?
За свой долгий век я пережила несколько возрастных подходов к театру.
Юношеский — когда тянешься туда, под занавес, в волшебный мир, куда нет доступа, но где все поет вам, и завлекает вас, и действует на вас с огромной силой, способной формировать ваше мироощущение, вашу волю.
Зрелый — когда уже знаешь, что на лицах — грим, декорации — поддельны, костюмы — потрепаны, интонации — наигранны, но ты все еще способен понять и ощутить божественный холодок, когда вдруг услышишь со сцены подлинное и увидишь вдохновенного актера.
Старческий — когда почти уже не ходишь в театр и всегда сравниваешь прошлое искусство с нынешним не в пользу нынешнего.
А я вдобавок имела великое счастье девочкой слышать Элеонору Дузе; побывать на «Демоне» с Шаляпиным, в котором он выступил только дважды; видеть Ми-хоэлса в «Короле Лире»… Но даже на старости есть минуты, когда вы вдруг по-иному переживаете сдвиг театрального занавеса, открывающий новый для вас мир.
В театральной деятельности Найджла Патрика всегда был некий «икс», некое остаточное движенье за скобками исполняемой роли. Для самой себя я назвала это «чувством хозяина целого», «босса», чем-то сходным с психологией концертмейстера в оркестре, который, хоть он и является только первой скрипкой, но в то я?е время в какой-то мере чувствует весь оркестр в целом и даже как бы ведет его за собой. Найджл Патрик ни в одной вещи, которую я видела с ним на экране и теперь в театре, но растворялся целиком в созданном им образе, но всегда оставлял за собой некий взгляд поверх целого, как хозяин всего зрелища, ответственный за него целиком. Сколько помню, этой особенности я за всю жизнь не видела ни в одном актере, кроме, может быть, в Шаляпине и Станиславском, не сравнивая, разумеется, этих гениев сцены с Патриком по таланту.
И вот в легкой салонной комедии Коуарда я снова вижу любимого артиста своих старых дней. Он выходит в халате после бессонной ночи по милости одной из «забывших ключ», выходит в неприбранной квартире, в серое позднее утро, зевающий, почти без грима, — прошло десять лет со съемки «Пиквика», и артист чуть постарел, его акробатическая гибкость уже не прежняя… Все так ординарно на сцене, так словно бы неглубоко по пьесе. Я испытываю почти страх, — мне очень не хочется разочаровываться. Но вместе со страхом, незаметное, неощутимое, медленно-медленно нарастает что-то, заставляющее вас думать. Зажигающее мысль.
Гремит гневный, истерический голос: «Каждая пьеса, которую вы играете, — все такая же поверхностная, фривольная, без малейшего интеллектуального значенья! У вас огромный успех, сильная индивидуальность, а вы проституируете себя каждую ночь… Все, что вы делаете, — это носить халаты да отпускать остроты, а вы могли бы реально помочь народу, заставить его думать, заставить его чувствовать!»
Кто это говорит? Молодой человек в очках, по Коуарду. Но на сцене вовсе не оксфордец, а юноша пролетарского типа, в мятой вельветовой куртке, мятых штанах, со взбудораженным, правдивым юношеским лицом без очков. И вы вдруг вспоминаете, что режиссер спектакля — сам Найджл Патрик, это он сделал из коуардовского оксфордца бедного пролетарского студента и дал звучать его отповеди в совсем другой тональности, нежели у драматурга. Пусть дальше по пьесе актер груб с этим поклонником, но вы уже слушаете и смотрите по-новому и понимаете, что он груб — поневоле — со своей совестью, груб, ублажая публику, продавая себя, оглупляя себя и свое дарованье.
Пьеса Коуарда неожиданно, на ваших глазах начинает углубляться. А Найджл Патрик как будто и не играет. Он живет собой и своей судьбой и в конце пьесы вдруг начинает говорить с необычайной, совсем не театральной энергией человека, вышедшего из своей роли. После любовной ночи с женой антрепренера он бросает ей при муже: «Вы добивались меня и получили, но вы не задели ни моего сердца, ни моей мысли. А вы, вы (в сторону всех собравшихся вокруг) — вы все, кого я кормлю своей игрой, чего вы еще хотите от меня? Я актер, я работаю, — оставьте меня в покое!»
Кульминация этой истерики настолько реальна, что вы переживаете ее вместе с артистом. Вы думаете: люди-творцы — писатели, актеры, музыканты — дают лучшее, что в них есть, все, что в них есть, — в своем творчестве, в своей работе, а толпа (именно толпа, а не народ!), принимая это даденное, хочет получать от полюбившегося ей творца еще и — как от человека — любовь, внимание, советы, дружбу, письма, помощь, общение, не понимая, что творец уже дал, все дал, исчерпан, измучен, и ему, как полю после жатвы, нужен покой, покой, отдых… Вот удивительно яркое и глубокое впечатленье, какое сумел создать большой английский актер из салонной пьесы.
Но это и рассказ о трагической судьбе комедийного актера в Англии, это и повесть о личной судьбе — того, кто мог бы заставить мыслить и чувствовать и реально помогать своим искусством народу, а вместо этого, ради хлеба насущного, сотни, тысячи раз из вечера в вечер механически повторяет себя[76]. Когда Найджл Патрик пришел ко мне в гости и я сказала ему, что ведь у Коуарда студент совсем иной — оксфордский «highbrow», «высокобровый» сноб в очках, — Патрик укоризненно поглядел на меня с таким ясным выражением в глазах: «Как же ты-то, представитель рабочего государства, не понимаешь почему!» И мне стыдно стало за свою «поправку».
Я хотела написать и о кино, тем более что как раз в мое время развернулась блистательная карьера «битлз», молодых людей, завоевавших со своим оркестром, под руководством миллионера-предпринимателя Эпштейна, Америку. В кинотеатре шел фильм с битлзами под коротким названием «Помогите!» («Help!»). Но я не люблю джаза, а музыка битлз — на мой взгляд — еще ужасней для ушей и нервов, чем джаз. Пусть пишут о них другие. Лучшее, что, на мой старческий вкус, я видела в лондонских кино, была англо-американская (диснеевская, с замечательными английскими актерами) детская картина «Мэри Поппинс» — картина о волшебной няне, сумевшей перевоспитать родителей и очаровать ребятишек… И ее смотрели дети, и взрослые, и глубокие старики, как я, с одинаковым наслаждением.
VI. Размышления о школе
1
Подойдя к главной своей теме, ради которой делала бесчисленные вырезки из газет и настойчиво выспрашивала и близких и чужих людей, я испытываю необычайную робость. Трудно писать о предмете, который ты просто не мог освоить полностью, и не только ты. Многие англичане, которых я спрашивала о школе, путались в дебрях длинных ответов, а потом признавались, что и сами хорошенько не разбираются. Особенно трудно разобраться нам, с нашей унифицированной на всю огромную страну школой, с ясными очертаниями ее структуры, с системой однородных учебников. И хотя мы тоже мучаемся со школьной проблемой, ежегодно вводя новое в школу или «выводя» из нее что-либо не оправдавшее себя, — но в целом у нас единая школа, единый тип образования. Делится он лишь на «профили», на будущее предназначение человека к гражданской или военной службе, к гуманитарной или технической деятельности. Это — если говорить в большом плане.
Но в английской школе вас прежде всего не встречает «большой план», то есть нет элементов для общей ясной картины, для генерализирования частных случаев в общую схему. Невероятное множество этих «частных случаев», не поддающихся генерализации, обступает вас и создает впечатление хаоса. Нет единого типа школ —»се они разные. Нет единого типа учебников, да и вообще нет учебников или почти нет, — в каждой или почти в каждой школе учат по-своему и но своим книгам. Нет единых программ, нет даже единого наименования тех ступеней, которые мы называем «классами». Часто вместо «класс» лам говорят: «первый год обучения», «пятый год обучения». Или первый А, второй А, какие-то буквы алфавита с прибавкой цифры, производящие чисто алгебраическое впечатление. Или еще страннее. Когда я спросила, в Каком классе учится мальчик знакомой мне семьи, ответ был: «в скорлупе» (shell).
Но таинственней всего была для меня цифра «одиннадцать плюс». Споры в печати, запомнившиеся мне еще с первого приезда в Англию, шли вокруг этого 11+. Лейбористы и все передовое в Англии ополчились против него. И постепенно одиннадцать стало передвигаться к четырнадцати, к пятнадцати. Сейчас оно подошло к шестнадцати, а плюс, видимо, отпал. Что же это такое? Цифра обозначает возраст ребенка. Одиннадцать лет — совпадает с окончанием начальной школы. Плюс — это экзамен, успешная сдача которого даст ученику «сколашип» (scolarship) — стипендию или право на поступление в среднюю школу, то есть продление образования. А так как вместо «классов» англичане употребляют понятия первого, второго и прочих годов обучения, то удлинение одиннадцати до шестнадцати, то есть возрастное продление ученика в школе, означает последовательный (без экзамена) переход от, начального образования к среднему. Иначе сказать, среднее образование становится общедоступным. Отсюда поощрение лейбористами общих школ, называющихся сейчас в Англии «компрехенсив» (comprehensive) — в точном переводе «всесторонних», «исчерпывающих», а по существу — общеобразовательных. Так — более или менее приблизительно — удалось мне расшифровать головоломку, но основное ее содержание схватывается легко. Именно в одиннадцать лет английский ребенок стоял перед той пропастью, какая отделяет в Англии простого человека от «члена общества». Даже если детям рабочих удавалось по большим своим способностям сдавать экзамен на получение «сколашип», не все из них попадали в среднюю школу По невозможности родителей оплачивать это право. Огромное же большинство несдавших оставалось вообще без среднего образования.
Но, разобравшись кое-как в цифре «одиннадцать», надо было представить себе «плюс». Какой это экзамен, когда нет ни общей программы, ни учебников, — на сообразительность, интеллигентность? На применение знаменитых английских «тестов» — проб ваших мозговых способностей, подобных клиническим пробам вашей крови? А потом, если все «тесты» удачны (хотя показания их так я «е могут зависеть от случайного состояния испытуемого, как и показания крови), — что дальше? Мир «средней школы», открывавшийся перед «сколашип-бой», как именуют в Англии удачливого ученика, был разнообразен до хаоса: новые средние (secondary-modern), в которые никто не хотел идти по причине очень низкого в них уровня преподавания; «независимые» — каких просто нельзя обозреть в их произвольной пестроте; «паблик-скулз»… Но тут, не дав кончить перечисление, память подсказала мне кое-что. На первой русской Политехнической выставке в 1872 году, в разделе школ, эффектно выделяясь даже рядом со школой Швеции, была выставлена показательная английская школа Рэгби, как высший образец среднеобразовательной школы. Лучшая среди образцовых… а наряду с ней хаос, которого нельзя ни генерализировать, ни даже обозреть.
Много лет назад был у нас переведен и напечатан роман Пристли «Дневной свет в субботу». В этом романе были выведены два инженера с неодинаковой судьбой. Один, талантливый и дельный, как-то трагически прошел по страницам книги, в неуспехе, неудачах, нервозности, несчастье; другой, тоже по-своему талантливый, солидно-фундаментально преуспел. Нашему читателю были совершенно понятны оба характера и обе судьбы; но причины их судеб, определившие эти судьбы именно в том, а не в другом направлении, остались за гранями понимания если не всех, то большинства советских людей. Хотя для каждого английского читателя эти причины становились ясными чуть ли не с первых страниц книги. В чем тут дело?
«Дневной свет в субботу», на мой взгляд — лучший из романов Пристли, с исключительной образностью раскрыл сложнейшую проблему, над решением которой вот уже полвека ломают головы тори и лейбористы, — проблему разницы среднего образования.
Первый, незадачливый инженер его романа окончил обычную государственную школу; второй, преуспевший, имел за собой солидный фундамент необычной. У нас эту необычную назвали бы привилегированно-дворянской; но с точки зрения англичанина, называющего свои «необычные» школы «паблик-скулз» (publick-schools), это было бы не совсем верно.
В классовую русскую дореволюционную школу — скажем, в дворянские институты — могли попадать только дворяне, и подчас бедные, за счет государства. В английские «паблик-скулз» (назовем по именам, как это принято в Англии, хотя бы главные из этих школ, составляющие десяток с лишним наиболее знаменитых: Итон, Харроу, Уинчестер, Рэгби…) теоретически или даже юридически (поскольку закон не писан) может отдать своих детей любой англичанин, кто сможет заплатить за свое детище огромную сумму в пятьсот гиней и выше в год. Кроме того, он должен смочь записать в эти вышеназванные средние школы своего ребенка со дня его рождения, как у нас записывали в пушкинские времена дворянских детей в лейб-гвардию, — до такой степени ограничены вакансии и так велика трудность поступления туда. Понятно, что для рабочего и среднего служащего возможность всего этого равносильна нулю.
Но допустим, что счастливчик из рабочего класса, выдающийся «сколашип-бой», попал в первоклассную «паб-лик-скул». Что произойдет? Нынешний английский министр образования, лейборист Антони Крослэнд, пишет в своей основной книге «Будущее социализма»:
«Итонский школьник, даже если он происходит из рабочего класса, выйдет из Итона совсем другим человеком, нежели мальчик, окончивший обыкновенную новую среднюю школу (secondary-modern): он будет отличаться от него своим акцентом, одеждой, манерами, взглядами и всем стилем жизни»[77]. «Акцент, одежда, манеры, взгляды и весь стиль жизни» — это наживные атрибуты понятия «джентльмен», прививаемые, воспитываемые, образовываемые соответствующей школой. Но дело отнюдь не ограничивается внешней разницей. Сын простых людей, обтесанный привилегированной школой в «джентльмена», сделается, по французской поговорке, «более роялистом, чем сам король». Он будет стоять за старые учреждения, за «добрую старую Англию» с не меньшей энергией, нежели аристократы, войдет в консервативную партию тори — словом, сделается опорой английской политики консерваторов.
Старинные, знаменитые английские школы действительно очень хороши — и Рэгби недаром была показательной на нашей выставке 1872 года. Эти школы (их можно назвать термином «фирменные») имеют, как большие поместья лендлордов, свою землю, свои традиции, свои формы одежды, свои особенности, на свежий взгляд нелепые, но освященные давностью лет и свято соблюдаемые. В таких школах лучшие, наиболее эрудированные учителя, небольшое количество учеников на каждого учителя, возможность индивидуального развития каждого из учащихся, выявления его вкусов и дарований; строгий спартанский режим, великолепно поставленные побочные предметы — спорт, музыка; широкий гуманитарный комплекс изучаемых предметов, классические языки. Наконец, та атмосфера «хорошего тона», которую в Англии ценят превыше всего. Разница между такой «паблик-скул» и обыкновенной «секондари-модерн» огромна.
Не менее резко разделено и начальное образование. Элементарная начальная школа (государственная) и такая же частная (прайвит, privete) — это в Англии два мира. В первой сидят на скамьях дети рабочих и небогатого городского люда. Во второй с детских лет начинают обтесываться хозяева страны, тут прививают к детскому лепету соответствующий «акцент», а к детским жестам соответствующие «манеры». Разумеется, в дорогостоящих «прайвит» и материальная обстановка, и педагоги подтянуты к уровню «паблик-скулз». Что до государственных элементарных и большей части новых средних — положение в них, деликатно выражаясь, «оставляет желать много лучшего». Десять лет назад меня пригласили в гости две учительницы городских элементарных школ. Они жили вместе в однокомнатной квартире с газовой конфоркой для варки пищи. Четырехэтажный, очень старый дом имел очень неудобные «удобства». О горячей воде и ваннах не было и помину. Пожилая учительница сказала мне: «А в школе — еще того хуже, дети задыхаются от плохого воздуха, нужен ремонт, а у директора денег нет на ремонт, вообще положение с каждым годом ухудшается, детей ведь все больше, а школ все меньше, во многих даже небезопасно от состояния потолков, лестниц. Новые школы строятся медленно, их мало. Нас, учителей, даже при нехватке школ, всюду тоже не хватает». И это была сущая правда. Сейчас нехватка учителей в Англии исчисляется в десятки тысяч.
Трудно даже представить себе, насколько в этом отношении Англия, страна классического уважения к самому понятию «образованности», «образованного человека», отстала от других стран Запада, хотя бы, например, от маленькой Финляндии с ее прелестными зданиями народных школ, где светлые классы увиты ползучей зеленью, а в помощь преподаваныо есть свои радио- и киноустановки.
Кого же готовят и воспитывают эти необычные «прайвит» и «паблик-скулз»? Если не исключительно привилегированный класс ноблей в строгом смысле, то кого же? На этот вопрос отвечают иногда не классовым, а скорей кастовым определением: «джентльменов». Казалось бы, английское слово «джентльмен» носит такой же классовый характер («дворянин»), как аналогичное ему французское «gentilhomme», жантийом. Однако же между ними есть трудноуловимое, но несомнепное различие. Когда француз говорит: il est un gentilhomme, это значит — он принадлежит к дворянскому сословию. Когда англичанин говорит — «это джентльмен», его слова носят не простой смысл информации, но u некую качественную оценку, присущую отнюдь не происхождению из дворянского класса, а скорей воспитанию и образованию. В романе Жорж Санд «Мопра» выведено, например, семейство буйных, неотесанных, почти неграмотных потомков старинного дворянского рода, ставших бандитами. С французской точки зрения, они, при всех этих качествах, были и остаются gentilhomme’aми, людьми дворянского сословия… Но англичанин никогда не назовет их «джентльменами», — для этого им не хватает соответствующей дикции, манер, воспитания, образования и принятой формы благородства.
Итак, «паблик-скулз» в их первом десятке и приготовительные «прайвит» (частные) — это фабрики джентльменов. Но даже если причислить к нескольким фирменным «паблик-скулз» несколько десятков менее знаменитых и гораздо более скромных, того же, однако, типа, — «grammar schools» (классических школ в основном), да прибавить к этому списку и частные подготовительные, — получится не так уж много по сравнению с общим числом государственных школ. Может ли эта очень небольшая численно часть школ играть какую-нибудь решающую роль в общей жизни страны? Казалось бы — не может. А между тем она играет громадную роль и занимает в английской жизни чуть ли не решающее место.
«Паблик-скулз» и «прайвит» стоят на страже отсталого миросозерцания, отсталых форм жизни. Они поставляют кадры во все руководящие учреждения Англии, правительственные, дипломатические, банковские, инженерно-технические, и тем самым стабилизуют в руководстве страны стойкое сопротивление всяким радикальным переменам.
Но то чтобы оканчивающим «привилегированные» школы отдавалось какое-нибудь юридическое предпочтение. Но когда какой-нибудь трест ищет инженера или открывается вакансия в министерствах, кандидатам, оканчивающим «паблик-скулз», безошибочно гарантируется место. Как-то невольно приходят в память «Поллины» Диккенса из «министерства околичностей»…
Чтоб не быть голословной, сошлюсь на статью О. Тодда, появившуюся в журнале «Нувель обсерватер» в Париже. У нас она была переведена и перепечатана в апреле 1966 года в отделе «Свободный мир, как он есть» нашего журнала «За рубежом». Вот что пишет О. Тодд, английский прадед которого, коммерсант, в анкетной графе «профессия» горделиво писал о себе «джентльмен», а дед окончил Итон:
«Англия — парадоксальная страна. С точки зрения общественных свобод, информации, полиции, она, безусловно, самая буржуазно-демократическая в Западной Европе; в плане народного просвещения Англия остается утонченно-феодальной страной. На вершине социальной и педагогической пирамиды, изолированные в своих неоготических зданиях, среди вековых газонов стоят «паблик-скулз»… В 1942 году комиссия Флеминга установила, что среди восьмисот тридцати епископов, преподавателей университетов, высокопоставленных чиновников, губернаторов доминионов, директоров банков и компаний железных дорог семьдесят шесть процентов — питомцы «паблик-скулз». Причем сорок восемь процентов этих избранных из избранных вышли из двенадцати самых знаменитых «паблик-скулз»… В деловых кругах, в дипломатии, повсюду в верхах продолжают отдавать предпочтение итонцу, не имеющему высшего образования, перед любым обладателем диплома провинциального университета. «Ничего не поделаешь, — шепчут здесь доверительно, — парни из паблик-скулз имеют сноровку, связи»[78].
Лучшее, что есть в Англии, ее коммунистическая и марксистская печать, левые лейбористы, передовое учительство, все прогрессивные умы в литературе и науке уже много лет борются с таким положением вещей в па-родном образовании. Выше я упомянула о том, как был нанесен удар по главному моменту разделения учащихся на два мира — по «одиннадцати плюс». Общеобразовательная «компрехенсив-скул» всячески поддерживается лейбористским правительством. Растет значение и качество многих университетов в крупнейших городах Англии. Когда-то их окрестили, в отличие от Оксбриджа (слитное название колледжей Оксфорда и Кембриджа), презрительной кличкой «кирпичные» (redbrick). Недоверие к этим, более демократическим, университетам еще так велико, что Антони Сампсон в своей «Анатомии Апглии» писал недавно:
«Много мальчиков, окончивших паблик-скулз, скорей прямо из школы войдут в дело (business), поступят на службу или в заграничные университеты, такие, как Мак Гилль, Гренобль или Харвард, чем пойдут в университеты «Редбрик»[79].
Но этому нестерпимому снобизму приходит на смену здоровое стремление быть на уровне требований своей эпохи. Наиболее прогрессивные «доны» — профессора Оксбриджа — охотно идут преподавать в лучшие новые университеты, например на кафедру Брайтонского университета; они встречают там живую аудиторию любознательной молодежи и, по собственному признанию, чувствуют себя «помолодевшими и посвежевшими на десятки лет». Такой процесс обновления школы снизу, уже от самого населения, от преподавательского состава, идет и будет идти, несмотря на неисчислимые препятствия. А препятствий множество. Для радикальной перемены нужны новые хорошие здания, нужны кадры учителей, а денег взять неоткуда, построить школы не на что, учителей пет. Огромную роль играет и английская приверженность к старине. Легко отрезать гнилой сук, по, когда гниль проникла до корня, оперировать ножом трудно. Вот почему радикальные «хирурги», вскрыв рапу школьной проблемы, предпочитают сразу зашить ее, как при метастазах рака, и отпустить больного домой, чем и кончаются почти все заседающие годами комиссии с их попытками реформ.
«Паблик-скулз» в основном в руках местного общества английских графств — оно их финансирует, оно их опекает, — и это «местное общество» (лендлорды, джентри, духовенство, богатые фермеры) любит «высокий тон», любит «публичность» и «частность», в английском понимании этих слов. Здесь на сцене появляется тот невыносимый английский снобизм, который создает атмосферу пресловутого почета вокруг созданных временем привилегий. К сожалению, не только знать, духовенство, богатые люди, но подчас даже и мелкие служащие, даже и некоторые высокооплачиваемые рабочие не прочь сохранить старые школы, чувствуют к ним нечто вроде того, что испытывает дикарь к своему «тотему», — благоговение почти религиозное. Им «лестно», их самолюбие щекочет дума, что сын их «может» окончить именно «паблик-скулз» и даже самые из них главные, «фирменные», прославленные на весь мир, хотя бы эта возможность и равнялась нулю. Нынешний министр просвещения Антони Крослэнд — одна из крупных фигур в нынешнем лейбористском правительстве — окончил (как и многие из его коллег) Оксфорд и в студенческие годы изучал Маркса, был членом оксфордского левого «Лейбор-клуба», настроенного до апреля 1940 года прокоммунистически[80].
Его книга «Будущее социализма» во всем, что касается критики, прекрасно написана. Он понимает, что «национализация английской школы важнее, чем национализация мясной промышленности», а может быть, также и то, что для решения школьной проблемы нужно прекратить отпускать деньги на военные цели и плыть в хвосте атомной политики Америки. Но когда речь у Крослэнда доходит до практических выводов, появляется та самая знакомая нам нотка, которую Ленин называл «соглашательством». Всегда лучше действовать по соглашению, если это только возможно, — пишет Крослэнд[81].
Невероятная пестрота форм и методов всех учебных заведений, противостоящих твердыне старых аристократических школ, убожество и обветшалость государственных школьных зданий, отсутствие денег на их ремонт, нехватка учителей, сентиментальная нежность к старине и, наконец, компромиссная, соглашательская политика правительства, — вот, в общих чертах, главные факторы, тормозящие всякую реальную школьную реформу в Англии в наше время.
2
Из прошлого мы знаем, какую решающую роль в подтачивании всего устаревшего и влиянии на общественное сознание играла литература. Азбукой стали ссылки и на роль великой русской литературы, пробивавшей с сороковых и до шестидесятых годов прошлого века дорогу для падения крепостного права; и на роль французских литературных вождей XVIII века, от Вольтера до энциклопедистов, в подготовке штурма Великой французской революции, опрокинувшей феодализм. Пробойной силой обладали и классики английской литературы, — вряд ли забудется когда-нибудь роль гениальных страниц Диккенса, заставивших очистить одиозные формы частных школ, сиротских приютов, долговых тюрем.
Но как бы внимательно ни просматривать современную английскую художественную прозу, явлений прежней «пробной силы» в ней уже не отыщешь. Тончайший стилист и психолог Соммерсет Моэм явно предпочитал искать свою «натуру» за пределами британского острова. Голсуорси упорно держался в рамках общества «джентльменов». Олдридж выводит своих симпатичных героев-англичан тоже за рубежи, рисуя их деятельность вне дома, на чужбине. Печать какой-то усталой духовной пассивности лежит даже на лучших английских критических романах, любимых у нас; на блеснувшем и потухшем бунте в стакане воды «сердитых молодых людей». Со страниц английских книг не сошел за последние годы в жизнь ни один увлекательный, благородный образ англичанина-борца из простого народа, способного влюбить в себя, повести за собой новые поколения читателей, повлиять на них, перевоспитать общественный вкус, хотя бы подобный «Феликсу Гольту, радикалу» Джордж Эллиот.
Но зато в массовой, дешевой литературе, рассчитанной на миллионные тиражи, в приключенческих, детективных, шпионских романах неизменно, как это ни странно, присутствует некое дыхание Итона. Культ «джентльмена» в его выродившемся, утрированном виде встретит вас там, где вы этого менее всего ожидаете, в образе сыщика, например. Наряду с энергичными типами из плебеев вы там увидите аристократов: лорда Питера у Дороти Сэйерс, Альберта Кампиона у Марджери Аллингэм, любовно описанных снобов и полукретинов с титулами в комических романах Вудхауза. Герои «секретной службы» всегда «мальчики» из Итопа, из Оксбриджа, узнающие друг друга по школьным кличкам («Они едут в Багдад» Агаты Кристи). Примеров можно было бы набрать сотни. И этот культ в известной степени заглатывается массовыми читателями в облатке захватывающих сюжетов и продолжает влиять на тайную снобистскую струнку английского сердца.
Образование и воспитание — прекрасная вещь. Прекрасна и та особенность аристократической Англии, что образованность в человеке ставится не только «па одну йогу» с происхождением, с «голубой» кровью, а подчас и выше. Но тип образования должен отвечать времени.
Мне кажется, итоно-оксфордианский тип вместе с колониальной, барской кличкой «паккэ-сагиб» — pucka sahib — получил свою монополию и свои снобистские черты «акцента, манер и стиля жизни» лишь после того, как Англия продвинулась по пути империализма, бурно расширив свои колонии и гегемонию фунта стерлингов над «братскими» народами — и как бы ногами сошла со своего маленького уютного острова.
Не тогда ли чудесный национальный тип англичанина, полного здравого смысла, юмора, доброты, умения гомерически хохотать, как смеялся Самуэль Джонсон, и в то же время мастерски сдерживать свои рефлексы и не теряться при опасности, — этот тип англичанина-демократа, сохраняющего черты подлинного джентльмена, то есть внутреннего, природного благородства, почти бесследно исчез из литературы?
Хочется верить, что он снова воскреснет в ней, ратуя самим собою, своим реальным бытием за новую, всеобщую и общедоступную систему школьно-университетского образования, за новую, всеобщую и общедоступную социальную воспитанность; за новую глубину знаний, отвечающих духу и требованию времени.
И тогда сами собой то качества снобизма и внешнего «джентльменства», какими втайне гордятся даже и лидеры лейбористов, покажутся в смешном виде, как безнадежно устаревшие и вышедшие из «социальной моды», — а мы, любящие Англию, увидим ее настоящую, и в жизни, и в искусстве, и в социальном идеале.
Лондон, 1965
Из чехословацких писем
I. Живые камни
Можно воображать, что знаешь Прагу, — и ничего в ней не знать. Можно обежать все ее музеи, оглядеть все ее уголки — и не услышать, не увидеть Праги. Десятки альбомов учат понимать ее архитектуру; они вводят вас в контрапункт ее старых черепичных крыш, похожих, если глядеть сверху, с вышки Староместской ратуши, на волнообразные следы морских прибоев в нагроможденных холмах прибрежного песка; останавливают вас на тесном городском ансамбле, где явственно, словно в палеонтологическом разрезе, наслоились друг на друга столетия; они разворачивают перед вами скульптурные фигуры поздней готики и барокко, украшающие город, — во всей напряженной стремительности их движений, резких поворотах плеч, вихрем развевающихся складках плащей и бегущих за вами следом странных, необычайно выразительных улыбках. И все же вы пройдете только предварительную школу грамоты в познанье Праги — только буквы алфавита, а как их складывать, как прочесть по ним слово, полное смысла, может научить лишь встреча с Прагой один на один, с глазу на глаз, — при долгом, многодневном странствовании по камням этого единственного в мире города. Помню, зимой 1915 года пришлось мне бродить неделями по улицам Рима; шла мировая империалистическая война, опа кровно задевала Италию, но яркое фаянсовое небо над Римом, словно промытое тысячелетиями, было спокойно, и город лежал перед глазами в ясной разделенности его прошлого от настоящего. Прошлое было вкраплено в настоящее мертвыми музейными кусками, — и странным показалось бы, переступив в центре города открытый порог Форума Романума, где вас сразу же мертвым хором окружают разбитые, древние камни, куски повалившихся кар-, низов, уцелевшие одинокие колонны, — странным показалось бы, если бы этот мертвенно-серый мрамор обратился к вам с теплой речью современника. Нет, он был мертвым, и монотонная речь гида хоронила его снова и снова. Мне припомнились мои римские странствия в бесконечных счастливых скитаньях по Праге из яркого чувства контраста, потому что мертвых камней в этом тысячелетнем городе не было.
Первое, что захотелось мне в начале знакомства с Прагой, это услышать звуки ее голоса, и я выбрала дли этого наугад, хотя необыкновенно удачно, воскресный дет, Со слуховым аппаратом на ушах и с картой в руке вышла я на улицу. Воскресенье, по словам западноевропейских романистов, самый скучный день на неделе. Сколько пришлось читать мне об этой скуке воскресенья, когда «некуда пойти», кроме обязательной церкви, когда довольствуешься подчас холодной пищей и лишен в города той нервной лихорадки «урбанизма», к какой привык в будни. Прага (и в этом она чуть похожа на Лондон) воскресный день еще соблюдает[82], хотя для удобства пражан, не нарушая, впрочем, тишины на улицах, уже торгуют дежурные магазины. Но как же начинаешь тут понимать благодетельный характер мнимой воскресной «скуки», покой необходимого единственного дня в неделе, когда у городского человека должны отдохнуть нервы!
Дивная тишина стояла на улицах и площадях Праги, тишина, в которой все сразу стало явственно слышно: звонкие, но не шумные голоса немногих играющих ребятишек, оставшихся летом в городе; слабый, чуть тенорковый звон колокола, зовущего к воскресной мессе; стеклянный удар древних астрономических башенных часов (говорящий о затейливой механике эпоха молодости Праги, когда механика была «художеством» вроде ювелирного дела) и выше всего, надо всем, из перламутрового ветреного пражского неба, — свист птичек, которых я долю но могла определить, что они за птички: похожи в полете на ласточек, но не ласточки, потому что сплошь черные и свистят по-особому. Мне говорили: это черные дрозды, но птички не были дроздами. И только Ян Дрда назвал мне их, нежно выговаривая, — «рорэйс», и мы нашли в словаре, что рорэйс — это черные касатки. В обычные дни недели их слышно лишь на закате, когда стихают уличные шумы, и они стаями взмывают в небо, непрерывно кружа и свистя на разные тона, словно купаясь на прощанье в уходящем свете. А в воскресенье свист их, удивительный, умиротворяющий, лился невозбранно над средневековыми двориками Каролинума и крохотной площадью д-ра В. Вацека, над шумной в обычные дни Малостранской, с ее перекрещивающимся движением, — и ни треск мотоциклов, ни рокот автомобилей, с неприятным, хотя и слабым стоном сирен, сейчас не заглушали его. И в этой тишине, пронизанной короткими свистами касаток, с необыкновенной ясностью заговорили камни Праги.
Надо сказать, что Прага, в отличие от тысяч городов, старых и новых, почти не знает штукатурки. Ее здания стоят столетиями, не нуждаясь в ремонте, — так добротно их строили каменщики. Лицо этих зданий хранит без всякого грима глубокие, четкие следы времени, подобно морщинам на старых портретах Деннера: камни сами рассказывают обо всем, что пережито поколениями людей в их стенах. Можно ничего не знать наперед и не иметь никакого спутника-пражанина, а только выйти навстречу этим живым камням — и вас окружат их рассказы, из которых вы почерпнете множество исторических сведений. Вот вы прошли под старинной аркадой на Тынскую площадь, и со стены глядит на вас лицо чешского художника XVII века, а под его барельефом — пронзенная кистью палитра… И вы узнаете, где жили и умерли многие творцы прошлого, запоминаете их лица, обрамленные длинными кудрями, молодые, старые, мрачные, улыбающиеся, как бы продолжающие жить в домах, где сотни лет после них текла и течет жизнь. Вы идете через Малостранскую площадь на концерт во дворец Вальдштейиа, а с каменной старой стены приветствует вас Ян Томашек, замечательный чешский музыкант, о котором хочется сказать не по-русски, а по-чешски: «славный худебный складатель». Он умер и этом доме 3 апреля 1850 года, а для вас оживает сейчас, как оживают изобретатель литографирования Алоиз Зенефельдер на Ритиржской улице или современник Тараса Шевченко, историк и лингвист Павел Шафарик на Карловой площади…
Невозможно перечислить имена людей, с которыми вы знакомитесь, проходя по улицам Праги. Эти портретные мемориальные доски, связанные с местом действия, жизни или смерти исторических деятелей, так близко от вас, что, подняв глаза, вы неминуемо их видите, и они запоминаются вам вместе с городом. Не только пражане — оставляют свой след и гости. Когда представляешь себе, например, угол маленькой Саской улички, куда ты случайно свернул, уже не можешь не вспомнить, что там, в угловом доме, была гостиница, а в ней в мае 1833 года останавливался на два дня Рене Шатобриан… Но чаще, чем эти мемориалы, и еще ближе к вам, почти вровень с вашим ростом, рассказывают камни о самом недавнем прошлом. Вместо барельефов — живые хорошие лица на обыкновенных современных фотографиях; надписи, за которыми слышатся приглушенные слезы близких: «наш милый и любимый», «наша незабвенная», «наш гордый сокол», «наша талантливая…».
На этих местах, возле этих степ, в майских боях 1945 года, в кровавой борьбе с фашистами отдали свою жизнь за свободу родины сотни людей, и не только молодых; вот рядом со студентами, юношами и девушками восемнадцати — двадцати лет, мой однолеток, рождения 1888 года, Эмануэл Пинос, «героически павший за родину». И под каждой надписью короткое, как стихотворенье: «Честь его памяти». Иногда в этих надписях вспоминается прошлое: «Здесь, где в 1927 году находились баррикады, положил свою молодую жизнь на алтарь нашей дорогой родины в мае 1945 года наш горячо любимый Владимир Гешке…» Вы невольно останавливаетесь и не можете не прочесть эти строки о современниках, окропивших своею кровью древние стены города. Возле надписей неизменно висят, чуть колыхаясь от ветра, легкие, выцветшие бумажные цветы, небольшие круглые веночки, оклеенные серебряной бумагой, а то и свежий, только что сорванный букетик ярко-зеленой травы.
Странным кажется, что эти бумажные, хрупкие, как солома, и совсем некрасивые цветы на музейных степах прекраснейших монументальных зданий не производят впечатления безвкусицы, — наоборот, они как-то естественны здесь, к ним быстро привыкаешь и начинаешь искать их, словно страницы в читаемой книге. Только много позднее объяснится вам, почему это так. Сдружившись с голосами пражских камней, привыкнув их слышать и различать, вы не можете не заметить, что Праге удалось избежать двух страшных чудовищ современного города, называемых пятиаршинными словами «архаизация» и «модернизация». Ее спасает от них необыкновенная слитность жизни — непрерывная, сквозь века, единая в букете многих столетий, продолжающая гореть негасимым огнем. Над городом пронеслась когда-то страшная моровая чума, — казалось бы, забыть, вытравить воспоминание о ней, но в городе возносится полный движения и жизни памятник ей, и люди помнят не мор, а победу над мором. Жил в вилл о Бертрамка Моцарт, писавший для «своих пражан, которые понимают его», «Дон-Жуана», — и вилла Бертрамка не только музей. Чудные, живые звуки Моцарта слышатся на концертах, устраиваемых здесь. Признаться, я очень боялась третьего пятиаршинного чудовища — «стилизации», этой вторичной смерти всякого искусства, когда читала афиши всевозможных концертов, как будто задуманных «под старину»: «Романтичный вечер Моцарта» — в саду Вальдштейского дворца; «Поет старая Прага» — в знаменитой пивоварне св. Томаша… Но, побывав на этих вечерах, вы убеждаетесь, что устроители не выдумывают «трюков», не «стилизуют», вообще не создают чего-то искусственного. И когда на островке, окруженном водой, в «заграде» дворца, в темноте, прорезанной неярким лучом прожектора, под звуки «немецких танцев» Моцарта, легко, как призраки, танцуют пастушки́ и пастушки, словно ожившие фарфоровые статуэтки, — вы знаете, что это не стилизация, это живет музыка Моцарта, продолжаясь в своей стихии, и для нее родится здесь новая красота, поддержанная изумительной старой акустикой, всплесками крыл разбуженных лебедей, шелестом травы у воды, — это не в прошлом, это сейчас.
Обычно приезжие бегут смотреть в Праге знаменитую Злату уличку — средневековую улицу ювелиров, и, может быть идя навстречу мировому туризму, городское управление почти превратило ее в «музейный экспонат», переселив оттуда часть живущих. Но именно это и делает, на мой взгляд, Злату уличку наименее характерной для старых кварталов Праги. Попробуйте заблудиться в них на целый день — и вы всюду найдете жизнь, объявления врачей, вывески учреждений, современные товары в крохотных окнах средневековых лавочек. Пройдите, например, по Мелантриховой улице на чудесную и не менее, чем Злата уличка, характерную средневековую Козыо уличку. Здесь каждый узенький дом, стиснутый соседними, — своеобразный музей.
Вот знаменитый портал дома «У двух золотых медвежат» с высеченным над ним старым номером 475. Его узнают по сотням фотографий и рисунков. Но вывеска — обыкновенная вывеска «Краевой ремесленной управы» — не попадает в эти альбомы, а между тем она здесь, среди этой старины, живет и дышит большой, непрекращающейся жизнью чешского мастерства и не кажется тут неуместной, как не кажется кощунством в подворотне «дома с медвежатами», прославленного на весь мир, чугунный кран, которым пользуются, дворик, где работают люди, развешанное белье, чья-то тарелка с едой, метла в углу. Загляните еще во двор старинного домика, на портале которого — таинственные три буквы, проставленные нашим временем: DSZ. А расшифровываются они просто — «Оптовая торговля малыми потребительскими товарами». И дальше — в лабиринте узких уличек, запиравшихся в средние века на ночь большими железными дверями, — Михалской, Главзовой, Гусовой, с их темными от времени, закопченными стенами, с невыразимой красоты фасадами, с подвешенными на углах старинными фонарями, — вы неизменно видите колыхающиеся на окнах занавески, цветочные горшки с холеными растениями, сиамского котенка на карнизе, умывающего лапкой свою черную мордочку, выставленные внизу, в подворотне, герметически закупоренные цистерны с отбросами — словом, жизнь, всегдашнюю жизнь квартирантов музейных домов. И может быть, именно то, что в этих домах, подобных драгоценным произведениям искусства, живут современные люди, строители новой социалистической Чехословакии, и делает их еще драгоценней и прекрасней.
Прага непрерывно строится, в ней множество новых кварталов, и жить в ней, в ее гостиницах удобней и здоровей, чем во многих других европейских столицах. На Народном проспекте весь день была открыта для обозрения выставка «Проект Праги», где вы знакомились с планом — надо прямо сказать, труднейшим — новой застройки и благоустройства Праги, — труднейшим потому, что ведь это — как операция на сердце — требует тончайшего вкуса, умения сочетать старое с новым[83]. По выставленным архитектурным проектам, по главной карте, где решаются вопросы водоснабжения, озеленения, очистки и благоустройства, вы можете видеть, насколько вырастет в будущем жилищный фонд города. Как было бы чудесно, если б городскому управлению удалось разрешить и сложный вопрос санитарии и внутренней отделки этих сказочных домиков, где зрение с детства воспитывается на красоте! До сих пор это обходилось городу чересчур дорого… Старый-престарый чех в засаленной фетровой шляпе и с трубкой в зубах, должно быть уже чей-то прапрадедушка, вышел с газетой на каменную завалинку. Я заговорила с ним, и он отозвался с добродушной хитроватой улыбкой: «В старину люди трудились — не музеи делали. Они рассчитывали на человека, вот и живут люди в их домах. Живут, да и думают: строить бы нам и сейчас так добротно, чтоб через тысячу лет не забыли нас люди и жили-поживали в наших домах!»
Карел Чапек, съездив в Англию, попытался в своих «Английских письмах» объяснить характер англичан приверженностью к традиционному, с одной стороны, и безудержной эксцентричностью — с другой. В характере чехов, мне кажется, нет ни того, ни другого. У них исключительно развито чувство преемственности культуры, того непрерывного движения жизни из прошлого в настоящее, при котором сделанное живет в делающемся, передавая ему свои внутренние соки. На тысячу ладов напоминает чехословацкая культура своему народу об этой преемственности творческого дела поколений. И уваженье к добротной работе предков становится как бы заповедью: делать и свой труд достойным уважения потомков.
1955
II. Дух музыки
Недавно в Москве исполнили знаменитую симфонию Гайдна со свечками — «На прощанье», или, как ее называют чехи, «На разлучение». Московского исполнения я не слышала, но мне довелось пережить, именно пережить, а не только прослушать, эту замечательную вещь в одном из городов Чехословакии. Как известно, Гайдн проделал ею маленькую демонстрацию: он хотел «намекнуть» своему патрону, князю Эстергази, что оркестранты, доведенные сиятельным любителем музыки до полного изнеможения, нуждаются наконец в отдыхе. И Гайдн ввел в последнюю часть неслыханную до него вещь. Тогда играли при свечах. И вот он дал финальной мелодии постепенно сойти на нет, указав в партитуре, чтоб то один, то другой музыкант в оркестре, внезапно вставая, тушил свою свечу, брал свой инструмент и уходил из оркестра, пока не остапутся на сцене два скрипача, уныло доигрывающие свою часть… Замысел был насмешливый и задорный. Но у Гайдна получилось то же самое, что у Сервантеса с Дон-Кихотом, у Диккенса с Пиквиком, — произведение переросло замысел, шутливые элементы оказались поднятыми до трагической высоты, и задуманная музыкантом «маленькая симфоническая демонстрация» выросла перед слушателями в глубокую драму человеческого творчества.
Мы сидели на обычном концерте в небольшом городке; перед нами был обычный оркестр с местным городским дирижером Ренэ Кубинским, знакомым публике по ежедневному дирижированию «легкой музыкой» в городской «колоннаде». Но так высока в Чехословакии культура исполнения, что этот обычный концерт, одно из мероприятий «культурного лета» местного городского управления, превратился для нас в событие.
Выключили электрический свет; зажгли свечи. Пюпитры озарились красноватым неярким кружком короткого луча — ив этом теплом освещении началось знаменитое адажио. Но не голос протестующих от усталости музыкантов послышался в нем. Вот замолк первый из них, и потухла первая свечка; оркестр, казалось, не обеднел; вот вышел второй музыкант, еще одна партия потухла в общем хоре, и нет ей возвращения. Уходит третий, четвертый, все чаще становится движение из оркестра, все глуше оркестр, все темнее вокруг, и при свете последних свечей я вдруг замечаю полоску на щеке у соседа, оставленную упавшей слезой, да и сама плачу, и плачут — безмолвно, с неподвижными лицами — многие; и когда дирижер, беспомощным жестом указывая на потемневший оркестр, где только что замолчала последняя скрипка, прощается с нами, разводя руками, — мы словно от сна пробуждаемся и спрашиваем себя: что это было? Мелодия истаивала в оркестре или современники, каждый в свой час, покидали живой оркестр своего поколения? И редело поколение, пока не осталось двое последних, но им уже нечего сказать, потому что жизнь, творчество жизни — это коллективное дело многих; и его трудно, незачем, невозможно продолжать в одиночку…
Можно, разумеется, объяснить действие этой симфонии совсем по-другому — острым наслаждением от самой красоты, доводящим до слез; пробужденными ею собственными мыслями и образами. Но в тот вечер, наперекор замыслу композитора, мы услышали в его музыке страстный призыв к человечеству: люди, держитесь вместе, не распадайтесь, не убивайте того, что создается множеством усилий, — и мы вышли в темную прохладу ночи, остро ощущая великую объединяющую силу языка музыки.
Вот для того, чтоб понять национальный характер чехословацкой культуры, вклад ее в общую культуру социализма, мне кажется, необходимо ясно представить себе, какое большое место занимает в ней музыка. Обычно, произнося это слово, мы тотчас представляем себе нечто профессиональное: обилие оркестров, хоров, оперные театры, консерватории, имена больших музыкантов. Для Чехословакии с ее высоким музыкальным профессионализмом все это, конечно, верно; больше того, чехословацкий народ не только исполняет и компонирует, но и сам «делает музыку», то есть несколько столетий создает материальное тело музыки, се инструменты, начиная со старинных лютней и рогов XVI века и кончая ультрасовременными электрогитарами. И хотя чисто профессиональной стороной роль музыки в жизни чехословацкого народа отнюдь не исчерпывается, я начну свой рассказ сперва об этой ее стороне.
Попробуйте поездить по городам и местечкам Чехословакии, особенно в центральных и западных областях, и вы не раз услышите из открытых окоп голоса инструментов, на которых не только играют, но которые тут делают своими руками. В маленькой деревушке Люби один из таких создателей материального тела музыки, Антон Коль, словно живьем вышедший из вагнеровских «Мейстерзингеров», высокий, широкоплечий, в рабочем фартуке, показал мне, как создается скрипка: дека из шумавской сосны, спинка из югославского явора, гриф из эбенового дерева, получаемого с Мадагаскара, бока из бразильского бука. В руках у него была полукруглая острая ложечка, с помощью которой он обрабатывал деку. Особенная, невидимая древесная пыльца — аромат драгоценных древесин со всех концов света — стояла в рабочей комнате, как детское дыхание рождающейся скрипки. А когда мы разговорились, он неожиданно понизил голос и таинственно произнес: «Есть такая книга…» Мать его вынесла из другой комнаты, словно Библию, огромную старую книжицу на немецком языке «Мастера скрипок и лютней», и, осторожно переворачивая ее листы, Коль прочел нам имя первого богемского мастера, кто начал делать здесь скрипки, — Фердинанда Плахта.
В местечке Краслице, на фабрике духовых инструментов «Амати», работа происходит уже не на дому, как в Люби, а в цехах, но от работников ее веет все тем же духом старинного мастерства, и последний ее цех, настроечный, представлен только одним-единственным работником, душой всех изготовляемых инструментов, от гиганта трубы, генерал-баса, и до тоненькой флейты — пикколо. Это молодой белокурый парень, Иозеф Ярош, он сидит в окружении множества изделий, притекающих к нему из всех цехов, и должен каждое опробовать, настроить, «поставить», развязать ему голос. Мы слушали, как он извлекал могучие басы из трубы-гиганта, приятные баритональные звуки из трубы поменьше, а потом, объявив, что сейчас нам сыграет «Волга-Волга», вдруг начал русскую песню о Степане Разине и персидской княжне… Так вот, Иозеф Ярош — не только отличный производственник и настройщик, но и создатель своего «классного», как говорят на фабрике, оркестра, недавно с успехом гастролировавшего в Болгарии.
Почти каждое производство, каждый городок или местечко в Чехословакии имеют свои постоянные оркестры, своих местных дирижеров и солистов, свои замечательные хоры. И если в музыкальном отделении Пражского национального музея вы встречаете старинные лютни и скрипки из Праги, виолончели из Брно, виолы д’амур из Хомутова, клавикорды из Иозефова, пирамидальный клавир из Градец-Кралова, рояль из Индржихува Градеца, скрипки из Оломоуца, — то на городских афишах вам встречаются оркестры и хоры из всех чехословацких городов, объезжающие, гастролируя, всю республику.
Впрочем, слово «гастролируя» как-то не подходит к пим. Даже и заезжая на день-два, они ведут себя не как гастролеры, а скорее как добрые и щедрые друзья. Как-то на одном из курортов я отправилась в послеобеденный час в парк послушать ежедневный концерт, но увидела, что там, возле эстрады, появилось новое возвышение, а возле него приставлены ступеньки. И после двух поморов обычной программы появился седой, крупный, известный по фотографиям композитор и создатель хора моравских учительниц, Бржетислав Бакала, а на приступочки взошли в обычных своих одеждах и сами моравские учительницы. Этот коллектив, один из лучших в Чехословакии, должен был дать на курорте платный вечерний концерт. Но, не дожидаясь его, Бакала захотел дружески поделиться музыкой с отдыхающими, потому что исполнять ее — такое же человеческое наслаждение, как и слушать. И хотя эта щедрость могла помешать вечерней продаже билетов и поубавить число платных слушателей, он дал нам насладиться исключительным по красоте пением, ясной дикцией, доносившей до нас каждое слово, и редко исполняющимися номерами («Десять хоров» Йозефа Сука, «Моравские двоегласия» Дворжака).
Для него, как, впрочем, и для хора и для слушателей, это совместное большое наслажденье музыкой было ужо чем-то выходившим за рамки профессионализма, чем-то связанным с самой жизнью. И такой выход музыки за пределы только профессии отнюдь не случаен для чехословацкого народа; он имеет большую историческую давность.
В середине прошлого века по Чехословакии путешествовал русский любитель и знаток музыки Александр Дмитриевич Улыбышев. В своем трехтомном труде о Моцарте он так вспоминает об этом: «Проезжая через Чехию, я на постоялых дворах встречал крестьян, игравших гайдновские квартеты, и этих дилетантов в блузах можно было слушать с удовольствием. Я гордился тем, что приходился нм почти соотечественником: они, как и я, были племени славянского». А за сто лет до Улыбышева, в XVIII столетни, такую же поездку, но только более систематическую, сделал английский музыковед Чарльз Бэрни и тоже записал в своей книге («Современное положение музыки в Германии»): «Я часто слышал, что чешский народ — наиболее музыкальный народ не только в Германии, но и во всей Европе; а один выдающийся немецкий композитор, проживающий в настоящее время в Лондоне, как-то мне сказал, что своею музыкальностью чехи превзошли бы и итальянцев, если бы они пользовались такими же выгодами, как и последние. Я проехал все чешское королевство с юга на север и повсюду расспрашивал, как обучаются музыке простые чешские люди. Я узнал, что дети обоего пола обучаются музыке не только в больших городах, но и в каждой деревне, одновременно с обучением грамоте в школах».
Это уже двухсотлетняя традиция. Но пойдем еще дальше, в глубь времени. На стенке Бетлемской капеллы, где Ян Гус гневно обличал католическую церковь и сильных мира сего, бросается вам в глаза крупная нотная запись знаменитого гуситского гимна. С этим хоралом чехи в XV веке шли сражаться за свою независимость. И эти хоралы и песни еще живут не только в музейных записях. На днях я получила в подарок из Демократической Республики Германии от писателя Ф. Вейскопфа его последнюю «Книгу анекдотов» — сборник талантливых, остро разящих фашизм документальных новелл из действительной жизни последних лет. Там он приводит известный случай, как «ходы», чехи, живущие в пограничных с Германией деревнях, сопротивляясь фашистским оккупантам, шли против гитлеровских солдат с пением древнего гуситского гимна… Замечательно, что даже и не у себя на родине чехословацкий народ делает свою музыку спутницей и помощницей в боях, — так создай был Витом Неедлы чехословацкий оркестр на советской земле, шедший сражаться за родину в бригаде генерала Свободы.
Когда ранним утром встает над деревнями и городами Чехословакии первый звук — позывные радио, то эти позывные повторяют музыкальную фразу из симфонического цикла Сметаны «Моя родина»; когда раздаются на торжествах звуки чехословацкого государственного гимна, то это звучит музыка знаменитой арии на «Фидловачки» Франтишка Шкроупа. И недаром крупнейший ученый Чехословакии, покойный академик Зденек Неедлы, был одновременно историком и музыковедом. Он воскрешал этнографическое прошлое своего народа — и писал многотомный труд о Бедржихе Сметане; руководил современной чехословацкой наукой — и трудился над исследованием гуситского песнопения.
Но все эти примеры, говорящие о музыкальной одаренности и любви к музыке чехословацкого народа, лежат, что называется, на виду у каждого. Между тем другая их сторона, очень важная и интересная для нас, мало кому известна. Я говорю о характере и системе музыкального воспитания чехословаков, трехсотлетние традиции которого можно проследить вглубь до отца современной педагогики, великого чешского мыслителя Яна Амоса Коменского.
Вводя музыку рядом с математикой как обязательный учебный предмет во все четыре класса своей «Пансофической школы», Ян Амос Коменский писал: «В древности было мудрое правило, чтобы юношество… начинало с изучения числа и меры и предварительно упражнялось в этом… Поэтому при поступлении детей в школу… мы с самого начала ставим преддверие к божественной премудрости, чтобы вместе с буквами дети учились также писать, выговаривать и понимать числа… Из геометрии мы не даем им ничего, — мы только заставляем их рисовать точку и линию; из музыки — скалу тонов и ключей вместе с сольфеджиями. Ибо нельзя допустить, чтобы питомцы муз были несведущи в музыке; потому-то некогда Фемистокл, оттолкнувший лиру, считался необразованным человеком»[84].
Обширное педагогическое наследие Яна Амоса Коменского, его идеи о неразрывности воспитания и образования, о наглядном методе обучения, о повторном, но все более и более углубленном прохождении одних и тех же научных циклов на низшей, средней и высшей ступени образования, наконец, его требование включить музыку как обязательный предмет в школьную программу оказали громадное влияние на педагогическую мысль всего человечества. На родине Коменского, в Чехословакии, следы его педагогических идей можно найти всюду — и в школах, и в методике музейного дела. Воскрешенные из забвения новым общественным строем, очищенные в своем передовом, материалистическом существе от средневековой скорлупки, в которую их облек XVII век, эти идеи помогают сейчас чехословацкому народу в социалистической перестройке культуры. Ярко сказались они и на музыкальном образовании.
Знает ли кто-нибудь из наших музыкантов и педагогов, что центральная фигура культурного фронта, народный учитель, в Чехословакии должен быть музыкально образованным человеком? В педагогические училища, готовящие народных учителей, не принимаются в Чехословакии люди, лишенные музыкального слуха. Развернув программу этих педагогических училищ, помеченную 1954 годом, мы видим, что будущий педагог среди прочих наук в обязательном порядке все четыре года обучается истории, теории и методике музыки вместе с игрой на каком-нибудь музыкальном инструменте.
Вот тут мы уже совсем вышли из узкопрофессионального понимания музыки. Читатель может воскликнуть: но позвольте, и мы во всех наших школах имеем хоровое пение, и мы выделяем, выдвигаем, обучаем одаренных детей, создавая из них музыкантов-профессионалов, но для чего идти дальше? В чем смысл и цель такого расширенного понимания музыки?
Эти «смысл и цель» суховато, но совершенно точно и по-деловому изложены в упомянутой мною государственной учебной программе. Когда народ столетиями обучается с детских лет музыке, любит ее и привык к ней, как к своему второму языку, вполне правомерно извлечь некоторые общие выводы из этого трехвекового опыта. И мне кажется, руководители народного образования в Чехословакии дают нам заглянуть в эти выводы, когда они пишут во введении к программе педагогических училищ: «Теоретическое знание музыки не является самоцелью, — оно проводится в тесной связи с практикой, а потому помогает полней переживать музыку, лучше понимать и воспроизводить ее». А пониманье и переживанье музыки, в свою очередь, помогают выработке не только художественного вкуса, но и лучших черт народного характера, то есть развивают в народе «дух коллективности, дух дружбы и сознательную дисциплину», а тем самым готовят его и к труду и к обороне.
Можно не согласиться с таким широким пониманием музыки. Но тот, кто привык говорить на этом втором языке человечества, кто умеет слушать и любить его, испытывать его умиротворяющую силу в тяжелые минуты жизни, его вдохновляющую власть в минуты творческого подъема, его страстный призыв, сливавший тысячи отдельных воль в одну единую волю во время народных восстаний, его благословенный ритм, помогающий монотонному рабочему движению у станка и на стройке, легкому, рассчитанному движенью на спортивной площадке, крылатому движению души, когда она поет свою радость или свою боль, не выражаемые в понятиях слабой человеческой речи, — тот будет горячо стоять за расширение роли музыки в воспитании и образовании граждан нового мира.
1955
III. Ленин в Опаве
Советские путешественники редко когда попадают в маленький город, почти совершенно разрушенный фашистами в 1945 году, а сейчас восстановленный и такой же чинный и строгий в своей дворцовой белизне, каким был лет сто назад. Но если б они попали сюда, их ждала бы большая неожиданность.
Город этот, Опава, в тридцати километрах от Остравы, имеет свою большую историю. Здесь заседал когда-то реакционный меттерниховский конгресс, и сюда в 1820 году приезжал дипломатическим курьером Петр Яковлевич Чаадаев, останавливавшийся во дворце Блюхера. Чтоб лучше почувствовать в Чехословакии старое прошлое, надо знать немецкие названия чешских городов, и тогда сразу станет ясно, на какой исторической почве вы стоите, — скромный Славков превратится в знаменитый Аустерлиц Наполеона, привычный Оломоуц в Ольмюц, а тихая беленькая Опава — в консервативное гнездо немецкой дипломатии Троппау. Здесь, в восьми километрах от самого городка, стоял и стоит до сих пор дворец князей Лихновских, меценатов и самодуров. Оттуда бежал пешком оскорбленный Бетховен, не пожелавший играть перед французскими офицерами, как заставлял его князь. Он бежал под дождем, со всклоченными мокрыми кудрями над львиной головой, прижимая к груди рукопись своей «Аппассионаты», которая хранится сейчас в парижском Лувре. А на угловом двухэтажном доме, где он жил в Опаве, черная доска с золотой надписью: «В этом доме жил в последних числах сентября года 1806 Людвиг ван Бетховен, величайший мастер музыкального классицизма…»
Но пройдем немного дальше, по тихим зеленым улицам, и остановимся на Отицкой, перед домом № 10. Здесь тоже прибита памятная доска, и на ней написано:
…В этом доме приветствовали жители Опавы в лето 1912 Владимира Ильича Ленина.
Доска эта, установленная в день тридцатилетия Октябрьской революции, 7 ноября 1947 года, народным выбором Опавы, должна поразить многих советских людей, как открытие. В летописи главных дат жизни Ленина в III и IV издании его Сочинений нет посещения им Опавы, или, вернее, по-тогдашнему Троппау. В письмах его к родным об этом тоже ничего не сказано. С 18 по 30 января 1912 года Ильич, как известно, был в Праге на Пражской конференции, в феврале ездил в Лейпциг и Берлин, с конца марта перебрался в Париж, 13 июня прочитал в зале Альказар реферат на тему «Революционный подъем российского пролетариата». Из Парижа он переселился летом в Краков. Но нигде ни единого слова о Троппау. Я запросила многих товарищей коммунистов в Праге — они тоже ничего не знали и удивились не меньше меня.
Был или нет Ленин в Опаве — Троппау? И если был, то по какому поводу и что происходило в доме на Отицкой улице, где в ту пору помещался так называемый «Народный дом»?
Начнем с того, что как-то ускользает от внимания многих из нас, проходивших и проходящих снова и снова через все виды политпросвещения. Разве знаем мы, например, что Ленин в двадцатых годах уже сносно мог читать чешские газеты, а когда Антонин Запотоцкий был у пего с чехословацкой делегацией летом 1920 года, то записал в своих «Воспоминаниях»: «Прежде всего оказалось, что он понимает чешскую речь»[85].
Ленин понимал чешскую речь, потому что уже с 1900 года, со времени своего пребывания в Мюнхене, общался с чехами. В письме к Марии Ильиничне от 6 ноября (нового стиля) 1900 года он пишет, например: «Я живу по-старому, занимаюсь мало-мало языками, обмениваюсь с одним чехом в уроках немецкого и русского языка (вернее, разговор, а не уроки), посещаю библиотеку»[86]. А в письме к матери от 16 января 1901 года из того же Мюнхена, говоря о немцах, он неизменно упоминает и чехов.
Ведь это очень показательный факт, что, живя в ультранемецком, баварском Мюнхене, — а не в Вене, например, — Ленин вращается не только в немецкой, но и в чешской среде. Когда понадобился Ильичу конспиративный адрес для писем и посылок, он выбрал Прагу и пражского рабочего, Франтишка Модрачка. Нет сомнения, что уроки немецкого языка у чеха («вернее, разговор, а не уроки») затрагивали не только немецкий язык, но и чешский. Об этом говорит его письмо к матери уже от 2 марта 1901 года из того же Мюнхена, письмо, над которым очень следовало бы задуматься языковедам.
Ильич пишет матери: «Жалею, не занимался я чешским языком. Интересно, очень близко к польскому, масса старинных русских слов. Я недавно уезжал, и, по возвращении в Прагу, особенно бросается в глаза ее «славянский» характер, фамилии на «чик», «чек» и пр., словечки вроде «льзя», «лекарня» и пр., пр.»[87]. Так как из соображений конспирации Ленин писал своим через Прагу и выдавал себя живущим в ней, он вставил в письмо фразу «по возвращении в Прагу». На самом деле впечатление от славянского характера Праги могло получиться у него от краткого наезда в Прагу из Мюнхена и, конечно, от разговоров со своим учителем-чехом. В этом мельком брошенном замечании о чешском языке есть гениальная ленинская глубина. Много раз принимаясь за чешский язык, испытывала я почти отчаяние — у меня не было ключа к нему. Чтоб начать по-настоящему постигать чужой язык, надо как-то найти в нем зацепку, где встречаются народный жест и характер, история и география, особенности звучания речи с особенностями мышления и чувствования, — словом, тот секрет национального языка, которым отличается он от всех других. Этого секрета в чешском я никак открыть не могла, и он казался мне сложнейшим конгломератом наивности и книжной учености. И вдруг — ясное ленинское указание: «масса старинных русских слов».
Старинные русские слова — это хорошо, это истоки родства с нами чешского языка. А мягкие «чик» и «чек», «льзя» и «ня» (лекарня), подмеченные Лениным, — это южнославянские, украинские смягчения, придающие чешскому языку его особую теплоту.
Вернемся, однако же, к поставленному выше вопросу: был или нет Владимир Ильич в Опаве — Троппау?
Местные материалы об этом скудны и противоречивы. В Опаве работает Силезский научно-исследовательский институт Чехословацкой Академии наук. Он издает уже много лет научный журнал «Силезский сборник», где в № 4 за 1948 год на странице 340 занимающийся этим вопросом Виктор Фицек напечатал первое подробное (я наиболее правдоподобное) сообщение о том, что произошло в «Народном доме» на Отицкой улице.
В июне 1912 года в Опаву тайно съехались русские социал-демократы, в основном меньшевики, — как бы на съезд горняков. Об этом с опавскими социалистами заранее списался из Вепы Виктор Адлер, и в Опаве было заготовлено пятьдесят рабочих книжек остравских горняков для того, чтобы делегаты могли прописаться в гостиницах. Немецкий социал-демократ антифашист Стефан Титц, сам участник съезда, писал об этом подробно в двух номерах газеты «Фолькспрессе» в 1921 или 1922 году, но и газета, и все официальные документы, и списки делегатов вместе с другими архивами были забраны и уничтожены гестапо. Вот почему опавским коммунистам приходится сейчас полагаться на старческую память оставшихся в живых участников, и вот почему в их воспоминаниях встречаются неопределенные даты, наивности изложения, крупные противоречия.
Очевидец съезда, Карел Шиндлер, точно называет 1912 год, конец июня — день Петра и Павла; другой очевидец, Иозеф Гулл, настаивает на 1908 годе; не забудем при этом, что очевидцам было по девяносто лет! Но все сообщения сходятся на том, что среди участников тайного «съезда» (верней — совещания) был Ленин. Твердо называется и время — среда и четверг последней педели июня, — когда он присутствовал на совещании.
В сообщении Виктора Фицка, кроме интересных деталей конспирации (делегаты узнавали друг друга на вокзале по белой повязке на левом рукаве, были одеты в одежду рабочих, были размещены в гостиницах «У белой розы» и «У красного рака» на Краковской улице и т. п.), очень толково излагается содержание встречи. Председательствовал на ной «русский эмигрант П. Б. Аксельрод», первым выступил с рефератом Троцкий; делегаты из русской Польши (их было большинство) говорили о полной автономии своей родины и о будущем строе России как федерации республик по типу Швейцарии. Острый конфликт вспыхнул между Лениным и Троцким «из-за разницы взглядов на проведение русской революции» (pro rozdilný názor na provedeni ruské revoluce)[88].
В рассказах о характере совещания и расхождениях на нем сходятся, при всей элементарности их трактовок, все очевидцы, давшие свои «показания» в разное время — в годы 1947, 1951, 1957.
Конечно, было бы интересно дать полный перевод статьи Виктора Фицка, хотя бы потому, что ведь материалы Силезского института неизвестны у нас, никем еще по проверялись и не оспаривались, ходят по рукам читателей как достоверные, — а доска в память пребывания Ленина в Опаве остается на доме № 10. Но в то же время эти материалы, хотя никем не оспариваемые и критически не изучаемые, совершенно неизвестны даже пишущим о Ленине чехословацким коммунистам и не используются ими в их работе. Так, в Братиславе только что, к девяностолетию со дня рождения Ленина, вышла на словацком языке книжка Самуэля Бакоша «В. И. Ленин и чехословацкое рабочее движение». Получив ее от автора и тут же, при нем, проглядев, я спросила, почему он ни словом не упоминает о посещении Лениным Опавы. Бакош изумился — он ничего не знал об этом, так же как не знали и работники превосходного музея Ленина в Братиславе.
Попробуем — сквозь все наивности приведенных мною силезских документов — представить себе, что же в действительности могло произойти в Опаве. Пражская конференция, в январе 1912 года давшая победу большевикам, не закончила, а резко обострила борьбу между ленинцами и ликвидаторами всех типов и толков. Бешено боролся, сидя в Вене, Троцкий, он имел в Австрии почву под ногами и сильных приверженцев. И Владимир Ильич весь 1912 год без устали сражался с ним в печати, устных выступлениях, письмами в редакции. Переехав из Парижа в Краков, он легко мог съездить в Троппау, где собралась явно ликвидаторская группа с Троцким-докладчиком и Аксельродом-председателем. Ленину иптересны были участники-чехи, особенно рабочие, такие, как Шиндлер, с гордостью рассказывающий в воспоминаниях, как Ленин «подошел ко мне, подал мне руку и млувил со мною»[89]. Опава — один из эпизодов этой борьбы Ленина против ликвидаторства, против разлагающего влияния Троцкого, против предателей рабочего класса, когда Ильич в «меньшинстве» — а вернее, почти в полном одиночестве — чувствует себя не побежденным, а победителем, потому что будущее — за пего. И, вернувшись из Опавы, он пишет в июле в редакцию «Правды» письмо о Троцком, разоблачающее его «как гнусного лжеца и кляузника»[90], шлет туда же заметку «Ответ ликвидаторам» и требует от редакции, чтобы она вела более решительную борьбу с ними на выборах в Четвертую думу, отправляет письмо в редакцию «Невской звезды», осуждая ее «за боязнь полемики с ликвидаторами»[91], резко выступает против Аксельрода… Весь страстный напор его полемики направлен в одну точку, удары — один за другим — обрушиваются на одну и ту же мишень.
В свете этой борьбы, выковавшей для будущего человечества великую партию коммунистов-ленинцев, заезд Ильича в Троппау становится одной из страничек его биографии, которую следует изучить и включить в летопись его дней. Нам бесконечно дорого в этом эпизоде не только неутомимое мужество Ленина-борца, но и отношение к нему чехов-рабочих, политически еще не очень сознательных, еще скованных мещанскими путами правого европейского социал-демократизма, еще заражавшихся краснобайством Троцкого и мнимой ученостью Аксельрода, но уже классовым чутьем угадывавших в Ленине настоящего, своего вожака и сердцем тянувшихся к нему. Дорого нам и то, что на этом совещании наш Ильич, подобно другим делегатам, мог быть прописан по рабочей книжке горняка, а ведь горняки в тогдашней Чехословакии были революционным отрядом рабочих и незадолго до упоминаемого совещания провели апрельскую забастовку (2 апреля 1912 года).
1960
IV. Отдохновение (Марианске Лазне)
В словаре Ушакова «отдохновение» считается словом устаревшим и книжным. Но есть в нем какое-то звучание, нечто двойственное, как бы сложившееся из двух в высшей степени современных и устарению не подлежащих слов — из «отдыха» и «вдохновения». Мне кажется, для нас, советских людей, отдыхать — значит давать усталому мозгу, утомившимся мускулам, натруженному телу, истощенной нервной системе то постепенное наполнение или воспоминание, тот набирающийся снова источник силы, ту творческую потенцию, от которой потом опять возродится счастливая человеческая способность вдохновенного труда. И если баричу, лентяю, лежебоке или развинченному наслаждениями и бездельем сыну Запада предложить «отдохновение», то это действительно прозвучит и книжно, и архаично, и, главное, немного сатирически. Но мне хотелось много, много раз произнести и написать для нас это слово, когда я очутилась в одном из самых пленительных мест на земле, называющемся по-чешски «Марьинские Лазпи», панны Марии.
Свыше ста лет назад Гончаров пережил тяжелую травму — любимая им женщина отказала ему. Почти в отчаянии, душевно и физически истерзанный, приехал он на богемский курорт, где люди аккуратно пьют водичку, выдерживают строгий режим и совершают размеренные прогулки. И тут что-то случилось с ним. На этом курорте, «Марьиных ваннах», или Мариенбаде, как он в те времена именовался, — его, как пламя, охватило вдохновение. Настолько сильно было это вдохновение, что он сравнил его в письме к другу с «бешенством». Коридорная девушка и впрямь подумала, что русский гость «взбесился»: не ест, не пьет, как приклеился к письменному столу, вскакивает от него весь всклокоченный, бегает по комнате, вместо размеренной прогулки возле источников, — и пишет, пишет, пишет… Но Гончаров не только писал, он и обегал все окрестные горы, часами пропадал на луговинах и горных склонах, окунаясь в душистый воздух, полный запаха скошенных трав, выжатой солнцем испарины леса: «Я приехал сюда 21 июня нашего стиля, а сегодня 29 июля, у меня закончена первая часть «Обломова», написана вся вторая часть и довольно много третьей… Неестественно покажется, как это в месяц кончил человек то, чего не мог кончить в года? На это отвечу, что, если б не было годов, не написалось бы в месяц ничего»[92].
Сам Гончаров, как и все последующие поколения литературоведов, приписывает это почти мгновенное «излияние» одного из крупнейших произведений великой русской литературы на бумагу результатом прежних многолетних наблюдений, раздумий и трудов над «Обломовым». Литературоведы, кроме того, наблюдения эти сводят к изучению тогдашней русской действительности, к собиранию черт и красок обломовщины из быта помещиков и чиновничества. Разумеется, все это так. И, однако, — все это не полностью так. Нужна была, во-первых, огромная душевная травма, чтоб создать толчок к переключению, к творческой отдаче, когда лично пережитое начинает умирать смертью зерна и прорастает, как зерно, для людей, давая плод. Во-вторых, эта личная травма, заставившая творца в Гончарове взглянуть на себя глазами той, кого он полюбил и потерял, — прибавила к наблюдениям черт обломовщины во внешнем мире суровую критическую., самооценку, открытие черт обломовщины в собственном внутреннем мире. Для подлинного художника создание обобщенного образа не может не быть отчасти и актом самопознания, нахождения в себе самом элементов создаваемого характера. И пережитое страданье прибавило к уже богатой внешними красками палитре писателя эту необходимую «субъективную» внутреннюю краску.
Но и этого всего могло бы не дохватить, не дотянуть до акта самоотдачи, до минуты родов произведенья, если б не особенность места, где очутился Гончаров, отдохновенного уголка природы, сочетавшего в себе для человека отдых и вдохновение.
Почти вся группа замечательных курортов Богемии, от Карловых Вар до Марьянских Лазией (я не хочу перечислять тут все остальные курорты), очень счастливо расположилась на огромном участке уранового месторождения. Убивающий жизнь, когда он сконцентрированно служит для военных целей, уран дышит здесь, под чудесным земным покровом лесистых гор, плодоносных равнин, целебных горячих источников, пробивающихся из-под земли, и странных теплых рек, вскармливающих тучных рыб, — уран дышит здесь именно той эманацией, какая нужна человеку для повышения его жизнеощущаемости, оживления обмена веществ, подъема настроения. После первой же недели пребыванья на этих курортах «кривая» человеческого самочувствия начинает неуклонно расти вверх, и отдыхающий без видимой причины вдруг становится непонятно для себя не только особо жизнерадостным, но и словно талантом наделяется, каким вряд ли раньше отличался: большей степенью остроумия, большей степенью привлекательности для окружающих — и сам вдруг остро замечает чужую привлекательность, охватывается ею. Эманацию урановой земли возводит в еще более высокую степень воздух этих нагорий, целительно насыщенный очень большим количеством кислорода. Именно на богемских курортах, с древнейших времен привлекавших к себе людей творческого труда, вы в полной мере начинаете понимать великое значение для человека окружающего нас воздуха, которым он дышит.
Да, целебные источники; да, богатырь, рвущийся под самый купол гигантского стеклянного колпака, «Шпрудель» в Карловых Варах, промывающий тысячам страдальцев печень и желчный пузырь; да, знаменитый источник «Крестовый», излечивающий всякие катары и гастриты, источник «Рудольф», помогающий больным почками, — в Марьянских Лазнях… Все это, конечно, могучие целебные факторы. Но у нас, в нашем Союзе, есть и знаменитые воды Трускавца для почечников, Джермук — для больных печенью, Ессентуки — для болезней желудка, нарзан — для сердечников. И когда наше Министерство здравоохранения отказывает нам в путевках, скажем, в Марьянские Лазни, ссылаясь на то, что у нас дома есть «аналогичные по составу минеральные источники», оно, разумеется, право. Но, к сожалению, нет у нас на курортах той одновременной конфигурации свойств и особенностей земли, земного покрова, уровня над морем, рельефа и расположения гор по направлению к четырем сторонам света и, как результат многих и многих слагаемых, — такого же целительного, поднимающего творческие силы человека, помогающего ему успешно воспринять лечебные факторы и полностью обновить себя — воздуха, какой характерен для чехословацкой группы. Воздух — это главное лекарство, возвращающее нам силы и молодость, дающее долголетие, приводящее к накоплению запасов энергии и творческой ее отдаче.
Но надо признать, что взгляд очень большой части человечества на «воздух» более чем безграмотен. Воздух не продается, не покупается, не котируется на бирже. Его не вешают, не меряют на аршины, не кладут на сберкнижку. Его не ценят. Да, его не ценят, потому что, если б ценили его, не делали бы множества преступных вещей, какие творятся на каждом шагу. Попробуйте посидеть в гостях, где вся семья курит, или на собрании, где висит синий дым, — ваше платье пропитается табаком, это еще полбеды, но представьте себе зримо, как будут пропитаны этим табаком ваши легкие, горло, глотка, если дым впитался даже в одежду. Одежда нейтральна, она не дышит, а вы вдыхаете табачный дым, вы поглощаете его активно. Если б понимали цену чистого воздуха, не планировали бы заводов без очистительных устройств и дымоуловителей над трубами; изобрели бы газоуловители на автомобилях, дымоуловители на паровозах. Если б знали полную стоимость чистого воздуха, не увеличивали бы безмерно строительство городов и не дозволяли бы чудовищно увеличивать число их населения, считая вдобавок эту растущую цифру за признак прогресса. Мне рассказали как-то в Италии, что появилось странное общество энтузиастов, предложившее разукрупнять столицы и прикреплять население деревень и маленьких городков к «месту жительства», а также объявить соревнование городов на полный «отказ от куренья», чтоб появились целые города для некурящих, как бывают вагоны. Не знаю о судьбе этих утопических энтузиастов. Но в том, что я пишу о драгоценности чистого воздуха для человека, не хватает еще одного, самого главного слагаемого.
Мне могут ответить сотнями писем со всех концов нашего необъятного Союза, полного красот природы, непроходимых лесов, некошеных лугов, неведомых троп, о том, какие воздушные волны чистых ароматов имеются в любом из его живописных уголков. И я заранее отвечу, что не буду этого оспаривать, но говорю об особой исключительно счастливой конфигурации слагаемых, где дыхание урана вливается в обилие кислорода, — конфигурации, отличающей воздух упомянутых мной чехословацких курортов, в частности жемчужины их — Марьянских Лазней. О каком последнем слагаемом, делающем воздух над этим курортом почти совершенным, заговорила я выше? Об участии человека в создании этого воздуха, то есть о вложенном в его совершенствование большом человеческом труде.
Во второй части «Фауста» Гёте говорит, что высшим мгновеньем счастья для человека является преобразование природы на пользу человеческого общества:
До гор болото, воздух заражая, Стоит, весь труд испортить угрожая. Прочь отвести гнилой воды застой — Вот высший и последний подвиг мой!Исследователи и комментаторы положили немало сил, чтоб установить, какие исторические факты вдохновили Гёте на этот завершающий «Фауста» монолог о преобразовании природы. Писалось даже о том, что Гёте находился под впечатлением гения Петра Первого, воздвигнувшего свой Петербург на осушенных финских болотах. Но досужим домыслом будет и предположение (мне оно кажется наиболее вероятным), что последнее звено «Фауста» родилось у Гёте в его любимом Мариенбаде, где он пережил и последнюю любовь, и могучий взлет вдохновения. Вся история Мариенбада — это почти сказка о гигантском человеческом труде, создавшем рай на месте жуткой глухомани. В ее лесных дебрях не было дорог, драгоценные минеральные источники превращали землю в трясину, заболачивали лужайки. Понадобилось полтора столетия неустанного человеческого труда, чтоб превратит!. эту дикую глушь, с ее сыростью, полумраком, болотистыми испарениями, в целебный курорт Мариенбад. На заре прошлого века появился работник очень скромной профессии, оставивший после себя славу гениального преобразователя природы. До него богатейшая земля с ее щедрыми дарами только отравляла воздух над собой. Он превратил эту дикую землю в фабрику необыкновенного, единственного в Европе, целебного для человека воздуха. То был современник и знакомец Гёте, чех-садовод Вацлав Скальник. Он отвел излишки воды в каналы и чудесные маленькие пруды, укрепил землю дренажем, распланировал на десятки километров парк — но какой парк! Словно книжку с картинками листаешь и наглядеться не можешь, когда идешь и идешь по бесконечным аллеям этого нескончаемого райского сада, где великолепные цветные газоны лежат сменою ярких пятен, чередуясь с кущами рощиц; где извилины аллей то поднимаются по склонам, то сбегают вниз, а широкие полянки сменяются темно-зеленым густым бархатом леса; и, насыщая глаза сменою видов, начинаешь чувствовать, что тут не просто опытная рука садовода. Земля всем ее благоустройством — сменой ее рельефов, полянками и густыми кущами дерев — аккумулирует и гонит на вас, обвевает лицо ваше, мягко струит вам в легкие чистую, ароматную, густую, как вино, волну свежего кислорода, волну воздуха, настоянного на древесных соках, на эманации подземной руды, на запахе тысяч и тысяч цветов. Природа не только производит ежечасно и ежеминутно вместе с солнцем и ветром эту живительную волну, она гонит и перегоняет ее, как в змеевике, по всем бесконечным извилинам парка. Это создал своим непрерывным трудом и умным воображением необыкновенный «инженер растительного царства», плановик мира цветов и дерев, архитектор земных рельефов, Вацлав Скальник. Гёте высоко оценил его. Он назвал парковый план Скальника «счастливо задуманным и пунктуально осуществленным», а самого Скальника «даровитым творцом»[93]. Оценило этот план и потомство: десятки лет, с традиционализмом, который можно только приветствовать, содержится, оберегается, выхаживается и обсаживается цветами этот многокилометровый сад-курорт так, как задумал и создал его великий садовод-чех. И бюст Скальника серьезно и строго смотрит на посаженные им когда-то действующие цехи матери-природы, производящие для человека живительный и целебный воздух.
Существует немало курортных процедур, в том числе и спанье в мешках зимою на открытых верандах. Но процедура, выполняемая здесь отдыхающими по совету врача, мне кажется — единственная на всем земном шаре. В этой фабрике воздуха есть места на лоне природы, особо целебные. Одно расположено возле большой луговины для гольфа. Оно так и называется «Гольф». Если каждый день только ходить туда, сидеть или лежать на травке два-три часа и дышать, просто дышать, — можно очень поправить застарелую астму, улучшить состояние при пневмосклерозе. И люди выполняют эту благодатную процедуру.
Когда я лежала у «Гольфа» и глубоко дышала этой бархатной воздушной подушкой кислорода, мне вспомнился другой курортный уголок — зеленый склон возле «Площадки роз» в Кисловодске. Он тоже мог бы стать фабрикой целебного воздуха. Но несколько лет назад мы ухитрились использовать его под «мероприятие» — ежегодный «Праздник песни» для всего края! И что сталось с ним! Тысячные толпы истоптали его траву, покрыли весь склон бумажками от бутербродов и разбитыми бутылками. И над обезображенной луговиной долго стоял смрад прокисшего пива, табачного дыма, человеческого пота…
Председатель городского партийного комитета Марьянских Лазней, одновременно и начальник Управления профсоюзных домов отдыха — энергичный молодой товарищ Ладислав Кликорка рассказывает мне о своем огромном хозяйстве: кроме десятка первоклассных санаториев на три тысячи двести коек, лечение в которых целиком в ведении Министерства здравоохранения, профсоюзы имеют здесь сто сорок восемь домов отдыха на пятьдесят две тысячи человек. Посетители их почти сплошь рабочие со всех концов республики; но в порядке обмена есть и бельгийцы и итальянцы. В порядке обмена (и только так!) попадают в Марьянские Лазни и наши советские люди. Я встретила двух из Ставрополя — чабана и плотника. А как хотелось бы встретить многих и многих, подобно отдыхающим в Карловых Варах. Нашему Министерству здравоохранения, нашим профсоюзам следовало бы всерьез задуматься над возможностью организовать для советских людей двухнедельные путевки в Марьянские Лазни как «нахкур» (период, следующий за леченьем и укрепляющий его результаты) после серьезного лечения в Карловых Варах.
Марианске Лазне
V. Ян Амос Коменский
В мире есть книги, появление которых было для современников обжигающе прекрасным, бесспорным в своей светлой истине. И среди этих бессмертных книг творения Яна Амоса Коменского занимают почетное место. Века не состарили их, но освежили и приблизили к нашему времени. Множество трудов и комментариев написано о них и по поводу их. Множество реальных дел выросло из них, — современная школа, всеобщее образование (без различий наций, класса, пола), метод наглядного обучения, звуковой метод, преимущество родного языка перед иностранным, режим и порядок школьного преподавания, значение физических упражнений, обязательность музыки в числе школьных предметов, чередование занятий и отдыха, сад или площадка при школе и целый ряд других практических вещей — все это выросло из дидактики Коменского, всем этим человечество обязано ему.
Жизнь этого замечательного человека прошла в бесконечных скитаниях и утратах; он исходил пешком всю Западную Европу; его наперебой звали к себе Англия, Франция, Голландия, Швеция, Польша, Венгрия, — звали не просто как великого мыслителя, изгнанного из родной земли ее поработителями, а как глубоко нужного, полезного деятеля, создающего новую, передовую школу, вводящего новый, передовой метод обучения. И всюду, куда попадал оп, Коменский тотчас с головой погружался в практическую деятельность, преподавал, писал учебники, организовывал новые, смело задуманные для своего времени школы, где давал бой старой, схоластической педагогике.
Родился Ян Амос в моравском местечке Нивпице 28 марта 1592 года, в семье мельника. Отец его умер, когда Ян был еще мальчиком, и в школу он попал поздно. Зато уже в латинской школе в Прерове шестнадцати лет от роду он наметил весь свой будущий жизненный путь.
«Будучи ребенком-сиротой, без отца и без матери, я по небрежности опекунов был до такой степени заброшен, что только на шестнадцатом году жизни смог ознакомиться с элементами латинского языка. Однако… это… зажгло во мне такую жажду, что с того времени я никогда не переставал работать и стремиться восполнить ущерб, причиненный мне в детстве, восполнить не только по отношению ко мне самому, но и по отношению к другим. Меня печалило то, что людям (особенно моим согражданам) было скучно изучать науку. Поэтому я много думал над тем, каким образом не только побудить множество людей к тому, чтобы они полюбили научные занятия, но и указать, на какие средства и чьими трудами можно открыть школы, в которых юношество получало бы хорошее образование по более легкому методу»[94].
Принадлежа к гуситской общине «Чешских братьев», Коменский по окончании школы продолжает учение на факультетах протестантского богословия, сперва в Герборнском, потом Гейдельбергском университетах. Он жадно учится не только по книгам, хотя и книги для него в этот собирательный период имеют огромное значение. «Не найдется… ни одной настолько плохой книги, в которой нельзя было бы обнаружить хоть что-нибудь хорошее; если не что-либо другое, то, во всяком случае, хотя бы повод для исправления какой-нибудь ошибки»[95], — пишет он позднее.
Источником познания служит для него в эти годы весь мир, непосредственное знакомство с чужими землями, народами и обычаями. Из Гейдельберга он пешком дошел до Голландии. Б 1616 году Коменский — учитель той самой школы в Прерове, в которой учился мальчиком; в 1618 году, уже в сане священника своей общины, руководит школой в Фульнеке. В эти годы он чертит карту родной Моравии (впервые изданную им в 1627 году), собирает материал для задуманного им обширного словаря «Сокровищница чешского языка», издает книгу новой, облегченной методики преподавания латинского языка. Но Тридцатилетняя война обрушивается на него первой катастрофой: в 1620 году в несчастной битве при Белой Горе чехи теряют свою самостоятельность, в 1621 году испанцы сжигают Фульнек, и в огне гибнет все его имущество, книги и рукописи, а спустя немного умирают от чумы жена и двое детей. Чехи должны были или отступиться от веры отцов и принять католичество, или бежать; таким образом, учение «Чешских братьев» становится знаменем национальной целостности чехов, а преданность ему — патриотизмом.
Ян Амос Коменский несколько лет тайно ютится в имениях чешских магнатов, спасаясь от преследований австрийской власти. Он пишет на чешском языке в 1623 году один из самых вдохновенно-поэтических трудов своих, до сих пор сохраняющий силу эмоционального воздействия на читателя, — «Лабиринт мира и рай сердца». В нем лирически слилось все, чем жил и что пережил Коменский, — боль утраты, страстное желание помочь людям, упорная мысль о создании новой школы. Вместе со спутниками, отчасти напоминающими Мефистофеля средневековой легенды о Фаусте, — «Всезнайкой» и «Помрачителем» (или «Всюдубудой» и «Обманщиком», как перевел с чешского Ф. Ржига) — странствует автор по лабиринту мира, гневно, с дантовской остротой разоблачая его пороки, его суетность и несправедливость. Он наблюдает, как бедняки «…трудились до поту, до устали, до упаду, до увечья и гибели, а между тем они таким своим жалким изнеможением едва могли обеспечить себе кусок хлеба. Правда, попадались мне такие, которые и легче питались; но опять, чем легче и прибыльнее был этот заработок и менее труда, тем больше было неправды и разных ухищрений»[96]. Он наблюдает, как суетные люди создавали хаос в мире: «Подметил я также в людях большую охоту к новизнам и переменам в одежде, постройках, речи, походке и других вещах. Я видел, что некоторые ничего но делали, как только переодевались во все новые и новые наряды; иные изобретали новые виды построек и через пе-сколько времени опять их разрушали; во всех работах хватались то за одно, то за другое и оставляли все по своей неустойчивости… Если случалось кому что-либо создать с необыкновенным трудом и большой затратой своих средств… глядишь, приходил другой, опрокидывал, разрушал, портил. Поистине, я не нашел в мире такой вещи, которая, будучи создана одним, не была бы разрушена другим»[97].
Здесь уже ярко сказалась вторая особенность дидактического метода Коменского. Если в собирательный его период он хотел учиться у всего, у каждой кпиги, как пчела собирая мед, у бесконечного многообразия вещей, то теперь для подлинного познанья мира наступил период самоограничения, отбора. Нельзя хвататься за все, нужно отбирать необходимое, умерять свое влечение к знанию, учиться только тому, что нужно, не пустому, а полезному («Школа-театр», или, в другом переводе, «Школа-игра»). Приступая к изучению дидактической системы Коменского, нужно твердо иметь в виду оба эти принципа: убеждение, что нет такой вещи, у которой и от которой нельзя было бы чему-либо научиться, во-первых; и убеждение, что многознайство, погоня за множеством случайных сведений отнюдь не ведут к подлинному образованию, во-вторых. Эти два принципа представляют собой два необходимых полюса дидактики Коменского, нашедших свое отражение в каждом его учебнике.
В 1627 году был издан грозный эдикт австрийского императора, обрекавший на изгнание всех, кто не перешел в католичество. Прятаться дальше в Богемских лесах было невозможно, и тридцать тысяч чешских семейств вместе с Коменским навсегда покинули родину. На силезской границе эта огромная толпа опустилась на колени, молясь и целуя землю — отныне только щепотка ее в ладанках, надетых на шею, осталась у чехов от родины. Ян Амос Коменский нашел приют в польском городке Леш-по, где он опять стал во главе школы. Здесь написал он на чешском языке, а позднее сам перевел на латинский свою «Великую дидактику» — краеугольную книгу мировой педагогической мысли.
В этой книге Коменский исходит из великих гуманистических принципов равенства людей любой расы и национальности, любого состояния, пола. Говоря о «культуре природных дарований» человека, он вовсе не имеет в виду детей, отмеченных какими-нибудь особенными талантами и способностями. По его мнению, каждый нормальный ребенок обладает четырьмя дарованиями, составляющими сущность человека.
Первое — это способность схватывать явление (он называет ее «mens», ум или «зеркало всех вещей»); она сочетается со способностью судить об увиденном (он называет это «judicium»); и запоминать схваченное и понятое явление (он называет это кладовой для вещей) — такова первая прирожденная способность человека.
Второе дарование — это воля, направляющая человека к действию, определяющая его характер, побуждающая его решать.
Третье дарование — это рука, орган действия и труда, моторная способность человеческого тела двигаться, производить работу и движения.
И наконец, четвертая способность — это язык, речь, ведущая к общению с другими людьми, помогающая человеку выразить все то, что он воспринял, и в словах передать это другим людям.
Именно про эти дарования и говорит Коменский, что их надо культивировать, то есть образовывать в школе: «…природное дарование человека будет тогда обработано, когда, во-первых, он приобретет способность много мыслить и во все быстро вникать; во-вторых, когда он будет искусен в тщательном различении вещей менаду собой, в выборе и преследовании всюду одного доброго, а также в пренебрежении и удалении всего злого; в-третьих, когда он будет удачно призводить совершеннейшие дела; в четвертых, когда будет красноречиво и глубокомысленно говорить к вящему распространению света мудрости, чтобы все вещи и мысли были при этом хорошо освещены»[98].
Иными словами, школа, обрабатывающая человеческие способности, должна выпускать человека не только знающим, но и способным действовать, то есть прилагать свои знания к делу, и передающим свои познания другим, то есть способным к ясному изложению мыслей в слово.
Так как, по Коменскому, с этими дарованиями рождается каждый человек, то школа, где они культивируются, должна быть открыта для всех. Девятая глава дидактики так и называется: «Школам нужно вверять всю молодежь обоего пола». Впервые Коменский ратует здесь за женское образование; больше того, он так и начинает эту главу: «…в школы следует отдавать не только детей богатых или знатных, но и всех вообще: знатных и незнатных, богатых и бедных, мальчиков и девочек во всех городах и местечках, селах и деревнях». Нам хорошо известно, говорит Коменский, что бог иногда создавал выдающиеся орудия своей славы из самых бедных, самых отверженных, самых темных людей. Поэтому никак нельзя лишать образования низшие классы. Нет также смысла и причины лишать образования женщин. «Одинаково они одарены (часто более нашего пола) быстрым и воспринимающим мудрость умом… Так почему же допускать их к изучению азбуки и устранять их потом от чтения книг?»[99]
Определив, таким образом, общий характер школы как «мастерской гуманности», Ян Амос Коменский описывает ее материальную сторону, то есть какой она должна быть. Не страшной и скучной для детей, а местом удовольствия и радости: удобно построенной, полной света и воздуха, с наглядными пособиями в виде картин на стенах, с садом и площадкой для физических упражнений, с музыкальными инструментами, кабинетом минералов и т. д.
Каков же должен быть метод преподавания в этих новых «мастерских гуманности»?
Основным лозунгом Коменского, эпиграфом ко всем его трудам служит замечательное положение: «Omnia sponte fluant, absit violenlia rebus», коротко переводимое так: «Пусть все развивается естественно, ни в чем да не будет насилия!»[100]
Коменский создал основную концепцию школы — первоначальную для маленьких детей, названную им «материнской», затем школу, соответствующую нашей средней, и, наконец, высшую — академию или университет. Преподавание ведется концентрическим способом. В самом начале на юный мозг, легче и лучше всего схватывающий и запоминающий, ложатся в основном те же циклы знаний, какие в расширенном и усложненном виде будут ему преподаны в средней школе и в еще более углублснпом и усложненном — в высшей. Но такой концентризм (круговая повторная система) сопровождается особым облегчающим его методом. Первичное дается ученику раньше всего остального, более важное раньше менее важного, целое раньше части, простое раньше сложного, главное — зримое, вещественное, материальное — раньше формы. Азбука (звуковая) начинается с чувственных представлений, с картинок, причем картинки изображают предметы в их функции, животных и людей в их целесообразных движениях. Все предметы, имеющие связь между собой, преподаются одновременно, чтение вместе с письмом.
Не только все развитие последующего образования в течение трех с лишним веков, но и самые новейшие опыты педагогики, по существу, уже содержались в основных элементах дидактики Коменского. Он в основном определил самую структуру учебного дела. Предметы, которые нужно преподавать; людей, которые будут преподавать; орудия обучения — книги, учебники, пособия, карты и т. д.; школьные здания; определение времени для занятий; распорядок и последовательность занятий; паузы (перемены) и каникулы — все это Коменский глубоко обдумал и регламентировал, его концепции сохранили свою практическую силу и до наших дней.
Спустя год после «Великой дидактики» он пишет, тоже по-чешски, «Открытую дверь языков» — необычайно легкий и остроумный учебник, принесший ему мировую славу. В эпоху, когда не было ни телеграфа, ни поездом, ни почтовых конвенций, когда месяцы нужны были для передвижения по Европе, книга словно на крыльях облетела Запад и Восток и появилась на греческом, польском, немецком, шведском, голландском, английском, французском, испанском, итальянском, венгерском, арабском, турецком, персидском и монгольском языках, не говоря уже о чешском и латинском.
Огромная популярность этой книги объясняется прежде всего тем, что она неизбежно отразила на себе глубокие идеи Коменского о так называемом «пансофическом», то есть всеохватывающем, образовании, основанном на методе сближения и связного изложения научных сведений. Уча языку, Коменский стремился учить не словам, не понятиям, а самим предметам знания, вещам материального мира, излагая их в действии, по принципу связи друг с другом. Поэтому учебник его был одновременно и полезным практическим справочником и сопровождал каждое слово пояснительной картинкой.
Природа начинает творить изнутри, с корпя, с сердцевины вещей, учил он; сперва родится сама вещь, а уже йотом ее название в слове. Поэтому материальный мир есть привычный предмет науки, а термин, слово — вторичный, подобно одежде или коре. Неоднократно ссылался Коменский на отца английского материализма Бэкона Веруламского, «Новый органон» которого знал и глубоко ценил. В своем далеко опередившем философию XVII века материалистическом мировоззрении Ян Амос Коменский дошел до чеканной формулы, данной им в «Дидактике», о познании как об отражении, подобном отражению видимых вещей в зеркале: «Чтобы зеркало хорошо отражало в себе предметы, будет зависеть, во-первых, от плотности и отчетливости самих предметов, затем от того, чтобы эти предметы находились в области внешних чувств… Следовательно, то, что будет предлагаемо познанию юношей, должно быть предметом, а не тенью предмета (rerum umbrae); предметом, повторяю, плотным, настоящим, полезным, сильно действующим на чувства и воображение…»[101] И дальше: «Все, чему учат, должно быть преподаваемо как нечто действительно существующее, приносящее известную пользу. Именно так, чтобы ученики видели в изучаемом ими не утопические фантазии и не платоновские идеи, но вещи, действительно нас окружающие, истинное познание которых принесет в жизни истинную пользу»[102]. Поэтому в своих учебниках по языку он соблюдал правило: «Словам нужно учить и учиться только в соединении с вещами»[103] — и дошел даже до того, что советовал: «В силу этого основного правила из школы должно удалить всех писателей, которые учат только словам. не сообщая никаких сведений о полезных вещах»[104].
Идея пансофии, менее всего разработанная в последующей педагогике, была, в сущности, центральной идеей Я.-А. Коменского. Еще в 1661 году он писал амстердамскому типографу Петру Монтану: «Возымев надежду придать блеску моей родной речи, я задумал приступить к основательному сочинению, в котором все вещи были бы представлены таким образом, что наши люди всякий раз, когда нуждаются в справке о любом предмете, могли бы дома иметь нужные сведения, снабдившись такой сокращенной библиотекой»[105]. Это значит, что, помимо конкретности преподавания, смыслу на нервом месте, а форме — на втором, вещи на первом месте, а слову — на втором, помимо наглядности — картин, сопровождающих в учебнике Коменского каждое слово, помимо всего, резко порывающего со схоластически-абстрактной средневековой манерой обучения, — великий чешский педагог хотел еще и сообщить ученикам не отдельные, разрозненные знания, а систему знаний, энциклопедию, которая могла бы связно удержаться в памяти, снабдить сведением о самом основном в каждой пауке и сделать учащегося универсально образованным человеком.
Мечта об энциклопедии охватывает передовые умы в каждую новую эпоху, когда огромные груды написанных книг и накопленных материалов требуют какой-то систематизации и приведения в стройный, легко обозримый порядок. Так было в X веке у арабов, когда была создана знаменитая анонимная энциклопедия так называемых «Братьев чистоты». Так было на заре французской революции, восемь веков спустя. Насколько жизнен и своевременен был замысел Коменского, доказывает быстрое его распространение. Без ведома автора план «Пансофии» Коменского был подхвачен и опубликован в 1637 году в Оксфорде. Англия и Швеция наперебой приглашают его создать в их странах пансофическую школу, нечто вроде разносторонней Академии наук. Он едет в Англию, но там начинаются внутренние смуты, и Коменский вынужден перебраться в Швецию — тем более что от шведов он ждет избавления его несчастной родины от австрийского гнета. Вестфальский мир дает свободу вероисповедания лютеранам и кальвинистам, но чехи остаются бесправными. Коменский тяжко переживает черные дни своей родины. Зеленая, лесная Богемия обезлюдела, чехи разбредаются по чужим странам, жизнь замирает в ней. Потеряв надежду на возвращенье домой, Коменский принимает предложение венгерского князя Ракоци и едет в Венгрию, где создает пансофическую школу в городке Сарос-Патоке. В его новой школе для учащихся устроены кабинеты физики, механики, естественно-исторических паук. При ней — типография, где издаются научные труды. Там выходит «Школа-театр» Коменского. В Сарос-Патоке пишет он и «Orbis pictus» — «Мир в картинках», замечательный учебник, по которому в Южной Германии школьники учились чуть не до конца XIX столетия. Сравнивая его с учебниками знаменитого своего современника, педагога Базедова, Гёте, учившийся по Коменскому, писал в третьей части «Поэзии и правды», что Базедову из-за хаотичности и бессвязности его примеров «недостает тех конкретно-методологических преимуществ, которые мы призпаем в аналогичных работах Амоса Коменского»[106].
Принципы «пансофической энциклопедии», легшие в основу учебников Коменского, имеют неувядающее методологическое значение. Для нашей новой, социалистической эры, когда к знанию тянутся миллионы, десятки и сотни миллионов людей, задача создания стройного компендиума знаний, сжато и связно охватывающего все, что создано человечеством во всех областях культуры, становится важнейшей. И найденные Коменским принципы связи наук, мысли, вложенные им в свою «Пансофию», приобретают особо острый практический интерес.
Обозревая мысленно мировой книжный фонд, накопленный человечеством в его время (а это было свыше трехсот лет назад!), Коменский восклицает:
«Боже милосердный! Какие огромные тома написаны по всем почти вопросам! Если бы их собрать вместе, то получилась бы такая громада, что только на их перелистывание нужны были бы тысячи лет». Невозможно быть сведущим во всех вопросах. Ясно, что результатом такого умножения учености является односторонность (frustillatio); «…люди выбирают себе ту или другую отрасль искусства или науки, а с остальным не знакомятся вовсе. Можно найти богословов, которые едва удостаивают бросить взор на философию; а также и философов, совершенно не уважающих богословие; юристы по большей части вовсе не интересуются естествознанием, а медики, в свою очередь, пренебрегают вопросами права и справедливости. Каждая отрасль знания отмежевала себе особое царство, не считаясь с общими, достоверными и незыблемыми основаниями и законами, равно связующими все. Но даже и в самой философии одни выбирает себе одно, другой — другое. Одни хотят быть физиками, оставаясь невеждами в математике, другие наоборот»[107].
Нормально ли такое положение вещей и является ли односторонний ученый способным «отыскать во всем разлитую и стремящуюся к соединению истину»? Нет, конечно. И словно для нашего времени, когда разветвившиеся специальности в науке просто не могут плодотворно развиваться дальше, не координируя свои шаги с продвижением смежных наук, звучат слова Коменского: «Разве мы не видим, что ветви дерева могут жить только при том условии, что все они одинаково тянут сок из общего им ствола общими всем корнями. И разве ветви мудрости можно оторвать одну от другой, сохраняя невредимой их жизнь, то есть истину? Никто не должен быть физиком, не будучи в то же время и метафизиком; или этиком, не будучи ранее физиком (конечно, обладающим знанием человеческой природы); или логиком, не будучи знакомым с реальными науками…»[108].
Но как совместить знание столь многих вещей при малом времени, отпущенном на одну человеческую жизнь? Здесь Коменский подробно рассматривает различные способы, какими «некоторые лучшие люди» пытались объединить результаты наук в учебники и сократить объем предметов, преподаваемых в школе: исключали, например, изучение античности, уменьшали время на искусство и философию, предлагали дать упрощенную обработку наук. Эти мысли Коменского полезно вспомнить сейчас, когда общественность наша так настойчиво ищет пути преодоления перегрузки учащихся. Принципы Коменского замечательны тем, что он борется не с количеством наук, а с методами их освоения. Правильно найденный метод взят у самой природы; поскольку между явлениями природы есть органическая связь, она открывается и в законах природы, а значит, должна быть открыта и в науках, отражающих природу. Но все имеющее между собой связь должно быть преподаваемо одновременно, параллельно друг с другом: «…метод будет оберегать труд через соединение параллельно идущих вещей, то есть, например, если параллельно будут изучаться письмо и чтение, познание вещей и их наименование, если, следовательно, будут совмещаться понимание, деятельность и правильное употребление речи»[109].
Что касается потребного времени, то оно тратится на усвоение множества ненужных вещей. Надо уметь отбирать только нужное. «Мы не знаем необходимого потому, что изучаем не необходимое… Если из наших занятий исключить то, что менее необходимо, то у нас было бы в распоряжении по меньшей мере вдвое больше времени и мы затрачивали бы вдвое меньше труда»[110]. А что же считать необходимым? Конечно, то, что пригодится людям в их дальнейшей практической деятельности за стенами школы. «Всеведение» в науке — вещь вредная и ненужная.
Выбросив все незначительное, многословное, уводящее в сторону от главного, не реализуемое в практике жизни и для нас ненужное, сочетав параллельно вещи, связанные одними закономерностями, изображая их в их действиях и в развитии, учебник должен придерживаться строгой последовательности изложения: «Всякий сможет взойти на самую высокую башню и сойти с нее, если он идет по ступенькам… Но уничтожьте несколько ступенек, и тотчас он либо не сможет двинуться вперед, либо окажется в пропасти»[111].
Эта последовательная, хорошо усваивающаяся в памяти система знаний резко отличалась от обычных тогдашних энциклопедий и была в существе своем глубоко демократична, потому что она рассчитана на весь народ вообще. «…Мы стремились еще к тому, — писал Коменский, — чтобы сооруженный таким образом амфитеатр божественной мудрости стал общим для всего человеческого рода… какого бы то ни было сословия, возраста, пола, языка… Из этого (из блаженства, даруемого знанием. — М. Ш.) нельзя исключить никого: ни мужчины, ни женщины, ни ребенка, ни старика, ни знатного, ни плебея… Поэтому я хочу и заклинаю, чтобы мудрость изучалась впредь не только на латинском языке… как это имеет место до настоящего времени, причем народ и народные языки находятся в величайшем презрении, чем им наносится величайшая обида. Пусть всякому народу все передастся на его собственном языке…»[112].
Чтобы лучше представить себе метод Коменского и его «конкретно-методологические преимущества» (по слову Гёте), разберем хотя бы две странички из его популярнейшего, три столетия не сходившего с ученических парт учебника «Orbis pictus» и сравним его хотя бы с нашими современными детскими хрестоматиями.
«Orbis pictus» начинается с букваря. Но букварь состоит из картинок, изображающих предмет в его действии, поэтому «звук», которому ребенок учится, представляется ему не в отвлечении, а как бы в естественном его рождении. Овца блеет, ворона каркает, мышь пищит, лягушка квакает и т. д. По-латыни все эти глаголы начинаются с соответствующей буквы алфавита. Букварь занимает всего две странички. Дальше идет систематическое изучение «мира в картинках», интересное для любого возраста и сейчас. Нам, например, и художникам и историкам, оно раскрывает в его необычно точной и яркой конкретности всю вещественную жизнь XVII века, весь мир тогдашних обычаев, форм, представлений. От общего понятия о земле и небе, огне, воздухе, воде, металлах, растениях ученик переходит к детальному изучению растительного, животного, минералогического мира, человека и всех сфер человеческой деятельности. Все это — в картинках, где предметы изображены в их действии и движении, а части предметов, обозначаемых в тексте, перенумерованы так, чтобы ученик мог проверить обозначенную словом вещь на картинке. Вот два примера. Страничка о растительном мире. Из семени вырастает растение. Растение развивается в куст. Куст переходит в дерево. Дерево получает питание от корня. Из корня поднимается ствол. Ствол разделяется на ветви и листву, которая образуется из листьев. Ствол соединяется с корнем. Колода есть срубленный ствол без ветвей и имеет кору и лыко, древесину и сердцевину.
Вслед за этим общим представлением о растениях дается знание отдельных деревьев, дающих и не дающих плоды, об этих плодах, форме и характере их. Рядом с яблоней, вишней, грушей, тутой мы знакомимся с елью, ольхой, березой, кипарисом, ясенем, буком, ивой, липой и т. д.
Таким же способом постепенной детализации попятим и представлений книга знакомит со всем видимым миром. В последовательной, скупой и сжатой, но необычайно наглядной и отлично запоминающейся форме даются зачатки знаний физики, химии, географии, астрономии, агротехники, ботаники, зоологии, обществоведения, всех видов ремесел, искусств и наук, — разумеется, во всей ограниченности своего времени и со всеми неизбежными недостатками, присущими знаниям в XVII веке.
На следующей ступени развития тот же цикл знании может быть дан в более углубленной форме. Он будет хорошо освоен, потому что сведения падут на подготовленную почву, поскольку они запомнились учеником в их элементарной, по органически связной форме еще в начальных классах. Не мудрено, что этот учебник, по которому учился Н. И. Пирогов и по которому, возможно, учился и П. Л. Лобачевский (в его знаменитой речи о воспитании чувствуется несомненное влияние Коменского), мог жить столетия. Принцип его бессмертен, стоит лишь приспособить такой учебник к нашему времени и нашем у уровню знаний, и он будет жить опять. Кстати же примером бессмертия этого принципа служат «Иллюстрированные словари», выпускаемые сейчас в Германской Демократической Республике, совершенно в духе Коменского, на двух различных языках, не но алфавиту, а по смысловым разделам, причем слово сопровождается картинкой (Veb Bibliographisches Institut, Leipzig).
А теперь отвлечемся и посмотрим учебник, по которому в 1956 году учился мой внук в нашей советской школе, — «Учебник русского языка для начальной школы» (1-й класс).
Картинки в нем далеко не на каждой странице. Начинается книжка с «дома» и «дыма», но ни дом, ни дым не имеют никакого отношения к последующим страницам и словам, где есть и рама, и куст, и ручка, и бумага, и сон, и сын, и козы, и косы, то есть соединения происходят по ассоциации простых звуков без их смысловой связи. Без смысловой связи даны и дальнейшие страницы. Примеры, приведенные фразы и четверостишия, отдельный перечень слов — все это случайно, никак не связано с последующими примерами, выбрано лишь по звуковым ассоциациям или как иллюстрация к грамматическому правилу. Но и в маленьких упражнениях-рассказах смысл отсутствует.
«Ксения рисует ягоды, Ирина рисует ежика. Я рисую домик. У домика утка и утята». Вам трудно запомнить эту никак не связанную комбинацию: домик (на земле, конечно), у домика (на земле, конечно) утка и утята. Даже такое элементарное знакомство с вещами, как естественное стремление утки к воде, здесь отсутствует. Дети учатся словам, слогам, буквам, первым законам родной речи, отвлеченному пониманию грамматики — только.
Это, разумеется, находится не в ладу с системой Коменского, резко выступавшего против отвлеченного преподавания языка и законов речи. Да и нашим отечественным классикам школьного обучения, прежде всего Ушинскому с его «Родным словом», это противоречит. Мне кажется, что от крайностей лабораторного метода в первые годы революции школа наша круто шагнула назад, к огромному, нерасчетливому расходу времени на систему множественного расчленения предметов обучения и отвлеченному от круга полезных знаний преподаванию языков.
Но вернемся, однако же, к последним годам жизни А на Амоса Коменского.
В 1648 году Ян Амос теряет вторую жену, в 1654 году он должен был, по делам общины чешских братьев, вернуться в Лешно, а в 1656 году — новая катастрофа: разгром Лешно поляками, мстившими чехам за их симпатии к шведам, и вторичная утрата Коменскнм драгоценных его рукописей. Бездомный старец кочует по европейским городам, ища пристанища, и наконец находит его в Амстердаме. В 1657 году, по постановлению голландского сената, выходят в четырех томах его труды, а в 1670 году, написав последнюю свою книгу «Едпное на потребу» («Unum necessarium»), великий мыслитель угасает. Он пишет в последней книге: «Когда минует суровая зимняя пора, когда перестанут лить дожди, цветы снова выглянут из родной почвы и роскошно украсят землю», тогда придут пастыри, «заботящиеся не о себе только, но о благе стад своих»[113]. Это было его пророческим приветом родной стране.
Учение Коменского и его учебники были издавна знакомы русскому народу. G первого нюрнбергского издания был переведен и трижды переиздавался у нас «Orbis pictus» под названием «Зрелище Вселенныя» и «Видимый мир». Но нему учились в латинских школах еще в Петровскую и Екатерининскую эпохи. В трудах Киевской духовной академии в 1869 году появился перевод книги Палацкого о Коменском. Первый перевод «Дидактики» вышел у нас в 1874 году, он был сделан почитателем Коменского С. И. Миропольским. Но еще до этого, в трех книгах «Журнала Министерства народного просвещения» за 1871 год, Миропольский напечатал свою подробную работу о Коменском, и эта работа, как и «Дидактика» Коменского, не только находилась в числе любимых книг в библиотеке отца Ленина, Ильи Николаевича Ульянова, но и, несомненно, оказала свое влияние на его методику как педагога и инспектора народных школ.
В 1892 году весь мир отмечал триста лет со дня рождения Яна Амоса Коменского. Весь мир, — только на родине его, в Чехии, австрийское правительство запретило это чествование. Открывая торжественное собранье в большой аудитории Военного музея в Петербурге, русский педагог Л. Н. Модзалевскин с горечью упомянул об этом постыдном запрете. Чехи намного опередили Европу, сказал Модзалевский, Пражский университет открылся раньше германского, Гус был раньше Лютера, Коменский — раньше Базедова и Песталоцци… Детский хор пропел на этом юбилее посвященную Коменскому кантату, написанную композитором Главачем на слова В. С. Карцова:
В этот день, тому три века, Муж великий был рожден, И для блага человека Светлый ум свой отдал он[114].А С. И. Миропольский писал в своей статье о том, как велико «значение Коменского для современной педагогической пауки вообще: но не забудем, что Амос — славянин… что в нем мы находим родной идеал, родные черты, славянский дух… Если суждено нам иметь свою самобытную педагогию (а я глубоко верю в будущность этой науки у нас), то в основе ее да будет великий педагог славянский, Амос, его бессмертные идеи да лягут в основу родной школы нашей»[115].
Широко и плодотворно внимание нашей советской общественности к наследию Коменского — великого педагога, гуманиста и демократа. Новые переводы, сделанные советскими учеными после многочисленных прекрасных старых переводов Ржиги, Адольфа, Любомудрова и других, как и работы профессора Красновского, изданные Учпедгизом, говорят об этом.
1957
VI. Судьба творца
На встрече в Остравском радио с местными работниками искусства и литературы мне был задан вопрос: как и почему я выбрала себе в наши дни тему, казалось бы, далекую от современности — изучение жизни и творчества чехословацкого классика Йозефа Мысливечка, композитора XVIII века? Я дала подробный ответ, предваряющий всю мою будущую книгу. Но сейчас, начиная свой отчет о необычайном и очень плодотворном для современности спектакле, на который я приехала в Чехословакию, мне хочется дать такое же подробное пояснение и для советского читателя. В самом деле, в разгар острой борьбы за современную тему писатель, всегда находившийся на передовой кромке наших общественных интересов и никогда не изменявший газете, вдруг посвящает, может быть, последние годы (пли месяцы) своей жизни теме очень далекой, кажущейся нашему читателю чужой и чуждой. В чем тут дело?
Можно взять тему сугубо современную и воплотить ее так, что она окажется где-то за пределами жизни и мышления современников. И можно взять тему из глубины веков, разрешая ее так, чтоб опа взволновала и оказалась необходимой для современности. Для того чтобы разъяснить, обучить, вдохновить — и в живой человеческой речи, и в мудрой архисовременной книге, — люди всегда лазили за помощью в богатые короба прошлого, в закоулки своей памяти, вспоминая, что вот «тогда-то было со мной», или в сокровищницу памяти человечества, извлекая из нее примеры глубокой давности. И чтоб заранее озарить свои страницы светом уже достигнутой когда-то или забытой мудрости, разве не предваряют писатели самые злободневные свои работы эпиграфом из далекой и давней книги? «Огромное воспитательное значение приобретает сила хорошего примера в общественной и личной жизни, и исполнении общественного долга» — эти слова в проекте Программы Коммунистической партии Советского Союза сохраняют свой важный смысл и для образа прошлого, для писателя, создающего историческую повесть. Для такого писателя человек, схваченный на середине своего жизненного пути, никогда не целен, не окончателен, он — только отрезок, фрагмент своей судьбы. Как могло быть написано, например, о Наполеоне до его Ватерлоо или, наоборот, о скромном французском конторском служащем Гогене до того, как он бежал на Гавайские острова; или, наконец, чтоб ближе быть к нашим дням, какая книжка была бы посвящена десятку ребят, если б величие подвига не оборвало их жизни на высоте человеческого мужества и светлой преданности родине, сделав молодогвардейцев бессмертными? Для писателя исторической повести в завершенном цикле человеческой жизни возникает тема не только личной истории человека, но и большая тема его эпохи, возможность свести «концы и начала» характера, раскрыть весь его потенциал, заключенный в приглянувшемся образе. Возникают неизбежные аналогии с нашим временем, вычерчивается тот сигнал, та величина, которая выражает в математике не количество только, но и направление и называется «вектором». Есть личности в прошлом, необычайно убедительно, каждая в своей области, выразившие этот «вектор» — направляющий ход исторического развития; и для писателя, имеющего в руках компас марксистского метода, такие личности служат как бы ключами в свою эпоху.
Итак, историческое повествованье, — но почему, может спросить читатель, непременно музыка?
Наверное, каждый согласится со мною, что для пас, строящих коммунизм, проблема творчества, творческого начала в человеке имеет огромное значение. Коммунизм — не значит ли это, что каждый хочет и становится творцом и общество не только дает возможность, но и как бы вменяет каждому своему члену в обязанность быть творцом? Ведь без творческого начала, ставшего общим принципом жизни для каждого, не построить подлинного коммунистического строя на земле! Вопрос о том, что такое «творчество», становится поэтому очень важным для писателя нашей эпохи.
И вот несколько лет назад один из крупнейших литераторов XX века, признанный в обоих полушариях друзьями и врагами, — Томас Мани — ответил на этот кардинальный психологический вопрос нашего времени. Он написал едва ли не самую значительную книгу последнего сорокалетия на Западе: «Доктор Фаустус». Подобно многим эпохальным романам, таким, как «Дон Кихот» и «Пиквик», она была замышлена автором и расшифрована критиками в несравненно меньшем объеме ее смысла, нежели то, что в ней сказалось и получилось. Критики (как, возможно, и автор) думают и думали, что в «Докторе Фаустусе» показана гибель музыканта, захотевшего разрушить рамки своего искусства, иначе говоря, спета отходная всякому левацкому, формалистическому, абстрактному, оторванному от жизни новейшему западному искусству. В герое своего романа, композиторе Леверкюнс, Томас Манн, показав стремление этого героя создать небывалую музыку (типа знаменитой додекафонии австрийского композитора Шёнберга), заставил его как бы «продать душу черту» (отсюда обращение к старому фольклорному образу Фауста) и погибнуть страшной смертью от болезни, которую в XVIII веке еще не умели лечить, да вряд ли полностью побеждают и сейчас. К сожалению, именно такую узкую трактовку дала книге Томаса Манна и товарищ Мотылева в журнале «Новый мир», сведя глубину ее к школьной морали.
Но гениальный роман Томаса Манна был бы выстрелом из пушки по воробью, если б все его значение свелось к выпаду против такого преходящего явления, как формалистические загибы в искусстве, самим временем обреченные на отмирание. Нет, хотел или не хотел этого Томас Манн, в романе его во всю глубину и ширину поставлена совсем иная тема, несравненно более важная для нас и для всей эпохи: тема сущности творческого акта. Вовсе не в том дело, какую именно музыку писал Леверкюн, а в том дело, что Томас Манн показал его творцом и весь роман строится на описании того великого и страстного напряжения, с помощью которого нормальный человек выходит за рамки ординарной человеческой нормы и становится как бы сверхнормальным, становится творцом-новатором, созидателем еще не существовавших до него ценностей. Показав творческий акт как нечто «теургическое», говоря языком стародавней метафизики, то есть не присущее нормальному человеческому существу, а как бы требующее выхода его, вырастания его над своей нормой, над отпущенными ему природой возможностями, роман Томаса Манна естественно подводит мысль к необходимости расплаты чем-то за небывалое счастье, за дар человека творить, выделяющий его среди других людей, этого дара не имеющих. В процессе писания этого романа и до пего Томас Манн внимательно изучал судьбы многих больших творцов, и не одних только музыкантов. Каждый из них расплачивался за счастье создавать новые миры, то есть за роль «теурга», создателя, превышающую норму человека: одни умирали, не дожив до сорока лет, в нищете, одиночестве, отверженности; другие сами кончали свою жизнь, не в силах ее нести дальше; третьи сходили с ума, заболевали страшной болезнью; и почти во всех случаях жизнь большого творца была трагической жизнью. Великий старец, окруженный всемирным почитанием, Лев Толстой уходил умирать на проезжую дорогу, и эта необычная смерть поднимала занавес над тяжелой драмой, какую он переживал. Другой великий старец, любимый Томасом Манном, казалось бы, вырвался из заклятого круга — умер на собственной постели, нормально «смежив очи», как поэтически выразился о нем наш поэт Боратынский, только лишь попросив перед смертной минутой — «больше света» («Mehr Licht») — легендарные последние слова Гёте. Но и Гёте не был исключением, а лишь подтверждением неизбежности расплаты за творчество: не зря он прожил со своей теорией отречения («Entsagung»), отказываясь от больших и малых радостей жизни, от любви и ценою этих постоянных отказов как бы откупаясь мелкой монетой от необходимости пожертвовать главным, пережить трагедию утраты творчества. Внимательно изучив эти жизни, Томас Манн и легенду о Фаусте, — повторяю, хотел или не хотел он этого, — расшифровал по-своему: средневековый доктор продал душу черту за возвращение молодости, за продление жизни; а его новейший «Доктор Фаустус», молодой композитор Леверкюн, «продает душу черту» за право на творчество. И проблема творческого дара, поставленная в самую современную для этого эпоху, получает в книге — неосознанно для самого автора — чудовищный ответ: за творчество, как за сверхнормальное состояние человеческой психики, надо расплачиваться гибелью. Зло — болезнь, сумасшествие, несчастие, трагедия берут от человека свою плату, свою «компенсацию» за счастье творить.
Наш ли это ответ на проблему творчества? Нет, тысячу раз не наш ответ. И если дать его просто — не в метафизических терминах глубокого философского романа Томаса Манна, — то мы должны бы так ответить ему: в рамках старого мира творчество, как искра огня во влажном костре, задыхаясь, дымя и борясь с влагой, может вырасти в индивидуальную трагедию для его носителя. «Черт догадал меня родиться в России с душою и с талантом»[116], — писал о старой царской тюрьме народов великий русский поэт. По коммунизм раскрепостит творчество, он «снимет», выражаясь термином Гегеля, трагедию одинокого творца, потому что развяжет дар в каждом человеке, сделает творчество счастьем миллионов, тем дивным проявлением общности, о котором поет хор в финале Девятой бетхоиенской симфонии.
Но почему XVIII век? — может опять спросить читатель. Потому, что из дальней дали двух веков, словно в ответ на выдуманного Томасом Мапном Леверкюна, встает живой исторический образ другого музыканта. Как удивился бы Томас Манн, если б какой-нибудь кропотливый историк музыки подсказал ему биографию именно этого музыканта! Юность, так похожая на годы молодости Леверкюна, только вместо старого немецкого городка — в старой Праге с се библиотеками, иезуитской коллегией, учителями-органистами, коецертами в пышных «Крыжовниках», сквозь цветные витражи которых поступал сумрачный свет дня. Прага с ее таинственной прелестью узких уличек, и тогда, двести лет назад, казавшихся архаизмом, с пирамидальным силуэтом ее древней синагоги, с томными «жирными» камнями в стенах, напоминающими «Голема» из фантастического романа Меринка, и с первой, как журчанье воды под ледяной коркой, еще невидимой, подземной струйкой будущей весны народа, встающего против австрийского порабощения. И Прага — с вертящимся на узком бережку, под мостом через Влтаву, большим, еще и сейчас сохранившимся колесом архаической деревянной мельницы, сделавшимся музейной ценностью, а двести лет назад бывшим «последним словом техники»… Сохранился и дом мельника на одной из узких уличек.
В нем жили сам мельник, зажиточный член своего цеха, и его семейство, где были два хорошеньких мальчугана-близнеца, Иозеф и Иоахим. Сам отец едва мог различать их, но судьба у близнецов сложилась разная. Иоахим заменил отца на мельнице и остался в Праге. Иозеф бросил учебу в иезуитской коллегии и вырвался на свободу, под синее небо Италии. Он стал одним из славнейших оперных композиторов второй половины XVIII века. И подобно романтическому странствию Леверкюна в чужой город за мечтой, померещившейся ему в падшей девушке, чешский композитор тоже потянулся за мечтой в классическую Флоренцию, чтоб там — в городе Данте и Беатриче — внезапно проснуться в аду, подхватив от мечты, как и Леверкюн, неизлечимую болезнь… Но дальше сходство двух судеб кончается; и разница концов этих двух судеб заставила меня обратиться к образу великого чешского классика.
Не сразу, а очень медленно, звено за звеном, удалось мне набрести на эту разницу. Странным образом, как в старину посыпали песочком чернила, чтоб они высохли, — время (почти два столетня!) посыпало песочком забвения не только все, что окружило итальянский период жизни Йозефа Мысливечка (шестнадцать лет непрерывного творчества!), но и его музыкальные композиции, спрятав их по разным архивам Италии, разбросав их редкие клочки по городкам родной Чехословакии и дав лишь ничтожной их доле проникнуть в печать. Но когда мне удалось, с помощью немногих граммофонных пластинок и специальных концертов, услышать эту «ничтожную долю», редчайшее чувство охватило меня — чувство встречи с чем-то безмерно близким, знакомым и дорогим.
Для того чтоб воскресить с предельной художественной точностью исторический образ, писателю необходима правильная концепция его судьбы. Все, что я успела собрать об Йозефе Мысливечке, много раз объезжая городки Чехословакии, просиживая в венских и итальянских архивах и вычитывая из газет и альманахов полуторасотлетней давности, складывалось в необходимую концепцию. Но ей недоставало конечного звена. Историки чешской музыки пишут, что без последних опер Мысливечка, «Армиды» и «Медонта, короля Эпирского», нельзя составить правильного представления о его творчестве. В этих словах кроется неточность: «Армида» была написана Мысливечком за несколько лет до его смерти и только по просьбе певицы Габриелли для ее выступления в Милане была Мысливечком обновлена и по-новому аранжирована (что было очень обычно в оперной практике XVIII века, когда композитору приходилось писать по две и по три оперы в год для раз-пых городов). А оперу «Медонт, король Эпирский» Иозеф Мысливечек действительно написал за год до смерти, и как опера — это последнее слово его творчества. Партитуры этой оперы в Чехословакии не было. Достать ее из архивов Италии не представлялось возможным. И тут, по пословице «на ловца и зверь бежит», случилось нечто чудесное: в содружестве с ленинградским искусствоведом, Александром Григорьевичем Мовшенсоном, мы открыли копию партитуры оперы «Медонта» в архиве ленинградской Публичной библиотеки. Разыскали мы и старое издание Де Гаммара «Медонт, король Эпирский», напечатанное во Флоренции во второй половине XVIII века. Позднее Л. Г. Мовшенсон в архиве Ленинградской консерватории открыл и второй экземпляр рукописи «Медонта», а мне удалось снять в Болонье фото с либретто «Медонта», напечатанного специально к опере Мысливечка. Открытие второй рукописи «Медонта» в Ленинграде тем замечательней, что нигде в Италии рукописей этой последней оперы Мысливечка не существует, только в музыкальной библиотеке консерватории св. Цецилии в Риме имеется дефектный экземпляр ее первого акта. Микрофильм и фотографии того и другого были переданы мной в добрые руки известного остравского музыковеда д-ра Иво Столаржика, а через полтора года опера получила второе свое рождение на сцене Опавского театра. Нужно ли объяснять читателю, с каким чувством я ехала в Чехословакию, чтобы услышать и увидеть «мертвую» партитуру в живом ее воплощении на сцене и проверить (от проверки зависела судьба всей будущей книги!), правильна ли моя концепция творческой судьбы Мысливечка и может ли она быть противопоставлена образу Леверкюна в «Докторе Фаустусе» Томаса Манна?
…Раздвинулся занавес. Крупный художник из Праги Ян Сладек нашел два образных мотива для декорации в соответствии с темой, прозвучавшей в первых могучих аккордах увертюры: вся авансцена затянута решеткой, похожей своими узлами на разрываемую цепь. Прожектор бросает на эту решетку-цепь темно-багровый свет. В отверстия решетки просунули руки и головы истощенные узники, символизирующие эпирский народ, завоеванный и порабощенный чужеземным завоевателем, тираном Медонтом. В драме Де Гаммара, легшей в основу оперы, рассказывается, как еще до начала действия вспыхнуло и было подавлено восстание эпирцев против Медонта; и царь переполнил восставшими свою подземную темницу, страшный «храм мести». На фойе этой социальной драмы разыгрывается личная драма двух любящих — полководца Арзаче и княжны Селены, к которой тиран Медонт, будучи в гостях в вотчине ее отца, посватался и за которой послал Арзаче, чтобы привезти ее в свою столицу для свадебной церемонии (мотив средневековой темы Тристана и Изольды). Хитростью узнав, что Арзаче и Селена любят друг друга, разъяренный Медонт бросает их в свою темницу на расправу палачу. В пьесе До Гаммара их, как и всех других узников, освобождает войско отца Селены, на их место кидающее в подземелье самого Медонта. Но в духе музыки Мысливечка и реальной истории (не прекращающиеся волнения против чужеземной тирании в самом Эпире) опавские постановщики сделали освободителями самих восставших эпирцев. Драма, разыгрывающаяся на сцене в ее живой органической связи с музыкой, делает незаметной эту «модернизацию» и до последней арии Арзаче, дивной по красоте и силе, держит внимание слушателя. Жаль только, что театр опустил вторую финальную арию Селены, введя вместо нее хор, почти не существовавший в тогдашних операх… Занавес упал под овации переполненного театра. Я была счастлива за судьбу ленинградской находки. Опера прошла за короткий сезон двадцать раз. Ее вывозили в районы. И ее блестящее воскрешение на сцене Опавского театра невольно заставило задуматься о проблеме оперы как таковой в свете услышанной нами свежей музыки XVIII столетия.
Есть виды искусства, которые в своем развитии могут диалектически прийти к самоотрицанию. Толстовское отношение к опере как к чему-то ненатуральному, как к «вампуке», родилось в наше время. Но классическая эпоха оперы — XVIII век — воспринимала оперное зрелище как глубоко естественное и человечное. Цельность его, порождавшаяся, быть может, одинаковым уровнем сюжета и музыкального воплощения, придавала ранней опере здоровое единство. Драматурги в то время как бы создавали свои драмы для озвучивания: Метастазио, ставший основой для сотен онер, воспринимается сейчас в чтении не как драматург в современном понимании слова, а именно как либреттист, «постройка» которого требует пронизанности музыкой. И вот это гибкое, движущееся ощущение оперной формы как рождаемой работой музыканта и либреттиста, оркестра и певцов, отнюдь не схоластически неподвижной в своей завершенности, очень характерно для оперного спектакля XVII–XVIII веков.
Последняя опера Мысливечка интересна еще и тем, что заставляет задуматься над источниками, откуда Метастазио, Де Гаммара (автор «Медонта») и другие черпали сюжеты для своих драм. Незнание или малый интерес к этому настолько велики, что многие музыковеды считают эти либретто и пьесы плодом воображения самих драматургов. Так было, впрочем, много десятков лет назад и с сюжетами драм Шекспира, почитавшимися фантазией, покуда не изучены были старые итальянские хроники. Здесь же дело гораздо проще. Вторая половина XVIII века была ранней зарей национального пробуждения народов, начинавших первую стадию борьбы своей против иноземного (в данном случае габсбургского) порабощения, от которого равно страдали и чехи и итальянцы. Об этом времени чудесно рассказывает в первой книге своего замечательного романа «Век» Алоиз Ирасек. Взоры итальянских музыкантов и либреттистов обращались к героике античного мира, борьбе афинской демократии против олигархии — словом, ко всему тому, что раскрывается в биографиях Плутарха, — и Плутарх сделался таким же богатейшим источником для драматургии XVIII века, каким были итальянские хроники для Шекспира. Вот если мы раскроем страницы «Фокиона» у Плутарха, мы увидим там нашего Медонта, или Каллимедонта (как предупреждает Де Гаммара в своем предисловии к пьесе), типичного сторонника деспотий, необыкновенно подлого и коварного политикана античности, присужденного за свою борьбу против демократии афинским народом к смерти. Его портрет, сочно данный древними источниками, ярко воскрес в пьесе и в музыке Мысливечка. И быть может, именно поэтому, охваченный живым веянием начинавшегося народного пробуждения, Мысливечек в поисках более углубленного финала оперы окончил ее двумя ариями. Эти арии, возвышенно прекрасные гимны свободе и счастью, напоминают вдохновенные соло из его прежних ораторий. Как бы то ни было, мы встречаемся в «Медонте» с революционным историческим сюжетом и с более серьезной драматургической трактовкой, которая могла не поправиться традиционному вкусу праздничной римской толпы: отсюда — провал оперы в 1780 году. У нас, в нашем новом обществе, она ожила. Больной, в нищете, отверженный друзьями и заказчиками, угасающий творчески и физически, один, «как собака на сене», по картинному выражению итальянских источников, великий чешский композитор в бездне своего отчаяния пришел не к духовному распаду и гибели, а в полный голос снова сказал свое «да» всему, что есть светлого, справедливого и доброго на земле, и сказал это «да» одновременно с пробуждением родины, в тесной близости с духовной жизнью своего народа. Концепция его облика оказалась правильной. Но все живое всегда подхватывается жизнью, чтоб продолжать жить. Так влился «Медонт» в большое дело нашей современности, а великий чехословацкий классик был возвращен ленинградской находкой на опорную сцепу своей родины.
Опава — Острава,
1961
VII. Ярослав Гашек
Казалось бы, нет жизни более открытой для исследователя, чем жизнь Гашека. Он был всегда на людях. Еще живы многие из современников, кто мог бы похвастаться, что видел его и говорил с ним. И он всегда — в каждом из своих фельетонов и рассказов, в своем бессмертном Швейке — открывал частицу самого себя, вкладывая в них происходившие с ним самим события, описывая встреченных им людей, ведя рассказ большей частью от первого лица. Он одарил своего Швейка множеством личных черт и черточек и очень любил казаться иной раз Швейком и чтоб его самого принимали за Швейка. Недавно скончавшийся замечательный чешский художник Иозеф Лада, оставивший нам убедительный образ «бравого солдата Швейка», сложил его круглое лицо и добрые маленькие глаза, его кряжистую фигуру и рассудительное выражение из отдельных элементов внешности самого Ярослава Гашека.
Наконец, замечательные статьи Юлиуса Фучика с упоминанием о Швейке и о Гашеке дают основу для правильного понимания писателя. Стоит только вспомнить следующие его строки:
«Швейк… плоть от плоти народа. Он не народный герой, он сын улицы, которая хорошо понимает, каких перемен следует ожидать и как полезно подрывать все старое, чтоб поскорей настало новое… Его швейковщина — это вначале самозащита против неистовства империализма. Но вскоре эта защита перерастает в нападение. Своей пародией на послушание, своей простонародной шуткой Швейк подрывает с таким трудом создаваемую реакционерами силу их власти, он, как червь, точит реакционный строй и вполне активно — хотя не вполне сознательно — помогает ломать здание гнета и произвола. В своем духовном развитии, таком же, как у автора, Швейк приближается к полной сознательности. Невольно чувствуешь, что в какой-то момент он станет серьезнее и хотя не перестанет дурачиться, но в трудную минуту будет сражаться со всей серьезностью и упорством»[117]. И еще: путь развития самого Гашека дает нам возможность «дополнить характеристику Швейка…».
И все же, несмотря на такое обилие свидетельств и показаний, мы до сих пор, в сущности, не знаем реального Гашека и не имеем ни одной книги о нем, которую можно было бы назвать монографией, попыткой дать целостный образ его характера, его духовной жизни, его реальных мыслей и чувств. Целые периоды жизни Гашека до сих пор остаются в тени, особенно русский период, живое участие Гашека в гражданской войне 1918–1920 годов, его работа в Коммунистической партии нашей страны. Несколько лет назад Зденек Неедлы писал у нас в «Новом мире» (1945, № 2–3):
«В истории взаимоотношений чешской и советской литератур первой по времени и одной из самых интересных фигур был автор «Приключений бравого солдата Швейка» Ярослав Гашек. Гашек попал в плен на русско-австрийском фронте. После Октябрьской революции он вступил в Красную гвардию, был комиссаром. К сожалению, этот период его деятельности еще мало исследован. Гашек писал обращения к чехам и другим народам, а также статьи и рассказы для разных журналов — венгерских и других. Но все это пока не собрано и не издано, хотя было бы, наверно, чрезвычайно интересно осветить фигуру Гашека — разоблачителя австрийской армии и активного бойца в рядах советских войск».
С тех пор положение несколько изменилось. То там, го здесь случайно обнаруживаются и публикуются документы, выходят новые книги о Гашеке (например, Я. Кржижика о Гашеке в русской революции, вышедшая в Праге)[118].
Однако планомерного розыска и собирания по архивам Сибири и Поволжья возможных документальных данных о деятельности Ярослава Гашека, как и систематического изучения армейских газет тех лет, по-настоящему еще не ведется. До сих пор нет и целостной, многосторонней монографии о нем.
Но отсутствие такой монографии не мешает некоторым авторам, пишущим о Гашеке, подхватывать и повторять концепцию, сложившуюся, как мне кажется, в кругах той самой чешской буржуазии, которую Гашек всем своим сердцем и до последнего своего дыхания пламенно ненавидел. По этой концепции, Гашек — «гуляка праздный > (кат; в свое время любили говорить о Моцарте!) — был не только «посетителем кабачков», но и закоренелым мелким буржуа в глубине души. Исходя из тех самых «анекдотов» и веселых проделок Гашека, собирание и публикация которых составляют большую часть работ о Гашеке, даже друзья делают упор иной раз на этих фактах, обобщая их для его характеристики. Они сосредоточивают свое внимание главным образом на этих биографических данных, и Гашек предстает перед читателем «большим планом» как прирожденный бродяга или, более серьезно, мелкий буржуа, не умеющий «подняться до ясной, твердой политической идеологии», как пишет один из ранних и наиболее обстоятельных его биографов, Карл Крейбих[119].
Мне кажется, даже на основании того, что мы узнали о Гашеке до сих пор, не говоря уже — и это самое главное — о свидетельских показаниях его собственного творчества, никак нельзя объяснить глубокую личную трагедию Гашека и его короткую жизнь такими характеристиками. И прежде всего надо начисто отмести вздорное представление о «гуляке праздном», как совершенно противоположное фактам. За свою короткую жизнь (Ярослав Гашек не дожил и до сорока лет) этот «праздный гуляка» успел сделать больше, чем иные писатели за восемьдесят лет. Он оставил чешскому народу несколько сот рассказов, почти каждый из которых может войти в хрестоматию; несколько пьес, сверкающих остроумием; газетные статьи, еще полностью не собранные; и, наконец, «Швейка» — бессмертную книгу, но своей художественной силе и вечно живой народности достойную, на мой взгляд, стать в одном ряду с творениями античной литературы, пережившими тысячелетия, такими, как «Облака» Аристофана или романы о «Золотом осле» Апулея и Лукиана. Эту книгу — неисчерпаемый источник простого человеческого наслаждения для миллионов читателей — он писал с великой тщательностью и глубочайшей творческой серьезностью. Каждый рассказ, каждую главу он проверял на живых слушателях из народа, читая их вслух, жадно впитывая каждое замечание, наблюдая каждую реакцию.
Если прибавить к этому, что Гашек провел на войне, империалистической и гражданской, пять лет своей сознательной жизни, а для описания того, что им делалось в роли политработника и члена партии, «не хватило бы всего небольшого запаса бумаги, имеющейся в Иркутске» (как он выразился в одном из своих писем из Иркутска)[120], то перед нами встанет рабочий человек Гашек, очень много потрудившийся за свою короткую жизнь.
Но перейдем к тем бесспорным фактам его жизни, которые сделались уже известными исследователям.
1
В метрической книге прихода церкви св. Штепана под рубрикой 1883 года записано, что 30 апреля на Школьной улице Праги от отца Йозефа Гашека, учителя реального училища, и матери Катерины Ярешовой родился сын, Ярослав Матей Франтишек Гашек, крещенный 12 мая[121]. Отношения Гашека с католической церковью этой короткой записью не ограничились. Чтобы подработать в помощь семье, он мальчиком исполнял в том же костеле обязанность «служки» (примара), получая за каждую службу но десять крейцеров и откладывая в своей острой памяти драгоценные черты и черточки, пригодившиеся ему впоследствии для сатирических образов полковых попов. Вступая в партию чешских анархистов двадцати-четырехлетним юношей, Гашек официально вышел из церкви, а через три года под давлением родителей своей невесты вынужден был опять «вернуться в ее лоно», чтобы жениться.
Сохранилась детская фотография Гашека. Четырехлетний мальчуган в огромной фетровой шляпе, из-под которой выглядывает бледное личико с торчащими ушами, стоит, прижавшись, между венским витым креслом и чем-то вроде шкафа или могильной плиты, на которой соответственно снимку указано: «На память, 1887»[122].
Отец сам учил сына математике, но, несмотря на это, в начальной школе мальчик учился плохо. Дело пошло лучше в гимназии на Житной улице. Там Гашеку посчастливилось брать уроки географии и истории у классика чешской прозы, знаменитого Алоиза Ирасека. Дома все эти годы вряд ли было ему хорошо. Отец Гашека, у которого рано развился рак, много пил, чтобы заглушить боль и страх смерти. Он уже бросил преподавание и служил в банке «Славия». Над семьей нависла угроза смерти кормильца и будущей нищеты. Может быть, потому, что мрачная обстановка в семье не тянула Ярослава домой, он отдавал гимназии больше времени, увлекся венгерским языком и, несомненно, получил от Алоиза Ирасека хорошие познания по истории чешского народа, любовь к своему прошлому, интерес к гуситскому движению и то особое отношение к гуситству, которое исходит от сердца и от национального чувства и присуще многим выдающимся чехам. Много лет спустя вдохновенные уроки Алоиза Ирасека неожиданно сказались у его ученика — тогда уже солдата австро-венгерской армии, перешедшего на сторону Красной Армии.
В 1896 году умер отец Гашека, и семья, где кроме Ярослава были еще дети, осталась без всяких средств. Мать стала зарабатывать шитьем. Между тем учиться становилось все труднее, и не только от наступившей бедности. Австро-Венгерская монархия, лоскутная империя, как ее называли за рубежами из-за пестрого, вечно бурлившего национального состава этой искусственно сшитой страны, доживала последние свои годы. В Праге вспыхивали уличные беспорядки, где чешская молодежь отводила себе душу. Тринадцатилетний Гашек любил не только уроки истории и географии, он был большим любителем и естествознания, увлекался вместе со своим учителем Гансгирком минералами. На долю Гашека выпадало находить их, а на долю учителя — делать для коллекции срезы. Когда в конце 1896 года опять забурлили улицы Праги и немецкие бурши вступили в рукопашную с чешской молодежью, Гашек тоже буйствовал и бил стекла вместе с другими.
«Второго декабря барон Гауч объявил Прагу на военном положении, жертвой которого стал я. Это был прекраснейший день в моей жизни»[123], — рассказывает об этом он сам в одной из своих юморесок. Мальчик очутился в толпе, из которой полетел камень в конный патруль. Он зазевался и оказался единственной добычей в руках жандармерии. Двадцать четыре конных провожали его в участок. Опасный преступник был пойман с поличным: в карманах его нашли множество камней. Но то были особенные камни, только что купленные им для учителя: «горный хрусталь, черный оникс, сердолик, зернистый халцедон…» По счастью для Гашека, в полиции с ним разговаривал чех, тоже любитель минералов, и мальчик был отпущен домой.
Этот случай, повлекший за собой выход из гимназии, интересен во многих отношениях. Он показывает раннюю стихийную революционность Гашека; он поднимает уголок над его серьезной внутренней жизнью, о чем сам Гашек никогда не говорил или не любил говорить серьезно, — в данном случае над интересом к минералогии; и, наконец, он дает возможность заглянуть исследователю в ту особенную манеру Гашека «игры с самим собой», вышучивания самого себя, которая впоследствии стала его литературным приемом в «Швейке» и многих новеллах, а применяемая в жизни при различных трудных событиях, хорошо служила ему для «сбора житейского материала». Дело в том, что во время ареста Гашек успел послать записочку домой. Вот она:
«Дорогая мамочка! Завтра не ждите меня к обеду, так как я буду расстрелян. Господину Гансгирку скажите, что У Гафнера в Воршовицах продается прекрасный аметист для школьной коллекции, а полученные мною минералы находятся в полицейском управлении. Когда к нам придет мой товарищ Войтишек Горнгоф, то скажите ему, что меня вели двадцать четыре конных полицейских. Когда будут мои похороны, еще неизвестно».
В этой записке уже налицо будущий автор «Швейка», ее мог бы написать и сам «бравый вояка»: в ней чисто швейковское отношение к случившемуся, тон деловой приподнятости над фактом и даже доля хвастовства — тон, употребленный впоследствии для бесподобной характеристики швейковского самообладания и бесстрашия. А в то же время записка лишь наполовину бравада; в части сообщения учителю она серьезна.
Учению в гимназии наступил конец. Мать отдала своего озорного Ярослава в учение к пражскому аптекари» Кокошке. Этот переворот в личной судьбе Гашека имел огромное влияние на его творчество. Нужно помнить, что гимназическая среда была средою более или менее состоятельных ребят, детей интеллигенции и буржуазии. Многие из тех, кто учился в гимназии, выходили впоследствии в «господа», шли в высшие школы, вливались в определенные слои горожан. Но у аптекаря Гашек сразу очутился в совсем другой среде. И товарищи у него оказались другими. Мальчик, подобно нашему Горькому, начал проходить школу «в людях», очутился среди мелких ремесленников, мелочных торговцев — того городского слоя, где складывался веками свой фольклор — меткий и грубоватый городской язык, свой юмор, пристающий к вещам и людям, как несмываемая краска, свой собственный метод политической маскировки, под личиной смирения прятавший тот подлинный патриотизм, ту любовь ко всему родному, какие в более высоких городских слоях легко выветриваются и забываются. И главное, здесь «идти в ученье» — с самого начала означало «идти в работу», становиться рабочим человеком, подмастерьем. Гашек в своей «москательне» у хозяина-аптекаря научился очень многому, что пригодилось ему потом, когда в рассказах он воссоздавал весь мир ремесленной Праги с ее оригиналами людьми и необыкновенными происшествиями. Он учился, работал и но примеру другого подмастерья, молодого Горького, стихийно набросился на книгу. То было время книжного запоя для него. Классики и авантюрные романы, свое и переводное, любимые «Дон Кихот» и «Пиквик» и русская литература — Гоголь, Толстой, позднее Горький — всем этим юноша Гашек жил и горел.
Тем временем мать, накопив пять золотых, чтоб заплатить за право его учения, взяла Гашека от аптекаря и устроила его уже повыше, по торговой части, — в коммерческое училище (или «академию», как называлось оно по-чешски). И тут, как два последних года в гимназии и у аптекаря, Ярослав Гашек прекрасно учился, и во все последующие годы платить за него уже не пришлось: он был освобожден от платы. В училище он завязал товарищеские связи со многими пражанами, оставшимися потом его друзьями на всю жизнь. По описанию его друга Гаека, Гашек был в то время темнокудрым, круглолицым и розовощеким юношей с пушком на подбородке, с живыми, сверкающими умом глазами. Таким он изображен и на оставшейся фотографии, с той разницей, что вместо растрепанного энтузиаста перед нами серьезный и чинный юноша в аккуратном пиджаке.
В коммерческом училище сказались жизненный опыт и безудержное чтение Гашека. Он был развитее и во многом сознательней своих однокашников. Память его была необычайна, способность схватывать новые языки, их строй и особенности — редкостна. Особенно прилежно взялся он за славянские языки и в короткое время стал объясняться чуть ли не на каждом из них. Чутье языка, своего и чужого, питалось у Гашека не книжностью, а глубоким пониманием народной психологии, и это надо всегда помнить, читая Гашека. Вот почему он так быстро схватывал именно то, чего книжное, школьное усвоение языка почти никогда не дает, — народный юмор чужой речи, ее остроты, шутки и прибаутки. Любопытно, что один русский коммунист, встретившийся с Гашеком в теплушке по пути в Красноярск в 1919 году, сказал о его манере говорить по-русски: «Не вполне хорошо, но с остротами, в стиле русского народного юмора»[124]. Обучался Гашек русскому языку еще в училище, и мы знаем, что, будучи женихом, он в своих стихотворных посланиях невесте делал концовки в стихах по-русски, — правда, очень еще приближенно и с типичной чешской ошибкой: заменой русского предлога «о» («о ком-нибудь») предлогом «на» («думаю на вас»); ставил к ним эпиграф из Пушкина. В эти годы учения Гашек сделался яростным славянолюбом, мечтал о единении всех славян, носил сербскую шапочку. Единственный предмет, с которым он справлялся туго, была стенография, да и то потому, что преподавалась она по немецкой системе. В эти же годы ярко выявилась особенность Гашека, отличающая его от некоторых других чешских классиков, особенно от Чапека. С одной стороны, Гашек был от природы бесконечно целомудренным и скрытным во всем, что касалось глубин его личной жизни (друг его, Франта Зауер, говорил о нем: «Гашек не переносил, чтоб кто-нибудь заглядывал в его мысли. Он даже не позволял о них догадываться. Ему хотелось, чтоб все считали его Швейком»[125]). С другой — он был прирожденным общественником, имел непреодолимый вкус к политике, к участию в политической жизни, к разговору на политические темы. В одном из своих рассказов («Судьба общественного человека») он даже вышутил эту свою склонность к общественности. В сущности, в понимании Гашека оба термина совпадали так, как они когда-то совпадали в античной Элладе, у греков, у Платона: общественный человек не может жить вне политики, вне какого-нибудь вмешательства в политические события своей эпохи, поскольку они затрагивают общество. Он страстно реагировал на мировые события, и есть рассказ о том, как вспыхнувшая в 1899 году англо-бурская война вызвала в нем такое возмущение, что он бежал на эту войну сражаться на стороне буров, правда не успев убежать далеко.
Часто читаешь о «бравом солдате Швейке», что это был маленький мещанин, чуждый всякой политики. Мне кажется, ничего не может быть неправильней подобного критического штампа. Как раз наоборот! Своеобразие и прелесть характера Швейка, секрет всех его авантюр и основ-пая ось всего романа в том, что этот мнимый простачок Швейк — страстный и прирожденный политик, отлично и ней разбирающийся, сумевший занять в политике талейрановски хитрую позицию, выводящую его сухим из воды всякий раз, как он в эту воду попадает, а лезет он в нее, но свойству своего общественного и политического темперамента, постоянно. И в этом корневая лирико-биографическая связь Гашека со своим Швейком.
Нужно отметить и еще одну склонность Гашека, сыгравшую огромную роль в его жизни и творчестве. Еще с детства любил он бродить по родной Праге, изучая ее вдоль и поперек, а уже в училище эта страсть «щупать ногами землю» (по яркому определению Тараса Шевченко) дала себя знать в долгих путешествиях Гашека по всей стране с заходом пешком даже в соседние балканские страны. Друзья и биографы именуют эту страсть Гашека «бродяжничеством», но такое определение тоже не совсем точно. Есть особый тип бродяжничества, погнавший пушкинского Алеко из города, когда человек занят самим собой, хочет остаться наедине с собой или бежать от себя, и природа для него — лишь среда для растворения одиночества; таков, в сущности, классический тип бродяги-индивидуалиста. Гашек не был таким «бродягой», он скорей напоминает средневекового подмастерья, искавшего по дорогам мира приложения своим силам, или бродяжничество в гётевских «Годах странствий Вильгельма Мейстера» как последний этап школы познания мира и общества; Гашек никогда не был праздным и одиноким в своих скитаниях. Он на каждом шагу буквально обрастал людьми и событиями, и что нн шаг в этих путешествиях — то новелла.
Пускаясь в путь, Гашек с головой окунался в жизнь. Он знакомился, находил попутчиков, участвовал во всех дебатах, агитировал среди крконошских горняков, разыгрывал ненавистных ему представителей духовенства, останавливаясь на ночевку то у католического, то у протестантского священника, — словом, непрерывно оставался в человеческом обществе. Это был счастливый период накопления материала, первый необходимый этап творчества, а вовсе не бродяжничество ради бродяжничества, как бывает спорт ради спорта. Есть очень характерный рассказ Гашека, где он высмеял альпинизм как таковой —, восхождение на вершину ради самого восхождения. Какой-то ловкий делец нашел еще не исхоженную туристами девственную вершину, устроил у ее подножия гостиницу и стал зазывать всех альпинистов рекламами своей вершины. В этом рассказе, который ведется от первого лица, Гашек отправился на штурм вместе с проводником, съел и выпил все, что приготовлено было хозяином по дороге на вершину в специальном павильоне для подкрепления сил смельчаков, и вернулся обратно в гостиницу[126]. Такой же насмешкой над спортом ради голого спорта звучит новелла «Марафонский бег».
Нет ничего удивительного в том, что семнадцатилетний Гашек, уже имевший за душой не одну стычку с австрийской полицией, богатую опытом учебу у аптекаря, месяцы странствия по родной земле, набрал огромный для своих лет материал и начал, еще будучи в училище, не только писать рассказики и фельетоны, а и печатать их. Первый его рассказ появился в газете «Народны листы» 20 августа 1900 года. И с тех пор в самых разных печатных органах пали появляться его остроумные репортерские заметки, очерки и рассказы. Один из учителей коммерческого училища, высоко ценивший талант Гашека, предсказывал даже, что он сделается чешским Марком Твеном.
Однако чешскому юмористу еще рано было делаться профессионалом со случайным заработком. «Академия» окончена в 1902 году с отличием, и чуть ли не на следующий день Гашек уже сидит на службе в том же банке «Славия», где до самой своей смерти служил и его отец. Жалованье — шестьдесят крон в месяц, и это большой вклад в семейный бюджет. Гашек начинает как будто тянуть ту самую лямку, какую безропотно тянули вокруг него тысячи его соотечественников, граждан старинного города Праги.
Но вся его натура бунтует против такой доли. Гашек, которого критика так любила именовать мелким буржуа, органически не может им стать. Он стремится высвободиться из своих пут и через год оставляет службу. Средством к свободе служит литература. Талант его так ярок, так много есть у Гашека, что просится на бумагу, так богат и содержателен его запас наблюдений, что не писать он уже не в силах. А вокруг выросла новая эстетствующая молодежь, та «высокая» городская «богема», которая задает тон в читательских кругах. Я называю «богемой» как раз молодых в те годы (начало 90-х) поэтов, тему которых составляли исключительно любовные переживания. Эта «лирика чистой воды», царившая в тогдашней поэзии, несомненно, имела и свои классовые корни в обеспеченных слоях общества, и, должно быть, среди сторонников и творцов ее были и выпускники той повышенного типа гимназии, которую в свое время по удалось кончить Гашеку. «Богема» — такое же растяжимое попятие, как и «мещанство». К Гашеку приклеили ярлык богемы только потому, что он любил бывать в кабачках, любил свою кружку пива и пол-литра вина, любил странствовать пешком и, может быть, был небрежен в своих привычках и в одежде. Но забывают при этом, что Гашек никогда не был и не мог быть бездельником, он вынужден был по-настоящему работать с детских лет, и жизнь для него никогда не превращалась в то бесхребетное состояние «скуки от безделья», «нытья от безделья», стремления к туманной красивости, к романтической неясности и отрыву от действительности, к чистому искусству, какие характерны для молодежи, существующей на «прибавочную стоимость», на сродства своих родителей. Именно безделье и отрешенность от практики жизни характеризуют то, что можно назвать объективным источником «богемы»; и надо твердо сказать, что в этом смысле Ярослав Гашек никогда не был и но мог быть причастен к богеме, подобно тому как не мог он превратиться в мещанина.
Изучая дух и характер его раннего творчества, мы видим, что с самых первых опытов в литературе он был подлинным реалистом и но содержанию и по форме; был непревзойденно конкретным мастером реалистического сюжета; был борцом за правдивое отражение действительности. Необычайно здоровым, трезвым духом веяло от его писаний, и даже сознательные гиперболы и гротески, которыми он часто пользовался, были отражением его страстной потребности послужить реальному делу жизни. Первая книга, которую он и его друг Ладислав Гаек выпустили, была остроумным ударом по тогдашней эстетствующей богеме, по «лирике чистой воды». Книжечка стихов «Майские выкрики» состояла из тринадцати стихотворений Гашека и остальных — его друга Гаека, начинавшиеся романтически, подобно тогдашней моде, и кончавшихся острой пародией на любовную поэзию.
Ярослав Гашек противостоял господствующим течениям не только своими пародиями и рассказами, но и своей публицистикой. Незадолго до первой империалистической войны, ставшей переломным этапом его жизни, он писал в статье «Социальная поэзия» о современной ему литературе:
«…Бедняки в стихах и рассказах всегда томятся, а в качестве выхода там и сям показывается только кусочек утренней зари. Рабочие позволяют себя расстреливать, но не защищаются. Работница, обольщенная сыном фабриканта, убивает своего ребенка, а не его отца. Рабочих всегда убаюкивают колыбельной песней о надежде на великую красную зарю, которой надо дожидаться… Когда же мы наконец услышим песню без фраз? Когда же мы, наконец, прочтем социальный рассказ, в котором не только брюзжат, когда же мы, наконец, увидим на наших сценах настоящую социальную пьесу или рассказ победоносного восстания, песнь мятежа, гимн победоносного пролетариата?»[127]
Сохранились благодаря другу Гашека Лоигену и замечательные слова, сказанные Гашеком жене Лонгена, Ксанхен, после того как война уже разразилась. Для замкнутого человека, никому не открывавшего себя, эти слова просто удивительны по прямой своей откровенности. Видно, что, высказывая их, он хотел оставить нечто вроде своей профессиональной исповеди:
«…Думаю, что искусство есть глубочайшее раскрытие истины… Но я, несомненно, яснее ощущаю социальные движения, противоречия, конфликты и социальное развитие, и они чрезвычайно важны для моей литературной работы. Рабство и человеческое тупоумие, низводящие жизненный уровень до низших ступеней, управляют миром, и против этого гнусного положения надо бороться. И искусство должно отражать эту борьбу. Долг художника сейчас состоит в том, чтобы, вскрывая правду, бороться против темных сил, которые управляют человечеством, как стадом в пампасах. Товарищи, рисуйте истину самыми яркими красками… это будет только полезно для хорошего дела. Я думаю, что в недалеком будущем искусство будет могущественным фактором. И наиболее нужными будут те художники, которые обладают широким кругозором и буду) беспощадно служить истине Мещанство, самодовольство, кокетство и мелочность — позор для художника. Эти отвратительные свойства погубят всякого литератора. Товарищи, мы должны быть сильными, чтобы не погрязнуть в болоте. Может быть, мы получим там хороший корм, но мы погибнем. Искусство же есть жизнь в движении, живая правда, которая поглощает все наше существо. Я ненавижу гниль и стоячие воды. Теперь мы видим, каким все было прогнившим, убитым, ослепшим, теперь, когда свора властителей натравливает людей друг на друга для взаимного истребления. Я… не отрицаю борьбы. Но бороться ради выгод капитала и не знать, за что идешь на смерть, — это вершина человеческой глупости. Если уж борьба, так настоящая борьба. Убивать во имя определенной идеи и знать, зачем и за что получишь пулю в лоб, — это я понимаю… Я хотел бы драться, как Геркулес, если бы у меня были соответствующие характер и мускулы! Ну, а так я должен довольствоваться описанием всякою скотства, о котором мои господа коллеги самого плохою мнения. И разве я могу не напиваться, когда я на каждом шагу встречаюсь с этой страшной правдой…»[128]
Вот с такими чувствами и в таком настроении Ярослав Гашек, мобилизованный в 1915 году, отправился на фронт по тем же дорогам, какими впоследствии шел и его Швейк.
2
Но прежде чем рассказать о рождении на фронте Швейка и втором рождении самого Гашека, посмотрим, как протекли двенадцать лет его писательской жизни в Праге — период не только очень продуктивный для него творчески, но и наиболее затуманенный для исследователей бесчисленными «анекдотами». Почти львиная доля рассказов о его выходках и баснословных приключениях («политических дурачествах», как выражаются биографы) в сборнике «50 анекдотов из жизни Гашека» относится именно к этому времени.
Вступив на профессиональный путь человека пера, Гашек определил и свое отношение к действительности: он вошел в партию анархистов и в редакцию анархистского журнала «Омладина». Позднее в анкете «чешско-словацкого коммуниста, члена РКП (больш.)», заполненной им 19 ноября 1920 года[129], он пишет в ответ на вопрос, где и в какой партии раньше состоял: «Жижков, с 1905, организац. незав. социалистов (анархо-коммунистов)». Надо сказать, что в тогдашних чешских условиях партия анархистов имела много привлекательного для революционно настроенных людей искусства, создавая им видимость большой личной независимости и смелой общественной деятельности. Анархисты опирались и на рабочую массу в угольном районе на западе Чехословакии. Нужно ясно представить себе всю тогдашнюю слабость чехословацкого социалистического движения, чтоб понять, почему Гашека потянуло именно к анархистам.
Другая партия — чешских национал-социалистов, с которой Гашека роднила ненависть к австрийской империи, отталкивала его своей близостью к чешской буржуазии, которую он ненавидел не меньше, чем австрийских чиновников. Оставались анархисты, и он пошел к анархистам, правда ненадолго: через три года он ушел и от них. Да и в самое горячее время работы в «Омладине», где он просиживал целыми днями, редактируя материал, — обросший как медведь, с неизменной своей длинной трубочкой в зубах, — Гашек ухитрялся вдруг надолго исчезать. Он срывался с места — его тянула земля — и опять «щупал ее ногами», раз даже дойдя до самого Нюрнберга. Обычно он уходил без копейки в кармане, полагаясь на свои рабочие руки. В Нюрнберге проработал вместе со сборщиками хмеля и домой вернулся по этапу.
Но в 1906 году появилось нечто, приковавшее его на время в Праге: он познакомился с дочерью штукатура и скульптора, Ярмилой Майеровой, тоненькой чешской девушкой, на время забравшей Гашека в свои руки. Он полюбил ее мгновенно и очень сильно. Родители Ярмилы яростно противились их браку, особенно отец, — он и слышать не хотел о женихе без прочного места и солидного характера. Ярмилу увезли от Гашека в деревню, но он пошел за нею пешком. Он приносил ей жертву за жертвой — он вышел из партии анархистов, нашел себе место редактора журнала «Мир животных», обещал снова вступить в католическую церковь и вступил. Они обвенчались в 1910 году, а через год у них родился сын Ричард, а еще спустя немного они разошлись. Ярмила захватила с собой Ришу и уехала к родителям. Им суждено было еще раз встретиться через несколько лет, когда Гашек вернулся с фронта.
Обычное объяснение кратковременности брака Гашека заключается в ссылке на его невозможный характер. Он пропадал в пражских кабачках; он оставлял жену зачастую без денег; попытки ее бороться с этим были безуспешны… И все-таки была еще причина, почему брак с Ярмилой по принес Гашеку полного счастья. Семья требовала от пего чешской традиционности, мещанской оседлости, полного поглощения заработком, приобретения вещей на сбережения, воскресного отдыха после утренней службы в костеле и прочего и прочего, что было почти обязательно для сословной среды, из которой он взял невесту и к которой по рождению принадлежал сам. Всегда высмеивая в своих рассказах также и себя самого или то, что случилось с ним самим, он в «Исповеди холостяка» и особенно в неожиданном конце этого рассказа дает заглянуть в свое отношение к мещанскому браку как к ловушке, куда загоняют человека, потому что он сам ее себе выкопал. Сила его сатиры и юмора становится в годы любви его к Ярмиле еще более режущей, темы его юморесок углубляются, необходимость писать во множество газет и журналов, подчас таких, как «Женское обозрение», помогает ему из юмориста становиться и серьезным публицистом. Но ни в одном из этих острых и блестящих образчиков его неутомимого пера нет ни на грамм того, что можно было бы назвать лирическим. Переживаемое им чувство выразилось в выросшей продуктивности, но не в перемене темы или тона. В 1907 году, еще до его брака, произошла в его жизни одна из самых важных встреч, без которой, может быть, образ Швейка не дошел бы до человечества в том его пластическом выражении, какое сейчас знают и любят миллионы людей. В типографию, где печаталась «Омладина», зашел художник Иозеф Лада. Он увидел там круглощекого паренька с детски наивными глазами, пухлыми женскими щечками и губками, скромно углубившегося в корректуру, и оставил нам в «Летописи своей жизни» интересные страницы, посвященные этой встрече. Лада никак не предполагал, что этот наивный паренек — прославленный сатирик Ярослав Гашек, чьи юморески в 1907 году уже составили ему известность во всей стране. Лада воображал его похожим по меньшей мере на Вольтера или тогдашнего модного французского драматурга, обличителя буржуазных нравов Викторьена Сарду — и в первую минуту почувствовал себя глубоко разочарованным. «Но так можно было думать лишь до тех пор, покуда Гашек не заговорил»[130]. При первом же слове блеск остроумия' и меткость характеристик Гашека так ослепили собеседника, что каждое словечко показалось ему как бы навеки наклеенным на предмет. Хотя первую книгу Гашека «Бравый солдат Швейк и другие занимательные истории», вышедшую в 1911 году, иллюстрировал еще не Лада, а Карел Штрофф, именно Йозефу Ладе суждено было найти выразительнейший образ Швейка, воспроизводившийся потом всегда и всюду и тоже оказавшийся «как бы приклеенным» к оригиналу.
В качестве редактора и сотрудника журналов и газет: «Мир животных», «Чешское слово», провинциального «Переплетного дела» и даже «Женского обозрения» — Гашек оставил по себе множество анекдотов как изобретатель несуществующих животных, вроде мухи с шестнадцатью крыльями, которыми она обмахивается, как веером, — в «Мире животных»; как сочинитель необычайных городских происшествий, над которыми вся Прага помирала со смеху, — в «Чешском слове»; как автор передовицы, серьезно предупреждающей читателя не брать в руки переплетенных книг, поскольку клей, на переплеты употребляемый, ядовит, — в «Переплетном деле» и т. д. Но работа Гашека отнюдь не была только анекдотической. Не говоря уже о серьезных политических выступлениях, например его статье «Чернова» в женском журнале, где он страстно обрушивается на австрийскую политику омадьяривания словаков, — Гашек в своих фельетонах непрерывно подтачивает устои бюргерского уважения к лоскутной империи, страх перед ее чиновниками, чувство ее прочности и долговечности. Он дал выход возмущению чешского народа австро-немецким насилием в непрекращающемся, язвительном, бичующем, уничтожающем и в то же время неуязвимом для жандармов смехе над всей системой этого насилия, над ренегатами из чешского народа, кто сам служил в рядах насильников, над духовенством, осенившим насилие своим крестным знамением, — и его сверкающая, несравненная сатира воспитывала, образовывала, подбадривала, поучала, открывала глаза читателям, казалось бы только весело смеявшимся над его рассказами. Он не прекратил эту работу подтачивания австрийской империи и осмеяния собственной продажной буржуазии и после того, как жена с ребенком ушли от него. Произошло это в 1912 году. Гашек не знал, что в этот год пришла в Прагу весна человечества, пришли новые люди, заложившие фундамент для грядущего справедливого мира, в борьбе за который и ему пришлось скоро участвовать: в январе 1912 года в Праге на конференции Российской социал-демократической рабочей партии оформилась партия большевиков, и Ленин ходил в эти дни своей легкой, стремительной походкой по старинным, едва опушенным изморозью улицам древнего города Праги…
Но об одном из «политических дурачеств» Гашека хочется все же рассказать подробнее: так метко ударило оно по всему слою приверженцев политического оппортунизма. Шли выборы в австрийский парламент. Предвыборная кампания разыгралась в самых посещаемых кабачках и кофейнях, «ресторациях» Праги. Хозяева их потирали за стойками руки: в кассу текло золото. Но не радовался хозяин жалкого кабачка «Кравин» на окраине города, в районе Винограды, — у него было пусто. И вдруг знаменитый чешский сатирик, от одного имени которого у пражских старожилов расползалась по лицу улыбка, объявил этот кабачок местом предвыборных собраний новой партии — партии «умеренного прогресса в рамках законности», основателем которой и первым кандидатом в парламент был он сам. Пошла в ход мощная предвыборная литература, печатались воззвания, устраивались митинги. Гашек выступал с захватывающими речами, украшенными всеми фигурами красноречия, как речи Цицерона против Катилины, но от содержания речей, превращавших в потеху политическое соглашательство и обывательское «чего изволите», слушатели помирали со смеху. В кабачок нельзя было протиснуться, толпа стояла за дверями. Каждый прогресс обходится черт знает во что человечеству, вещал Гашек. Вот, например, молочница такая-то купила йоркширскую свинью вместо родной, домашней, — и что же? Та ей принесла и всего-то трех поросят, в то время как… Швейковские сравнения текли потоком, сбивая с толку усталых австрийских сыщиков, тщетно искавших, к чему бы придраться. «Будем прогрессировать с разрешения начальства ровно настолько, насколько позволено, — и волос не упадет с головы нашей», — взывал со всей серьезностью Гашек; и не к чему было прицепиться сыщикам. Поэт Иозеф Маха сочинил гимн «Мирного покрока» (прогресса); его торжественные ямбы пелись толпой в конце каждого собрания:
At’ prudký pokrok chtĕ jí jiní, násilím zvrácet svĕta rad, my pokrok mirný chceme nýní, Pán Hašek je náš kandidát! (Иные хотят стремительного прогресса, насильем опрокинуть мировой порядок, мы хотим мирного прогресса ныне. Пан Гашек — наш кандидат!)И выборы происходили всерьез, а пан Гашек получил даже тридцать восемь настоящих голосов. Невольно спрашиваешь себя: что могло бы произойти, если бы Гашек — Швейк и действительно попал в австрийский парламент?
Но самым замечательным в этой истории был все-таки ее конец. Когда спустя несколько лет больной Гашек вернулся из России на родину и увидел, что делается в «свободной» Чехословацкой буржуазной республике (провозглашенной 28 октября 1918 года) и как ведет себя в этой республике чешская социал-демократия, он созвал «второй съезд партии мирного покрока» и торжественно «распустил» ее со следующим постановлением: самороспуск партии вызван ее ненужностью, поскольку ныне «чешская социал-демократия целиком приняла программу умеренного прогресса и в желательной осторожной форме вступается за постепенное необременительное для властей, церкви и богатых людей урегулирование экономических отношений…».
3
Раздался выстрел в Сараеве. Зашмыгали по кабачкам австрийские сыщики-бретшнейдеры. Запахло войной. Это были минуты зачатия нового, большого Швейка, «Швейка в империалистической войне».
В 1915 году Ярослав Гашек был мобилизован и отправлен в Будейовицкие казармы, где, совсем как Швейк, он лечился от ревматизма. Потом он проделал тот самый путь, о котором мы читаем в его романе. И живые действующие лица его книги: фельдкурат, обер-лейтенант Лукаш, писарь Ванек, капитан Сагнер и множество других — стали крепко врастать в изумительную память художника и переплавляться в ней, принимая черты типовые. Настолько сильно проникновение действительности на страницы «Бравого солдата Швейка», что, например, некоторые биографы Гашека печатают в книгах о нем реальные фотографии фронтовых прототипов его романа, и мы видим живые лица тех, о ком читали и кого уже раз видели спародированными в великолепных рисунках Йозефа Лады.
При первом удобном случае Гашек, подобно своему герою, сдался в плен и очутился в городе Киеве, в окрестностях которого было сконцентрировано несколько тысяч чехословацких легионеров, а в самом городе обосновался в то время филиал так называемого «Национального совета» чехословаков, имевшего свой центр в Париже во главе с Масариком. Что такое чехословацкие легионы? Они были сформированы еще при царском правительстве из военнопленных чехословаков для борьбы против немцев. Временное правительство после Февральской революции не изменило их назначения. Легионеров было несколько десятков тысяч.
Ярослав Гашек застал в Киеве ту особенную дореволюционную обстановку, когда чехи в Киеве еще жили национальными грезами о том, как они сбросят наконец иго Австро-Венгерской империи и создадут свою собственную Чехословацкую республику. Масарик был их божком; Париж, где ковали политику для чехов, — своего рода Меккой и Мединой. Война с немцами «до победного конца» — вот тот лозунг, который приковывал чешские легионы к царской политике и целиком отвечал их патриотизму.
«Национальный совет» в Киеве имел свою типографию и свой орган — «Чехослован». Гашек, страстный славянолюб и враг австро-немцев, примкнул к своим киевским собратьям всей душой и работал в «Чехословане», что называется, не покладая рук.
В первое время он как будто безоговорочно разделял взгляды своих земляков. Он увлеченно вел газетную пропаганду и успел написать и напечатать в «Чехословане» своего «Бравого солдата Швейка в плену».
По от Гашека нельзя было припрятать то смешное и комедийное, что проскальзывало в заседаниях киевского «Национального совета» и просилось сатирически на бумагу. Скептик и насмешник не выдержал в нем, — он опять расхохотался, и этот хохот вылился в апреле 1917 года статьей «Пиквикский клуб», напечатанной в «Чехо-словане». В ней он в смешном виде выставил деятельность своих единомышленников, как в былое время высмеивал буржуазных оппортунистов. Статья эта имела немалое значение в его судьбе: недовольное ею начальство послало Гашека на фронт. Имеет она и некоторый интерес для исследователей его творчества — показывает несомненную связь образов «Пиквикского клуба» с тем швейковским миром, которым Ярослав Гашек был в те дни творчески поглощен.
Он вспомнил о Пиквике отнюдь не случайно. Гашек, правда, всегда любил Диккенса, но именно из этого романа кое-что обрело свою чешскую аналогию в любимом герое Гашека, переплавленное, правда, почти до неузнаваемости в другое национальное обличье.
Что характерно для симпатичного слуги Пиквика, молодого Сэмуэля Уэллера? Неисчерпаемое умение к каждому случаю приплести соответствующую параллель из жизни, отвлекавшую внимание его собеседника на побочную дорожку и переводившую в другое русло закипавшие было в собеседнике чувства. Эти бесчисленные параллели Сэма Уэллера, которыми он отводил и успокаивал душу своего толстенького господина Пиквика, были не только приемом характеристики самого Сэма, но и жанровым приемом для всего романа, с помощью которого Диккенс снижал «острые» «конфликтные» вещи до того уровня, при котором они вдруг обретали свою уязвимость. Мне кажется — и это останется решить чешским исследователям художественной ткани «Швейка», — что излюбленный Гашеком прием тотчас же приводить пример «к случаю», неисчерпаемы» в устах его любимого героя, возникновением своим обязан влиянию на него «Записок Пиквикского клуба». Чешский сатирик использовал этот литературный прием для политического сведёния к бессмыслице бесконечных нелепостей австро-венгерского режима в войне и мире.
Где встретил Гашек Октябрьскую революцию: на фронте ли, куда он был послан в наказание за свою статью, как это утверждает один из лучших биографов второй половины его жизни, Владимир Стейскал[131], или в Киеве, как пишет Еланский, утверждающий, что в Октябре он снова был в Киеве[132], — спора, нам думается, быть не может. На этот вопрос ответил сам Гашек в уже упоминавшейся анкете, опубликованной у нас[133] после того, как книга Стейскала была напечатана. Правда, в публикации анкеты есть неточности, объяснимые, вероятно, неверным прочтением почерка Ярослава Гашека (отчество вместо «Осипович» напечатано «Романович», и год рождения вместо 1883 напечатан 1889), но на этой партийной анкете стоит его собственноручная подпись, и она заверена принимавшим ее 19 ноября 1920 года, видимо перед возвращением Гашека на родину. И в этой анкете Гашек сам пишет, что ушел из чехословацкой армии в сентябре 1917 года. Это значит, что Октябрьскую революцию он встретил в Киеве.
Пребывание на фронте, по-видимому, не прошло для пего бесследно. Вернувшись, он начинает видеть и понимать происходящее в «Национальном совете» более критически. Лозунг братания с немцами и Брестский мир еще воспринимаются им, правда, как измена общему делу Антанты и предательство по отношению к чешским чаяниям. Но отрезвление приходит очень быстро.
Всем, кто пережил эти решающие для старого мира дни в самой России в обстановке яркого обнажения классовых сил и классовых интересов, в огромной, как смерч, волне поднимавшегося снизу, из народных недр, человеческого протеста против бойни, насилия, фальши, лицемерия старого общества; всем, кто видел первый блеск зари нового дня и отсвет его в глазах пробуждающегося народа, в глазах бегущих с фронта солдат, — всем людям с живым сердцем, кто пережил это, оставаться долго на узких и ничтожных позициях национального эгоизма было просто немыслимо. И это сделалось немыслимым и для Ярослава Гашека.
Впервые в своей жизни он был прочно и по-настоящему захвачен волной, которая оказалась сильнее его скепсиса и его огромной внутренней сдержанности. Он вошел в революцию, нашел себя в ней и наконец-то ощутил под ногами реальную, прочную почву истории, которой суждено будущее. Гашек раскрылся весь, душевно, сердечно, навстречу этому верному будущему.
Тем временем чехословацкий «Национальный совет» в Париже не бездействовал. Он уже не был для англо-французского капитализма простой кучкой эмигрантов, ненавидевших общего врага. Он имел за собой реальную силу, дисциплинированных и вооруженных чешских легионеров, которыми можно было нанести удар русской революции, не только выведшей из войны своих солдат, но и угрожавшей европейскому буржуазному правопорядку. В кассу «Национального совета» полилось золото. Его русскому филиалу были переведены десятки тысяч английских фунтов и сотни тысяч французских франков.
Сговор между Масариком и Антантой состоял в том, что «Национальный совет» потребует у Советского правительства пропуска чехословацких войск во Францию для подкрепления французской армии не через Архангельск, где будто бы не хватало для посадки судов, а через Владивосток. А на самом деле, по реальному, а не показному плану сговора, чехословацкие легионы должны были занять все Среднее Поволжье, выбить оттуда большевиков и захватить Сибирскую магистраль. План этот был рассчитан на свержение советской власти голодом; предполагалось отрезать жизненно важные промышленные центры и Москву от хлебных районов. Советы согласились пропустить легионеров с тем, чтобы они сдали свое оружие в Пензе, и чехи начали энергично приводить в исполнение свой тайный план.
Русские филиалы «Национального совета», в том числе и киевский, повели пропаганду за отправку легионов во Францию.
Гашек был в то время в Киеве и должен был бы участвовать в такой пропаганде и пером, и устным словом. Но романтический туман в его глазах медленно сползал с вещей и отношений, и в свете разгоревшейся русской революционной зари то, что происходило у киевских чехов и в руководстве легионами, стало обнажать свое неприглядное классовое существо. Раньше Гашек жил в романтике национального воодушевления, когда все люди одной нации кажутся как бы родными. В легионах между офицерами-чехами и солдатами-чехами царствовало сперва сердечное «все чехи — братья», и это увлекало и побеждало Гашека. По сердечность стала линять. Появился начальствующий топ у офицеров. Начали появляться среди офицеров старые служаки австро-венгерской армии и русские белогвардейцы, к весне 1918 года составлявшие до двадцати процентов командного состава легионов. Ненавистным буржуазным духом повеяло от политики тех самых земляков, которых Гашек считал революционными хозяевами будущей свободной Чехословакии. Его пробуждение шло очень быстро, и выразилось оно с той неожиданностью, с какой вдруг происходят духовные перевороты у очень сдержанных и замкнутых людей.
Вместо агитации, какую вели члены «Национального совета» среди легионеров, Гашек стал страстно бороться против отсылки чешских солдат во Францию. Выступая на многочисленных митингах в киевской типографии «Чехослована», он напомнил чехам, что они «потомки таборитов», назвал Табор первой чешской коммуной, а гуситов — первыми коммунистами.
Слово «гуситство» кажется на первый взгляд неуместным в устах насмешника Гашека. По найденные материалы неопровержимо говорят о том, что в самые серьезные минуты самого серьезного периода своей жизни Гашек вдруг, совершенно неожиданно, использует уроки истории Алоиза Прасека для своих политических выступлений:
«На публичных сходках в типографии «Чехослована» Гашек доказывал, что «наша история давно уже решила за нас и определила наш путь. Мы — потомки гуситов, а большевики — прямые продолжатели гусизма. Советская власть осуществляет гуситский коммунизм, а поэтому мы все, без долгих размышлений, должны идти за большевиками и помогать им»[134].
Легко, разумеется, критиковать такие выступления как пример теоретической слабости автора «Швейка». Но для нас важна в данном случае не степень политической сознательности Гашека, а его несомненная глубокая искренность в переходе к большевикам и его умение сагитировать массу чехословацких солдат, найти верный ход к их сердцу и воображению в данный момент именно теми самыми образами и чувствами, какие завладели нм самим.
И слово Гашека, его страстные прокламации, печатавшиеся как обращение к чешским легионерам, его призывы не ехать во Францию, а переходить на сторону русской революции находили себе путь к солдатскому сердцу. В том, что чехословацкая буржуазия называла впоследствии «разложением легионов», его слово, несомненно, сыграло свою роль.
Один из тех очевидцев, кто был в Самаре в 1918 году, когда ее захватили чехословацкие легионеры, рассказывает о такой сценке. Он шел в сентябре 1918 года со своим товарищем мимо самарской тюрьмы, где сидели арестованные чехословаками большевики. Товарищ вел за руку девочку, мать которой была в этой тюрьме.
«— Где твоя мата? — спросил товарищ.
— Ее чех взял, — пролепетала малютка.
— Не чех, а офицер, — угрюмо поправил стоящий на карауле у тюремной стены чешский солдат»[135].
Не чех, а офицер — в этом заключалась та простая правда, которая просачивалась постепенно в сознание легионеров, и в этом прояснении сознания своей «каплей меда» участвовал и Гашек-пропагандист.
Когда его бывшие киевские соратники бежали из осажденного большевиками Киева за рубеж, Ярослав Гашек остался, поехал с большевиками в Москву, где и вошел в чешскую секцию Российской коммунистической партии большевиков.
Он стал ценнейшим работником для советской власти. А советский строй сделался для него той силой воздействия, какого не смогли оказать ни родные, ни пражские друзья, ни жена Ярмила. Он совершенно изменился и даже внешне перестал быть похожим на своего Швейка: похудел, подтянулся. О том, как Гашек работал в России, сохранилось много рассказов, немало документов и несколько авторитетных характеристик.
Вот что рассказывает писатель Иван Ольбрахт. По приезде в Россию он стал с любопытством расспрашивать о Гашеке. Ему отвечали: «Товарищ Гашек, Ярослав Осипович, — один из лучших людей, которые есть у нас». «Я недоверчиво усмехался, — пишет Ольбрахт, — но приходили новые и новые люди, авторитету которых нельзя было не верить, и все хвалили Гашека и рассказывали о его героизме, который on показал в боях, о его уме и организаторских способностях, о его исключительном трудолюбии и услугах, которые он оказывал. Сибирский товарищ, военный комиссар Гончарская, сказала мне: «Ярослав Осипович говорит, что, будь у него десять жизней, а не одна, он бы их с радостью пожертвовал ради власти пролетариата. И я ему безусловно верю. Он это доказал не раз». Такие слова в России зря не говорят. «А не пьет?» — спросил я. «Ярослав Осипович? Что вы, товарищ, говорите?»[136]
Те, кто пережил эту весну человечества одновременно с Гашеком, знают, насколько сильно подхватывало и пронизывало душу в те дни большое счастье абсолютного соответствия нравственных требований совести с могучей тенденцией действительности. Истина глядела в душу человека, в сердце; воздух был насыщен ее пафосом, и Гашек находил в себе гигантские силы, чтоб работать, как работали тогда многие советские люди, — с совершенною самоотдачей. Ему не только доверяли, его облекали почти полной властью на доверенном ему участке. Вот характерный образчик этой власти. Вскоре после венгерской революции в номерах газеты политотдела V Армии «Новый путь» от 25 и 26 марта 1919 года (№№ 56 и 57) он помещает такое объявление:
«ВСЕМ ВЕНГЕРСКИМ ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В УФИМСКОЙ ГУБЕРНИИ
В Венгрии победила пролетарская революция. Вся власть в Венгрии перешла в руки рабочих и крестьян. Отныне Венгрия объявлена Советской Республикой. Она состоит в оборонительном союзе с Российской Социалистической Республикой.
В силу этого союза против врагов рабочего класса Объявляю всеобщую мобилизацию до сорока год всех венгерских граждан, проживающих в Уфимской губернии. Они должны записаться в трехдневный срок в Губернском Военном Комиссариате в городе Белебее. С не подчиняющимися этому приказу будет поступлено как с предателями Венгерской Социалистической Республики.
Уполномоченный Австро-Венгерским Советом Рабочих и Солдатских Депутатов Ярослав Гашек»[137]Это был язык первых лет революции, язык солдата революции, готового пойти ради нее на все жертвы и потребовать беспрекословного подчинения законам революции от других. Фактически путь Ярослава Гашека за эти годы может быть коротко прослежен по всем этапам, начиная с отправки его из Москвы весной 1918 года на партийную работу в Самару.
Что происходило тогда в среде его земляков? Выполняя в точности план Антанты, чехословацкие легионы двинули свои силы на молодую Советскую республику. По договору с советской властью они должны были, как уже сказано, сдавать свое оружие в Пензе, оставляя лишь немного винтовок для своих патрулей. Но договора они пе выполнили, припрятав у себя всеми правдами и неправдами свое вооружение. Весной 1918 года медленно двинулся их огромный поток через всю Россию. «В половине мая головные эшелоны миновали большое сибирское озеро Байкал, в то время как хвост их находился в районе Пензы»[138].
В конце мая вспыхнуло восстание чехословаков. «25 мая 1918 года одна группа чехословаков под начальством генерала Гайды выступила в Сибири и уже 26 мая захватила крупный центр, г. Новониколаевск. В тот же день, 26 мая, чехословаки под командой Войцеховского овладели Челябинском, а почти в то же время чехословацкие эшелоны полковника Чечена, находившиеся еще в Европей-гкой России, овладели городом Пензой и Сызранью. Везде выступление чехословаков сопровождалось разгромом местных Советов и истреблением коммунистов»[139].
Самара была занята 8 июля полковником Чеченом, и если б Гашек сомневался в своем выборе, был в нем неискренен, он двадцать раз с величайшей легкостью мог бы соединиться с легионерами. Но Гашек вел себя как преданный большевик и красноармеец. Он долго скитался по Самарской губернии под видом помешанного сына ташкентского немца-колониста, пробираясь к Симбирску. Это был, как сам он юмористически называет свои двухмесячные «каникулы», единственный роздых за все три года его непрерывной партийной и военной работы. Но «каникулы» Гашека сопровождались разведкой о настроении и продвижении чехословацких солдат и, разумеется, были огромным риском.
В Бугульме Гашек присоединился к только что сформировавшейся V Красной Армии, вошел в состав ее политотдела и прошел с нею славный путь через Уфу, Челябинск, Омск, Красноярск, Иркутск.
В Уфе переболел тифом и вторично женился — на простой русской девушке, ходившей за ним и спасшей его от смерти «огуречным рассолом»[140]. Эту девушку, Александру Львову, он взял потом с собой на родину, и она же, оставшись с ним до его смерти, закрыла своему «мертвому Ярославчику» глаза.
Все, что требовалось делать пером, — издание газет, писание статей, организация материала — Гашек делал с неутомимой энергией. Руководитель политотдела V Армии Файдыш в те времена, когда похвала политической работе писателя, да еще иностранца, давалась с исключительной скупостью и осторожностью, отозвался о ном как о старательном и надежном политработнике.
В Уфе Гашек несколько месяцев был комендантом типографии, где издавалась газета «Наш путь», и секретарем партячейки. Он писал в «Нашем пути» и сменившем его «Красном стрелке» множество фельетонов, статей, очерков. Среди них страстная статья об убийстве Карла Либкнехта и Розы Люксембург с призывом мстить за них, анализы стратегии белых, политического положения сибирского правительства, едкий фельетон «Из дневника уфимского буржуя», напоминающий пропагандистские выступления Демьяна Бедного. Одновременно он выступает на митингах, читает доклады и лекции, вовлекает иностранцев, настроенных революционно, в Красную Армию. А в августе Гашек становится начальником интернационального отделения политотдела V Армии, и под его руководством работает целый штат инструкторов. Еланский пишет в своей статье, что в годы 1919–1920 Ярослав Гашек участвовал в самой разнообразной работе политотдела как член коллегии и принимал участие «в обсуждении и решении самых серьезных вопросов вплоть до обращения в отдельных случаях непосредственно в ЦК РКП (б)»[141].
В Челябинске за август — сентябрь 1919 года Гашек в отчете о деятельности заграничной секции политотдела, которой он заведует, делает интересное сообщение о том, что, «помимо чисто политической деятельности, секция помогала экономической политике Советской республики и организовала для работы на заводах и фабриках 468 специалистов из иностранцев»[142].
В декабре 1919 года Ярослав Гашек в Омске. Здесь ему пригодилось его знание многих языков: он издает армейские газеты на русском, немецком, венгерском и сербском языках. И сколько статей, писанных его собственной рукой, разбросано по этим газетам!
В Красноярске в одном доме с Гашеком жил русский коммунист, тогдашний руководитель политотдела V Армии. Он сказал Карлу Крейбиху, что Гашек «работал хорошо… Он не был марксистом или коммунистом в теоретическом смысле, но он был сознательный революционер. О роли нашей революции он имел правильное представление и хорошо знал, какому делу он служит»[143].
Чем дальше, тем глубже входил Гашек в свою неутомимую работу. Последним этапом в ней был для него Иркутск. Совсем недавно к имеющимся уже документам его иркутской деятельности были прибавлены новые, крайне интересные для исследователя жизни и творчества Гашека. В Чехословакии в 1955 году, в журнале «Свет Совету», было опубликовано Зденой Анчиком письмо Гашека из Иркутска, в котором он как бы обозревает весь свой пройденный за три года путь. А у нас, в журнале Института истории Академии наук «Исторический архив», в 1956 году были опубликованы В. П. Скороходовым анкета и две недавно найденные статьи Гашека: «Белые о У Армии» («Красный стрелок», 15 августа 1920 года) и «Чешский вопрос» («Власть труда», орган Иркутского губ-кома РКП (б) и губернского революционного комитета, 21 апреля 1920 года).
Из двух статей первая представляет собою остроумную подборку цитат из белогвардейских газет, характерных для отступающего и лгущего своим солдатам белого командования. А вторая — очень трезвый и ясный анализ всего, что происходит в чешских войсках. Он делит чехословаков в этих войсках по настроению на четыре группы:
«1. Национальные «социалисты» — мелкобуржуазный элемент, крайне национальный. Они не социалисты. Дома, на родине, организовывали желтые союзы.
2. Чешские социал-демократы, соглашатели. Считают себя «передовыми в рабочем движении», но на деле тормозят социалистическое движение; они правее русских меньшевиков.
3. Чисто буржуазный элемент правоэсеровского типа — офицерство, чиновничество и интеллигенция.
Здесь все буржуазные партии. И бывшие реалисты (лидером которых был профессор Масарик), и чешские кадеты (либералы-младочехи).
4. Насильно мобилизованные после известного контрреволюционного выступления чехословаков. Это элемент, который много обещает для пролетарской революции. В эту группу можно поместить и сознательных рабочих-революционеров, они относились с презрением к союзникам»[144].
По недостатку места я не могу воспроизвести статью в целом, хотя она очень заслуживает этого: так по-марксистски четко анализирует в ней Гашек создавшееся для его земляков положение.
В статье, несомненно, отразились занятия Гашека политграмотой, которые он посещал, да и сам вел в партшколе политотдела. «В годы 1919–1920 Гашек в течение многих месяцев был слушателем партийной школы. Это ясно из приказа политического отдела от 10 февраля 1920 года. Приказ этот есть документальное свидетельство того, что Гашек в России систематически изучал основы марксистско-ленинской теории»[145], — пишет Здена Анчик в «Свет Совету» перед публикацией, о которой я говорю выше.
Между Москвой и Прагой ездил для установления связи с чехами, работавшими с Советской Россией, молодой чех, товарищ Салат. От него Гашек осенью 1920 года, будучи в Иркутске, узнал, что в ненавистных ему кругах чешской буржуазии, праздновавшей самостоятельность буржуазной республики, говорят о нем как о «примазавшемся к большевикам». Нельзя было нанести Гашеку большего оскорбления и травмировать его сильнее.
Представим себе зрелого, собранного, накопившего богатый рабочий опыт, дисциплинированного бойца и работника политотдела Красной Армии самых ярких лет революции, о которых до сих пор звенят и не умолкают лучшие советские песни. Он чувствует себя нужным, любимым в своем коллективе, уважаемым за свою работу. Он держит себя в руках, становится на горло старым своим привычкам. Он действует на территории огромного радиуса. Еланский пишет, что он был комиссаром на территории, где поместилось бы несколько Чехословакий[146].
И он свыкся с Сибирью, горячо полюбил ее людей, ее снежные зимы, ее могучую природу. Ранней весной в Красноярске он мог часами стоять у окна и смотреть на величественный ледоход Енисея… И этот человек, этот новый Ярослав Гашек вдруг опять получает укол в самое сердце от соотечественников, которые смотрят на него сверху вниз, вспоминают о нем неуважительно и с презрением, как о посетителе пражских кабачков, не способны оценить его гениального дарования и даже не считают его писателем.
Семнадцатого сентября 1920 года Гашек пишет Салату из Иркутска:
«Дорогой товарищ Салат!
Только что приехал товарищ Фриш и привез мне от Вас письмо и литературу, которые я получил с большою радостью. Особенно вовремя пришла Богданова «Философия опыта», которая нужна мне как материал для лекции, которую мне предстоит сделать в понедельник в одной из школ для курсантов-псхотинцев.
Письмо меня порадовало. Оно говорит о том, что на меня уже не смотрят как на непостоянного человека. Непостоянство я утратил за тридцать месяцев неустанной работы в коммунистической партии и на фронте, за вычетом небольшого приключения, когда братья-соотечественники штурмовали Самару в 18-м году, а мне пришлось в это время, прежде чем я пробрался в Симбирск, блуждать по Самарской губернии, играя роль идиота от рождения, сына немецкого колониста из Туркестана, который ребенком убежал из дому и бродит по белу свету, чему верили даже хитрые патрули чешских войск, проходившие по краю.
Путь от Симбирска до Иркутска я шел с Красной Армией, когда на мне лежали тяготы разных важных обязанностей, партийных и административных, и это наилучший материал для полемики с чешской буржуазией, которая твердит, что я «примазался», как ты пишешь, к большевикам. Они сами не могут обойтись без идеологии слова «примазаться». Они старались примазаться к Австрии, затем к царю, потом они примазались к французскому и английскому капиталу и к «товарищу Тусару»[147].
Если бы я захотел рассказать и написать о том, какие я имел «должности» и что вообще делал, на это бы действительно но хватило всего небольшого запаса бумаги у нас в Иркутске…»
И дальше, давая прорваться своей глубокой оскорбленности, с какой-то шевченковской силой и терпкостью речи он пишет, что если поедет в Чехию, то не для любования подметенными улицами Праги, а для того, «чтобы нахлестать по заду все славное чешское правительство»[148].
Скоро, во второй половине ноября 1920 года, Ярославу Гашеку действительно пришлось выехать на родину. Он ехал туда по чужому паспорту, через буржуазную республику Эстонию (где его встретили на стенах афиши, обещавшие пятьдесят тысяч марок тому, кто поймает и доставит властям его, Ярослава Гашека). Описание этого путешествия на родину юмористически дано в рассказе Гашека «Возвращение». Но юмор в этом рассказе уже не прежний; он сделался злей и суше, в нем много душевной горечи, — слишком велика разница между двумя мирами: тем, где он прожил три года большим и уважаемым творческим работником, и тем, где жил тогда эстонский народ под властью своей национальной буржуазии, lie та же ли атмосфера встретит его на родине? Сквозь горький юмор этого рассказа вдруг, неожиданно, невероятно для Гашека, просочились на его страницы настоящие слезы.
Ими как будто оборвалось что-то в душе гениального писателя — оторвался большой и самый светлый кусок его жизни.
Пароход, на котором едут Гашек и другие иностранцы, отходит от эстонских берегов. Гашек пишет:
«Я тихонько закрываю двери и иду подышать чистым воздухом на нос парохода, который дает сигналы другому пароходу, везущему русских военнопленных. Все наши вылезают на палубу. На пароходе русские выбрасывают красный флаг. Пароходы встречаются, и между ними завязывается разговор. Он и мы машем платками, кричим «ура», и у многих из нас начинают из глаз брызгать слезы, которых никто не стыдится. Еще долго несутся наши взаимные приветствия по широкой морской глади залива…»[149]
4
Ярослав Гашек снова появился в Праге 19 декабря 1920 года, в канун большой рабочей забастовки, проваленной предательством чешских социал-демократов. Гашек жил по возвращении на родину, если быть точным, только два года и пятнадцать дней. За этот ничтожный срок и написан, в сущности, «Бравый солдат Швейк», огромный роман, известный всему человечеству. Предыдущие рассказы о Швейке были эскизами к роману. За эти два года создано Гашеком, кроме основного труда всей его жизни, еще и немало сатирических рассказов, совершенных по своей форме и беспощадных по содержанию. Помещая лучшие из них в газете «Руде право», Гашек выполнил свое обещание — «нахлестать по заду» правителей буржуазной республики. Наконец, за эти два года он написал в содружестве с Лоигеном сатирическую комедию, в содружестве с Эрвином Эгоном Кишем другую… И нельзя даже считать это время за полных два года: последние несколько месяцев Гашек был тяжело болен, друг его Лонген, с которым он вместе работал, слышал его ужасные стоны от непереносимой боли.
Тотчас же по приезде на него обрушилась отвратительная клевета людей, которых когда-либо кусало его перо. В чем только не винили Гашека и какой только грязью не обволакивал его «сладкий дым отечества» со страниц буржуазных газет! Его называли предателем, изменником родины, убийцей легионеров, врагом чешского народа. Перед ним закрывали двери многих пражских «рестораций». Гениальный писатель, будущая гордость мировой литературы, создатель бессмертного романа должен был писать его, скитаясь по друзьям, затравленный, бездомный, униженный, оплеванный в самом святом и светлом, что было в его жизни. И ко всему этому прибавилось еще чисто швейковское унижение: против него возбудили судебный процесс по обвинению его в бигамии — за то, что, брошенный своей женой, он спустя пять лет нашел себе другую подругу…
Странно поэтому читать у многих серьезных исследователей Гашека своего рода укоры — с попытками извинить его — за то, что он не сделался политическим деятелем и, приехав из России коммунистом, не влился в ряды чехословацкой левицы, — кстати сказать, раздираемой в то время внутренними противоречиями. Общая обстановка в республике была очень тяжелой и сложной. Я дам о ней слово хорошо ее знавшему одному из основателей Чехословацкой коммунистической партии, Богумиру Шмера-лю. Вот что писал он о тех днях:
«После декабрьских событий 1920 года правительство Чешской демократической республики, имевшее в своем составе после войны большинство представителей социал-демократических партий, обещавшее рабочим путем демократии и эволюции легко и скоро превратить государство в социалистическую республику, внезапно стало на путь насильственного подавления рабочего движения. Оно арестовало три тысячи рабочих, бросило их в тюрьмы и организовало исключительные суды классовой юстиции»[150].
В такой обстановке заканчивал свои дни больной Ярослав Гашек. Художник Панушка увез его в деревню. И там, в Липницах, между простыми людьми, в деревянном домишке, купленном Гашеком перед самой смертью, оборвалась его жизнь. Он умер 3 января 1923 года. Хоронило его все окрестное крестьянство.
Книга о бравом солдате Швейке легла перед человечеством незавершенной. Но произошла необыкновенная вещь. После смерти Гашека ее стали дописывать: сперва друг его Ванек, потом группа чешских коммунистов, а потом — безымянные авторы из народа… Швейк как бы вышел из книги, он стал ходить по родной земле, подмечать недостатки — все недостойное, несправедливое, заслуживающее едкой сатиры и бичевать его острым смехом. Появились новые и новые приключения Швейка. И замечательно, что безымянные авторы (их много, и они множатся)[151] усвоили себе и любимый прием Гашека — приводить в речах Швейка неисчерпаемые параллели и подобия ко всякому данному случаю. Так сам чехословацкий народ продолжает роман своего любимого писателя. И незавершенность «Швейка» становится на глазах современников Гашека истоком новой бессмертной народной словесности.
1958
Письма из ГДР
Письмо первое: Мысли к юбилею
1
Пройдут века, — может быть, годы, — и те, кто придет нам на смену, остановятся, потрясенные, перед исторической панорамой нашего времени. Какой резец, какие кисть и перо — разве что музыка — могут справиться с изобилием грандиозных контрастов, коллизий, противопоставлений, глубинных конфликтов, в атмосфере которых живет наше искусство, почти еще не коснувшееся их, даже но представляющее их себе полностью? Недосягаемыми вершинами стоят до сих пор перед памп темы Шекспира, и время, казалось бы, не только не исчерпало, а все больше углубляет их. А сейчас разыгрывается на сцене истории небывалая в искусстве, вознесенная над всем его содержанием, заслонившая собой и Лира, и Фауста, и Гамлета, тема решающего соперничества двух немецких государств, раздвоившихся на границе переднего края фронта в схватке прошлого с будущим, той схватке, о которой поется в нашем рабочем гимне:
Это есть наш последний И решительный бой…Как-то очень мало думалось нам об этой теме, хотя внешне опа не сходит с газетных полос. Между тем, пережив двадцать лет существования Германской Демократической Республики, тема эта должна предстать перед человечеством во всем ее политико-философском историческом значении.
После войны от старого милитаристского тела Германии отпала небольшая ее часть на Востоке. Эта часть была лишена главного сырья для промышленности — угля, руды. Ни при каком прежнем режиме ей не хватало собственного хлеба — хлеб приходилось ввозить. И опа была частично разрушена. Но прошло всего только двадцать лет, и новое небольшое немецкое государство ГДР, занимающее по своим размерам девяносто второе место в мире, а по числу населения двадцать девятое, стало девятым по выпускаемой им валовой продукции. Девятым — в ряду первой десятки самых крупных индустриальных государств на нашей планете! И продукция его жадно скупается чуть ли не сотней других стран, машины его с высокой похвалой используют у себя чужие цехи, на печатных станках его выпускаются газеты и книги — в разных точках земного шара… А само оно уже кормит себя собственным хлебом, выросшим на собственной ниве.
Как это могло случиться? Ответ показателен не только для самой ГДР. Ответ — и в этом все огромное значенье происходящего — дается для мировой истории, для будущего развития всего человечества. Ведь единственным преимуществом молодого немецкого государства перед его западным соседом был тот факт, что оно стало социалистическим.
Западная Германия долго кичилась перед всем миром своим «экономическим чудом». Известно, с чего началось это чудо: задымили гигантские трубы Крупна, ожила тяжелая военная промышленность, полезли ростки из срубленного, но не выкорчеванного германского пня — древней страсти к захвату и мощи. Западная Германия снова стала потенциалом войны.
Но Восточной Германии помог социализм, и ее защитной охраной от старого мира легла могучая ладонь Советского Союза. Случаются иной раз в истории удивительные символические события, каких нарочно не выдумаешь: в то самое время, как американские доллары помогали вдунуть жизнь в пушки Круппа, советские военные машины развозили по деревням и городам будущей ГДР новые немецкие учебники для ее школ.
Западное «чудо» очень скоро приняло очертания обычных преуспеяний в странах капитализма: неизбежной погони за сверхприбылью, растущей безработицы, роста военной промышленности, роскоши для одних, бедности для других и с тришкиными заплатами временных выходов из противоречий, которым суждено плодиться и множиться. Восточное чудо не так легко рассмотреть и объяснить сразу. Оно готовилось медленно и на большой глубине. И, мне кажется, оно глубочайшим образом связано с трагедией немецкого народа, позволившего себе опуститься до страшного гитлеровского фашизма. Я постараюсь тут рассказать, как распутывается на глазах человечества этот клубок истории.
В самом еще начале военных действий Гитлера наши газеты, как и печать всего мира, уделяли очень много внимания главному приему, каким Гитлер гипнотизировал немцев. Он ввел этот прием в солдатский закон: «Не думать. Думает за солдата фюрер. А каждый сейчас — солдат своей родины». Гитлер как бы повесил замок на мышление, снял с немцев ответственность мыслить. Ведь, только закрыв глаза мышлению и убив воображенье, можно, не содрогаясь, снимать с лица живого узника кожу, чтобы делать из нее дамские сумочки. Спросим себя, почему с первых страниц партитуры Седьмой симфонии Шостаковича мороз начинает вас подирать по коже? Слышишь сухие шаги в их четкой изоляции от всего окружающего, сухие шаги словно не ног, а костей скелетов, нарастающие со страшной силой в мертвом, машинном марше. Это мертвые идут убивать живых, мертвые с вынутыми мозгами, автоматы с вложенной в них фюрером программой… А ведь немцы, именно немцы вошли в мировую литературу как народ прирожденных мыслителей! Народ, у которого национальный характер мышления как бы перерос в отвлеченно человеческий. Когда мы, к примеру, произносим слова «французская философия», «английская философия», память нам приводит ряд имен, национально принадлежащих данным странам. Но стоит сказать «немецкая философия», как тотчас видишь идеалистическую систему идей, достигшую до крайней своей вершины, Гегеля, диалектика которого, революционно перевернутая, стала одним из истоков марксизма-ленинизма.
Русская классика XIX века знала только такого немца — мыслителя, мечтателя. Она воспела «туманную Германию» в лице геттингенского студента, философского спорщика с кудрями до плеч — у Пушкина; в лице одинокого старика музыканта, излившего душу свою в гениальных звуках, — у Тургенева; в лице охваченного гением Гегеля молодого Белинского и революционной гегельянской молодежи. И наконец, мы услышали от Ленина про мыслящий рабочий класс Германии как лучший в мире. Мне кажется, именно дар мышления, создавший Фауста, где красота рождается из мысли, а мысль становится стержнем человеческого стремления и слово, этот концентрат мысли, делается синонимом действия, а действие переходит в формулу свободы:
Кто трудится, вечно стремясь, Того ожидает свобода[152], —мне кажется, именно этот дар мышления, возврат к своей прирожденной черте характера, помог восточным немцам в ГДР понять и принять социализм.
Есть разные способы пережить урок, данный историей. Можно, не раздумывая, набрать в легкие старого воздуха и снова кинуться на пройденный путь, расчищая его кулаками, зубами, ненавистью, местью, застарелой привычкой, — это путь реваншизма. Но можно, приняв свой стыд и пораженье, найти в полученном уроке новый нравственный путь к победе. Этот высокий путь связан не только с совестью, но и с мышленьем. Немцы в ГДР не только приняли, они осознали его. Империализм, крупная буржуазия, убиение мысли в народе привели страну к гибели, позорному, черному клейму варварства. Значит, руководить народом может только новая сила, рабоче-крестьянская власть.
Этому возврату к сознанью помогла как будто сама история. В ГДР оказались крупнейшие центры немецкой духовной культуры: Лейпциг — с его царством книги и книгопечатанья и с типографией, где был выпущен первый номер ленинской «Искры»; Эйзенах — с отчим домом Баха и с революционным музеем создания немецкой социал-демократической партии; Эрфурт — с его знаменитыми цветочными плантациями для всей страны и со следами восстания 1848 года; Виттенберг — город Лютера, молотом разбившего авторитет папства, и Вартбург, где в каменной келье замка Лютер перевел на немецкий язык Библию; Дрезден — с его мировой картинной галереей и с электронной промышленностью; Веймар — овеянный бессмертием Гёте, Шиллера, Гердера и — с Бухенвальдом под боком, напоминающим вечной памятью о пережитом духовном падении; Иена — вошедшая своим именем в мировую фирму точных научных инструментов Карла Цейса, удивительную фирму, где свыше ста лет назад мастер-предприниматель-купец впервые связал творческой связью производство с наукой; Росток — с его верфями, выходом в море и кафедрой в университете, где…
Но тут я опять не могу удержаться от символики, опережающей всякое искусство. Читатель помнит, как в Западной Германии выпущено было в широкий мир прославленное средство для обезболивания родов — и как это средство наполнило мир несчастными калеками детьми, изуродованными, изувеченными еще во чреве матери. Так вот, почти в то же время группой ученых в университете Ростока изучалась методика и создавались средства для прибавки здоровья, облегчения жизни и развития работоспособности у детей, рожденных с психическими и физическими дефектами. Работы профессора Гёльница в этой области считаются передовыми в мире, и к нему ездят на стажировку студенты из многих стран…
Я не перечислила и десятой доли гуманитарного содержания городов, с какими встречаются нынче путешественники по ГДР. Но главное, о чем надо тут поведать читателю, это не совсем обычная, верней, совсем необычная реформа средней и высшей школы, происшедшая и все еще происходящая в этой думающей республике.
2
Необычной я назвала школьную реформу в ГДР, потому что началась она, в сущности, не с самой школы, а с той интенсивной деятельности, какая поставила ГДР на девятое место в мире по выпуску валовой продукции. Сперва, разумеется, проведена была профилактика: сняты нацистские учителя, подготовлены новые, преимущественно из рабочих и крестьян, изъяты старые учебники. Но в ходе замены старого новым обнаружилось, что изгоняются из школ, особенно из высших, не только нацистские наслоения. С ними вместе стали попадать под метлу и все остатки старого, цепкого средневековья, незаметно, как пыль в углах, еще ютившегося в университетах и колледжах.
Мне пришлось перевидать множество университетов в старой Европе, начиная с Оксфордского и кончая Болонским, и всюду — в латинских названиях, в старинных обрядах, в старинных стенах и зарешеченных окнах, в упрямом распределении наук, в их классификации, в самих звучаниях слов «аула», «факультет» — чувствовалась какая-то закоренелая, непобедимая старина, держащая ваше воображение цепкой пятерней даже своими нелепостями, как держит иных снобов своею «стильностью» старая мебель красного дерева, при всем ее громоздком неудобстве… А жизнь рвется в окна обветшалых массив-пых стен.
Жизнь — это новая стадия науки и техники, это научно-техническая революция наступившей эры, где даже на шаг ступить нельзя химии без физики, без биологии, без математики, а тем и другим — без техники, без машин, без производства, без выхода в новый мир космического строительства. В отдельных университетах ГДР (а число их возросло против прежнего в четыре раза) стали как-то сами собой в ходе работ образовываться исследовательские коллективы, выходящие за пределы своего института. Они стали разрабатывать все более комплексные проблемы научно-технической революции. Для этого им понадобилась связь с соседними институтами, с ведущей промышленностью города (а почти каждый немецкий город имеет свой промышленный профиль, и рост числа университетов связан был с необходимостью готовить для него кадры), с местным, общественным и государственным руководством. И, например, в той самой Горной академии города Фрейбурга, где немало русских в прошлом подковывало свои знания, несколько институтов (факультетов) объединилось в одну общую секцию нефти и газа; те же естественные процессы произошли в городе металлургии Магдебурге; в городе химии Мерзебурге; в электронной промышленности Дрездена… И эта из практики возникающая связь, ведущая к тому, что научные открытия стимулируются промышленностью, а промышленность тотчас без всякой формалистики их реализует, привела и к решительной революции в школе. Трещат и падают в академическом мире старые классификации наук и замкнутые организации их по факультетам, трещат и падают сами факультеты. Их сейчас, вот в ту самую минуту, когда я пишу, заменяют секциями. Из девятисот существовавших в республике институтов образовалось всего сто семьдесят секций.
Конечно, не все дается без боя и конфликтов, не сразу уступают ректоры свою факультетскую корону. Но борьба облегчается тем, что им дают «подумать». А пока люди думают, жизнь сама показывает, что лучше, ведь за поворотом открылась далекая дорога, далекая до горизонта, только иди по ней. Секции помогли ГДР ставить научные прогнозы. Прогноз — наше, социалистическое слово; только точная наука о развитии общества дает в руки инструмент для прогнозирования, оставив Западу пресловутых гадалок, хиромантов и астрологов. А верный прогноз ведет к верному планированию. В ГДР, кстати сказать, кое-что запланировано уже до 80-го года, а прогнозы в некоторых областях захватывают 2000 год.
Я не пишу «эклогу» тому, что делается в ГДР. Я знаю, как трудно и тяжко строится новое. Но главная половина от «сделать» — это «захотеть», а главная половина от «за-хотеть» — это ясно «представить» себе, чего хочешь. И потом, ведь каждое правильно заложенное начало несет в себе свою правильную эмбриональную форму развития. Мне только еще хочется сказать два слова о виденных мною в ГДР методах, какими мудрое руководство Социалистической единой партии Германии привлекает всех граждан к созданию нового социального мира. Когда я была на Лейпцигской ярмарке, герб которой две буквы М, вложенные друг в дружку, я увидела вдруг в газете уже не две, а целых три буквы М, вложенные друг в дружку. Оказывается, кроме зрелого и готового мастерства, дважды в году разворачивающего свои витрины и стенды в Лейпциге, молодежь — исследовательская, изобретательская, учащаяся — показывает свое завтрашнее утро мастерства (слово Morgen, завтра) на собственных выставках. И не десятки, а подчас сотни из предложенного этой молодежью реально входят в промышленность, засчитываются наукой. Студентам в ГДР открыт широкий простор для полезного применения их кипучей молодой жажды новизны. Студентов называют в официальных документах партнерами профессоров, они участвуют в научных, общественных и городских советах, подают голос, защищают, оспаривают. И не только студенты! В средней школе как-то задали тему для сочинения: «Что бы я сделал, если бы был бургомистром». И вот ребята среди многих наивных и смешных рассуждений обнаружили такую острую наблюдательность по части родного города, своей улицы, своей школы, что целый ряд их практических предложений был принят городским руководством.
Втянуть как можно больше людей в творческое строительство социализма, раскрыть перед ними высокое наслаждение смелого творческого мышления, снять с них вечный страх ответственности, заставив полюбить эту ответственность и гордиться ею, — вот, мне думается, главная политическая тенденция, с какой встречаешься в ГДР. У меня был в поездке товарищ,' лейпцигский студент-журналист, много рассказывавший о своих профессорах и студенческих кружках. Каким свежим ветром наших двадцатых годов повеяло на меня от его рассказов! Не в отдельных институтах или специальных учреждениях, а в тесной связи с каждой научной кафедрой, в каждом университете преподается марксизм-ленинизм. Вместо сухого изложения изолированных истин эти пауки, как живые сверкающие инструменты в руках хирурга, помогают погружать науку о законах развития общества в материальное тело промышленности и ставить безошибочные прогнозы. Это интересно студентам. Как мы некогда до революции бегали на семинары по неокантианству, новая социалистическая молодежь увлеченно ведет кружки по экономическим, этическим, эстетическим взглядам Маркса и Ленина, изучает ленинские высказывания о Гегеле по его «Философским тетрадям». Как-то удивительно искренне и с чувством сказал недавно на открытии конгресса Национального фронта ректор Берлинского университета в своем докладе: «Наша республика — это страна ученья»[153].
И если справедливо старое изречение «уча — учимся», то, мне кажется, верно и наоборот: «учась — учим». Такой мудрый взаимный обмен происходит сейчас между партийным руководством и народом ГДР. Многому я порадовалась в ГДР и многому, глядя, как учатся в республике, научилась сама. Мне кажется, победа немецкого социалистического народа над западным соседом придет особым высоким путем воздействия, путем пробуждения в рабочем классе ФРГ охоты самостоятельно поразмыслить и трезво сравнить.
Восемьдесят три года назад в своей гениальной работе о Людвиге Фейербахе Энгельс писал, как после 1848 года Германия «дала отставку теории и перешла на практическую почву… Но в той же мере, в какой спекуляция, покидая кабинеты философов, воздвигала себе храм на фондовой бирже, в той же мере и образованная Германия теряла тот великий интерес к теории, который составлял славу Германии в эпоху ее глубочайшего политического унижения…».
II дальше, словно заглянув чуть ли не на столетне вперед, в руководство современной ФРГ: «… исчез старый дух ни перед чем не останавливающегося теоретического исследования. Его место заняли скудоумный эклектизм, боязливая забота о местечке и доходах, вплоть до самого низкопробного карьеризма».
Л потом, воистину пророчески, Энгельс написал слова, которые могли бы стать эпиграфом к тому, что произошло в Германской Демократической Республике: «И только в среде рабочего класса продолжает теперь жить, не зачахнув, немецкий интерес к теории. Здесь уже его ничем не вытравишь. Здесь нот никаких соображений о карьере, о наживе и о милостивом покровительстве сверху. Напротив, чем смелее и решительнее выступает наука, тем более приходит она в соответствие с интересами и стремлениями рабочих. Найдя в истории развития труда ключ к понимаю всей истории общества, новое направление (так называл тогда Энгельс марксизм. — М. Ш.) с самого начала обращалось преимущественно к рабочему классу и встретило с его стороны такое сочувствие, какого оно не искало и не ожидало со стороны официальной науки. Немецкое рабочее движение является наследником немецкой классической философии»[154].
Письмо второе: На весенней ярмарке в Лейпциге
1
Главной целью моей поездки в ГДР было побывать на знаменитой Лейпцигской ярмарке, куда я тянулась мысленно уже много лет. Опыт всестороннего охвата больших международных выставок у меня уже накопился. По ярмарка не выставка. На международных выставках люди смотрят, а вещи показывают себя. Эти вещи поучают — иногда со времен Адама, как, например, в национальных павильонах, где вам раскрывается далекое прошлое страны, с чего начинали, как продолжали, куда пришли. Так было на великолепной бельгийской Ехро-58, где павильон каждой страны-участницы как бы преподавал вам свою историю, географию, экономику. На выставках вы ходите, смотрите и вас на каждом шагу развлекают, чтоб не надоедало смотреть. Вы можете покататься и посмеяться, экзотически закусить и попить любого кофе — бразильского, марокканского, йеменского. Но смотреть — не покупать! Ничего не покупать, никакой «розницы». Может быть, в невидимой глубине каких-то биржевых и прочих контор происходят крупные сделки и обороты, но в принципе выставка — это только выставка, своеобразный показ товара лицом, форма грандиозной встречи-рекламы. И она — дитя девятнадцатого века, совсем еще молодая форма международного общения, начатая в начале прошлого столетия первой мировой выставкой в Лондоне.
Ярмарка — Messe, Fiera — совсем другое дело. Это стариннейшее человеческое предприятие, дитя перекрестков, больших дорог и городских площадей, издавна служивших рынками. Ярмарка — место торговли, куда едут не только смотреть, но и щупать, пробовать, проверять, покупать. Она имеет свою периодическую дату, свои часы в году. Свое постоянное место с многолетними рядами и зданиями, как на знаменитой русской Нижегородской. Свой пульс, замирающий до срока, но начинающий биться в свое время. А пульс Лейпцигской ярмарки, известной торговому люду уже восемьсот четыре года (она родилась в 1165 году!), бьется аккуратно два раза в год, воспой и осенью, и мы попали как раз на весеннюю, юбилейную, поскольку Германской Демократической Республике в этом году исполняется двадцать лет.
Но есть кое-что одинаковое и на выставках и на ярмарках. Я люблю это одинаковое прочной любовью человека пера. Потому что пас, людей пера (или, как пишут французы, людей буквы), это возносит над покупающими и продающими, как-то по-особому заинтересованно, давая почувствовать высокую магию нашей профессии. Одинаковы и на выставках и на ярмарках так называемые пресс-центры. Вступая в их хлопотливое, лишенное всякого эгоизма царство, вы ощущаете себя членом великой шестой державы. Тут все — для вас. Длинные столы, заваленные информацией; стойки с газетами (каких душа пожелает!); телефоны, телексы, своя почта, свой клуб, своя столовая, свои стенограммы на всех языках — и воздух, особый воздух человеческого любознания и самой самоотверженной, самой смелой профессии в мире — профессии журналиста, газетчика, фиксатора человеческого бытия на бумаге, в слове. Тут мне, конечно, замечание сделает редактор: а желтая, черная, гангстеровская капиталистическая пресса? Но в каждой профессии есть подонки. Я говорю сейчас не о направлении труда. Я говорю о психологии, общей для тех, кто охвачен бескорыстным интересом познания, кто жадно в оба уха внимает, жадно в оба глаза впивается, а пальцы уже вынули потрепанный блокнот, и карандаш уже зачесался в руке для творческой отдачи узнанного… И вот я в лейпцигском пресс-центре, в знакомой родной обстановке жадного бескорыстия, где, впрочем, вражеской прессы почти нет, она не ощутима в общей атмосфере доброго социалистического товарищества.
После серьезного и немного сумрачного Берлина Лейпциг, куда мы приехали на машине, кажется маленьким Парижем. Въехав в нарядный, праздничный город, где все в каком-то непрерывном, выплеснувшемся из домов на улицу ярмарочном движении, в первые часы почти и не разглядишь его, нервно ища, куда бы всунуть носом свою машину. Все переполнено, стоянки забиты, автомобили всех стран и марок верещат, жужжат, как полчище жуков. И, только устроив в какой-то щели свою «Волгу», вы начинаете оглядываться и сразу узнаете милый, старый, знакомый Лейпциг. Город, где Гёте учился отвыкать от родного «плятдёйча» и привыкать к более утонченной саксонской речи, где в знаменитом погребке Ауэрбаха сотворил свое сатанинское чудо Мефистофель. И город, куда шесть раз наезжал Ленин, где впервые появилась на немецком языке его работа о разногласиях в русской социал-демократической партии (1912) и где в маленькой окраинной типографии был напечатай первый помер ленинской «Искры».
Вы узнаете его потому, что принятый здесь принцип восстановления города после разрушений войны прежде всего реставрационный: старинную прелесть средневековых построек, готику, центральную площадь с ее домами-пряниками во всем их музейном своеобразии отстроили так, как были они до войны, а задуманные ультрамодернистически здания, например университет, растут на стороне, оттеняя их своей великолепной современностью. К пресс-центру мы добрались через старую площадь, сразу увидев и старинную церковь св. Томаса, где много лет служил скромным органистом Бах, и две статуи у входа в переполненный людьми кабачок Ауэрбаха, все так же зазывающие посетителей.
Для начала работы журналисту не следует увлекаться множеством, надо, по слову Гёте, проявить себя в самоограничении. Но знаменитому афоризму Гёте о том, что мастер сказывается в самоограничении, не хватает добавки: как и чем себя ограничивать. Если отбросить самое важное и ограничиться второстепенным — вряд ли это покажет ваше мастерство. Ярмарка в Лейпциге перед юбилейной датой вынесла на свои витрины и прилавки множество изделий, экспортируемых чуть ли не во все страны мира. Целые заводы с их поточными линиями, собранные по последнему слову техники, только купи, перевези домой и поставь их у себя в стране, а рядом — музыкальные инструменты; брикеты бурого угля — и текстиль; планетарии — и соли кальция… Ходить вдоль всего этого разнообразия без руля и ветрил, а только как бы гоняясь за впечатлениями, пустое дело. И как ни жалко было лишать себя многих чудес, я решила посмотреть и показать читателю только два самых важных, самых интересных и самых что ни на есть немецких чуда, о которых знала с детства, потому что и тогда уже они были славой Германии, росли и менялись вместе с нею и остались, словно по мудрой воле судьбы, на ее социалистической половине, даже, может быть, не в малой степени послужили органическому росту социализма на се земле. Эти два чуда — книга и научные инструменты; полиграфическая промышленность и производство точнейших научных приборов. Но прежде чем начать свой рассказ о них, скажу несколько слов о нашем советском павильоне.
2
Ярмарка в Лейпциге разделена территориально. Индустриальная и сельскохозяйственная части, наука и точная промышленность размещены за городом, в постоянном ярмарочном городке. А розница, все, что покупается и продается, — одежда, керамика, фарфор, посуда, книги, игрушки, текстиль, обувь — в самом центре города, в ярмарочном доме у рынка и в крупнейших магазинах. Отдельно между городом и окраиной в большом полузаводском здании «Бугра» помещена полиграфия.
Мы подъехали к ярмарочному городку, и навстречу нам, как два шагающих великана, встали две огромные буквы М, вставленные друг в дружку, — этот постоянный символ ярмарки, — а за ними, сверкая ослепительной белизной, развернулись стены и купола выставочных павильонов. Советский — одни из самых больших. В его огромном холле, зажигаясь и потухая множеством электрических лампочек, встретил нас макет Красноярской ГЭС, хоть сам по себе и не очень большой (макет все-таки!), но сравнительными цифрами сразу ошеломляющий: в каждой турбине почти мощность всего Днепрогэса. Игрушечные отстойник, бьефы, плотина сразу показались гигантами в свете этих внушительных сотен и тысяч мегаватт. Невольно подумалось: а где шлюзы? Как пройдут через махину этой запруды енисейские пароходы? И тут показалось необычное — крохотный белый пароходик. Он шел не через шлюзы и не опускался вниз в водяной блике. Он шел поверху, над плотиной, гордо катясь по рельсам, как поезд. Пароходы в Красноярской ГЭС будут миновать плотины сухопутно, поверх ее сооружений, и это так странно в первую минуту, как при неожиданном выходе вагончика метро из туннеля на свежий воздух.
От ГЭС мы перешли к главным витринам нашего павильона, где разместились экспонаты Академии паук СССР. В последние дни ярмарки, когда выдавались награды и наш павильон получил двадцать пять золотых медалей, семь из них достались как раз Академии наук. Вот эти семь медалей в фактах: сперва под стеклом — микрокартотека. Малюсенькая книжечка, напоминающая альбом. В этой крошке — все пятьдесят пять томов Ленина, сохраняемые на века. На одной странице-карточке помещается печатных тысяча страниц, буквы которых простому глазу не видимы. Такая же книжка чуть побольше — восемь томов истории рабочего движения в Германии. Если древние письмена высекались на камне и какое-нибудь короткое сообщение урартского царя занимало целую скалу, то современная техника перешагнула за человеческую видимость в своем микрописьме и умещает тысячу страниц на крохотном листочке… а материальная сохранность этих тысяч страниц, пожалуй, не меньше наскальных иероглифов.
Дальше идут механизмы для сейсмических исследований. Они записывают взрывы и землетрясения, но также и любую едва заметную вибрацию машины в цехе. Еще дальше — осциллограф, фиксирующий импульсы, знакомый широкому читателю по книгам о новейшей физике; хроматографические приборы для разделения органических соединений газов; приборы для измерения молекулярного веса с большой точностью — до шестидесяти тысяч молекул; приборы, приборы… Хорошенькая, как роза, ленинградка (и даже по имени Роза Геннадиевна) — заведующая лабораторией Ленинградского конструкторского бюро аналитического приборостроения — подошла к нам, гостеприимно рассказывая, как автоматически работают ее машины: производят анализ и тут же сами дают точный цифровой результат. Перечислять или описывать то, что сам плохо понимаешь, трудно да и вряд ли полезно. Когда вам гордо представляют «хроматограф масс — спектрометр, анализирующий сложные химические качества и количественный состав соединений», — то мысль ваша занята тем, правильно ли вы все это записали, а в памяти остается одно: что таинственный этот аппарат, взирающий на вас со слепым равнодушием всевидца, продан во Францию за восемнадцать тысяч долларов. Но другие глаза, кроме моих, невежественных, осматривали всю эту цепь измерительных, анализирующих, разделяющих, хроматографирующих приборов, глаза крупнейших специалистов фирмы «Иена — Цейс», и дали о них очень высокий письменный отзыв. Впрочем, я услышала его и устно от представителей самой фирмы, когда очутилась у ее стендов.
3
Большой центральный павильон, где расположены машины Цейса, кажется снаружи не то планетарием, не то обсерваторией из-за своего типично звездного купола наверху. Но купол — фиктивный. Он нужен для здания просто как символ. Мы вошли в огромное, длинное помещение, уставленное на прилавках в ряд различными машинами; под стеклом на этих прилавках — поясняющие надписи, сделанные специально, но очень доходчиво. Нигде над ними не стояла обобщающая генерализующая мысль, но не успели глаза обежать выставленное, как обобщение родилось само собой. Здесь была собрана необычайная, самоновейшая аппаратура, в которой научная задача повенчалась с техническим совершенством, — задача того типа, какой требует своего воплощения в приборе: глядеть — дальше человеческих глаз. Глядеть в глубь вещества, в его мельчайшие составные части, в незримый по своей малости мир, именуемый микрокосмом. И глядеть в даль вещества, в его величайшие объекты, размером больше нашей планеты, в звездный мир космоса, необъятности, именуемый макрокосмом. Глядеть, превращая глаза в лучи. Длинный ряд изящных, стройно вертикальных микроскопов, начиная с тех, что покупаются для школ или любительских занятий, и до предельно совершенных, созданных для научно-исследовательских лабораторий. Что-то очень освоенное, очень авторитетное в длинном ряду этих «микровалей»: их новизна родилась на столетней давности роста. И рядом с микровалями, как их зовут в проспекте, — эргаваль с поясняющей надписью: «Наблюдение объекта с различных наблюдательных пунктов, возможное одновременно».
Что же делают человеческие глаза, превращенные в волшебные лучи всепроницания? Они видят сложнейшие составы почв, практически помогая повышенно урожайности; видят многообразнейший внутренний мир воды, определяя степень ее полезности; видят болезни растений, микробов на листьях, состав самого воздуха, — неисчислимо их применение для сельского хозяйства. И это они, далекоглазые приборы Цейса, определяют по спектрам наличие разных элементов на недоступных еще мирах, проницают окружающую их атмосферу, помогая космонавтике… Любопытно их действенное участие в криминалистике: разгадка следов на земле, пятен на одежде, волоска на топоре. Недавно обошел все газеты случай, как с помощью микроскопа было разгадано преступление, совершенное несколько столетий назад. А вот измерительные инструменты для организации земли, ее земного покрова. Помню, как в 1928 году, работая вместе со строителями на участке Дзорагэса, я дивилась средневековым методам техников-геодезистов, таскавших с собой неуклюжие рейки и допотопные приборы, словно хвост какого-нибудь ихтиозавра, на десятки верст. А сейчас! Автоматический строительный нивелир, тахеометрический теодолит и приборы, измеряющие и тут же отмечающие и отвечающие, решающие за человека безошибочней, чем человек. Но я была бы просто небрежна к мировой славе Цейса, если б не рассказала читателю, как опа возникла и кем был положен первый камень ее фундамента.
В Веймаре осенью 1816 года в многодетной семье ремесленника родился мальчик Карл Цейс. Был еще жив Гёте. Карлу пошел семнадцатый год, когда Гёте умер. Это имело огромное значение для биографий следующего поколения веймарцев. Культура народа во многом зависит от требовательности того масштаба, каким измеряют достоинство отдельных ее создателей. Когда налицо мировые гении современники, этот масштаб неизбежно высок. И требовательность оценки ведет к подъему общего уровня работников, воспитывает скромность в сознании своих заслуг и своего таланта. Ведь то, что мы называем культурной средой — среда, середина, — формируется по высшим точкам достигнутого народом. Но бывает, что высокие масштабы забыты или их нет, а уровень, средняя, выводится по низшим точкам. Тогда ходят в «больших людях» бездарные или серые личности, снижая, в свою очередь, самими собой культурную среду своего времени.
В маленькой разорванной Германии начала XIX века масштаб вырабатывали гении. Суд был требователен, и не так-то легко было поднять голову над средним уровнем. Карл Цейс всей своей жизнью может быть образцом того, как много надо сделать человеку, чтобы заслужить у потомства средневысокую, среднепоказательную оценку, И вот этот очень высокий уровень оценочного масштаба, мне кажется, лучшее воспитательное средство для действительно большой, фундаментальной культуры. Цейсу было трудно пробиваться, он двигался медленно, и у него была своя идея движения. Механик по призванию и образованию, он даже не смог основать собственную мастерскую-лабораторию в родном Веймаре, а вынужден был перебраться в Иену. Идея его, ведущая для целой жизни, была: создание приборов, нужных для науки. Сам он учился чуть ли не до своей смерти, слушал, выйдя из школы, лекции по математике, физике, но сознавал себя дилетантом и постоянно тяготел к помощи подлинных специалистов-ученых. Цейс начал с очков, в ту пору еще бывших некоторым новшеством. Очки помогали видеть слабому глазу. И многие из нас, услышав имя Цейса, до сих пор связывают это имя с биноклями и очками, хотя ни биноклей, ни очков фирма сейчас почти не производит, эта мелочь отошла к другим, смежным предприятиям. От очков Цейс очень скоро перешел к микроскопу. Тем, кто у нас занят так называемой технической эстетикой, нелишне будет посмотреть на галерею микроскопов, созданных Цейсом последовательно в течение всей его жизни. Видя, как все стройней и прекрасней делается металлическое тело прибора, вытянутого по вертикали, начинаешь понимать удивительную формулу Гёте: от истины — через полезное — к красоте, — то есть не выдумыванье эстетики отдельно от цели создаваемого предмета, а приход к красоте естественный, не надуманный, связанный неизбежной связью с точной идеей предмета и прогрессирующей полезностью его применения. На каком-то переломном этапе развития своей фирмы Цейс понял, что дальше в одиночку идти нельзя, движению вперед требуется связь с наукой более тесная, более требовательная, и в фирме появился дуумвират — Карл Цейс и ученый математик Эрнст Аббе. Интересна последняя страница этой фирмы, завоевавшей своей добросовестностью мировое имя. После 1945 года кое-кого из ее служащих переманили в ФРГ. Но фирма в целом осталась служить рабоче-крестьянской власти. Был даже суд: название «Цейс» оспаривала ФРГ. Однако суд постановил оставить его старой фирме в Германской Демократической Республике и только предпослать слову «Цейс» название города — «Иена».
Снабженные памятными значками, портфелями, с фотографиями и описанием приборов, автографами любезных хозяев и обещанием все подробно показать уже на месте, на заводе, когда приедем в Иену, мы покидаем павильон смертельно усталые, но блаженно счастливые от избытка впечатлений. Это как роман с надписью под страницей «продолжение следует». Еще один роман предстоит нам начать тут, на ярмарке, чтоб тоже оборвать его с «продолжением следует», — роман о немецкой книге и со полиграфическом воплощении. Но читать его мы начнем на следующий день.
4
Между ярмарочным городком и городским центром стоит на окраине большое, довольно неказистое здание «Буграхауз». Б этом «Буграхаузе» помещены немецкие полиграфические машины. Мало кто знает у нас, какие друзья эти машины — и наши, и социалистических братских стран. Они печатают болгарскую «Работническо дело», польскую «Трибуна люду», чешскую «Руде право», советские «Известия» и «Правду», и далеко-далеко по земному шару идут их терпеливые железные руки, потомки дела Гутенберга, чтоб воплощать письменное слово в печатное.
По машины отнюдь не задерживаются на какой-нибудь достигнутой стадии. Показ их в «Буграхаузе» — это отчет о новинках самого последнего года и даже будущего года. Сперва мы зашли в переплетное отделение, потому что переплеты и сшивка немецких книг едва ли не лучшие в мире. На бельгийской выставке в 1958 году я получила подарок в павильоне знаменитого издательства «Хащетт»: книгу о Жорж Саид Апдро Моруа. Взяла ее с благодарностью и уважением, развернула, заинтересовалась абзацем, перевернула страницу, села, собралась углубиться, — и, как веер, рассыпались плохо сшитые, словно наспех наметанные страницы. Сшить книгу так прочно и пригнанно, чтоб страницы, подобно частям тела, двигались со свободой и грацией, но не отрываясь друг от друга, — первая ступень полиграфического совершенства. Великолепные Falzsiegelautomaten — печатно-фальцовочные автоматы — встретили нас в переплетном зале. Топкая нитка со слоем пластмассы сшивала перед нами пухлое тельце новой книги Штритматтера, на теплой бархатистой бумаге без глянца, украшенной великолепными рисунками; одна за другой, похожие на затянутую в корсет, но еще не надевшую платье девушку, сбегали по листу эти сшитые, или, как принято говорить, сброшюрованные, книги из рук машины. Автоматы с примесью пластического вещества в нитке — это самое последнее новшество; оно датировано как раз будущим годом, 1970-м, и не выйдет до него в продажу. «Конкуренции нет», — с гордостью сказал нам техник в голубом халате, показывавший машину. А дальше одевался цветным переплетом учебник «История средних веков» для VI класса — наш, советский учебник. Его иллюстрации так были хороши, что даже взрослых могли зажечь интересом к уроку. Снабженные цифрами и названиями, проходили сейчас перед вами автоматы в каком-то торжественном действии. Быстрейшие в мире карманнофальцовочные (Taschenfalzautomaten), для среднего формата, делающие три тысячи пятьсот книг в час; для обрезывания книг. Один из них, самый большой, под номером 452, получил четырнадцать золотых медалей и дипломов на международных выставках. И книги, книги, совершенствовавшиеся с каждой операцией, напоследок — надевавшие переплет, аккуратными столбиками скапливались, связывались вместе, уходили, верней, утекали из поля зрения.
С конца мы двинулись к середине. Тут я опять вспомнила многие красочные издания детских книг, виденные мною на прилавках других стран. Глаз как-то примирительно относился к расхождению в них — оно попадалось довольно часто — между контуром рисунка и наложенной на рисунок краской. Память услужливо подсказала виденную однажды голубую матроску на лихом морячке, никак не сходившуюся цветом с линией плеча, линия оставалась белой каемкой, а цвет как бы спускался с плеча вниз. Наложенные невпопад краски! А тут, в мире новых офсетных машин, куда мы пришли из переплетной, краски словно рождаются вместе с контуром, словно жили в нем со дня его рожденья, яркие, глубинные, праздничные, чистые. Знаменитый большой агрегат, «планета», похожий чуть ли не на деревенский комбайн, но строгий, стройный, собранный из пяти машин, величаво печатает одновременно с двух сторон листы с красочными моделями весенних платьев; они, как цветы, сыплются один за другим. «Ультрасет юниор» — шестьсот его образцов уже работают в типографиях всего мира. Автоматы, сразу печатающие четыре краски. Машины с глубокой печатью, почти стереоскопичной… Немцы — пионеры в области офсетной печати. Нам дарят на память цветные плакаты, иллюстрации к книгам. Уходя, я замечаю на стене одно-единственное фото человека. Сколько людей трудятся над созданием книги в ГДР! И сколько среди них замечательных, точных, трудолюбивых. Мы привыкли отмечать портретами десятки, сотни таких работников. Фотографий так много у нас, что память, честно говоря, не запоминает ни одной. На Лейпцигской ярмарке портрет представлен до того скупо, что память тотчас фиксирует: портретов нет. Почему? В рассказе о Цейсе я говорю об очень высоком уровне средней работы. Мне отвечают: да, потому нет фотографий, что все работают как полагается. А это «полагается» очень, очень требовательно. И вы запоминаете с удовольствием, что коллективы, создающие эти машины, коллективы, работающие на них, все работают хорошо. Ну а как же надо работать, чтоб выставлен был портрет? Следуя превосходной традиции ГДР, я не назову имени, а только перечислю подписанное под единственной увиденной мною фотографией: лауреат национальной премии, активист, медаль за исключительные достижения в пятилетием плане. Мне кажется, при высоком среднем уровне — пет места зависти. Может быть, я ошибаюсь, но, будь я на месте рядового рабочего в идеально (или близко к идеалу) работающем предприятии, я гордилась бы достигнутым уровнем среды, как частью себя самой, и выдвинувшимся над ней исключительным работником, как порождением того высокого уровня, в создании которого есть и моя капля меду.
Чтоб укрепить в памяти действие печатных машин с их мировыми марками, мы решили сразу поехать в лейпцигскую типографию, обыкновенную, делающую свое дело независимо от ярмарки. Типографий в Лейпциге очень много. Мы выбрали типографию партии, где печатаются газеты. И очутились как будто в родной среде. Сперва посидели в кабинете у директора, товарища Кеглера. На мой вопрос, сколько в Лейпциге типографий, он ответил, что по меньшей мере пятьдесят, из них десять больших, а из десяти одна принадлежит партии. Мне хотелось выяснить преимущества и отрицательные стороны старых обыкновенных и новых офсетных машин. Ответ был тот, что для небольшого тиража офсетные машины невыгодны, печатание на них обходится чересчур дорого, но зато для массовых изданий они и технически и экономически несравненно лучше. Потом главный мастер типографии товарищ Херберт Бюзинг повел нас смотреть работу. Просторный светлый зал. Здесь печатают четыре газеты с полумиллионным тиражом ежедневно и восемь миллионов книг в год. Но при такой нагрузке не видно спешки, Работают шесть печатных агрегатов; по эскалатору прямо в отверстие в стене уходят готовые тюки с газетами в поджидающие их грузовики. На агрегатах — только мужчины; на упаковке — женщины, примерно половина на половину, мужчин только чуть побольше. Отсчитывание выпускаемых газет (по пятьсот экземпляров) производит автоматически сама машина; сидящая перед пей, как на тумбочке перед комбайпом, женщина контролирует качество. Здесь мы видим в действии фальцовку. Замечают ли люди, как грациозно работает автомат? Может быть, от достигнутой совершенной точности между нужным действием и потребной для него затратой времени (ни больше ни меньше!) рождается эта изящная плавность, с какой вложенный лист проходит ряд операций, складывается пополам, потом вчетверо. В комнате для упаковки книг (их выпускается отсюда ежедневно двадцать тысяч) мы опт ь встречаем наш милый учебник средних веков для VI класса, а из советских, тут печатающихся авторов — книгу Коптяевой. Главный мастер познакомил нас с женщиной средних лет, спокойной, явпо причесанной в парикмахерской, хорошо одетой, сохранившей моложавую фигуру, Гертрудой Хюттнер. Ей пятьдесят лет, и опа уже пять лет в партии, у нее двое взрослых детей и внуки. «О ней стоит упомянуть, — говорит мастер. — Отлично работает и активная коммунистка».
Идем в отделение матриц и читаем знакомую надпись на степе: «Наше обещание: К 20-летию нашей республики ежемесячно добавлять к плану «6… K-Platten». Рабочие обступили нас и стали объяснять, что это такое «К-Platten», — художественные пластины (Plasltereo); а что такое это самое Пластерео, я так и не разобрала, только поняла, что делаются пластины из поливинилхлорида. Но мне подарили кусок матрицы из красного воска и отпечатанный, еще в продажу не поступивший толстый путеводитель по ГДР. Люди были похожи на наших, и воздух общения был такой же, как у нас. Мы хоть и покашливали — чуть першило в горле от бумажной пыли, — по чувствовали себя на редкость хорошо. И долго потом я раздумывала над культурой немецкой книги. Пятьдесят типографий в одном только Лейпциге! И тут же, в городе, и в часе езды от него (если не ошибаюсь), и на юге республики, в округе Фогтлянд, — заводы полиграфических машин, среди них такой знаменитый, как «Плямаг». Читателю, может, покажутся лишними все эти перечни названий и цифр. Но факт тот, что статистика — вещь музыкальная. В ней пет пластического образа, но в пей, как в музыке, есть точки различных высот, и, право же, когда читаешь, что в маленькой республике ГДР, место которой в мире по ее размеру девяносто второе, издается на каждого читателя более чем шесть экземпляров книг в год, это звучит певуче, как нотная грамота.
Я начала с материального тела книги, с печатных машин и типографий. Если забраться по лестнице чуть повыше, в мир организационной подготовки книги, издательский, тут еще интересней. На ярмарке под книгу был отведен огромный «Мессехауз» (выставочный павильон). Но длинным его коридорам расположились прилавки с книгами всех концов света. Мы привезли показать 35 наших издательств; Англия — 69, Польша — 23, США — 8; из Франции приехали «Хашетт» и «Лярусс», из Италии — «Мондадори», из Швейцарии — три больших издательских треста; из Америки — даже Мичиганский университет прислал свои книги, уж не говоря о двухстах с лишним издательствах ФРГ и Западного Берлина, снабдивших выставку даже «Современной индустрией» Думмера, с профилем «торговой организации, корреспонденции и риторики» (!). Было бы у меня лишнее время в запасе, я поторчала бы у многих из этих прилавков. Но мне было некогда. Мне надо было изучить девяносто издательств ГДР, ярко выделившихся вместе с книгами братских социалистических стран над всеми «обольщеньями» капиталистического мира. Кстати сказать, обольщать ни одна из этих стран как будто и но очень старалась, уважительно налегая на книги серьезные, художественные, словари, буквари и — науку. Преобладающее число выставленных на ярмарке книг, у которых и посетители дольше всего задерживались, было посвящено технике, физике, биологии, медицине, химии.
Итак, девяносто издательств. Из них лишь двадцать семь снабжено тремя большими буквами УЕВ, означающими народное предприятие. Все остальные носят названия частных фирм, и притом тех, какие мы, старики, знаем три четверти столетия. Девочкой я получила от отца подарок — темно-коричневые томики полного собрания Гёте и Шиллера на немецком языке, в популярном лейпцигском издании Филиппа Рэкляма — фирма «Рэклям» показана в новой социалистической Германии, опа и сейчас хорошо работает, цель ее — по-прежнему сделать книгу доступной всем, сделать ее дешевой, ни на йоту не снижая качества. Мы с этой «фирмой», как старые друзья, беседовали битый час, и я могла сказать ее нынешним представителям, что их томики Гёте прошли вместе со мною всю мою долгую жизнь, постоянно бережно читаемые и сохраненные в целости. Таким же встретила я в Лейпциге и старого друга «Инзель-ферлаг», кокетливо одевавшего свои очень ценные, со вкусом подобранные сборники в цветные, похожие на ситец обложки. Если прибегнуть опять к музыке цифр, то вот что замечательно: честно на социализм работают сейчас в ГДР даже древнейшие книжные фирмы, сохранившие имя учредителя, тематику изданий и даже иногда свой старинный герб. Од- на фирма («Наследники Германа Бехлауса») существует с 1624 года и посейчас издает историю и юриспруденцию средневековья, причем имеет свой журнал. Четыре фирмы ведут свое происхождение с восемнадцатого века; девятнадцать фирм остались от девятнадцатого века, остальные рождены в двадцатом.
Я обещала «роман с продолжением» о книге, поэтому откладываю разговор до следующих глав. Скажу только об одной из особенностей организационной жизни издательств в ГДР. Круг их деятельности не ограничивается принятием книги, работой над пей, редакционной и корректорской правкой, подбором иллюстраций и прочими формами деятельности, связанными с автором и рукописью. Мы как-то привыкли к узкому назначенью издательства, поделенного на кабинеты редакторов, машинное бюро, корректорскую и бухгалтерию. В первый же день приезда я получила приглашение от одного из издательств на вечер, вошедший в программу «культурных мероприятий» ярмарки. Там обещалось чтение новинок из редакторского портфеля, обмен мнениями, концерт. Пятьсот журналов издаются в ГДР; эти журналы как бы ростки издательств, связанные с ними не только материально. С десяток музыкальных издательств имеют тут прикрепленными к себе симфонические оркестры и эстрады, даже театральные сцепы, для использования. Все эти «придатки» составляют духовную жизнь издательств, их атмосферу, их творческое общение. Они напоминают, мне кажется, не то портики античного мира, где протекала интеллектуальная жизнь древности, не то художественные школы Ренессанса, где создавались не только картины, но и общественные критерии для оценок. Что-то очень традиционное, перелицованное на сугубо современный лад. И широкое, теплое понимание дара человеческого — книги, рождаемой для массового чтения, — какое-то личное, теплое ощущение мира книги дышит в этих издательствах, когда вы переступаете их порог. Как расшифровывается 90 по территориальному признаку? Лейпциг недаром был и остался городом книги. В нем сейчас больше издательств, чем в Берлине, — 38; в столице республики — 34; и в остальных крупных центрах ГДР — 18.
5
День еще далеко не кончился. Мартовский день — со смесью снежной кашицы под ногами, с пронзительным весенним ветром, бьющим вам в лицо этой же кашицей с мокрого неба. И мы едем в Пробстхейде на Русскую улицу, названную так еще сто пятьдесят шесть лет назад, в 1813 году, — «провиденциально», как любят говорить об этом немецкие справочники. Если искать забавные совпадения, то вот и еще одно. Пробстхейде в переводе означает «лужайка благочинного», — должно быть, луг у священника был немалый, он и сейчас, когда подъезжаешь сюда, охватывает вас простором и свежестью. Снег кое-где сошел, проступила молодая травка. У этого старого поповского луга прячется в густых деревьях домик, где была типография социал-демократа Германа Рау. Когда возник вопрос, где печатать «Искру», Ленину порекомендовали эту типографию, а наборщика, Иосифа Блюменфельда, он подыскал сам. Вот только русского шрифта не было. 11 тогда рабочие другой лейпцигской типографии, где печаталась для России Библия, раздобыли с ней часть русского се шрифта и принесли Ленину. Так пробст и Библия послужили коммунизму…
У домика — стела с профилем Ленина и надписью по-немецки: «Здесь в декабре 1900 года был напечатал первый номер созданной В. И. Лениным первой общерусской марксистской газеты «Искра», на окнах домика крепкие решетки, внутри — тепло, светло, чисто. У входа за столом, покрытым брошюрами на нескольких языках, фотографиями, большими факсимиле с первой страницы первого номера «Искры», сидит милая пожилая хранительница музея, фрау Ильзе Эйленбург, охотно рассказывающая, как разыскали в 1956 году это здание. Нелегко было его найти. Только один старый рабочий знал это место, но упорно молчал, считая себя связанным клятвой не говорить об этом никому. Поиски, расспросы, случайные известия, упорные стремления доискаться — и наконец домик найден и приведен в порядок. В первой комнате общий музей Ленина и первых шагов русской революции, а дальше оборудование типографии, какой она была почти семьдесят лет назад: старая печатная машина, старая наборная касса. Мы попали в это святилище действенного печатного слова, когда туда приехал внук И. Родченко, привезший в дар музею старые фотографии и материалы. И уже с сумерками верпулись в город, накупив фотографий первой страницы первого номера «Искры».
Но мне как-то но сиделось дома. Я вышла в черноту мокрого, зябкого вечера и долго ходила по улицам Лейпцига, угадывая сквозь черноту ночи его старые очертания.
Я шла по мокрому кольцу Дитрихринга, мимо неоновых букв Дома немецко-советской дружбы и вдруг уперлась в темный массив приземистой церкви св. Томаса. Здесь долгие годы скромный лейпцигский органист Иоганн Себастьян Бах неизменно входил в церковь сквозь боковую деревянную дверь. Сейчас эта дверь снята, опа стоит в эйзенаховском музее Баха, где я увижу ее через несколько дней. А в прославленной им церкви поют мальчики тоже прославленного хора… Остановившись, я вдруг услышала: мальчики пели! Серебристое восьмиголосие двойного хора, словно полоса лунного света, пролилось из незапертой двери на улицу.
Я вошла в церковь. Она была, казалось, наполнена музыкой до самых стен купола. Рокотал и замирал орган, чистые, как хрусталь, молодые голоса выводили баховский мотет: «Споем господу новую песню». И, тихонько став на приступочку, я втиснулась на свободное место.
Письмо третье: По дороге в Веймар
1
В том, что у человека мало времени, есть своя хорошая сторона. Время — гибко, оно растягивается. Впечатления ложатся в короткие сроки более компактно, более близко друг к другу, и картина путешествия становится полотном, густо насыщенным деталями. В таких полотнах, где правда, теснота времени заменена теснотой пространства, вся прелесть итальянского кватроченто и обобщающая сила любимого мной Гирляндайо. Все эти мысли проносились у меня в голове, покуда машина с великой скоростью несла нас по заслеженным полям ГДР, двигаясь к Тюрингии. Конечно, было бы хорошо пожить в Эрфурте, остаться на недельку в Эйзенахе, все пересмотреть по гиду и без гида, чтоб надоесть потом читателю бесконечными описаниями. Но нельзя так нельзя. Март месяц был в разных частях страны неодинаков. Кое-где мы ходили по сухой, как лысина, земле, нагретой солнцем, с прораставшими на пей редкими зелеными волосинками новой травы. Кое-где бежали под проливным потоком снего-дождя, тщетно прикрывшись вместо зонта газетой, и ветер обдавал нас пригоршнями, срывая мокрую газету. По в общем и целом это была весна, и весна пахла из-под ног лужами, вставала в небе пронизанными ветром облаками, дышала корой деревьев, улыбалась из-под туч солнцем. Мы ехали в Веймар из Лейпцига, если судить но карте, кривой дорогой — через Эрфурт и Эйзенах.
Что знала я об Эрфурте, кроме Эрфуртской программы? Есть знаменитый «малиновый звон» в Бельгии, куда съезжаются туристы, чтоб послушать колокола; были «сорок сороков» у нас в Москве, они перекликались со всех концов города. И есть знаменитые колокола в Эрфурте. Когда-то в детстве я читала о них и запомнила: колокольный звон — это прежде всего музыка. Огромные, средние и малые, медные и серебряные «колпаки», внутри которых бьют по их стенкам такие же металлические пестики-языки, — это вовсе не церковный придаток, а музыкальный инструмент, как и орган в церкви. Его можно (и надлежит) слушать по-светски. Стоит только узнать, как создавали колокола знаменитые мастера несколько столетий назад! Ведь они их творили, как Страдивариус или Амати скрипку. Даже вдохновенней скрипки, потому что у скрипки не было имени, кроме имени ее автора, а колокола назывались. В Эрфурте, в главном соборе и в церкви Севери, их целое общество: Глориоза, Иозеф, Ио-ханнес, Андреас, Кристофор, Контабона, Осанна, Мария, Марта, Михаил и т. д. У Марты целая драма жизни в надписи на ее теле: «Я зовусь Марта, отлита в году 1475, лопнула в 1955 и снова отлита в 1962». Снова отлита замечательным мастером Шиллингом в социалистической республике, весом в девятнадцать центнеров, и украшена, как украшали мастера свои колокола столетия назад. Глориоза, которую там, наверху, никто не видит, — настоящее произведение искусства. И математика, чувство пропорций, отношение веса к площади, к вогнутости — ведь каждый колокол это прежде всего звук, не только звон. Звук определенной высоты, дающий свой тон в гамме звуков других колоколов разной величины и объема. Играть в них, быть звонарем — значило делать музыку, плывущую с высоты на землю. Переливы этой гулкой музыки напитывали слух, сообщали человеческой душе свой высокий настрой, захватывали свежестью, бодростью, гражданским мужеством. До пятидесяти звонарей — сто сильных мужских рук — приводили в большие праздники в движение тяжелые пестики, раскачивали, били по стенкам, чередуя различные тона чуть ли не в полифонической взаимопоследовательности, входя постепенно вместе с усталостью все в бо́льший и больший раж. И подобно тому как орган, изделие ручных мастеров, перешел в наше время на электрическую энергию, искусство колокольного звона тоже освободилось от человеческих рук: сейчас все колокола в Эрфурте, кроме серебряных, ударяются с помощью электричества.
Выспавшись в гостинице, снабженной частичкой «ин», что соответствует нашему «Интуристу» и тройной цене за номер, мы ранним утром побежали на центральную площадь, над которой высились на горе знаменитые храмы. Они молчали, день был обычный. И заперты на замок, не дав нам увидеть шедевры немецкой готики внутри. К ним, как к римской «Ара Цёлли», вела арфоподобная бесконечная лестница с широкими ступенями, сейчас обледенелыми и заснеженными. Пока мы, спотыкаясь, брели наверх, пядь за пядыо беря эти ступени, мимо нас вихрем слетали по ним вниз мальчишки, победоносно задрав носы к надписи, на которой внушительно стояло предупреждение: «Не скатываться!» И было в этом что-то удивительно живое и человеческое.
У Эрфурта славное прошлое: в 1891 году на съезде Социал-демократической партии Германии здесь была выработана Эрфуртская программа. Во время поябрьской революции, 2 ноября 1919 года, здесь родилась одна из первых групп коммунистической партии. В тридцатых годах эрфуртские коммунисты яростно боролись против фашистской диктатуры, ушли в подполье, многие заплатили за это жизнью. Здесь, как и в Эйзенахе, и в Лейпциге, и в Берлине, особенно чувствуешь ту черту в ГДР, которую хочется назвать «марксистской воспитанностью рабочего класса». Ленин говорил о нашем народе, что мы «выстрадали» марксизм. Всей суммой революционных движений в России мы учились классовому характеру борьбы; даже в стихийных восстаниях — у Пугачева, у Степана Разина — понятие об угнетенном классе как об основной силе возмущения против класса угнетающего было основным. И это практически воспитывало к принятию марксизма, к пониманию классовой борьбы. Не все народы были исторически так подготовлены. Но анализ немецких народных движений, крестьянской войны, данный Марксом и Энгельсом, это ведь для рабочего класса Германии как pro domo sua, о своем доме. Отношение к марксизму — более интимное, более личное, более свое. Почти в каждом городе ГДР историко-революционные события, собранные в музеях или хотя бы упоминаемые в истории города, носят черты марксистской школы, опыта классовой борьбы. Отсюда перекличка этих городов с нашими, более тесная связь ГДР с нашей революционной традицией, с Лениным. При путешествии по городам ГДР атмосфера марксистской воспитанности — определение чуть натянутое, но другого сейчас не подберу — была лично для меня самым ценным впечатлением.
Пройдя почти весь Эрфурт, побывав на старинном деревянном мосту Кэммербрюке, с двух сторон окаймленном домами, где раньше, должно быть, как сейчас во Флоренции на знаменитом Понте Веккио, были всякие лавочки и прилавки, мы остановились перед тремя буквами плаката, интриговавшими меня уже с утра: «ИГА». Что это за «ИГА»? Оказывается, «ИГА» расшифровывалась по-немецки «Интернационале Гартеп-Ауфштеллюпг», то есть Международная выставка садовой культуры. Может быть, потому, что на дворе стоял март, при въезде в Эрфурт вы пикак не сказали бы, что это город садов или цветов, а между тем он славится этим на весь мир.
Здесь, почти в центре города, культивируется удивительный растительный мир и образовывается удивительная человеческая специальность — садовника. В павильонах и оранжереях, в лабораториях и на опытных полях выращиваются, собираются, высеиваются, изучаются, отбираются все семена и сеянцы, какие душа пожелает; пакетики их, ящички с ними идут через моря и горы по сотням, тысячам адресов. Тут получают совет и обучение, теорию и практику всего, что связано с садом, его разбивкой, планировкой, застройкой, засаживаньем, уходом, поливкой, борьбой с вредителями — словом, с культурой непременного спутника человеческого жилья, его сада. Что касается живых цветов, то едва ли не в каждом немецком городе продают крупные, чистые, как фарфор, эрфуртские ландыши, ароматные кисти эрфуртской сирени, розы всех цветов и названий. Мы видели их и сейчас, в марте, на клумбах центрального павильона, проделанных в асфальтовом полу. Садовники — ласковый народ, любящий поговорить о своем ремесле, — охотно рассказали нам, как культивировать дикий лесной ландыш, чтоб он превратился вот в такой прочный, фарфоровый колокол с золотым пестиком внутри, словно один из осанн или марий церкви Севери. Под соловьиный звон этих ландышей, подаренных нам добрыми творцами садов, — правда, звон, услышанный только разгоряченным воображеньем, — уезжаем мы из Эр-фурта.
2
Дорога на Эйзепах идет, повышаясь, в самое сердце Тюрингии. Справа — бесконечные поля, сберегающие влагу черным разрезом канавок в снегу, слева — горы; мчимся по прямой как стрела аллее, обсаженной двумя рядами лип. Вокруг колхозы — механизированные предприятия, где картошку копает машина, создаваемая на заводе в Веймаре, величайшем центре немецкой художественной классики. Проезжаем город Готу, мимо Дворца штопоров, астрономической вышки. Проезжаем полчище вертикальных голых палок для хмеля, таких же, как в Чехословакии. Едем под музыку, шофер включил радио. Сперва милые, в меру сентиментальные мелодии, потом в меру скрежещущий джаз. И, не доезжая до Эпзенаха, сворачиваем на скользкий, льдистый подъем к замку Вартбург. Опять почто символическое: чуть ли не самый показательный для немецкой истории замок, центр ее гуманизма и демократического начала, святыня германской культуры, куда по крутой дороге поднимались пешком — от звезд средневекового песнопенья, миннезингеров, певцов любви, до Гёте, Гейне, Вагнера, а в наше время старого Томаса Манна, и в то же время — марка автомобиля, созданного на новой немецкой земле ГДР. «Вартбург» — читаем на этих машинах, бороздящих дороги рядом с нашими «Волгами». И этот «Вартбург» говорит о победе индустриализации в республике, сумевшей вернуть немецкому народу его старый славный облик честного мирного трудолюбия. А тот Вартбург, куда мы тоже, оставив машину, поднимаемся пешком, встает над нами стенами, пережившими диалектически долгую жизнь истории, в своем роде биографию немецкого народа.
Со школьной скамьи мы знаем трогательную историю вартбургской маркграфини Елизаветы, страстно хотевшей помочь голодающим беднякам в деревне и тайком от мужа пробиравшейся туда с закрытой корзинкой, полной провизии. Жестокий муж, встретивший ее на коне, грозно спросил, что она такое выносит из дому. Бледная, трепещущая маркграфиня едва слышно белыми губами ответила: «Розы». Скупой маркграф сорвал с корзины крышку и — о чудо! — увидел благоухающие розы… Мало кто из ребят на земном шаре не знает этой истории, но ее двойственность — добро в лице маркграфини и зло в лице маркграфа, — «снятая» чуть ли не по Гегелю, чудом превращения хлеба и колбас в розы, не только связана с десятком других чудес Вартбурга, но и глубоко символична для него. У нас не было времени смотреть собранные в замке сокровища. До лучших времен досуга оставила я и все, что связано тут с Гёте. Но келью, где Мартин Лютер, сосланный в Вартбург, перевел с греческого на немецкий язык Новый завет, мы посетили тотчас же, едва ступив на каменные плиты замка.
Мне кажется, большим счастьем для развития ГДР было то, что во главе культурных учреждений республики стали такие люди, как Иоханнес Бехер. Вместе с этими образованными, думающими, творческими людьми с самого начала просочилась в строительство новой Германии мудрая тенденция видеть в народном наследии прошлого прежде всего то, что было каждым в отдельности и народом сообща достигнуто положительного. Не могу себе представить, например, какой была бы сейчас действительность в ГДР, если бы школьники с детских лет учили о Гёте лишь то, что он был министр, выслуживался у великих мира сего и однажды подписал даже смертный приговор женщине за детоубийство; или о Мартине Лютере, что он занял реакционную позицию в крестьянской войне… Все ценное в мире, все то, о чем Ленин сказал — необходимо глубоко освоить, чтоб смочь построить коммунизм, — создано руками народа и гением его творцов. Сомнительное сгорает во времени; легковесное уносится ветром движения времени; цепное, нужное, весомое, настоящее остается. Уважения к этому оставшемуся нужному и ценному полны в ГДР музеи, путеводители, учебники, газеты, книги, памятники. И это прекрасно, это дает мерилу современных вещей в республике ту необходимую требовательность, о которой я писала выше.
Келья Мартина Лютера — своеобразная каменная камера с прорезью окна в глубокой нише, за которым еще все голо по-зимнему. Солнечный луч мечом входит в окно, и мы видим, словно на гравюре, — каменное сиденье, тяжелый старинный стол, раскрытую Библию на нем. И ничего больше. Оголенность кельи ярко передает глубину труда, изо дня в день, из месяца в месяц. Что сделал Лютер своим переводом Евангелия? Послушаем Иоханнеса Бехера в оде «К немецкому языку»:
Единство языка нам Лютер дал однажды, Нам Грифьюс показал всю мощь его глубин. И, рассказав на нем, как он безмерно страждет, Всю красоту его открыл нам Гёльдерлин. Но в речи Гёте — все слилось в одно, — Что сердцу немца пережить дано[155].Нельзя уезжать из Вартбурга, не повидав его музыкальных мест. В Зале певцов Вартбурга встречались настоящие исторические герои «Нюрнбергских мейстерзингеров» Вагпера. Здесь пел знаменитый Фогелъвейде свои смелые песни без рифм, пел его соперник Эшенбах. Но кроме мейстерзингеров здесь было место действия другого произведения Вагнера — «Тангейзера». В маленьком местечке Усти-на-Лабе в нынешней Чехословакии есть живописнейшее место на горе, под сводами которого произошло зачатие в творческой фантазии Вагнера главной музыкальной темы «Тангейзера». Он стоял наверху, любуясь на дивный пейзаж Лабы — Эльбы, плещущей крыльями лодочных парусов, прорезанной мачтами судов и пароходными трубами, а в это время внизу, громыхая, промчалась пожарная машина, издавая сиреной пронзительные, остерегающие ноты… Их Вагнер и взял своей темой в «Тангейзере». А сюда, в Вартбург, он перенес действие оперы.
Спустившись по той же обледенелой дороге, въезжаем в Эйзенах. Это исторический центр. В гостинице «У золотого льва» Август Бебель и Вильгельм Либкнехт созвали в 1869 году организационное собрание первой марксистской рабочей партии. Длилось оно три дня, но уже на следующий день из-за раскольничьей деятельности лассальянцев пришлось перенести его в другую гостиницу, «У мавров». Сейчас тут историко-революционный музей; знакомимся с директором Карлом Хютером и научной сотрудницей музея Кристель Анниес. Кто не знает истоков немецкого рабочего движения и огромной роли, сыгранной Бебелем, получит от посещения этого музея очень много.
Прежде всего — почувствует драматизм становления партии, схожий с нашим; облик Лассаля, напоминающий Троцкого, его ренегатство, контакт с Бисмарком, с методом объединения Германии под эгидой Пруссии. Фотографии молодого, худощавого человека — Августа Бебеля в его двадцать шесть лет, роль его в становлении партии, лихорадочные переезды из города в город, карта выступлений с агитацией за создание марксистских ячеек, июнь 1869 года — Гота, Веймар, Эрфурт, Иена, Гера, Нейстадт, Познек, Эйзенах, Анольда, Колледа… И всюду, по всей Тюрингии словно зажигает, собирает людей в кружки, зачатки партии. Мы знаем Бебеля, уже ставшего маститым, автора знаменитой в годы моей молодости, увлекавшей нас, студенток, книги «Женщина в прошлом, настоящем и будущем», но молодой энергичный Бебель, блестящий пропагандист и организатор, с его неутомимой практической деятельностью, нам знаком меньше. И в музее складывается перед нами его живой, полный огня портрет. На упомянутом собрании в гостинице «У золотого льва» было двести шестьдесят два делегата из ста девяноста трех городов Германии — можно сказать, плод его агитационной деятельности. Стенограмма этого собрания печаталась в Хемнице (сейчас Карл-Маркс-Штадте). Смотрим первые партийные газеты, документы основания партии, фотографии ее основателей — цвет рабочего класса тогдашней Германии… На лестничных площадках музея — знамена под стеклом. Интересный документ от 1 ноября 1928 года: советские рабочие минской часовой фабрики «Коммунар» шлют братское письмо немецким рабочим часовой фабрики «Рула» и посылают в подарок революционное красное знамя. Название фирмы «Рула» существует и поныне, сохранившись после 1945 года. Не знаю, как сейчас называется у нас минская фабрика часов «Коммунар».
Потом мы усаживаемся в маленьком смотровом зале, в простенке открывается небольшой экран, и нам показывают историю немецкой Социал-демократической партии, собранную из сохранившихся фото- и кинокадров. Б этом музее нас не покидало хорошее, подъемное чувство близости первых лет революции. Словно отвечая на это чувство, с экрана вдруг сверкнул на мгновение знакомый профиль Ильича, с собранной в кулак ладонью, поднятой энергическим жестом над трибуной, — кадр с конгресса Коминтерна.
Из музея революции, уже усталые, идем тихонько пешком в семейный дом Баха. На небольшой площади перед ним в оголенном, холодном скверике — статуя коренастого человека, никогда по бывшего ни честолюбцем, ни карьеристом, не очень высокого мнения о себе как о мировом гении, работавшего но покладая рук для куска хлеба, щедро сочинявшего для жены, и для «любимого брата в день его отъезда», и для друзей и знакомых… Но если спросить во всем мире у музыкантов, какое имя произнесут они в первую очередь, как самое бесспорное в музыке, не возбуждающее сомнений и протестов, наверняка услышишь имя Иоганна Себастьяна Баха. По истоптанным деревянным ступенькам поднимаемся в ветхий дом, где собраны предметы эпохи, оригинальные и просто старинные, бывшие в семье Бахов и привезенные сюда от сограждан. У входа приставлена к стенке часть деревянной двери, уцелевшая от первоначального здания церкви св. Томаса в Лейпциге, разрушенной второй мировой войной. В эту дверь, опираясь рукой об ее деревянную резьбу, сотни раз входил лейпцигский органист Бах. Наверху — комнаты с поющими под ногой половицами, наполненные старинной мебелью. Огромный, разрисованный розетками шкаф, дымный очаг с котлом, старый сундук, тоже разрисованный. Комната, где дается нечто вроде предметной биографии, образа жизни Баха: по стенам картины Тюрингии — он почти нигде за пределами ее не был, кроме Любека и еще одного-двух городов; большая по обычаю кровать, тут же люлька, подвесной умывальничек, старинный спинет, письменный стол, похожий на современные шведские. Отдельная комната отведена Альберу Швейцеру и его знаменитой книге о Бахе. Тут много писем Швейцера, его переписка по поводу органа, ответы и, наконец, фраза, которую воспринимаешь, может быть из-за всей потрясающей скромности окружения, как нечто почти священное: «С Бахом создал я Лямбарене» (Mit Bach schuf ich Lambarene). Это читается как бы стереоскопично, с глубоко уходящим внутрь смыслом. Музыка была рядом с великим актом доброты и самопожертвования, музыка ему сопутствовала, быть может, поддерживала…
Уже мы собрались уходить и стояли в передней. Но тут тихо открылась незаметная первоначально боковая дверь, и на пороге ее показался высокий старый человек. Он назвался духовным чином — дон или кастелян — и жестом пригласил нас идти за ним. Невольно перешагнули мы порог, не решаясь отказать ему, и как же хорошо сделали! Вокруг — на стенах, на середине комнаты, свисая с потолка, прислоняясь к углам — были развешаны и стояли десятки инструментов, начиная с самого древнего рогового инструмента Lure, из Северной Европы первого тысячелетия нашей эры. Чего только не было в этом Музее истории музыкального инструмента! Эолова арфа: скрипка с вынутым нутром, в которую можно дудеть, как в рог; «серпент» (змея) — обычный во времена Баха инструмент, на котором гулко играют с высоты ратуши, когда в праздник гудят колокола; стеклянная гармоника, любимый инструмент Веньямина Франклина… И много, много странных прародителей звука. Тут же в ряд стояли старинные спинеты и чембало. Старый дон сперва показал нам, как люди дошли до получения звуков разной высоты — с помощью созданной им модельки ударного молоточка по натянутой воловьей жиле. Потом он последовательно усаживался перед чембало и спинетами, соблюдая хронологию их происхожденья, и — играл нам Баха. Как проникновенно играл он! Как совсем по-новому, со всей детской чистотой и прозрачностью самого инструмента рождалась под его пальцами россыпь баховских прелюдий! Старик играл бескорыстно, наслаждаясь необыкновенным звучанием старинных инструментов. Мы слушали, слушали. И только к закату неожиданно утихшего дня, пригретого выглянувшим из-под туч бледным солнцем, вышли мы из баховского дома, чтоб снова сесть в машину.
Письмо четвертое: Веймар и Бухенвальд
1
Много, много лет назад — в конце июля 1914 года — я впервые побывала в Веймаре. Я шла туда (почти четыреста километров!) пешком из Гейдельберга, где готовила свою магистерскую диссертацию. И было это мое путешествие паломничеством, поклонением Гёте и гётеанству, основным тогда для меня духовным учителям и воспитателям. Веймар был тих в те годы, очень тих, хотя ездила, позванивая, конка, стучали копыта лошадей по мостовой, звонили колокольцы велосипедов. Но тишина была замедленная, аристократическая, тишина установившихся музейных традиций.
Веймар был городом классицизма и особого вида музеев. Жившие в нем большие творцы оставили потомкам в наследство не только книги, открытия, музыкальные опусы. Они оставили свои жилые дома с тем, что люди прошлого века называли по-латыни «modus vivendi», а сейчас, в применении к целым народам, например американскому, рекламы именуют «образом жизни». Но веймарские дома-музеи были в те далекие времена также и отражением духа и настроений своего времени. А время перед самым взрывом первой мировой воины чревато было каким-то особым беспокойством, похожим на чувство конца. Из Веймара мне пришлось — поскольку я странствовала без паспорта — спешно выехать «по месту жительства», в самую ночь перед объявлением войны; выехать солдатским, набитым донельзя поездом, с ночевкой в Вюрцбурге на вокзальном полу, между серо-зелеными шинелями новобранцев, с головой на рюкзаке, набитом блокнотами. Все впечатления от этого странствия но городам и весям немецкой земли, все мысли о духе и сущности немецкой культуры, занесенные в эти блокноты, толпились в моей голове под острый запах солдатских ремней и горелого эрзац-кофе, которым вюрцбургские девушки всю ночь бесплатно обносили молоденьких новобранцев. То была удивительная ночь — бессонный запах ее я помню до нынешнего дня, — ночь перед тем, как безостановочные, железные пальцы Времени перевернули страницу в истории человечества. Но в ту ночь я не думала о человечестве, я думала о судьбе Германии. Позволю себе привести здесь для читателя страничку из дневника, написанного старомодным стилем тогда же, пятьдесят пять лет назад, но напечатанного только девять лет спустя в ином общественном укладе, на заре нового мира, в 1923 году, Государственным издательством Советского Союза:
«Мы не знаем, выйдет ли и какою выйдет Германия из этой войны, но что, поставив ее себе очередной задачей, она войдет в нее вся, в этом не может быть сомнения. Деятельность, колоссально развитая германским духом, сгустившая ценность жизни, беспрерывно интегрирующая качество из количества, доведшая опыт до предельных глубин (немцы гордятся тем, что познали тайну организирования), — такая деятельность должна взорвать все здания культуры, если только она не отодвинет свою цель с ближайшего на дальнейшее. То, что нужно нам, погубит германство: нам нужно развивать энергию, сжимая ее у близкой цели; а немцам — раздвигать свою энергию, умеряя ее отдалением целей. Этого отдаления сейчас не сделано. Вся сила германского духа, как сквозь взорванный клапан, устремилась на несдвинутые понятия мощи, овладения, захвата, — и вот мы сызнова близки к возвратным сумеркам культуры, к гибели того невозможно прекрасного в ней, что стояло уже при дверях и на чем, как на грустной песенке рыцаря со стен Хейдельбергского замка, таинственная печать несбыточности:
Behüt dich Gott! Es wär zu schön gewesen… Behüt dich Gott — Es hat nicht sollen sein»[156].Вот с каким чувством (или предчувствием) покидала я тогда Веймар, а сейчас, больше чем полвека спустя, совсем в ином «музыкальном ключе» въезжала в него опять.
Гостиница «Элефант», где мы остановились, была полна приезжими. В холле звучала веселым говорком украинская мова, гудела солидная российская речь, — две делегации из Советского Союза, днепропетровская и калининградская, раскрыв зонтики, собирались бежать под дождь осматривать «достопримечательности». Кто-то из доброхотцев объяснял на немецком языке происхождение названия гостиницы: когда-то привезли в Веймар напоказ слона и держали это заморское чудо внизу, в подвале, где сейчас веселый филиал гостиничного ресторана, бар «У черного медведя». Вот так и получил отель свою слоновую кличку…
Был ветер на улице. Он гнал дождь полосами на прохожих. Мне хотелось быть одной в эту первую встречу с когда-то любимым, и я вышла одна. Город — топографически — очень мало изменился. Без зеленого густого покрова парков он выглядел раздетым. И его домики, эти очаги немецкой классической культуры, казались поменьше, чем полвека назад, словно люди с осевшими к старости позвонками. «Музыкальный ключ» у меня, с каким я шла по улицам, был не в пример прежнему мажорный: новая Германия, ГДР, родилась из испытания двух войн, родилась на небольшом, правда, плацдарме, но зато каком! И что именно взяла она из этих домиков с их модусами вивенди, домов Гёте, Шиллера, Гердера, Виланда, Листа?
В одном из своих писем[157] Владимир Ильич, иронизируя, пишет о выдвинутом против пего обвинении в «Personenkultus». Мы перевели позднее это слово неправильно, как «культ личности». Между тем в немецком языке слово «Person» означает «лицо», «персону», то есть человека, занимающего некое общественное положение, нечто условное и абстрактное, тогда как слово «личность», пользующееся огромным уважением, называется «Persönlichkeit». Личность, Persönlichkeit, стоит сейчас в ГДР в центре педагогических и политических брошюр. Чуть ли не на каждой странице агитационно-пропагандистских изданий о школьной проблеме в Германской Демократической Республике находится это слово в его прямом положительном значении как цель воспитания, как необходимость выработки из каждого гражданина ГДР всесторонне развитой личности, Persönlichkeit. Тогда как в чудовищном обвинении по адресу Ленина, приведенном им в письме, речь шла о культуре персоны, культе своей собственной персоны (в иронически-презрительном безличном смысле). Разница между этими двумя словами очень большая, и притом не только смысловая, а и психологическая.
Личность и ее культ — это одна из конкретных форм культурного строительства. Личность — высшее проявление достигнутого человеком развития — отражает себя в творчестве и быту, в приемах работы и суждениях, во вкусе и поведении. Чем выше и совершенней личность, тем ценнее и показательнее ее проявления. Сохранить их для потомства во всей их жизненной связи как пример труда и методики трудового режима, своеобразия мышления и характера — значит уберечь от забвенья их жилища, личные рабочие комнаты, обстановку, вещественные черты быта, — словом, сохранить их дом, — а дома-музеи крупнейших творцов на земле — что они такое, как не культы их личностей? Веймар, как никакой другой город в Европе, славился такими очагами «культов-личностей», входящими в их совокупности в культуру родной страны. И вот я опять в Веймаре, опять перед домами великих творцов. Чем отличается их показ в новых, социалистических условиях?
Расположение дома Гёте на Фрауэнплац с его парадными комнатами и крохотной спальней, где он умор, прося «больше света», задыхаясь от темноты этой клетки, и чудесным рабочим кабинетом, где все до мелочей отражает его творческое присутствие, было мне знакомо наизусть.
Уже полвека назад я особо заинтересовалась личными особенностями его бытия.
Во-первых, полным отсутствием случайности в обстановке. Ворона, строя свое жилище, таскает, как известно, все, что попало, на его устройство — лоскутки, ветку, пуговицу, бумажку. Раз в Ялте на моих глазах она ухитрилась даже стащить со стола за шнурок мой слуховой аппарат, плененная его металлическим блеском. Есть женщины, вот так собирающие у себя дома «блестящие» предметы, коллекционируя их по-вороньему. Но Гёте, большой коллекционер, в своих парадных комнатах показал, что у настоящего творца собранные им вещи всегда биографичны, связаны с интимным развитием его характера и мышления. Увлечение античностью, поездка в Италию, страстная любовь к минералогии, охваченность теорией цвета, учением о красках, натурфилософские занятия — все, что прошло цепью больших страстей у этого пытливого, глубокого, устремленного ума, отразилось на обстановке парадной анфилады гостиных, ее мебели, скульптурах, картинах, коллекциях. Ничего случайного, прихваченного неразборчивым вороньим клювом!
Во-вторых, полным отсутствием бесплановости в рабочем режиме, отсутствием того французского laisser faire, laisser aller, житья как придется, плытья по течению, каким грешат иной раз и настоящие творческие работники. Гёте всегда направлял свою работу, он любил писать на отдельных бумажках планы и программы занятий на такое-то время вперед, вешал их на стене, подчеркивал, вычеркивал. Вел дневники, хотя бы несколько строк за целый год; свято соблюдал распорядок работы, отводя для нее утренние и дневные часы, когда голова свежа. И — подобно нашему Ленину — ненавидел курильщиков, закуренный воздух. У него не курили. Защитникам хотя бы нюханья табака, в его время сильно в Германии распространенного, он раздраженно говорил: «Но ведь это грязь, пачкотня!» Свежий воздух любил Гёте, как первое условно хорошей работы, как ходьбу пешком, как любую форму удовлетворенности организма. Но с такой же силой он ненавидел насилие над собой, и, если, например, писание не удавалось, не чувствовалось той зажженности фосфора в мозгу, какую люди называют вдохновением, он давал совет: отложить работу, лучше это время пробездельничать, vertändeln, чем насиловать свой мозг. Всему этому я так рьяно, так благодарно училась когда-то, медленно впитывая в себя урок жизни, сохраненный для потомства в доме-музее Гёте.
И еще одному, тогда же записанному мною в свои дневник. Раз начав наблюденье или размышленье над чем-нибудь, Гёте любил доводить его до конца или хоть не до конца, а долго прослеживать во времени. Ему интересен был процесс развития в растении, в животном — это все знают (во всяком случае, гётеанцы знают); а вот незадолго до смерти он направил этот интерес на политику. В конце 20-х годов его заинтересовали тринадцать тогдашних событий социально-политического характера. Он их аккуратно записал на таблицу и вывесил ее. В следующие два года, 1830 и 1831, он на двух других таблицах отметил их развитие, то есть что произошло с ними последовательно в таком-то и таком-то году. К сожалению, этот любопытнейший анализ Гёте мало заинтересовал прежних исследователей, и я потом до нынешних дней почти нигде о нем не читала. Но взгляд на общественно-политический факт как на эмбрион, несущий в себе определенную форму развития, то есть применение к обществу такого же научного метода исследования, как и к любой области природы, был тут у Гёте налицо, и о нем я уже тогда немало задумывалась.
Все, о чем я тут пишу, было плодом моего старого знакомства с веймарским домом Гёте. К нему прибавились в памяти другие черты и черточки от прежнего посещения домов-музеев — шиллеровского, в рабочей комнате которого, в ящик его письменного стола, Шарлотта Шиллер должна была обязательно класть гнилые яблоки, потому что запах яблочного гниения стимулировал вдохновение Шиллера, или отбор трофеев Листа, которым в то время почти ограничивался листовский дом-музей, — все это вставало в памяти, и я смогла сразу заключить, насколько веймарские музеи-дома в июле 1914 года давали совершенно изолированный образ их хозяев, почти вне исторической эпохи, вне связи с общей жизнью страны, Европы, планеты. А заключив это, очень легко для себя увидеть, какую огромнейшую разницу показа и восприятия дают они сейчас, в молодой социалистической Германии.
Чтоб лучше оценить систему нового показа, надо начать с того, что всегда было главным у немцев, — с книги. В самые последние годы, начиная примерно с 60-х годов или с конца 50-х, появляется в Веймаре ряд небольших, но прекрасно изданных книжек, скромно названных каталогами памятных мест и домов-музеев. На каталогах отметки: «Дом Листа», 1968, четвертое издание; «Дом Виланда», 1966, первое издание; «Дом Гердера», 1968, второе издание; «Дом Шиллера», 1968, пятое издание; «Музей Гйте в Веймаре», 1968, четвертое издание…
Остановлюсь хотя бы на этих пяти, не утруждая читателя перечнем десятка других «домов» и «замков». Виланду не посчастливилось: каталог о нем издан всего однажды, три года назад. А «Дом Шиллера» переиздавался пять раз, «Дом Листа» и «Музей Гёте» — четыре раза, открывая сугубый интерес туристов к этим наиболее популярным именам. Но я по старой привычке, заимствованной у Гёте, — начинать всегда с самого трудного и наименее интересного — взяла себе на ночь для чтения именно Виланда. Взяла — и до утра горела моя ночная лампочка, нанося убыток гостинице «Элефант».
2
Что я знала о Виланде до сих пор? Очень мало. Его хорошо знали русские интеллигенты сто лет назад. По моему поколению он ведом обрывками: Гёте злился на пего за «офранцуженное» противодействие свежему реалистическому движению молодежи против ложноклассицизма, носящему название «Штурм унд Дранг» («Буря и натиск»), и написал злосатирический фарс «Боги, герои и Виланд». Что-то вроде нравоучительного романа «Агатон» в стиле педагогического романа Руссо «Эмиль» числилось за Виландом. Портрет его с вытянутым носом и острыми, холодными глазами напоминал мне Вольтера, а его «придворность», его занятия с наследным принцем — нашего Жуковского. Все эти ассоциации были произвольны, и самого Виланда я никогда не читала. И вот из глубины гётевского времени, из парадных покоев маленького веймарского двора приблизился ко мне человек неожиданный, в черном бархатном камзоле и кружевном жабо, резко противоположный сложившемуся у меня фальшивому портрету. Книжка, скромно названная каталогом, оказалась на высоте лучших монографий (или докторских диссертаций), какие я когда-либо читала. Форма — каталогическая — показалась мне ну просто новой найденной моделью, по которой захотелось построить десятки домов-музеев у нас. Главное ее достоинство: ни одного лишнего слова, никакой литературщины и каждая фраза песет смысловую, литературно-историческую нагрузку, а все вместе дает абсолютно конкретный, абсолютно аргументированный портрет человека в центре своего времени, на движущемся эскалаторе личной жизни и жизни общества.
Музей Виланда был открыт совсем недавно, в 1963 году. Для него отвели пять комнат дворца (Wittum-Palast), где он постоянно бывал и часто гостил у герцогини Амалии. Туда свезли его мебель, оставшиеся сувениры, картины, фарфор, манускрипты и книги. И уже в названии комнат сказалась главная идея таких веймарских «домов», выработанная новым общественным строем ГДР. Пусть сам читатель увидит ее в перечне этих названий: I. «Молодость и ранние поэтические труды»; II. «Пробивающие путь труды в духе эпохи Просвещения»; III. «Виланд и новое поколение литературной молодежи»; IV. «Вершины мастерства веймарского периода»; V. «Как публицист и поэт после французской революции» (1789–1813). Движение этих названий идет по главному пунктиру данной человеческой личности, по тому положительному, что она внесла в развитие родной литературы. Человек, вышедший мне навстречу в черном бархатном камзоле, принес с собой воздух эпохи Просвещения, шестибалльный ветер, почти вихрь — конца восемнадцатого века. Перед умным и скупым каталогом предметов в каждой комнате — страничка введения, где Виланд коротко рекомендуется как поэт, писатель, переводчик и публицист немецкой эпохи Просвещения, критик феодального абсолютизма, один из тех немногих немецких писателей, кто сумел поднять свой голос в защиту французской революции и якобинцев. Что страничка эта — отнюдь не общие фразы, доказывает сам Виланд в цитатах из его собственных вещей, перепечатанных в каталоге со страниц его книг, развернутых на музейных стендах. Ничего общего с «Эмилем», которого Руссо пожелал видеть натуральным «сыном природы», изъятым из цивилизации и оков времени: «Агатой» Виланда — это история гражданина, для маскировки перенесенного в Древнюю Грецию, воспитанного движением истории, в котором он сам постоянно участвует — от незрелых романтических идей до осознанной гражданственности нового человека третьего сословия, вышедшего на историческую арену.
Огромное влияние на немецкую молодежь оказал, как мы знаем, Шекспир, которого в Германии поняли и оценили раньше, чем в Англии. По источник этого влияния — в драмах Шекспира, переведенных на немецкий язык; а перевел их и этим как бы камень в тихую заводь бросил, от которого пошли и пошли раскатываться круги, не кто иной, как Виланд. Это как-то исчезло из поля зрения нашего поколения. Исчезли и удивительные для официального положения Виланда в герцогском дворце, среди негодующего крика испуганных мещан и осуждения многих ученых и писателей, смелые высказывания Виланда о Великой французской революции. В 1793 году в «Размышлениях о современном положении отечества» он рассуждает, например, о влиянии революции на общество в замкнутых, еще феодальных европейских государствах: «Несправедливости, обиды, угнетения, которые до сих пор хотя и со вздохами, и с ворчаньем, но все же люди переносили, потому что механически верили, что иначе не может быть, сейчас они начинают находить непереносными, потому что увидели, что может быть иначе»[158]. А в письмо к Карлу Леонарду Рейнгольду, в июле 1792 года, когда все ужасались от падающих на гильотине голов, он как ни в чем не бывало спокойно пишет: «Право же, лучше, чтоб погиб один, чем погубить весь народ».
И дальше — выделенное умными, вольтерьянскими цитатами целое здание убеждений, которые числятся передовыми в глазах растущего человечества: здоровая реалистическая эстетика, холодный отпор клерикализму, трезвое неверие в возможность личного бессмертия… Вот он каков, провинциальный воспитатель кронпринца, почти никому сейчас неведомый Христофор Мартин Виланд, высоко ценимый Лессингом, Гердером, да и самим Гёте. И как это хорошо, когда пробег по музею и чтение каталога конкретней, чем любая диссертация, доказательно, без лишних слов восстанавливают передовую традицию в истории общественного сознания!
А дальше — каталог музея-дома Гердера, которого я знала больше, чем Виланда, и даже читала — и даже из прочитанного запомнила, как пишет Гердер о тенденции человека к вертикальному росту, тогда как в животном мире — тенденция горизонтальная, и сколько на этом сравнении у Гердера было наворочено глубоких и гуманных идеи. Гердер в моей памяти так и остался многословным идеалистом-гуманистом. Но, уже подготовленная к структуре веймарских книжек-каталогов и к новому устройству домов-музеев, я сугубо внимательно всмотрелась в экспонаты музея. Если музей Виланда был открыт в январе 1963 года, то гердеровский — спустя одиннадцать месяце», в декабре 1963-го. Принцип организации и содержания предметов каждой комнаты — в каталоге один и тот же, но люди, живущие в этих домах, — разные, хотя работали они в Веймаре в одно и то же время. Виланд прожил восемьдесят лет (1733–1813), Гердер — пятьдесят девять лет (1744–1803), оба были людьми XVIII столетия, задевшими лишь кусочек века XIX. На фоне блестящего французского интеллектуализма, подготовившего в лице своих гениальных hommes de lettres (людей пера) французскую революцию, этот узкий маленький круг веймарцев с их домашним очагом идей эпохи Просвещения мог бы показаться незначительным, если б не гигантская фигура Гёте. Но Виланд как-то написал Ногаппу Глейму, что «хорошее не может пропасть». И хорошее не пропало. Если не сто лет назад, оно сейчас переходит в действие, оживает зелеными ростками нового понимания. Социалистическая культура ГДР сумела придвинуть к современности фундаментальные передовые идеи Веймара и показать их так, как не могли полвека назад.
Гердер был «лицом духовного звания», ein Geistlicher, как говорят о священниках немцы. Он служил в церкви, читал проповеди, будучи одновременно ученым и педагогом. По привкус религиозности в этом мыслителе не отталкивает читателя от его ясного, элегантного языка, последовательного мышления, продуманного гуманизма и, главное, удивительной для его сана радикальности, почти революционности взглядов. Тем же методом, что и в музее Виланда, каталог разворачивает перед нами рост и глубину этих взглядов Гердера.
В эстетике он был идейным отцом молодежного «Штурма унд Дранга», призывал к изучению народного фольклора, видел в Библии древний фольклор евреев, видел в истоке каждого искусства народные песню и сказ, слагаемые главной действующей силы культуры, поскольку эта сила, созидательная, трудовая, дающая хлеб насущный для бытия человечества, — народ. В лингвистике он создал учение о происхождении языка из поэзии, потому что начатки языка у народов представляют собою как бы собрание элементов поэзии, заимствованных у звуков природы: «Подражание звучащей, действующей, движущейся природе! Из выявления всех существ взятое и выявлением человеческого восприятия оживленное!»[159] В истории он указал на самостоятельное значение каждого исторического этапа и на противоречивое движение исторического развития. В философии он выступил против гносеологии Канта, за реальность объективного мира и возможность познания «вещи в себе». В политике он был резко против колониализма, против завоевательной войны. В то время как немецкие князья начали интервенцию против Франции (Гёте, как наблюдатель, участвовал в этой кампании), Гердер открыто выступил в защиту французской революции. Он назвал войну Франции против интервентов единственно справедливой войной. В «Письмах о требовании гуманности» есть обжигающие своей страстностью строки: «По какому праву, под каким предлогом может кто-либо переступить границу, чтоб срезать соседу, как своему рабу, волосы, навязать ему своих богов и отнять у него поэтому его национальные святыни религии, искусства, мировоззрения и образа жизни; в сердце каждой нации он найдет себе врага…»[160] Наконец, устроители музея Гердера даже указали посетителям, что в его литературном наследстве имеются элементы диалектики, быть может попавшие туда под влиянием «Логики» Гегеля.]! одпой из своих рецензий — на английскую книжку Миллера «О разнице состояний в буржуазном обществе» — Гердер в виде вопроса пускает в ход гегелевскую терминологию: «А как, если два внешних состояния снимают друг друга и порождают третье, причем невидимо действует под этим все одна и та же сила?»[161]
Листая каталог и проходя с ним из комнаты в комнату, вы поддаетесь атмосфере удивительно сильной духовной личности. Если это действует на приезжего посетителя, то как же сильно должно это влиять на немецкую молодежь? Традиции, которыми можно гордиться, которые лучше всякого рода кордона противостоят западному миру с его агрессией, реваншизмом, извращением духовного наследия немцев…
На двух этих каталогах стоит имя автора: Хедвиг Вейльгуни. Ею написана и еще третья книжка — о доме-музее Листа. И в ней вместо прежнего перечня афиш и триумфов большое место занимают воспоминанья нашего Бородина, оказавшиеся на редкость интересными. Они, разумеется, были изданы и у нас, но таким ничтожным тиражом и затертые в сборники, что многие из советских любителей музыки их и в глаза не видели. Между тем Бородин ярко описывает свои встречи с Листом, характер и внешность великого музыканта, его окружение, его старческие добродушие и гостеприимство, его особую любовь к русским ученикам и России. Мне кажется, Хедвиг Вейльгуни, создавшая эти брошюры со скромным подзаголовком «Каталоги», нашла, в сущности, новый литературный жанр, который в коллективном творчестве с музейными работниками и обдуманной расстановкой предметов в музее мог бы с успехом привиться и у нас. Он вполне заменяет толстые диссертации и многословные монографии. Он совмещает в себе материал, организованный во времени и пространстве, — и ведущую руку научного работника, знающего, что необходимо выявить и показать в ответ на живую потребность эпохи.
Ну, а как же дом Гёте, ради которого я в год первой мировой войны отшагала по немецкой земле без малого четыреста километров? Прежде всего я нашла в посвященной ему брошюре профессора Хольтцхауэра драгоценные для меня строки. Ученый новой, социалистической страны не мог, разумеется, обойти те загадочные таблицы, какие старый Гёте вывесил на стене. Вот что пишет о них профессор Хольтцхауэр:
«На дверях своей рабочей комнаты в доме на Фрауэнплац прикрепил Гёте три листа, которые, наряду с многим другим, доказывают его интерес к политике до самой глубокой старости. Это синоптические таблицы из годов 1829, 1830 и 1831. Из «Всеобщей Аугсбургской газеты», издававшейся Котта, и парижского «Глобуса», а также из других источников он взял на заметку важные политические события и проследил их развитие, в том число русско-турецкую войну, освободительное движение в Южной Америке с Симоном Боливаром и также деятельность иезуитов в Германии»[162].
Я была просто счастлива найти эту заметку и частичную расшифровку загадочных таблиц, которые в 1914 году не смогла прочитать точно — они висели чересчур высоко. Мне только показалось (и я неверно занесла в дневник), что годы были 1828–30-й, а не 29-й — 31-й. Значит, интерес был у Гёте еще позднее, перед самой его смертью!.. Дальше профессор Хольтцхауэр приводит замечательные свидетельства общественной и политической жилки у Гёте, отразившейся в ряде его цитат. Но, к сожаленью, методика этого интереса у Гёте, его совершенно новый, интимно-гётевский подход к изучению общественного явления как явления природы (зачаток предположения закономерности в жизни общества, как в самой материальной природе, и, значит, научного ее изучения!) — не обратили на себя внимания исследователей и посейчас. А между тем едва ли не самое зрелое из опыта жизни, прожитой Гёте, это на основе огромной практики выработанная им методика…
И еще было одно, что остановило меня при посещении дома-музея. Оно резко ударило по восприятию. Оно требовало ответа, хотя для многих посетителей дома Гёте это показалось бы мелочью.
3
Мы с моим спутником были приглашены на ужин к автору книги о Гёте, директору «национальных исследовательских и мемориальных учреждений немецкой классической литературы в Веймаре» профессору Хельмуту Хольтцхауэру. Под проливным дождем вечером машина привезла нас на тихую улицу с красивыми домами типа вилл, и мы очутились в изящной квартире-модерн, с чем-то уютно-интеллектуальным, располагающим к беседе. На столе в гостиной на красивой подставке горела толстая красная свеча, толще охвата ее ладонью. И она не просто горела: алые восковые языки, расчленяясь от фитиля, опадали вокруг огня, как лепестки от пестика. После ужина мы уселись вокруг нее, и, пока длился наш разговор, свеча раскрывалась все больше и больше чудесным алым цветком, словно постепенно расцветая.
Жена профессора показала мне «очаровательную книжку», над которой «умирала со смеху». Это был немецкий перевод нашего «Козлотура». Профессор принес немецкую книгу в голубой обложке — первое издание моего «Гёте», вышедшее в ГДР много лет назад и с тех пор дважды переизданное, раз в ГДР и раз — подпольно — в ФРГ. Это были предварительные мостики к большому разговору, в своем роде осторожное приближение друг к другу. В конце их последовала естественная фраза хозяина о том, что нового нашла я в экспозиции дома Гёте со времени моего «Путешествия в Веймар», то есть с июля 1914 года?
Но вместо ответа я прежде всего сама обрушилась с вопросом, какой мучил меня весь день, с вопросом, имеющим значение, быть может, только для заядлых, правоверных гётеанцев: как это так можно произвольно переменить одеяло в спальне Гёте и вместо стеганого ватного, тускло-зеленого цвета, обветшалого, но настоящего, собственного одеяла Гёте, еще державшегося в мое время, гармонировавшего с ковром на стене, со всей тональностью спальни, — постелить новое стеганое красного цвета?! Новое красного цвета режет глаз, когда входишь в спальню, — ведь из памяти не ушло, не могло уйти подлинное, ведь сейчас спальня кажется неправдоподобной, модернизированной!
И тут профессор Хольтцхауэр повел рассказ о вещах действительно интересных, хотя на первый взгляд невероятных. Хотя ткани выдерживают, не рассыпаясь, тысячелетия, что нам известно по египетским мумиям, но в обычной обстановке жизнь их куда короче. Тускло-зеленое старенькое одеяло, хранившееся в музее Гёте свыше восьмидесяти лет и виденное мною уже совсем обветшалым в 1914 году, не выдержало действия времени, оно стало распадаться. Исследуя его ветошь, расщепляя его хлопья, чтоб достоверней восстановить его краску и субстанцию для нового одеяла в музее, химики с изумлением нашли, что первоначальный его цвет был вовсе не зеленым, а красным, он как бы выцветал десятки лет, изменяя свою окраску и подтверждая отвергнутую физиками собственную теорию Гёте в его «учении о цветах» (Farbenlehre): «Он с того света доказал ньютоновцам, что был прав, — полушутя-полусерьезно закончил свой рассказ Хольтцхауэр. — А если говорить о новых наших исследованиях за прошедшие годы, то они связаны с сегодняшним днем. Многие идеи Гёте, его прогнозы главным образом в химии, оказались близкими, интересными нашему времени. Да вот живой пример — мой сын Мартин, он химик, пишет диссертацию об идеях Гёте в химии…»
Мартин, сосредоточенный и молчаливый, сидел тут же, задумчиво глядя на золотой пестик свечи.
Химический анализ рассыпавшихся хлопьев старого гётевского одеяла… Это было необычайно, неожиданно для меня, и оно вывело наш разговор прямо in medias res, в середину дела, поскольку своей старой книгой и всем неумирающим интересом к Гёте я ставила во главу угла его изучения — именно научную, философскую апперцепцию гения, его значенье как мыслителя новой эры, как близкого нам, приближающегося к нам диалектика-материалиста. В течение многих лет, получая постоянно программы конференций по Гёте из Веймара и приглашенье выступить на них, я не раз задумывалась над темой «Ленин и Гёте», «Значение Гёте для Ленина», но откладывала ее за недостаточностью продуманного материала, за отсутствием времени проделать нужный анализ над каждой страницей «Материализма и эмпириокритицизма»…
Беседа — особый вид творчества, обоюдного или даже коллективного, если участие в ней принимают не только двое. Вот почему после нее человек чувствует себя обогащенным вдвойне — и отдачей и полученьем. Да, Веймар во многом изменился, он шагнул вперед, он лицом повернул традиции к современности, ввел весь их еще не вскрытый потенциал в служение будущему; по он же показал и то, как вся глубина этого потенциала, жизненная сила мирового, общечеловеческого гуманизма, становящаяся бесплодно-абстрактной в условиях старых, отживающих общественных отношений, — обретает плоть и кровь, жилую конкретность в новых — социалистических.
Спустя два с лишним месяца после моего возвращенья из ГДР в Берлине происходил конгресс писателей. Я следила за ним по очень общему, почти ничего, кроме голых фраз, не дающему репортажу в «Берлинер цейтунг». Но одно место, не схожее с тем, что обычно говорится и на наших писательских съездах, остановило меня. Это была коротепькая выдержка из доклада профессора Макса Бальтера Шульца, директора Института литературы имени Иоханнеса Бехера. Он сказал: «Сейчас в Германии — два немецких государства, антагонистически стоящих друг против друга… Признание живущими в Германии писателями своей идентичности с тем или с другим государством, с социалистической общественностью или с антиобщественностью капиталистической, создает тем самым и две немецкие литературы. Какая-либо третья немецкая литература, считающая себя не идентичной ни с той, ни с другой, объявляющая себя автономной, не желающей служить никакому делу, кроме своего собственного, ищущая свою «общественность» лишь в измышленном собственной головой псевдоинтернационализме, обречена, как это учит весь исторический опыт, заранее на общественное бесплодие. Буржуазный немецкий писатель, все еще показывающий своему обществу в темпом зеркале старые буржуазно-гуманистические и демократические идеалы, для нас гораздо ближе к социалистической немецкой литературе, чем писатели третьего пути»[163].
Да, старые гуманистические идеалы, выраженные в оболочке своего времени и своего класса, ближе стране социализма, нежели левацкая мнимоинтернациональная заумь бесплодного эгоцентризма, лишенного знака времени, истории, родины. И это потому, что наследником всей старой гуманистической культуры, осваивая и нацеливая все живое в ней, является повое, социалистическое общество…
4
В это утро я поняла, пережила всем сердцем призывное восклицанье короля Лира «Дуй, ветер, дуй!», звавшего с диким отчаяньем бурю, вместо того чтоб укрыться от нее. На улице, когда мы вышли из своего «Элефанта», было похуже бури: ветер стегал, дергал, рвал клочьями комариные кучи дождя, саранчовые кучи снега; лужи лопались под ногами, обледеневшие за ночь; смотровое окно в машине, покуда мы тяжело скользили из Веймара, было залеплено пощечинами грязи, замазано дожде-снегом, и его приходилось вытирать чуть ли не на каждом полукилометре. У едва видимого строения машина стала. Отсюда надо было идти пешком, идти огромные расстояния в обведенном проволокой пространстве, от объекта к объекту, и тут я, как Лир, готова была благословлять погоду, пронизывавшую до костей, потому что это было самой меньшей данью человеческому изнеможенью и ужасу, погребенному в этой страшной пустыне. Мы шли, миновав ворота с гнусной готической надписью «Каждому — свое». Мы приехали в Бухенвальд.
Что рассказать читателю об этом последнем веймарском «музее»? Передо мной огромная книга со всеми, от первого до последнего, документами, связанными с невероятным обесчеловечиванием, проявленным здесь нацистами, — скрупулезно точно, аккуратно, как роботы. Но я захлопнула книгу. Лучше по памяти и только о том немногом, что непосредственно обожгло память.
В первом из «объектов» была невинная медицинская комната со столиком для записи чуть ли не санаторных данных: вес, рост… У стены возвышалась вертикальная стойка с показателями сантиметров и метров. Сюда вводили пленника, раздевали и ставили, чтоб измерить рост. Опускалась сверху дощечка, словно шлагбаум, на цифре роста. А с той стороны, за стеной, тоже была комната и против той же стены с доской — узкая, незаметная вертикальная щель в соответствии со шкалой сантиметров. И стоял человек с чем-то черным, как свернутая кобра, в руках. Когда в «санаторной комнате» устанавливался рост пленника, дуло револьвера точно входило в щель на уровне человеческого затылка — Genick по-немецки, — и с выстрелом наступала мгновенная смерть. Операция так и называлась «Am Genick», в затылочную часть. Упавшего быстро тащили по узкому цементному канальчику — в скрытый от глаз, но тоже рядом, в двух шагах, морг, с тем только отличием от обычных моргов, что мертвецов тут наваливали кучей друг на друга, а не накладывали на столы.
Коридор; роздых от мгновенных методов уничтоженья; фотографии на степах. Вот живое лицо, верней — лицо живого человека. Надо было, чтоб он был жив. Потому что сдирать кожу с лица живого — значит получить лучший по качеству материал. И лицо — без кожи. Из обнаженных глазниц глядят человеческие глаза. Мясо вместо лица не имеет мимики, не имеет выраженья. Глаза — тоже. Но они не мертвые. А тут же за стеклянной витриной какой-то сморщенный дамский ридикюльчик, еще какая-то галантерея, сделанные из лицевой кожи этого ободранного человека. И дальше — фото, фото. Вот фотография странного субъекта, вы его можете встретить на улице, где-нибудь в театре, сесть с ним рядом. Несчастная женщина может даже влюбиться в него — во что-то странно подкинутое зрачками ввысь, фанатическое в этом лице. Подпись: садист Мартин Соммер, тот, кто был инициатором всех изощренных пыток, кто проделывал их сам, своими руками, над людьми, присланными в его распоряжение. Он не просто злодействовал, как обычные злодеи в книгах. Он наслаждался злодейством.
Крайняя степень, до чего может дойти человек, высшее созданье природы. Говорят, в крови людей имеются бациллы чуть ли не всех болезней, но люди могут прожить до смерти, не заболев ни одной из них. Значит ли это, что в душе человеческой — по Достоевскому — могут жить потенции ко всякому виду порока, всякой страсти, ко злу, к жестокости, мучительству, истязательству, убийству? И если, как для оживления болезнетворных бацилл, создадутся нужные условия для этого, — пробудятся и проявятся в ней потенции зла, последнего падения человека, хулы на «духа святого», на то, чем стал человек — человеком?
Мы идем дальше, дальше, мы видим отвратительные нары, где задыхались пленники, видим черные, вонючие погреба, где сидели они в одиночку, видим изображения худых, скелетоподобных пленников, до предела додержавших в этих изнеможенных остатках тела едва заметное мерцание жизни. Вдруг в мир непереносных страданий врывается деловитая, здоровая, обыденная, как рабочий день в канцелярии, официальная бумага со штампом учрежденья. Хочешь облегченно вздохнуть, ведь штамп — медицинской фирмы Боэр, ждешь чего-то, хотя подобия какого-то если не добра, то нормальности. Оказывается, фирма Боэр запросила у Бухенвальда для своих экспериментов двести здоровых женщин. Бухенвальд назначил цену: по двести марок за голову. Это показалось дорого фирме. Она отвечает: мы согласны купить женщин не дороже ста семидесяти марок за каждую. На ста семидесяти сошлись. А как женщины? Почти ни одна не выжила, — видимо, и не могла выжить, поскольку оплата велась «насовсем». А фирма? Фирма продает лекарства и посейчас — в ФРГ.
Молча, с подступающей к горлу тошнотой проходили туристы вдоль бесконечных объектов, чувствуя свою, человеческую, вину за возможность такого обесчеловечивания. По вот камера немецкого священника. Его замучили, и он погиб, потому что поднял голос против нацистского зверства. Передо мной в мокрой от снега курточке, с мокрой головой без кепки шел мальчик лет двенадцати. С ним был отец. Он подвел его к камере Тельмана и тихо начал рассказывать что-то. Я не слышала слов, но лицо мальчика постепенно, словно прорезь в тучах, освещалось внутренним светом, мальчику становилось легче; захотелось подольше смотреть на пего, следить за сменой чувств в светлых глазах, за вздохом, поднявшим мокрый воротничок на шее, — и вот мальчик с отцом уже у другой, большой витрины, куда и мы подходим с отрадным чувством выхода из ада. Фотографии борцов подпольного комитета против фашизма всех национальностей, в том числе и наших, советских людей, глядят на нас одна за другой. Живые, хорошие лица, разные, но схожие в одном — в выражении воли и решимости, лучшие люди человечества, кто всегда и везде, при всех обстоятельствах остаются людьми, не теряющими ни мужества, ни человечности. Мальчик, глядевший на них, весь подобрался, ожил. Он стискивал руку отца, глядел, оглядывался и все что-то спрашивал вполоборота, а сутулый человек, склонив к нему голову, отвечал. Не все погибли, многие из них живы. Надписи говорят, кто где сейчас находится и над чем работает. И жив среди них советский подпольщик, член комитета, живы многие немцы…
Мальчик почувствовал, что на пего смотрят. Он повернулся, и я увидела повеселевший голубой взгляд под белыми бровями. Маленький немецкий гражданин нового, социалистического государства! Пе забудь, когда вырастешь, о том, что тут увидел! И сохрани свою чистую детскую совесть — стыд за бесстыдное зло и гордость за то, что и немцы, твои земляки, подняли руку на зло, не боясь гибели. Примером для собственного бытия на земле — заключи это в сердце и памяти…
Летом 1958 года вышла в ГДР книга, которую с тех пор переиздают десятки раз на десятках языков мира, и расходится она в миллионах экземпляров по всему лицу земли. Автор ее, Бруно Апиц, рассказал, как в совершенно обнаженной и беззащитной для пленных обстановке только что увиденного памп лагеря один арестант сумел провезти с собой в чемодане крохотного живого еврейского мальчонку, родителей которого уничтожили в Освенциме, ужо научившегося не издавать ни звука, задерживать дыхание, не двигаться. Заключенный знал, что он обречен; по его сундук, вопреки всякой теории вероятности, сохранили такие же обреченные люди вокруг него и сохранили в живых мальчика. Рассказ ведется просто, но его нельзя отложить, когда читаешь, и на бумажной рубашке переплета, по обычаю издательств, сказано для читателя, что спасенный мальчик, Стефан Иржи Цвейг, сейчас жив, здоров и работает. Эта книга, «Nackt unter Wölfen», известная и у нас («В волчьей пасти»), встает наперерез страшному впечатлению от Бухенвальда. Жить было бы невозможно, если б не знать, что человек не перестает быть, но теряет свою человечность, какими бы страшными ни были степы вокруг пего. И теплота от образов книги, написанной пером писателя, тоже сидевшего в Бухенвальде, написанной по из головы, а по свежему следу увиденного и пережитого, согревает сердце, когда в сумерках возвращаешься в Веймар.
Письмо пятое: Созвездие Кассиопеи
1
Иена — один из показательнейших городов новой, демократической Германии. Есть такое выражение у архитекторов: «вписывается» — дом вписывается в ансамбль, здание вписывается в пейзаж. Я его всегда вспоминаю, думая о Иене. Опа вписывается в историю новейшего социалистического развития немецкой культуры. В эпоху Гёте это был город университета, где читал Шиллер; город библиотеки и семейства Фроман, где Гёте — в который раз — увлекся; город провинциальной тишины и уюта, куда можно было за час-полтора доехать из Веймара на лошадях и отдохнуть на гётевский, лучший в мире манер: в духовном общении дружбы и взаимопонимания. Тот маленький исторический факт, когда какой-то прилежный механик Карл Цейс добивался — с великими усилиями — звания университетского механика и хотел этим званием тесно связать свою мастерскую с потребностями науки, еще не произошел, ведь Гёте умер, когда Карлу было всего шестнадцать лет. Между тем этот маленький факт был зародышем огромного факта, стоящего сейчас перед нами, как стоят в представлении нашем об итальянских городах их уникальные площади с уникальными duomi — соборами и звонницами. Именно это зародышевое событие — звание мастера-ремесленника как «университетского поставщика», добытое с величайшими усилиями (так добывали до революции крупные русские фирмы звание «поставщика двора Его величества»), — сделало сейчас Иену показательным городом ГДР, образцом для многих ее городов, связавших промышленность с образованием, производство с наукой.
Мне часто приходится слышать в ответ на мои рассказы о новой школе, что-де именно расцвет политехнизации во всех новых школах и есть прямая причина оскудения гуманитарных паук, а с ними — нравственности, духовных идеалов, духовного состояния современной молодежи. Реплика эта ошибочна. Метафизика по-гречески — после-физика, гуманитарные науки растут над (или вслед за) естественнонаучными, ведь для истории нужно накопление прошлых фактов; для философии — накопление всех видов и опытов восприятия; для психологии — развитие человеческих типов и характеров, порождаемых развитием человеческих обществ, а значит, и развитием техники, — словом, после, после, а не до. И замечательно, что новая огромная гуманитарная наука — марксизм-ленинизм — развилась и показала себя необходимой именно вслед за происходящей во всем нашем мире физико-математической и технической революцией.
Попробуйте связать нашу старую идеологию (историю, психологию, этику, гносеологию) с тем, что вдруг распахнула на земле новая физика с новой техникой; попробуйте вразумительно оформить происходящее сейчас на почве этого нового перевооружение всей промышленности; попробуйте хотя бы привести к какой-то адекватности, к знаку равенства два эти мира, нашу старую гуманитарию с нашей новой технологией, — и что получится? В лучшем случае — разговор о бессмысленных и вредных последствиях «безбожной» кибернетики; о наличии «мистики» в попытках, опытов телепатии и в прослеживании слуха и зрения «за порогом» человеческой слышимости и видимости; о гибельности расщепления атома и обесчеловечивания человека в век атомистики и тому подобное, в то время как именно для поднятия человеческого духовного мира и его нравственной сущности на более высокую ступень нужно выработать и более высокую, более адекватную гуманитарию, заложенную в трудах новых учителей человечества Маркса, Энгельса, Ленина.
Так вот, мне кажется, именно там, где возникает сейчас необходимый симбиоз между научным изобретательством и материальной продукцией, между новыми открытиями в технике и воплощением их в новых материальных фактах производства, между мыслью ученого и делом рук рабочего, — именно там возникает и неизбежность новой философии, повой психологии, новой метафизики, новых, более высоких форм нравственности, иначе сказать — неизбежность диалектического материализма, всей системы идей марксизма-ленинизма. Но ведь так именно и происходит в ГДР, где эти новые гуманитарные предметы преподаванья возникают не формально, искусственно, а естественно, органически в каждой высшей школе, независимо от ее профиля. Без них не осмыслишь, не свяжешь, не применишь в дело новую физику.
Разговор этот, ведомый мною с читателем, велся мною в Иене, когда мы сидели в комнате дирекции народного предприятия «Иена — Карл Цейс». Бывший маленький городок духовного отдыха-общенья Гёте вырос в крупный промышленный центр с главной его доминантой — упомянутым предприятием. В самом центре города — многоэтажный зеркально-стеклянный дом управления фирмы; на окраине — целый городок рабочих коттеджей; за высокими каменными стенами с высоченной трубой, пронзающей небо, — заводские цеха; в большом белом корпусе — отличная, на три четверти научными аппаратами самой фирмы оборудованная, передовая поликлиника… Словом, куда ни повернись, если даже упрешься в университет, в школу, всюду Цейс, Цейс, Цейс. И даже покуда мы говорили, а мы, правда, беседовали битых четыре часа и кончать не хотелось, целая вереница школьников, предводительствуемая учителем, прошла мимо кабинета дирекции вверх но лестнице, чтоб познакомиться с работой конструкторского бюро.
Служащие фирмы, с которыми мы разговаривали, своими «профилями» показали сложность, комплексность самой дирекции. За столом вокруг нас сидели: советник по культуре у генерального директора (пли представитель по отделу культуры — Kulturbeauftragter) Курт Линке; представитель Литературного бюро доктор Шмидер; заведующий музеем-выставкой фирмы Пауль Кролль; веселый, большой и толстый, сказавший о себе «я — технический купец», господин Титтельбах, коммерческий директор фирмы. По мере надобности при возникающих вопросах к нам вызывались сверху, из исследовательских отделов, молодые ученые: астроном в белом фартуке Дитрих Гудтко и Эрика Руше, дипломированный физик. Вообще стариков мы не встретили почти нигде на предприятии. Основными кадрами была молодежь, руководящими — средний возраст. Паш милый лейпцигский друг доктор Шмида, показывавший нам приборы Цейса на Лейпцигской ярмарке, не мог досидеть с нами до конца по болезни сердца…
— Новая продукция требует новых людей, — так начали наши хозяева беседу с нами. — Важнейшая проблема для нас — образованные рабочие. Образовывать человека надо с детства, поэтому с первоначальных школ знакомят у нас детей с новыми открытиями, обучают математическому мышлению. Время бежит вперед, и школьные программы должны все время обновляться. Если ученик придет к нам со знанием того, что было пять лет назад, — он уже отстал. Учиться сейчас нужно снова и снова. В ГДР мы ориентируем профиль обучения на потребности определенных индустриальных городов. Например, возьмите Иену. У нее главное математика, физика, химия. Общая для всей республики «интеграционная реформа», то есть проведение тесной связи институтов и промышленности между собой, у нас выражается практически в том, что главный наш руководитель исследований на Цейсе, профессор доктор Иоахим Поль, одновременно занимает и кафедру физики в университете. Преподаватели высших школ Иены путем практики становятся партнерами Цейса. В Высшей политехнической школе секция «Создание научных аппаратов» принадлежит нашей фирме. Это помогает каждое новое изобретение без всяких лишних проволочек осуществлять на производстве… Специализация сейчас — это совсем не то, что специализация в прошлом веке. Для нынешней специализации нужно широкое фундаментальное общее образование.
Я суммирую главные темы беседы, но освещались они, конечно, не так сухо, велись всеми сообща, и каждый добавлял от себя малую толику. Нам, разумеется, рассказали с теплотой и в подробностях историю самого Карла Цейса, которую я уже знала из книг; рассказали о значении фирмы, производящей сейчас точную научную аппаратуру, — и в структуре хозяйства всей республики, и в ее тесной связи с аналогичной работой Советского Союза, — и о мировой репутации фирмы и, наконец, разработали программу на несколько дней, в которые мы должны будем осмотреть главные объекты.
«Самый большой наш промышленный партнер — это Советский Союз», — сказали мне с той искренностью, за которой чувствуется глубокая правда. Привожу эту фразу потому, что я слышала ее не только от цейсовцев. Немецкие хозяйственники в ГДР всей душой чувствуют огромную материальную помощь, получаемую от нас.
И всякий раз мне было отрадно сознавать, что помощь наша падает на благодатную почву, прорастает подлинной социалистической явью. Но все же самое сильное, что я получила от беседы, имело для меня прямую связь не с техникой, а с литературой.
Помню, как в тридцатых годах Ромен Роллан, прочитавший в переводе на французский несколько наших романов о строительстве, в том числе и мою «Гидроцентраль», сказал мне, стараясь говорить очень мягко, но с явным осуждением, что в этих романах «машина и индустрия закрывают человека, а ведь человек в искусстве — центр всего искусства». Сколько раз с тех пор приходилось слышать такое же суждение от наших западных товарищей по перу! Не находя достаточно веских аргументов спорить с ними, я всегда сознавала, что это не так, что, описывая стройку, цех, завод, мы прежде всего ищем, находим, фиксируем именно человека в его новой для нас психологии. А после таких «ромен-роллановских» суждений вдруг окунулись мы в бездну совсем другого толка, и она продолжает исходить из кругов ученых, от отдельных лиц, время от времени дебатируясь даже в газетах. Придет время, пишут иные ученые, и с изобретением белка мы сможем сделать искусственного человека, думающего, действующего лучше и совершенней нас, потому что уже и сейчас счетная машина неизмеримо, недогоняемо превышает человеческие интеллектуальные способности, человеческую память… Между этими двумя линиями — одной, отрывающей тему человека от орудий и процессов его труда, которому он отдает по крайней мере треть своей жизни, и притом лучшие ее часы; и другой, пренебрежительно ставящей человека на нижнюю ступеньку лестницы, под машиной, — было приятно услышать речь человеческого разума, то самое «рацио», по которому в наше время особенно скучаешь:
«На предприятии Цейса вы особенно ясно увидите, как велико значение человека в каждой работе. Уж не говоря о том, что это оп, своим мозгом и своими руками, порождает всякую автоматику, всякую технику, это он, своим воображеньем, своим творческим гением, нашпиговывает ее своими приказами-программами, без которых опа с места не сдвинется, его присутствие, уменье, находчивость, сообразительность нужны при каждой машине, хотя бы это был комплекс автоматизированных машин в целый город объемом. Комплекс комплексом, а присутствие человека при нем, контролера, наладчика нужно и неизбежно, ибо и человеке — целевое начало. II знаете ли, надо просто игнорировать слово «жизнь», чтоб представить себе, будто машина вообще может заменить человека».
Так, в самом рафинированном производстве тончайшей аппаратуры, добавляющей к человеческим возможностям — нечеловеческие сверхвозможности видеть бесконечно в даль Вселенной, бесконечно внутрь частиц материи, в мире микро- и телескопов, электроники и вычислительных машин, мы услышали гимн человеку и за четыре дня увидели этот гимн в его оправдании на факте.
Уже усталые от долгой беседы, мы начали свой осмотр с музея.
2
Помещается общий музей (есть и музеи по отдельным отраслям) в том же здании дирекции, на том же самом этаже слева от главного входа. Мы увидели опять уже знакомый нам по выставке ряд микроскопов — школьный, лабораторный, врачебный, фотомикроскоп с зеркальным рефлектором, телескопы — и услышали рассказ возле них, что самый большой сейчас у Америки, но Советский Союз строит еще больший, с зеркалом в шесть метров. Цейс строит пока самые большие в Европе. Телескопы Цейса есть в Вене, Праге, будут в Болгарии, «один мы повезли к вам, в Шемаху, на азербайджанскую обсерваторию…».
Но вот началось знакомство с медицинскими орудиями. Сперва с зубоврачебным кабинетом и его устрашающим орудием пытки. Оказывается, и это «средневековое» кресло прогрессирует у Цейса в сторону безболезненности для пациента. А дальше необыкновенный аппарат для анализа степени и характера вашей зрячести. Вы смотрите, как в бинокль, на обычный круг, вертикально и горизонтально разделенный чертой на четыре части, и в зависимости от того, как видите вы каждый отрезок — ясней, темней или вовсе но видите, вам дают точнейший диагноз состояния вашего зрения. Нам тут же устроили экзамен, я сняла очки и была осчастливлена тем, что с глазами у меня вовсе не так плохо, как уверяют «лечащие врачи». Показ музея становился все персональней.
Среди изящества окружающих нас научных приборов нам было так интересно, как в Эйзенахе у старого капеллана, пробовавшего перед нами подряд музыкальные инструменты — чембало, клавикорд, спинет, клавир на деревянных молоточках с коленной педалью времен Моцарта, пиано с переходом на ножную педаль и молоточки, обтянутые кожей, двухсотлетиий клавир для путешествий в чемоданчике, дамский клавир с туалетным столиком и — шарманка, французская шарманка, лишь недавно исчезнувшая из наших городов вместе с исчезновением частных предприятий, но до сих пор звенящая во французских провинциальных городках… Тогда, в Эйзенахе, мы, наверное, соскучились бы от простого пробега глазами по всем этим инструментам. Но под пальцами старого «дона» они звучали для нас, они говорили о своих вымерших эпохах, о слухе людей каждой из этих эпох, о развитии человеческого слуха, все большей и большей его требовательности, все большей и большей потребности в усложнении, углублении содержания… Около нас в музее Цейса тоже был свой «дон» — ответственный работник по выставке Пауль Кролль, заставлявший говорить научные приборы или говоря за них.
Какова конкретно роль приборов Цейса в криминалистике, заинтересовалась я, любительница детективов. Оказывается, анализом костей был установлен недавно факт убийства, совершенного четыреста лет назад. Выкопали костяк какого-то духовного лица, чуть ли не папы, и при микроскопическом расследовании его костей увидели отложения мышьяка: духовное лицо было отравлено. Мы переходим к спектроскопам, к приборам, сводящим звезды на землю, заставляющим, словно молоточек постучал по ним, эти звезды звучать, звучать спектрами, выдавая секреты своих материальных слагаемых. Снизу вверх, во Вселенную. А вот сверху вниз, на нашу матушку-действительность: приборы, контролирующие с вышины строительство, измеряющие, подмечающие отход от чертежа; раньше на такие контроль и измерение могли уходить недели, сейчас для этого довольно секунд.
Вижу что-то знакомое, и притом знакомое очень давно, со времен, когда писались страницы моей «Гидроцентрали», а я сама вышагивала вместе с техниками, волочившими свои рейки, нивелиры и теодолиты вдоль головоломных тропок лорийского каньона. Не контроль сверху вниз, не скачок снизу вверх, — простое среднетехническое задание на уровне полуграмотности прежнего грубоватого парня, любившего поесть-попить задаром у зажиточного лорийского колхозника. Но — какая разница, какое сложное, умное, углубленное, интеллигентное развитие все того же примитивного прибора сейчас! Цейс и тут сделал шаг вперед. Люди высокого интеллекта в его конструкторских бюро и в замечательных цехах сделали этот шаг. Но и для того, чтоб работать с этими новыми теодолитами, нужны не полуграмотные парни, а люди технически образованные. И опять — человек шагает рядом с машиной, как всадник с конем. Он чешет и холит коня, привыкает к нему, но и конь привыкает к всаднику — ив конце-то концов не машина седлает человека, а человек машину…
Сидим в уютном зале перед экраном. Пауль Кролль, заведующий музеем, оказывается и соавтором кинофильмов завода Цейс. Нам показали документально-научный рассказ об основателе фирмы Карле Цейсе, но еще до пего — тех, кто впервые начал изобретать оптические приборы; а потом перед нами засветились знакомые азербайджанские пейзажи, показались знакомые лица рабочих; начал свой пробег по экрану второй фильм, история того, как работники «Иена — Цейс» повезли в старую, славную розами, коврами и красавицами Шемаху, по горам и долам, с осторожностью, как знаменитую шемахинскую царицу, красивую белоснежную обсерваторию, чтоб водрузить среди гор, под ярко-синим небом ее голубиный девственный купол.
3
Начинался наш третий день Иены, третий день, посвященный народному предприятию «Иена — Карл Цейс». Нам уже страстно хотелось посмотреть, как изготовляют все это изящество безукоризненных научных приборов в цехах самого завода. Ио было еще рано, — предстоял «медицинский смотр», знакомство с поликлиникой, построенной предприятием для своих рабочих и служащих. Здание, где сейчас находится эта поликлиника, совсем молодо, оно создано в 1964 году, но самому учреждению куда больше, оно родилось еще до рождения ГДР — с приходом советских войск.
— Вот посмотрите сюда, — говорит доктор Требинг, главный врач и душа поликлиники, быстрый, толковый человек с очень здоровыми нервами, потому что не спешит, но и не теряет даром ни одной минуты. Мы сидим в его кабинете и глядим в большую книгу записей, где расписались генерал-майор Колесниченко и его жена. — Видите вы эту подпись генерала Колесниченко? В 1946 году на территории Германии, оккупированной советскими войсками, был опубликован указ, подписанный этим самым генералом. Указ требовал, чтоб при каждом предприятии была открыта своя поликлиника для рабочих. А раньше, при Гитлере, ничего подобного не было, во всей Германии только у Круппа и у Сименс-и-Гальске на деньги хозяев существовали две маленькие больнички. Вот мы и построили в Иене свою поликлинику для фирмы, а пять лет назад перевели ее в новое здание. Прошлый год приезжают сюда к нам супруги Колесниченко, я показал генералу результат советского указа, — остался доволен. А теперь пойдем…
Он хотел уже провести нас по всем коридорам и кабинетам, а мы хотели еще посидеть и поговорить с ним. Нам все было интересно, и на душе у меня была гордость за советскую власть. Еще когда кровь не просохла на дорогах войны, наши военные самолеты и грузовики Советской Армии развозили новые немецкие учебники но школам городов и деревень, а первые указы, помеченные серпом и молотом, потребовали лечебных учреждений для рабочих, — этим стоило гордиться. Доктор Требинг опять сел на свое место и опять не спеша, но очень сжато, убористо начал отвечать на мои вопросы.
Иена лежит в яме, с двух сторон горы, для сердечников климат вредный. Но профессиональных болезней на предприятии «Карл Цейс» нет. Я поинтересовалась, могут ли они свободно получать лекарства из ФРГ. Там было найдено средство от болезни Паркинсона, которое хотел испробовать один мой больной друг. Но доктор Требинг ответил совсем неожиданно:
— Правительство нашей республики запрещает нам получать и применять лекарства из «Бундесреспублик», находящиеся на испытании. История с «контерганом», виновным в изуродовании тысяч младенцев в материнском чреве, заставила нас принять эту предосторожность… Но мы сами лечим болезнь Паркинсона. У нас есть уже наркоман, комбипарк и совершенно новые — Norakin и Pargilin. Получаем хорошие результаты.
Мы встали, и доктор повел нас, опять не спеша и опять с минимальной затратой времени. Все в этой поликлинике было как в лучших поликлиниках у нас, за исключением, может быть, последних новшеств, вышедших из цехов самого предприятия. Вообще-то девять десятых оборудования было здесь цейсовским. Тут мы увидели в постоянном действии и аппарат для определения степени зрячести, и новое зубоврачебное кресло. Увидели новейшую аппаратуру в кабинете гинекологии. Отделений было множество; врачи отделений — каждый — имели по две комнаты, кабинет и приемную. В гидропатии, к удивлению, я встретилась с особенностью, у нас мне нигде в поликлиниках не встречавшейся: среди всякого рода душей и ванн вдруг — полутемное помещение русской баньки с полатями для «паренья» (на Западе это зовется турецкой баней). Кажется, все налицо, что только можно использовать для облегчения болезни, поддержания здоровья, профилактики. В сверкающей белизной хирургической — опять Цейс, скорая помощь, мелкие операции, не требующие стационара.
Быть может, иному врачу все это показалось бы обыденным. Но я не была специалистом, а то, что подмети-лось и понравилось мне, наверняка не заинтересовало бы профессионала. В поликлинике отсутствовала ненужная роскошь, и среди ее посетителей, которых мы видели и в приемных, и в коридорах, и в кабинетах врачей, куда бегло, с извинениями, заглядывали, я не могла разглядеть таких, кто пришел бы зря, без особой нужды, как наблюдаешь подчас у себя дома.
Вот если соединить три эти качества — без спешки, но и без траты лишней секунды — ohne Hast, ohne Rast, по Гёте, у главного врача; с пренебрежением к лишней «показательности без ее необходимости», то есть к плюшевой мебели, коврам, красному дереву; и, наконец, с привычкой приходить сюда, именно приходить, а не заходить, пациентов, когда им действительно нужно, а не наугад и не вообще, — получается что-то единое, очень отработанное, очень культурное и, на мой взгляд, наиболее интересное в нами увиденном.
И опять дождик, теплый и мелкий, но неотвязный. И опять музей, на посещении которого наш спутник Курт Ленке убедительно настаивает, хотя мне хочется поскорей увидеть производство и живых создателей «точной научной аппаратуры», лучшей в мире. Со вздохом поднимаюсь по ступеням и вижу — спутник наш прав, этого миновать нельзя было. Музей, куда мы вошли, — оптический. Он рассказывает о том, как человек с древнейших времен начал замечать недостатки своих органов и находить средства возмещать эти недостатки.
В античные времена люди уже заметили увеличенье отраженья — в воде стеклянного кувшина. Про Архимеда есть легенда, что он употреблял зажигательные стекла для лучшего виденья. Арабы в XI веке уже смотрели в стеклянный шар, Роджер Бэкон видел в сегменте такого шара увеличительное стекло для близоруких. Монахи, в тишине келий работавшие над стеклом, флорентипцы XIII века, — и вот уже врач Бернард де Гордон в XIV веке пишет об «очках».
Развиваются очки медленно, сперва их носят лишь немногие, очень еще немногие, часто тщеславясь, со скрытым чувством своей «привилегированности» — как на моих глазах, меньше трех четвертей века, богатые люди ставили у себя первые громоздкие ящикоподобные телефоны, заводившиеся подобно ручной мельнице, и сознавали исключительность обладания такой техникой… Но что за форма! Сперва только пара стеклышек, связанных между собой нитками, скрепленных кнопками. Прочное соединение пришло в конце XVI века, и в том же веке появился своеобразный сервис: книга, за переплет которой приложены «к вашим услугам» очки. Эти два соединенных стеклышка начинают делаться признаком интеллигентности. На рисунках люди в очках — всегда ученые, представители интеллигенции.
Но есть рабочие ремесла, опасные формы работы, где очки необходимы. Сейчас мы подумали бы сразу о литейщиках, металлургах, но в отдаленных веках думали о совсем других тружениках, о добытчиках кораллов под водой. Морская вода не давала правильно отличить нужный цвет подводного коралла, и на старинных рисунках изображены «подводники» в очках, ныряющие, чтоб с коралловых рифов отламывать эти ценные украшенья нужного им цвета. Дальше — искусство шлифованья, машина для него. Любопытнейшая деталь: природный кристалл тоже преломляет; но горе купцам-хитрецам, подсовывающим покупателю очки из кристалла вместо очков из обделанного стекла: они строго караются специальным законом за подделку. Казалось бы, природа создала нечто прекрасней, рафинированней стекла, — что может быть лучше естественного кристалла, играющего своими гранями! Но в нем нет главного — приложения труда человеческого. И стекло, которое надо изготовить, отшлифовать, то есть вложить в него труд, стоит дороже, чем кристалл, оберегается от подделки законом. В этом маленьком примере трехсотлетней давности мы уже встречаемся с положениями политэкономии, с начатками теории стоимости.
Дальше — развитие производства стекла, прессованное стекло, окрашиванье стекол. Витрина исторических вещей: собственные очки брата Наполеона, поэта Гёльдерлина, Шуберта, Вирхова, врача Коха… А рядом с «интеллигентностью» развивается эстетический каприз, женское тщеславие: лорнетки, осыпанные драгоценными камнями, тысячной стоимости, лорнетки с часами, лорнетки — со слуховой трубой (пи дать ни взять современные очки со слуховым аппаратом). Отдельная витрина для солнечных часов.
Поднимаемся на второй этаж, но долго на пом не задерживаемся, там уже знакомые нам микроскопы, только еще в самом их младенческом возрасте. Спутник наш не дает нам сразу уйти, он нас сажает возле шкафа с ящиками, выдвигает один из них и окунает наши глаза в богатство гравюр: история оптики почерпнула свою хронологию, свои возрастные этапы и особенности, как всегда, из искусства. Пе столько перо ученого, сколько кисточка и карандаш художника, игла гравера передают живую связь времени с ростом и развитием предмета. Раньше нам как-то и в голову не приходило смотреть на рисунки Рембрандта с такой точки зрения. А перед нами гравюра Рембрандта от 1637 года — очки на рукаве у человека; того же Рембрандта от 1648 года — старец в очках. Итальянская гравюра XV века, изображающая операцию: хирург склонился в очках над больным. Японские гравюры, их очень много. И только здесь, в музее, замечаешь, какое множество японцев носило очки еще двести, триста, четыреста лет назад и — носит их сейчас.
Смотреть все это, разумеется, очень интересно, и, как ни устали мы, как ни спешили, оторваться от этих гравюр было очень трудно. Перед нами с какой-то безостановочной логикой времени вещь, создание человеческих рук, словно какая-нибудь Красная Шапочка, пробиралась по тропинке сквозь лес столетий все дальше и дальше, совершенствуясь, модернизируясь, становясь под стать своей эпохе, отвечая вкусу человека, подчиняясь не только техническим, но и эстетическим модусам. Я сняла свои собственные очки и посмотрела на них. Жалко того «абсолютного зрения», какое было у меня в молодости. Жалко собственных, остро видевших мир в деталях, а сейчас помутневших, затуманенных кристалликов. Годы идут, проходят, но я встряхнулась, заметив, что спутники мои уже встали, надевают шляпы. А все же — ведь нитку просунуть в игольное ушко я по могу в очках, я снимаю для этого очки, щурясь, гляжу по все спои собственные глаза! И Гёте до самой смерти не носил и не любил очки. Не он ли сказал:
Если бы глаз не был солнечным, Как мог бы он солнце увидеть?Возьмите все эти стекла, всю эту технику, растущую, выросшую вплоть до той гибкой преломляющей прозрачной субстанции, линзы, какую начинают сейчас вместо наружных очков натягивать уже на самый глаз человека под его веками, и положите ее отдельно, в стороне, друг на дружке, целой пирамидой, — что она такое и что она, при всех своих совершенствах, может, если б не существовало простого человеческого глаза, чтоб приложить его к ней? Она тысячекратно усиливает видимость, но ничего не может видеть без глаза, она ни к чему не может быть годна без глаза, — люди, берегите свои слабые человеческие глаза!
И вот наконец высокие ворота в высочайшей каменной стене, окружающей завод мирового предприятия «Иена — Карл Цейс». Сюда, как и на наши важные заводы, не так-то легко попасть без специального разрешения. И здесь, как у нас, в первую минуту, когда вы вступаете через эти ворота на площадь заводского двора, поджидает вас разочарование. Почти пустынно, признаков интенсивности, важности, напряженности труда нигде нет. Кто-то ровной походкой — она кажется вам замедленной — идет по двору. Где-то с раздражающей медленностью поднимается кран. Даже звуки — скрип, зов — кажутся замедленными, как удар в воде. По я знаю, видимость обманчива, напряженная, безостановочная, умная работа сосредоточена здесь, за стенами цехов. Знаю даже больше этого, — много-много раз, со своим блокнотиком журналиста проходя по самым разным заводским и фабричным цехам под веселое жужжанье тысяч веретенец, под кровавый блеск струящегося из печи расплавленного металла, я с удивлением глядела на неспешную поступь текстильщиц, их спокойные движенья рук, когда дело идет о секундах; на неторопливый шаг литейщика — рядом с вулканом печи, — и наконец привыкла: привыкла к той соразмерности действия и противодействия, которая длинной чередой дней, месяцев и годов вырабатывается у рабочего человека, становясь его второй натурой. Мне даже кажется, что человеческие нервы должны бы воспитываться, укрепляться в цехах и, может быть, рабочий класс — кто был ничем, тот станет всем», — по этому могучему закону выработки внутренней гармонии, даруемому ежедневным рабочим трудом, как раз и стал хорошим хозяином в государстве.
Но размышленья побоку, — мне предстоит все же выбрать, что именно смотреть из огромного разнообразия. Конечно, ничего самоновейшего, секретного не покажут, да и не понять его. Надо выбрать нечто прекрасное, отработанное фирмой, — и мы не без участия нашего руководителя выбираем производство планетариев.
Цех, где идет работа над деталями для планетария, кажется сугубо ручным, чем-то напоминающим мне девушек над янтарями в ювелирном цехе нашего поселка Янтарного. Но проводник ведет нас к двери, обитой, как в радиостудии, и, прежде чем открыть ее, коротко рассказывает: сейчас вы увидите уникального работника, единственного у нас, да и не только, может быть, у нас. В его кабинет не должен проникнуть звук, потому что звук колеблет воздух; само собой, не должно проникнуть никакое движение, никакое дрожание, и, пока мы будем у него, он прекратит работу…
Дверь, окутанная, как в лютую стужу, медленно раскрывается, и комната, куда мы вступаем, — вся мягкая и обеззвученная, как радиоателье. За столом иод электрической лампой сидит очень полный человек с лицом, показавшимся мне без возраста и слегка отекшим. У него полная широкая рука со спокойными, толстыми пальцами. Но толстые пальцы, казалось бы совсем не схожие с рукой хирурга или пианиста, вооружены каким-то почти невидимым по своей остроте и тонкости инструментом-иглой. И этой иглой неповоротливо-толстая рука делает вещи ювелирней самой тонкой операции на сердце и виртуозней знаменитой «Кампанеллы» Листа.
— Рекомендую, — говорит наш спутник, — Лотар Гехауэр, знаменитый сын знаменитого отца.
Мы раскланиваемся, как пишут в романах, и жадно слушаем, чем знамениты отец и сын Гехауэры, покуда полный человек принужденно улыбается, глядя вниз, на доску своего стола. Его отец празднует сейчас свое шестидесятипятилетие, но не дома, а в Индонезии, где он занят монтированием чего-то цейсовского. Самому Лотару уже тридцать восемь лет, хотя он кажется мне почему-то мальчиком. Что же делает Лотар? Почему он сидит в этом ватном сейфе без дневного света, без звука, без колебаний воздуха? Долго ли можно выдержать при таком «штиле»?
Потомственный гений, сын почетного мастера, Лотар Гехауэр занят делом, действительно требующим безмолвия, безветрия, бездвижности, когда «не пылит дорога, не дрожат листы», — делом, за которое, как за ведьмовство, пожалуй, сожгли бы его в средние века. Он ни много ни мало — сводит на нашу грешную землю звездное небо. Он сводит небо на землю своей почти невидимой иглой, зажатой в пальцах. Эта игла не смеет ни дрогнуть, ни чуть качнуться, она должна действовать с железной неподвижностью и точной направленностью безошибочного человеческого взгляда. Каким должен быть этот взгляд и какая направленность в пальцах, держащих иглу, — смогли мы представить себе лишь после того, как увидели, что именно он делает.
Перед ним лежала карта звездного неба, где созвездия и звезды, звездочки и пыльца Млечного Пути выступали настолько отчетливо, чтоб видеть их невооруженным глазом. Но для спроецирования этого звездного неба на экран огромного купола, вогнуто высящегося над головами множества зрителей в планетарии, надо перенести его по частям, по участкам на крохотную пленочку, наклеенную на крохотное стекло, иначе сказать — проткнуть штифтиком, размер которого — двенадцать тысячных миллиметра (12/1000 мм), каждую мельчайшую точку-звездочку, соблюдая дистанцию ее от соседних крупинок. Мы взглянули на обтянутое черным стеклышко — в нем рол-лись мириады звездных миров. Они были схожи своим изобилием с песчинками пыли в солнечном луче, но примерно так, как мошка-москит схожа с толстым майским жуком. Они серебристо светились на темной облатке, — игла проделала в ней мельчайшие дырочки до стекла. Как же надо было держать руку, держать всю свою человеческую пятерню с отбивающим движение крови пульсом, со всеми ее непроизвольными внутренними импульсами нервов и мускулов, чтоб опа, не дрогнув, но скользнув, спокойно, одну за другой наносила эти почти невидимые точки звезд на ночное небо пластинки.
Он захотел нам это показать. Мы стояли не дыша, с испугом чувствуя, как колышется, дергается, перемещается что-то в огромном целом, именуемом нашим телом, как бьет маятником сквозь шлюзы артерий капельный поток крови, сокращается и расширяется сердце, дергаются мускулы, заставляя наши ноги хотеть переступить с одной на другую, а дыхание, словно из-под раздуваемых печных мехов, так и рвется порциями наружу, — о, что за шумный, страшный, самодействующий этот наш организм, эта фабрика внутри нас, — а белая, полная рука, скованная гениальной волей, машинообразно наносила перед нами на черное небо песчинки-звезды, которые видеть иначе, как сквозь лупу, было почти невозможно. Да, теперь мы поняли гордость, с какой говорил наш проводник о потомственном даровании рода Гехауэров, словно речь шла о роде Бахов…
На прощанье Лотар сделал мне подарок, на который я сейчас очень часто гляжу. Я гляжу на него, когда у меня не спорится работа и приходит мысль, что все уже кончено. Подарок учит о бесконечности, о том, что конца нет и не будет. Это круглая коробочка с завернутым в ней круглым стеклышком, на котором рассыпана только одна из малюсеньких частиц бесконечного небесного свода над нами: созвездие Кассиопеи. В старых энциклопедиях про созвездие Кассиопеи пишут, что оно похоже на букву W, а в перевернутом виде на букву М. Я читаю первую из них: Werk — работа; а вторую — ну, а вторую обращаю к себе самой заглавной буквой своего имени: «М., работай!» — словно призыв из глубин Вселенной. Крепко держа эту коробочку, иду сквозь цехи в другое здание, где хотят показать нам нечто необыкновенное, — и вместе с нами, переговариваясь между собой, идут разные люди, нас вовсе не замечающие, чем-то весело занятые, о чем-то живо переговаривающиеся. Входим все вместе в большой зал, вдоль стен которого стоят стулья. Кое-кто уже сидит, пришедшие с нами рассаживаются, садимся и мы.
Посередине зала возвышается белый лакированный аппарат со стальными частями, чем-то похожий на наши летучие «спутники», нечто глазастое, головастое, человекоподобное и с тем вместе очень по-цейсовски изящное. Это смонтированный новый планетарий, уже завтра отправляемый по заказу, кажется, в Рио-де-Жанейро. Те, кто его создал, — они почти все тут в зале — ни разу еще не видели его в действии. Мой спутник старательно пишет в блокнотике, что ему диктует наш гид: «Новый планетарий, электронное представление (программировано); пульт, шкаф, автоматический шкаф, проектор».
Подходят знакомиться с нами ответственный электроник, один из конструкторов, руководители и строители… Нам объясняют то новое в научных приборах, чем отличается этот планетарий: возможность показа неба с каждой звезды; синхронная передача зрелища и текста. Называют даже цену: 800 000 марок. Мы все пишем и пишем, собираем автографы, записываем под конец, что говорит инженер: «Наши рабочие увлечены работой, по неделям не покидали цеха, забывали о семьях…» И когда медленно затухает свет и в темноте над нами начинает светиться небо, мы понимаем, как можно забыть о семьях.
Протяженная, приятная «музыка сфер», как будто несущая с собой прохладу, раздается вместе с медленно проступающими сквозь черноту мириадами звезд. Эти звезды медленно двигаются, совершая свой вековечный ночной путь. Несколько звезд покатились, как слезинки, сорвавшись с неба, и канули вниз. Потом началась наверху метаморфоза: сквозь обычное звездное небо проступили большие контуры древних наименований созвездий, рисунки Рака, Псов, Близнецов… Я жадно гляжу, чтоб запомнить, что — где, потому что в знании неба я до сих пор невежда. И все это — под музыку, которую хочется назвать космической, так отдаленно, так издалека, с такой прохладой далеких миров несется она к нам вниз, хотя космонавты наверняка не слышали ее в своем черном космосе. Музыка просачивается к нам в душу, до самых костей, как дрожь, — а звезды все плывут, плывут, в законах вечной связи, вечного движения. Да, мы побываем на них. Человек проникнет на последние материки галактического океана, быть может, заглянет с них — в другую галактику, познает другое солнце. Но будет ли он счастливее, чем мы в эту минуту, пронизанные звездной музыкой, созданной музыкантом нашей земли, нашей эпохи, нашего короткого времени? И не вертит ли Время свою катушку, чтоб мы, человечество, по частям узнавали все то, что заключено в нем в один рулон вечности, в один миг, укладывающийся в сугубо материальную формулу сугубого идеалиста Канта: «Звездное небо над нами, нравственный закон внутри пас»?
Так, безответным вопросом, но с коробочкой Кассиопеи в кармане, прощаюсь я с Веймаром, Иеной, Тюрингией — до будущего свиданья.
Иена — Ялта, июнь 1969 г.
Бетховенский фестиваль в ФРГ (Западногерманский дневник)
I. Въезд в столицу (Вместо предисловия)
Прямого сообщения поездом у нас с Бонном пока нет. Мы слезаем в Кёльне, откуда вагон наш убегает дальше, во Францию и в Голландию. А нам приходится из крупного, шумного, густо задымленного заводами Кёльна добираться минут тридцать до тихого столичного города Федеративной Республики Германии. Это создает первое впечатление о Бонне как о чем-то глубинном, шагнувшем с большой дороги в сторону, в интимный мирок окраины или дачного места. И дальше укрепляет это впечатление децентрализованность самого Бонна.
Небольшой на карте, по сравнению с кружочками других, более крупных городов, средний по числу населения, Бонн имеет, разумеется, свой старинный маленький центр, но как столица, как место большой политики, торговых и дипломатических представительств, конгрессов, общественных и государственных учреждений — этот маленький кулачок старинного центра решающей роли не играет. Растянулись вдоль живописного Рейна длинные курортные места и деревушки, по которым разбросаны роскошные виллы иностранных посольств, общественные и фирменные здания. Этот особый внегородской облик западнонемецкой столицы отчасти напоминает дачный характер Гааги и Вашингтона, но только отчасти. В целом — он невольно заставляет задуматься: можно ли искать именно в Бонне лицо этого государства, или Бонн не даст вам общего единого облика страны?
Я не берусь ответить на этот вопрос — слишком мало пришлось мне побывать в западной части Германии, получившей название Федеративной Республики. По за пятнадцать дней в четырех городах, где успела побывать, создалось у меня впечатление именно федеративной децентрализованности республики, где каждая часть живет своей жизнью и своими культурными особенностями, причем на долю Рейнлянда, с его естественным «стартом» в Бонне, достается в огромной степени международный туризм. Может быть, так воспринялось мной потому, что сама я стала гостем великолепной туристской организации «Inter Nationes» («Между нациями»), составившей программу моего путешествия.
Сделалось это не сразу. Сперва мне пришлось окунуться в старую, словно полвека назад, Германию, — гостиница на узкой улочке центрального Бонна с со пуховиками, фарфоровыми вазочками, вышитыми подушечками, розовощекими девушками, домашним завтраком и — тем дрожанием стен, окопного стекла, половиц вокруг, каким отзывалась улица на тесных домах, и движение по ней словно пронизывало их насквозь. Это было знакомо мне еще с 1912 года, когда мы с сестрой, ночуя в Нюрнберге, всю ночь, как музыку, слушали певучее дребезжание оконных стекол… По скоро я была водворена в совершенно другую гостиницу и другой мир. Центральный кружочек Бонна остался где-то очень далеко. Огромная гостиница «У тюльпанного поля», с бесшумными молниями-лифтами, с многонациональным юношеским обслуживанием (негры, испанцы, латиноамериканцы), с пенистым, отдохновенным «бадедас» для ванн — витаминным порошком, питающим ваше тело в воде, — словом, со всем европейским комфортом, — распахнула передо мной свои двери. Правда, вокруг не было ни «поля», ни «тюльпанов», а был только перекресток улиц, площадей и переездов, малодоступный для пешеходов и плохо находимый по плану.
На следующий день по приезде мне была вручена уже отпечатанная «программа», где были точно указаны гостиницы, часы, минуты, имена «сопровождающих» (Begleiterinnen), номера поездов, перечень мероприятии, телефоны гаражей и шоферов. Поздней в каждом городе печатался уже более подробный перечень местного «круга моей жизни», а в Мюнхене — на дорогой веленевой бумаге под пышным гербом Баварии.
Шоферов у меня было несколько — по новому на каждый день. Все — очень молодые и все (или почти все) с дворянской частицей «фон» перед своей фамилией. У одного, Фалька фон Брауна, я наконец спросила, что значит такое обилие дворян среди водителей машин. Оказывается, они были студентами разного профиля — Браун учился на ортопеда, кончал медицинский — и подрабатывали себе на жизнь. Единственным без «фона», уже среднего возраста, был господин Фукс, с которым я ездила в Баварские Альпы.
Что до «сопроводительниц», то здесь я столкнулась уже не только с частицей «фон», но и с титулом. Па первый концерт в Бонне мы должны были пойти вместе с фрейфрау фон Киари. Слово «фрейфрау» непереводимо. В новых словарях этот титул отсутствует; в старом (Павловского) он считается ближе всего к титулу баронессы. Баронский, оставшийся от феодального мира, титул был первым, заставившим меня призадуматься о том, что можно назвать не столь «экономическим», сколь «эстетическим», декоративным положением дворянства в нынешнем западном мире.
Я приехала в Бонн для фестиваля, посвященного двухсотлетию Бетховена. По нашей русской неосмотрительности (и потому еще, что наши газеты, видимо, не получили из ФРГ никаких проспектов или, получив их, сунули в корзину) я была уверена, что, приехав ко дню его рождения, 16 декабря, сразу окунусь в его музыку. II вот я ступила на боннские улицы, и яркая суета охватила меня. Днем — не продерешься в машине среди машин, вечером играют цветные огни иллюминаций, перекрывая огненные рекламы, магазины полны, все шумит, гремит, движется… Мы дома у себя привыкли к народности наших юбилеев, к участию в них всего населения, к оживлению, выплескивающемуся из домов на площади, к яркой иллюминации, — и, естественно, все боннское одушевление я приписала юбилею Бетховена. Но оказалось, что оно относится не к рождению Бетховена; оно относилось к празднику рождества. В Бонне, как и во всей Западной Европе, рождество длилось почти весь декабрь, делая праздничными не только 24 и 25 декабря, но и весь долгий канун праздника.
Судя по тем самым проспектам, которые до нас но дошли, Международный фестиваль, посвященный двухсотлетию Бетховена, захватил май, сентябрь и первую половину декабря. В течение этих трех циклов слушатели познакомились с одними из лучших оркестров, дирижеров и солистов в мире: среди оркестров — Амстердамский, Лондонский, Венский; среди дирижеров — Отто Клемперере и Герберт фон Караян, а среди солистов есть и наш Эмиль Гилельс. Но все это — не в декабре, а главным образом — в сентябрьском цикле. Мне же (к «шапочному разбору») досталось финальное исполнение Missa Solemnis в Бонне и Девятая симфония Бетховена под управлением Рафаэля Кубелика — в Мюнхене. Но хоть и жаль было пропущенного, Торжественная месса (Missa Solemnis) и прощальное исполнение Девятой были, в сущности, кульминацией всего того, что гений Бетховена хотел завещать миру. Он их писал почти одновременно, переходя в работе от создания одной к творчеству другой. Торжественная месса писалась в годы 1819–1823, а Девятая в 1822–1824. По нумерации ого работ первая помечена № 123, вторая № 125, и за ними до самой его смерти следует почти лишь несколько квартетов. Обе эти вещи, грандиозные по замыслу и звучанию, Бетховен писал глухим.
Бонн
II. Бетховен в Бонне. Missa Solemnis
1
На всех плакатах, рекламах и путеводителях к городу «Бонн» был прибавлен эпитет «бетховенский». И эго не только потому, что в Бонне родился и провел свое детство величайший композитор в мире, любимый Лениным. Чего нельзя отнять у столицы Западной Германии, так это ее старой музыкальной культуры. Музыку любили и «поощряли» духовные и светские правители города в позапрошлом веке. На окраине города стоит белый особняк, бывшая психиатрическая больница. Здесь в прошлом веке в тяжелой депрессии провел последние годы своей жизни Роберт Шуман и умер в 1856 году, а нынче открыт музей Шумана и архив Макса Регера. С Бонном связаны имена Иоганнеса Брамса, Феликса Мендельсона, Листа, замечательного квартета Иоахима, крупных музыковедов.
И сейчас в архиве Бетховена, где собраны огромные рукописные богатства, пожертвованные швейцарцем Бодмером бетховенскому музею, работают такие исследователи, как Иозеф Шмидт-Горг. Все это по праву делает Бонн своеобразным музыкальным центром, которого нельзя миновать, если хочешь знать и писать о Бетховене.
В день рождения великого музыканта — 16 декабря — мы подъехали к его Дому-музею, когда уже падали ранние зимние сумерки, в полной уверенности, что в этот день работа музея затянется и нам не пробиться будет среди посетителей. Но в холле было пустынно. Директор музея, д-р Людерс, ушел, не дождавшись нас. Другое «рождество» перетянуло его, — люди спешили разойтись пораньше, поспеть в магазины. Но хотя Дом-музей почти уже «закрывался», нам удалось сразу почувствовать его особенность, бросившуюся мне в глаза и во Франкфурте, в доме Гёте: показ бюргерского, традиционно немецкого происхождения семьи национального гения — его предков, его связи с местом рожденья. В других местах, связанных с музыкантами, — например, в венгерском имении Брунсвиков, Мартонвашаре или в моцартовской Бертрамке в Праге — чувствовалось продолжение живой жизни творца, обращенной к современникам, — в его музыке: концерты старинных инструментов в Бертрамке, постоянно исполняющие Моцарта; пластинки с бетховенскими вещами, звучащие для каждого посетителя в Мартонвашаре. Но тут, в боннском музее, теплится перед иконой на лестнице лампадка («как в те времена»), — она живет. А рядом — безмолвен венский рояль, изготовленный в 1818 году специально для Бетховена мастером Конрадом Графом, с четырьмя струнами вместо одной для каждого тона, чтоб глохнувший музыкант мог слышать себя. Безмолвен в комнате музея и другой инструмент — старенький стенной орган из церкви Миноритов, на котором, заменяя своего учителя, играл для молящихся двенадцатилетний Бетховен.
Рояль Графа был, впрочем, ремонтирован для фестиваля, и на нем играл для фестивальной публики пианист Иорг Демус. Мне кажется, что «реставрированное» исполнение могло носить несколько рекламный и, во всяком случае, «стилизованный» характер, в то время как тысячекратные повторения его с пластинок в музее зазвучали бы жизненно и народно…
Среди множества экспонатов музея два привлекают особенно и заставляют задуматься: волосы Бетховена и его слуховые трубки.
В каталоге, среди мелких предметов, упоминается фантастический ландшафт, сплетенный из его волос. Сын булочника Фишера, в чьем доме долго жил Бетховеп, оставил знаменитое описание его внешности, которым руководствовались позднее многие художники: «Короткий, широкий в плечах, с короткой шеей, круглый нос, черно-смуглый цвет лица, ходил всегда сгорбленным (сутулым, с наклоном вперед). В доме, когда он был мальчиком, звали его испанцем».
По этому описанию и некоторым портретам создалось впечатление, что Бетховен был черноволос. Я не нашла в боннском музее волосяного «ландшафта». Но в венгерском музее Мартонвашара хранится локон Бетховена, кем-то срезанный и тонко повязанный «на память». Этот локон — белокур. Он подарен музею оркестром. И за сердце берет странная жизненность этих волос, эта их неожиданная белокуростъ, мягкость, шелковистость, как у детей; их блеск — тоже неяркий, как у детей. Живой мар-тонвашарский локон рожденного двести лет назад человека так же потрясает, как неуклюжие, примитивные, грубокустарные слуховые аппараты, собранные в боннском музее, которыми пользовался глохнувший с двадцати восьми лет Бетховен. Что толку говорить словами поэта:
Будь глух, как Бетховен, И слеп, как Гомер…Слепым делает Гомера скульптурная маска в глубокой старости, быть может изображая старость, а не слепоту. А глухота была для Бетховена, как клетка для льва, страшным, непереносным несчастьем, неслыханной мукой, которую он долго скрывал, с которой отчаянно боролся, — и эти орудия — трубки длинные, короткие, огромные, загнутые, с какими-то приспособлениями, и каждая с кривым кончиком для втыкания в ухо, — трубки, обращенные своими жерлами к собеседнику, кажутся сейчас орудиями пытки. Воплем звучат слова его знаменитого «завещания», написанного в городе Хейлигенгатадте:
«…Какое унижение, когда кто-то возле меня слышит издалека флейту, а я ничего не слышу, или кто-нибудь слышит пение пастуха, а я опять ничего по слышу, — такие случаи доводили меня почти до отчаяния, недоставало немного, чтоб самому кончить свою жизнь… о, люди, если вы когда-нибудь это прочтете, подумайте, как вы были несправедливы ко мне, а несчастный — пусть он утешится, найдя себе подобного, кто — назло всем несправедливостям природы — делал все, что в силах его, чтоб стать в один ряд с достойными художниками и людьми…»[164]
Это было писано шестого октября 1802 года, когда Бетховен еще не создал ни «Героической», ни Пятой, ни Шестой симфоний. «Героическую» он написал через год, а спустя шесть лет началось его великое восхождение к Радости — назло «несправедливостям природы», в борьбе с отчаяньем, с бессилием, с нестерпимым, истребляющим беспокойством венской жизни, с ее почти непрерывной сменой квартир, переездами с улицы на улицу, одиночеством, изнуреньем болезнями, — в 1808 году прозвучали сразу могучая Пятая; тихая, примиренная с природой, пастушеская идиллия Шестой; и — пенящийся бурным восторгом, предчувствием вселенской радости водопад «Фантазии» опус 80, этой предтечи Девятой симфонии. Такого второго могущества духа, плоды которого равны сило его нравственной мощи, мировая история искусства не знает.
Из музея мы успели съездить на кладбище, тоже ставшее историческим, как музей, и открытым для осмотра лишь в определенные часы дня, — и там, у самого входа, навестили могилу матери Бетховена. На ее памятнике высечены две строчки из бетховенского письма, адресованного фон Шадену почти сразу после ее смерти: «Она была мне такой хорошей, любящей матерыо, моим лучшим другом». А к ним прислонен огромный букет еще свежих золотистых хризантем, повязанный сине-красной лентой, — от Со-лета (Rat) города Бонна. Кладбище — чинное, с расчищенными дорожками и путеводителем, по которому мы отыскали и могилу жены Шиллера, Шарлотты, с сыном Эрнстом; и могилу сестры Шопенгауэра, Аделаиды; и в самом центре кладбища — большое полукружье эффектного памятника Шуману и его жепе, Кларе. Можно было долго ходить среди этих аккуратных дорожек, встречая, как где-то в гостиной, «добрых знакомых», встающих в памяти из прочитанных книг: историка Нибура, Августа Шлегеля, братьев Буассере, друга Вагнера — Матильду Везендонк… Нужно было возвращаться, чтоб не опоздать на концерт.
2
Фрейфрау фон Киари заехала за мною в положенный час, и мы с ней оказались почти у самой сцены, хотя билеты были в первом ряду амфитеатра. В ФРГ, а может быть, и в других новых зрелищных и концертных зданиях Запада полукруг начинает резко вытеснять прямую линию. Замечательное здание «Зал Бетховена» («Beethovenhalle Bonn»), которым гордится столица ФРГ, с его совершенной акустикой, построено сравнительно недавно. В нем полукругом расположена не сцена к зрителю, а зрительный зал к сцене. Поэтому те места в амфитеатре, которые находятся на краях рядов, оказываются даже ближе к сцене и удобнее, чем «прямолинейные» места партера, вкрапленные в середине зрительного зала.
Когда мы пришли, фойе было полно нарядной толпой, причем разнотипность женской одежды показалась мне почти маскарадной. Мини еще не вышли из моды, они еще мелькали кое-где, но их явно утесняли элегантные макси, клетчатые юбки-клеш. Но видней всего были странные женские фигуры в длинных платьях в обтяжку, с неожиданным веерообразным расхождением подолов в самом ниву, у пола, словно статуэтки стоячих кобр, для устойчивости поставленные на бахромчатые постаменты.
Мы запаслись программой и — приложением к ней, неожиданно очень старомодным. Брошюра с пометкой «1845 год», с готическим немецким шрифтом; и на ее обложке кроме заглавия мессы стояло: «Короткое объяснительное описание к бетховенскому празднику, сделанное и посвященное, как скромный праздничный подарок, соучастникам и слушателям — от одного из членов Боннского певческого хора».
Это было прекрасно задумано организаторами фестиваля. Они воспроизвели типографски точно (и вдобавок тел же издательством, которое печатало его в Бонне сто двадцать пять лет назад!) искреннее и глубокое описание чувств и мыслей, возникающих при слушании великого бетховенского творения. Анонимный автор был хорошим музыкантом-профессионалом и в своем эмоциональном описании дал слушателю в то же время точный музыкальный анализ каждой части мессы, начиная от Kyrie и кончая Agnus’oM. А в современной программе с красной эмблемой фестиваля (извивающиеся вверх языки пламени) — уже не 1845, а 1970 года — дан был текст шести частей мессы на латинском и немецком языках. Исполнителями были хор боннской филармонии и оркестр «Бетховенского зала». Из перечисленных солистов троих я услышали потом в Мюнхене при исполнении Девятой.
Missa Solemnis — не только высокая музыка, полная благоговейного, страстного и человеческого чувства, — она взывает из глубины своего отчаяния и надежды — к ответу. В жизни людей нет ничего тяжелей безответности. Эпитет, любимый Достоевским, — «безответная» — говорит о существе, уже ничего не ждущем, уже потерявшем надежду. Вся музыка последней мессы Бетховена — это требование ответа и тут же, силою выраженной скорби, выраженного предела страданья и восторга — уже сама — дающая ответ человеку. Таким ответом ложатся на душу слушателя грандиозные песнопения, снимающие своей требовательностью острую, не разрешенную в гармониях, как бы безответную, а только ждущую и молящую полифоничность. Трудно передать, каким большим праздником для слушателя бывает прослушиванье этого «предпоследнего» творения Бетховена. Зал был полон, исполнение было чистое, прозрачное, классическое по следованию за традицией, и боннский дирижер Фолкер Вангенхейм, еще молодой, с умным лбом и немного деревянными, но точными движеньями, вел мессу увлеченно, — тут я хотела бы поставить завершающую точку.
Но не могу.
Дело в том, что к концу, — вместо обычного подъема к «Агнцу божию», где вырывается главная мольба Бетховена, музыка достигает выразительности завещанья людям и где хор — даже в обыкновенных, более обычных и более слабых по качеству исполнениях — обретает максимум одушевления и пафоса, — я совсем неожиданно заметила скрытый зевок сидевшего передо мной пожилого мужчины. И на лице его соседки, элегантной дамы, — откровенное утомление — от долгой отсидки в кресле, от кажущегося однообразия звуков, не знаю — от чего еще. А пел хор… но и хор как будто не вложил всю мощь в последние слова, которыми Бетховен требовал… чего он требовал? Agnus dei, dona nobis pasis, — dona, dona! В музыке это «dona, dona» звучит, как протянутые руки, — дай, дай! Дай нам, дай человечеству МИР! Огромным социальным чувством, страстной жаждою наполнена эта музыка моления о мире. Как опа была понята скромным анонимным участником хора сто двадцать пять лет назад! Как расшифровал он ее в своем слове — подарке «всем соучастникам и слушателям»!
«…И весь оркестр вступает, убежденно заканчивая, и запечатывает с повторным крепким заключительным аккордом моления и его заранее видимое свершение. Все в целом — это мольба о мире внутреннем и внешнем (как великий мастер сам, в начале этой dona (дай), сам выразительно на это указал надписью), при котором, чтоб совершенно понять его смысл, надо представить себе врем, я написания мессы. К благочестивой молитве внутреннего человека о покое и мире его души притягивается, в связи с историческими событиями, мысль о внешней действительности, об ужасах войны, которая вторгает мир в смятение и бедствия, — и заканчивается сладостным благословением и надеждой вконец достигнутого мира…»[165] Это было написано сто двадцать пять лет назад.
О душевном — внутреннем мире мольбу мы чувствовали, но вот то, на что указывал «сам великий мастер» в рукописи своей ремаркой и что свыше века назад почувствовал и вложил в свое пенье участник хора, автор этой книжечки, — социальный момент музыки Бетховена, всегда в ней присутствующий, — мольба-требование мира на земле, мира для человечества — в конце исполнения мессы не пережилось. Чувствовалась блаженная усталость от хорошей музыки. Чувствовалось утомление нарядной толпы.
Я но хочу писать дальше, чтоб не винили меня в придирчивости, а ночью, в номере, с великим удовольствием перечла книжечку хориста, снова пережив с ней, по ее страницам, следование шести молений Бетховена. II поблагодарила за псе устроителей фестиваля!
III. «Рейнская стрела»
Каких только пет названий у железных дорог Западной Германии! Мифология, история, пейзаж — и только чуть-чуть хозяйства. Дорога Нибелунгов, дорога Зигфрида, дорога Замков, Зеленая дорога. Романтическая дорога, Дорога немецкого вина (вдоль Мозельских виноградников). Даже та, что идет на север, к Нидерландам, поэтически названа Дорогой птичьего полета, не потому, что поезд на ней развивает птичью скорость, а потому, что проложена опа но трассе, где птицы летят зимовать с дальнего севера на теплый юг. И только через Рур просто ходит экспресс, возле которого в справочниках деликатно указано: кто хочет обойти этот участок, надо пересесть там-то и там-то. Мне предстояла самая сказочная среди этих сказочных дорог — Золотая. И на самом сказочном из поездов ФРГ — на «Рейнской стреле».
Мы долго стояли с фон Брауном на грязноватом и неказистом боннском вокзале, поджидая таинственную «стрелу». Мимо шли поезда с надписями «Мюнхен», и я каждый раз делала шаг в сторону, но Браун отрицательно качал головой. И вот опять направление — Мюнхен. На этот раз — «стрела», ее номер и буквы ТЕЕ-22, ряд элегантных вагонов первого класса, коротенькая остановка. Сижу на своем месте в купе, к сожалению — не возле широкого окна. В купе шесть мягких сидений с подлокотниками, подвесными подушечками и выдвижными скамеечками для ног. У окна справа и слева удобно разместилась чета немецких бюргеров преклонного возраста, — видно, заранее знавших, какие номера заказать. Она, пухлая, в седых локонах, сняла модный сапог с толстой ноги и вытянула ее на скамеечку, отдыхать. Он — поджарый и лысый, любезно вскакивавший каждый раз, чтоб помочь соседям дамского пола, и без умолку рассказывавший о себе всю дорогу, — мы узнали, что ему шестьдесят девять, что он вставил в Кёльне зубы, что жена модными, по колено, ботинками натерла себе ногу, что для декабря погода на редкость теплая. На станциях входили и выходили, и он тотчас вступал в горячую беседу с новыми соседями.
Я была тоже втянута в разговор. Я давала всем медицинские советы по части их же лекарств, имеющихся у нас, но совершенно им незнакомых. Но когда меня спросили, что именно влечет меня в баварскую столицу, и я ответила: «Концерт под управлением Кубелика», — лицо пухлой дамы с больной ногой выразило полное недоумение, а двух других, спортивных девиц, подсевших к нам по дороге, — что-то вроде резкого недоверия. Дама подняла вверх ладошку и сделала то выразительное потирание пальчиков друг о дружку, которое всем и везде говорит без слов: «А денежки? Денежек это стоит, денежек!» Возле сидений моих соседок висели шубы — одна каракулевая, две другие — замша на меху. Соседки источали в купе тонкий запах французских духов. И я невольно подумала, что наши девушки есть-пить не будут, в товарный сядут, а не в дорогую «стрелу», но на концерт с Девятой Бетховена и знаменитым дирижером — умрут, а попадут… И вообще, говоря по-комсомольски, — какой может быть разговор.
В Кобленце я встала с места и вместе с бесшумным движеньем поезда начала выбираться из своего вагона. Мой поездной путеводитель (на каждом сиденье лежало по одному!) предупредил, что в этом поезде есть «отделение видовое», где, между прочим, посетителей (со всего поезда) просят подолгу не задерживаться, а посидеть, полюбоваться и дать и другим сделать то же самое, освободив для них место, — за что, по западноевропейской привычке, «ваша немецкая федеративная железная дорога заранее говорит вам большое спасибо». Что за видовое отделение? Ведь мы проезжали всю немецкую мифологию, покорившую не одних только немецких поэтов! Мы проезжали вдоль Рейна, дно которого излучало сквозь изумрудную воду отблеск таинственного «золота»; а на прибрежных скалах высился замок Лорелеи, той самой Лорелеи, о которой не только немецкие классики, но и современный французский поэт, Аполлинер, написал, как она бросилась со скалы:
Увидав отраженные в глади потока Свои рейнские очи, свой солнечный локон.А современный гениальный советский музыкант в своей Четырнадцатой симфонии положил ее гибель на музыку.
Мы проезжали долину, где был сражен Зигфрид, и облака плыли над ней, те самые, пронизанные радугой немецкие облака, по которым уходили когда-то от людей ввысь древние германские боги, воспетые Вагнером. Все вокруг этой реки говорило многоязычной поэтической речью о вечной красоте земли, питающей народное воображенье… и большое окно было загорожено бюргерской четой, взявшейся сейчас за коробочки, баночки и бутылочки домашнего обеда! Обеденный час. Все равно надо двигаться. А я, признаться, всегда боялась этих скользких переходов из вагона в вагон и туго, со скрежетом, раздвигающихся дверей. Но «видовое отделение» победило.
Первая площадка — и волшебство словно шагнуло из поэзии мифа в прозаику людской жизни. Не успеешь дотронуться до раздвижной дверцы, к которой я долгие годы питала враждебное чувство, как она, эта дверь, мягко раздвинулась сама собой, словно от легкого дуновенья. И площадка не лязгала, не тряслась, силясь сбросить вас под колеса, а с плюшевой мягкостью приняла вашу ногу. Один вагон, другой — и вдруг, перед самым рестораном, — милейшая лесенка наверх, а наверху, словно это второй этаж лондонского автобуса, — под стеклянным куполом — прозрачная курортная веранда с мягкими креслами, столиками, стойками. Люди сидят, читают газету — зря, между прочим, занимая место. Другие, облокотись на стойку, говорят по телефону с каким хочешь городом или пишут открытки добрым друзьям. А вокруг — со всех сторон, по бокам, сзади, спереди, — плывет редчайшая красота, не стертая даже зимней декабрьской резинкой, а, наоборот, опушенная красивой сединой изморози, оголившая кой-где причудливые контуры гор, опрозрачнившая пролеты между курортными зданиями. И медленно-медленно но величавой реке, как бетховенские адажио, плывут длинные белые баржи-электроходы, унося за собой ваши очарованные глаза.
Сидеть бы часы или хоть минуты и впитывать, впитывать каждый поворот реки, левую и правую ленты берега, руины замков, готику острых церквушек, все вместе, все сразу, — но почтенные пассажиры, уткнувшие носы в газеты, сидят плотно в своих креслах, а свободных нет, все кресла заняты. И зачем только любезная немецкая дорога расточала им заранее это незаслуженное «большое, большое спасибо»!
С пасмурным видом, озаботившим вертлявого кельнера, я съела в ресторане самое дешевое блюдо из меню — «рагу на тосте» — и сердито двинулась в свой вагон.
А между тем стемнело. Мы пересекли Рейн и помчались вдоль Майна. Дороги — Романтическая, Замковая и и всякая другая — утонули во влажных сумерках до полной неразберихи. Соседей, начавших было дремать, быстро заинтересовало мое краткое, но сильное послесловие о том, что вместо подхалимского преждевременного «спасибо» у нас бы повесили «жалобную книгу» и карандаш на веревочке, — вот тогда не засидели бы чужих мест. Соседи с удивительной интеллектуальной быстротой подхватили мою мысль, хотя понятие «жалобная книга» пришлось подробно изъяснять. Пожилая дама с больной ногой рассказала тут же, в подтверждение моей мысли, «ужасающий случай в магазине», виденный ее «собственными глазами»: как, ничего но заплатив, одна молодая особа просто взяла из кучи товара пару чулок, бесстыдно подмигнула ей, увидя, что за ней строго-порицающе наблюдают, — и поспешно унесла, предварительно завернув их в магазинную бумагу, на которой среди цветочков было крупными буквами напечатано: «Большое, большое вам спасибо»…
Разговор коснулся частностей рождественской торговли и человеческой натуры.
И уже в полной темноте наплыл солидный мюнхенский вокзал, где меня должна была встретить новая «сопровождающая».
IV. Мюнхен и Баварские Альпы
1
Стоя на пустынном перроне, я чуть не впала в отчаяние: никого. Адрес гостиницы был, правда, у меня записан, но вдруг в ней места не будет, или такси не найду, или… недавно тут учинили ведь что-то реваншистское, о чем писали газеты.
— Вам удивительно повезло! — сказал мелодичный женский голосок за моей спиной. Хорошенькая белокурая девушка северного тина, с большим букетом в руках, безошибочно признав во мне меня, быстро представилась: Розмари Сопсалла, из общества «Между нациями». Оказалось, что мне предстоит, после кратчайшей передышки в гостинице, ехать на рождественский вечер, устраиваемый членами не то института, не го курсов, не то клуба по изучению иностранных языков, и на этом вечере, среди всего прочего, покажут балет «Русская зимняя сказка — Снегурочка». Честно говоря, мне очень хотелось выспаться перед завтрашним концертом, но отказываться было невозможно. В маленькой, по-домашнему уютной гостинице «Возле Оперы», — как и всюду, не городской, а частной, — хозяева приспособили для гостей-туристов шкафчик с целым набором спиртных напитков разного размера и типа, от крохотных и толстеньких, как контрабасики, до вытянутых кверху, как флейты. Пишу об этом потому, что, например, хозяева Тюльпанного отеля в Бонне снабдили свои номера «совсем наоборот» — Библиями на разных языках.
Передохнув, мы отправились в более нарядную гостиницу «Регина», где под «ужин» отведена была большая наемная зала. Вдоль нее приготовлены рядами столы, на столах приборы и перед каждым по апельсину. У стены оставлено место возле рояля для концерта. Мы приехали рано, Розмари упорхнула переодеваться, поскольку это она сама должна была станцевать Снегурочку, а я познакомилась с семьей организаторов ужина. Оказывается, этот своеобразный клуб объединил живущих в Мюнхене иностранцев и немцев, говорящих на иностранных языках, и собирает каждую среду своих членов для лекций, танцев, ужинов в складчину, — цели таких объединений я не представляю себе ясно. По неписаному клубному уставу — всякие дискуссии, могущие повести к спорам, решительно возбраняются…
По вечерам в Бонне я внимательно перечитывала немецкие газеты, и мне бросились в глаза любопытные сообщения, говорившие о большой тяге немецких женщин к таким собраньям. Не «клубным», поскольку постоянных клубов, подобных английским, это не касалось, — места встречи назначались не одни и те же. Я набрела, например, на особое — у нас сказали бы «мероприятие» под лозунгом «essen und sprechen», кушать и разговаривать. При этом занятии, очевидно отвечавшем какой-то внутренней женской потребности, собирались средства, которые потом расходовались на подарки старикам в инвалидных домах, и газета сентиментально описывала, как радовались получившие табачок или теплые шерстяные чулки к рождеству. Когда я поделилась этими газетными сведениями с Розмари, она резко запротестовала: у них — «совсем не то», у них — культурные, почти научные встречи.
Вот в это «совсем не то» стала чинно сходиться местная интеллигенция, понемногу рассаживавшаяся за столы. Семья главных «устроителей» — мать, дочь и зять — не бросила меня на произвол судьбы, мать села рядом и старательно записывала на бумажке различные русские слова, которые у меня прилежно выспрашивала: она изучала русский язык. Зять, доктор Макс Фенк, открыл собрание, сказал несколько веселых слов дружескому обществу, объявив, что «сегодня присутствует гость, писательница из Советского Союза», — и ужин, сопровождаемый рождественским концертом, начался…
Верней, это был не ужин, а поздний европейский обед — с супом и венгерским паприкашем. Концертную программу открыл молодой француз, учившийся пению в Мюнхенской консерватории, — обладатель хорошего голоса. Потом этот же певец вышел на сцепу в спецовке, сапогах и большой бороде, с метлой в руке, изображая русского дворника. Он принялся выметать мнимый снег, и тут, навстречу ему, выпорхнула моя Розмари, хорошенькая, как куколка, в звездной короне, в балетной пачке, и принялась танцевать вокруг него, становясь на пуанты. Ее потом сфотографировали, и она, возбужденная, счастливая, села за наш стол съесть свой остывший паприкаш.
Поскольку мне приходилось всякий раз сближаться со своими «сопроводительницами», а все они были разные, за исключением их почти всеобщего причастия к титулам, скажу несколько слов об этой милой мюнхенской девушке. Розмари Сонсалла — финка по происхождению, и предки ее, из пограничной с Россией области, как будто носили графский титул, — «как будто», поскольку сама Розмари в этом не совсем уверена. Мечтает она больше всего на свете попасть в Москву, поучиться в балетной школе, найти путь в большое искусство. Ей представляется, что Москва — это зеленая дорога таланта. Москва впитывает, преобразовывает, поучает, окрыляет… Я рассказала ей после концерта о нашей самодеятельности — в учреждениях, университетах, на заводах, фабриках. Но Розмари покачала головой — у них это невероятно трудно, почти невозможно, — как трудно было, к примеру, провести и создать сегодняшний номер — потому что «немцы и немки застенчивы, они закрыты, им страшно проявить себя со сцены, вдруг показаться смешными…». И я вспомнила открытый характер немецкой молодежи, студенческой, рабочей, — по соседству, в ГДР, — немецкую рабочую самодеятельность. В пустяке, как будто в малой капле вдруг отразилось нечто очень большое, разница социальных систем. А ведь тут, в стороне торжествующего, узаконенного индивидуализма, это нас, нашу молодежь считают скованней, закрытой, не смеющей проявить себя!
И как раз об «индивидуализме», прорвав постановленье «дискуссия возбраняется», началась у нас за столом, на этом чинном немецком собрании, неожиданная беседа, сразу сделавшая для меня этот вечер интересным. Соседка напротив, высокая белокурая немка с умными темными глазами, предмет ухаживания со стороны профессорского типа господина, сидевшего с нею рядом, вдруг отстранилась от него, перегнулась ко мне и спросила: как я могу вынести при социализме стеснение своей индивидуальности?
— В чем? — сказала я, подхватив ее вызов. Немного подумав, она совсем по-детски ответила: «Ну, например, вам ведь не позволят иметь квартиру в восемь комнат, а вы хотите, может быть, иметь для себя восьмикомнатную квартиру». Я была поражена элементарностью и допотопной наивностью такого вопроса.
Долгий опыт учит нас, как беседовать с инакомыслящими старого капиталистического строя: никогда не надо теоретизировать — и никогда не следует лгать. Надо использовать на сто процентов там, где он имеется налицо, простой здравый смысл, присущий советской действительности. «Если б мне всучили квартиру в восемь ком-пат, я послала бы ее ко всем чертям!» — «Почему?» — продолжала допытываться блондинка. «Потому что кто стал бы ее убирать? Подметать, стирать пыль, мыть окна, выбивать мебель, ковры? Через месяц она бы превратилась в свалку. У нас легче вырастить в Сибири ананасы, чем найти в Москве прислугу».
Мгновенно вспыхнуло оживление на лицах пожилых дам вокруг. Исчезновение той профессии, какую звали «прислуживанием», а у нас «домашней работой», сейчас повсеместно в мире. Оно катастрофично в Англии. Оно отразилось, как описание сугубого бедствия, даже в западных детективных романах. Это оно заставило ловить и посылать наших советских девушек на черную работу в Германию во время войны. Это оно переполнило мой Тюльпанный отель испанским, греческим, итальянским персоналом, а больницы, рестораны, метро, поезда, отели в Париже и Лондоне служащими марокканцами и неграми.
Внимание было перенесено с проблемы индивидуализма на более близкую сердцу проблему, как найти домашнюю работницу. Мне очень хотелось еще поговорить с моей визави. Должно быть, она была доктором философии или писала статьи об искусстве. Я сказала бы ей то, что думаю: человеческая индивидуальность, пока она не мешает ни другим, ни себе, развивается и движется в том направлении, в каком открыта перед ней дорога. Это как течение реки. А если потребуется для общего блага перенаправить или загородить течение плотиной, его загораживают. Ведь вот для общего блага вы, к сожалению, поставили в уставе ваших встреч плотину: дискуссии возбраняются!
Но время было позднее, наступила пора расходиться, и мы, к самому уходу, вдруг почувствовали то симпатичное ощущение, что ведь все мы, в конце концов, человеки, вызванное примитивностью нашего спора.
2
Ровно в десять часов утра, как было напечатано на веленевой бумаге мюнхенской программы, явилась Розмари с господином Фуксом, поджидавшим нас внизу. Герр Фукс, пожилой шофер, был, собственно, не шофер, а хозяин своей машины, которую сдавал на нужды главным образом организации «Между нациями». День был как нежданный-негаданный подарок. Вместо мги, сырости, полутьмы, вязкого тумана, низких туч — ослепительная синева, пронизанная ярким золотом и нестерпимой белизной. Снег выпал за ночь. Он но таял, хотя солнце грело даже сквозь стекла. «При хорошей погоде, — говорилось в программе, — поездка к озеру Тегернзее, Баварские Альпы». Розмари торопила меня с завтраком, поглядывая на часики, словно хорошая погода уйдет и мы, взамен Тегернзее, должны будем но программе отправиться на выставку абстракциониста Пауля Клее, о которой шумно возвещали рекламы-ленты, протянутые через улицы. Она понимала, конечно, что, «потеряв Клее, мы ничего не потеряем, а потеряв Тегернзее, потеряем все», — поскольку природа действительней, чем абстракция.
Трудно сказать в коротких словах об этой поездке, дающей человеку за день ровно столько здоровья, сколько накачивают ему за двадцать шесть дней кардиологические или невропатологические санатории. По выезде из Мюнхена горы, как волны, охватили нас с двух сторон. И вспомнилось: Мюнхен — Монако по-итальянски (дублируя другое, «игральное» княжество Монако) — это ведь станция на дороге музыкантов — Моцарта, Мысливечка — в Италию, станция на дороге бегства Гёте в Италию, волнистый, уже овеянный югом, исторический путь на юг, в страну красоты и искусства, два шага от Зальцбурга, от Тироля, нечто вроде той психологической атмосферы на нашей станции Джаикой, за которой вы чувствуете крымские кипарисы, море и горы. Бесконечность человеческой жизни, счастье жить охватили нас, словно века назад, при переселении народов, века вперед, в возможном братстве народов…
Снег не таял, хотя солнце припекало. «Это потому, что — горы», — сказала Розмари. Воздух входил в открытые окна, словно не мы им, а он дышал нами. Машина, казалось, плыла, потому что медленно передвигались горные ущелья, медленно менялось окружение, хотя внизу, под колесами, дорога летела с максимумом скорости. И это было тоже «потому что — горы». Удивительная вещь — горы! Баварские деревушки сменялись одна за другой, показывая нам старинный уклад жизни. Жить, устремляясь на юг, надо весело, художественно, — безымянные деревенские художники, не довольствуясь замысловатыми деревянными выдумками, переплетами стен, петушками на гребнях крыш, резьбою наличников, разрисовывали фасады своих белых, повернутых к дороге домиков целыми жанровыми картинами. На одной — баталия, на другой — мирная выпивка, на третьей — деревенская красотка в танце, но лучше всего выходили написанные маслом животные: собака, бык, бьющий копытом копь. Смотреть на эту пролетающую деревенскую живопись было куда веселей, чем ходить но комнатам, разглядывая заумные зигзаги Клее. Нам хотелось остановить машину, выйти, побегать по снегу, поиграть в снежки, может быть, заснуть на снегу в спальном мешке, и чтоб солнце и ветерок бродили по щеке, и тени облаков, плывущих издалека, из Италии, трогали ее своими пальцами. А герр Фукс, любовно ведя собственную машину, изредка, для вящей убедительности, вставлял заученные им русские слова: «карашо» и «отшен карашо».
Больше двух часов шел подъем на Баварские Альпы. Тысячи людей много десятков лет смотрели, должно быть, на синее зеркало Тегернзее, закутанное сейчас в белоснежные берега; кормили всю летучую живность на нем, избалованную туристами, — орущих чаек, величавых лебедей, почему-то черным-черных уток, плывущих стаями и похожих на рыб. На тысячи людей смотрела сверху и эта невозможная красота горных вершин, по буквам зная, что обязательно произойдет: люди вылезут из повозок, пройдутся по бережку и, пройдясь, войдут в баварский, разрисованный и принаряженный в национальном стиле дорогой ресторан «Юберфарт» («Переезд»), собственница которого, красивая баварка в народном костюме, сама их обслужит и цветную рекламу отеля подарит. Так было, по крайней мере, с нами. Наверное, — в той или иной степени — так было и свыше полувека назад, когда я впервые знакомилась с Баварией.
Возвращались мы до краев полные здоровьем. Розмари еще утром с восторгом сообщила мне, что на Девятую симфонию все билеты проданы, удалось достать только один-единственный — для меня. Опьяненная воздухом Баварских Альп, я отправилась слушать Бетховена, даже не передохнув в гостинице.
V. Девятая симфония
1
Пятнадцать лет назад в Лондонской королевской опере шла «Волшебная флейта» Моцарта. За дирижерский пульт встал стройный человек и поднял руку, — это был сын знаменитейшего скрипача начала нашего века, чеха Яна Кубелика, дирижер, тоже прославленный, Рафаэль Кубелик. И сейчас мне предстояло увидеть и услышать его второй раз в жизни, уже не в Лондоне, а в Мюнхене.
Если Бонн — столица всей Федерации, то в Мюнхене гордо пишут: столица (Residenz) Баварии, не упоминая подчас слова «Бавария» и оставляя одну резиденцию. В программах к мюнхенскому концерту стояло, что он произойдет в «Зале Геркулеса» резиденции. «Зал Геркулеса» — огромное, как и Ботховенхалле, тоже не так давно построенное здание. Мюнхен — старый культурный центр, его публика всегда заполняла театральные и концертные залы. Рядом с соперницей, Дрезденской картинной галереей, неизменно называлась знаменитая старая мюнхенская Пинакотека, посетить которую в прежние времена, когда вы попадали в Германию, было так же обязательно, как и Дрезденскую. В эти дни рядом с нею показывали абстракцию Клее, уже несколько устаревшую с точки зрения моды. Те же рождественские толчея и теснота на улицах, то же суетливое настроенье кануна, те же елки, — но билеты на концерт в Геркулесзале, где Рафаэль Кубелик должен был дирижировать Девятой Бетховена, были давным-давно раскуплены. Мне досталось место в третьем ряду, а так как «Геркулес» был прямолинеен и сценой и зрительным залом, то это было не совсем хорошее место, далеко сбоку.
Девятая шла не в абонементе, а как «зондер-концерт», особый концерт, внеабонементный. Текст печатной программы на первый взгляд был обстоятельный, интересный, информационный; не только, по немецкому обычаю, сообщались короткие сведения о каждом солисте (уже знакомом мне по Бонну), но и в самом конце давалось подробное неречисленье концертов всего сезона, — и любитель музыки мог заинтересоваться предстоящим 14 мая, в связи с годом Альбрехта Дюрера, исполнением в Мейстерзингерхалле Нюрнберга Четвертой симфонии Брамса и скрипичного концерта опус 61 Бетховена под управлением того же Рафаэля Кубелика. Но на этом приятное впечатление от программы заканчивалось.
В той части, где печатают обычно разъяснительный текст, помещены были две статьи — Вальтера Абендрота и Эгона Фосса. Кто бывал у нас в Москве на концертах, мог наблюдать, как московская публика (самая музыкальная в Советском Союзе после ленинградской), приходя заблаговременно, погружается в литературную часть программы. Не потому, что ей неизвестны исполняемые вещи. А потому, что литературная часть — дидактическая — это часть общего для нас, направляющего, идейного восприятия искусства, и она как бы вводит в атмосферу концерта, словно предварительное «прелюдированье». Что же в своих «прелюдиях» сказали нам два больших и знающих музыканта о великом последнем слове Бетховена, обращенном к человечеству?
Абендрот в своей обширной статье тратит много аргументов, своих и чужих, чтоб ломиться, как мне кажется, в открытую дверь. Он доказывает в ней чистоту симфонического языка Бетховена, чуждого «иллюстративности» и того, что называют позднейшей «программной музыкой». Он приводит историческую справку о том, как из Девятой симфонии облыжно выросла впоследствии эта программная музыка, выросло явление Вагнера, музыка которого тесно сплетена с драматургией, а слово со звуком, зачастую подчиненным слову. Он отрицает рождение мелодии Радости от воздействия или под впечатлением Шиллеровой «Оды к Радости», доходит даже до того, что вместе с дирижером Фуртвенглером считает, будто Бетховен просто подложил позднее под готовую у него мелодию попавшиеся ему и ритмически подходящие стихи Шиллера… Нет нужды критиковать эту статью, где правда (чистота инструментального языка, органичность чисто музыкальных тем Бетховена) доказывается «с пеной у рта» в густом переплетении с неправдой: с непониманием природы «мелоса», древнего греческого проникновения в единство выражения слово-звука в мелодии песни, в музыкальности самого стихотворения, — единство, ничего общего не имеющее ни с какой программностью или чисто живописной, пластической иллюстративностью. Но нужно решительно отмести снисходительный тон Абендрота, где он мимоходом упоминает об «эмоциональном идеализме» Бетховена, общавшегося, как и прочие современники, с мыслителями и поэтами своего века и могшего, разумеется, получать от них некоторые Einflüsse, влияния… Это смешно, и это в прямой разрез идет с бурными политическими реакциями Бетховена, с его глубоким духовным проникновением в философию века, с его участием в событиях и тенденциях своего времени.
Вторая статья, Эгона Фосса, развивает направленно мыслей Абендрота, отрыв творчества художника от его гражданской, человеческой, духовной биографии. Анализом односторонних, искусно подобранных сравнений и свидетельств он утверждает, что Бетховен долго сомневался, стоит ли ему ввести оду Шиллера в свою биографию, — о чем якобы говорит отсутствие развитого перехода от чистой музыки к хору, — и вообще бетховенские «наброски показывают, как трудно ему было сделать убедительным переход от симфонии к кантате».
Прочитав обе статьи (хорошо и культурно изложенные), вы прежде всего теряете ощущение темы Девятой симфонии, того, что вложил в нее сам Бетховен, что он хотел ею передать человечеству. Вы теряете также возможный анализ других трудностей Великого Глухого, о которых обычно стыдливо умалчивают. Один из советских музыкантов как-то заметил в разговоре, что сложность хоровой партитуры конца Девятой часто приводит к «какофонии», заставляя хор делать ошибки… Стыдливо умалчивается трагедия Бетховена, не слышавшего, не воспринимавшего своего собственного голоса к пебу, своего взлета к Радости, — к Радости, завещанной им человечеству вместе с Миром.
Но вот программа прочитана, я уселась на свое место, и концерт начался. Его передавали по телевизору, поэтому яркий сноп белого блеска падал на сцену и слепил глаза. Мне пришлось, чтоб следить за дирижером, держать перед собой, защищая глаза, эту злополучную программу, и рука уставала, хотя усталость побеждалась с каждой минутой. Рафаэль Кубелик — превосходный аналитик классической немецкой музыки… Не знаю другого дирижера, который производил бы так величаво-спокойно и зная себе цепу «пластическую операцию» расчленения большого музыкального целого на его фразы, абзацы, главы, подглавки. Это усугублялось еще красотой движения его рук, словно плавающих по воздуху. Он не делал резких взмахов, не горел, как когда-то дирижер Никиш — «весь всплеск и пламя», как говорили о нем в конце девятнадцатого века. Кубелик дирижировал спокойно, как бы поучая оркестр, держа в узде эмоции, но любуясь, любуясь каждым куском музыки, словно поворачивая его лицом к зрителю: взгляните! И наперекор всем увереньям Абендрота и Фосса вдруг постигалось зрительное впечатление от симфонии, — не в каких-то картинах или смыслах, а словно от чертежа, от архитектоники, от соотношения частей.
Первые три части Девятой были нам «пропущены в слух» как бы сквозь пальцы очень красивой — плавной, как крыло лебедя, белой, как этот несносный блеск прожектора, — руки дирижера. Наверное, верующий католик так пропускает сквозь пальцы бусинку за бусинкой янтарные четки. И странным образом в этом почти академическом, очень сдержанном и четком исполнении вдруг стали ухом различаться знакомые фразы или зачатки фраз из других, ранних вещей Бетховена, — может быть, из набросков Второй симфонии, может быть, какой-нибудь сонаты, специалисты, наверное, скажут, каких, откуда, — а главное, стало настойчиво стучаться в память победное, торжествующее шествие «Фантазии для рояля, оркестра и хора». Многое в судьбе Девятой и в трагизме последнего творчества Бетховена могло бы объясниться вовсе не теоретическими спорами о «программности» и «чистоте». Бетховен боялся своей глухоты, память приводила ему бесспорные, абсолютные свершения его прежних лет, когда живой, хоть и ослабленный слух еще приносил ему реальные прикосновенья создаваемых звуков. Но к этой красоте прошлого он самолюбиво не хотел возвращаться, он хотел создавать новое, еще глубже, еще прекрасней, — а страх холодом проникал где-то, и опасенье подбрасывало намять о прежнем, верный устой, не разрушенный иллюзорным миражем глухоты… Это очень страшно, и это убедительно психологически. И, несмотря на все это, несмотря на реминисценции созданного, топтанье перед прыжком из симфонии в кантату, нечто растерянное, замедленное, несогласное — как настрой инструментов в оркестре перед началом игры, — социальная сила, именно социальная сила чувства, связующего трагическое сознанье одинокого гения божьего с миллионом сердец его современников и тех, кто придет вслед за ними, — с сердцами всего последующего человечества, — именно это могучее чувство прорвало паузу между музыкой и словом, влилось в хор и придало Девятой симфонии ее величие, ее уникальность… Радость, искра божьего огня!
…Всюду люди будут братья, Где крыло твое парит…Нет надобности цитировать, переводы почти все плохи, но это: «обнимитесь, миллионы, всем мой братский поцелуй» — хоть и не точно, а выражает расширяющий, вселенский пафос того, что чувствовал перед смертью Бетховен, что он хотел передать человечеству. Именно охваченность таким, бетховенским, пафосом дает возможность и хору, и оркестру, и дирижеру провести финал на той высоте, когда не замечаешь никаких «ошибок» у хора, никакой дисгармонии…
И вот, к огорчению моему, в мюнхенском исполнении, потрясающем во всей чисто симфонической части, — прыжок к хору, к кантате не произошел ни убедительно, ни даже просто хорошо. Он как-то смялся и словно просил извинить его за немощь. Он истаял, хотя был громок, в своей неубедительности. Публика, однако, устроила дирижеру овацию — милая, бурная баварская публика, веселая в своем южном, темпераментном выражении чувств. Так прошел второй концерт Бетховена, второе его завещание человечеству — быть радостным, быть братьями, потому что мир, один только мир на земле, был бы все же недостаточен, если б не наполнило его братство всего живущего и не подняла к высоте Радость.
2
Еще в первый же день в Бонне я спросила в обществе «Между нациями», была ли во время фестиваля возможность «простому народу», рабочему классу послушать Бетховена. Мне указали какой-то один пункт в рабочем экземпляре фестивальной программы, который я, нагнувшись, никак не могла разобрать по близорукости. Речь там шла не то о рабочем районе, не то о рабочем доме, где состоялся концерт… Но большего я ток и не узнала.
Тщетно искала я и в прекрасной по полноте культурной информации газете «Франкфуртер Альгемейне» что-нибудь об этом или хотя бы статей о Бетховене, отличающихся своим содержаньем от напечатанных в программе. И вдруг, перед самым отъездом на родину, судьба подарила мне два «замечательных» события, которыми и закончился для меня если не визит в Федеративную Республику, то бетховенский фестиваль.
Развернув 24 декабря ту же самую «Франкфуртер Альгемейне», которая никак не хотела рассказать мне о минувших концертах, я вдруг увидела на девятнадцатой странице, почему-то, однако, не в отделе искусства, а в отделе «Листок хозяйства», многообещающее человеческое заглавие «Бетховен нам дорог». Наконец-то! С жадностью погрузилась в чтение и — сразу поняла, почему не «отдел искусства», а «отдел хозяйства»…
В немецком языке, так же как и в русском, слово «дорог» имеет двойное значение. Дорогой (teuer) можно понять как милый сердцу, дорогой мой, любимый… Но тот же «дорогой» (teuer) означает дорого стоящий, дорого запрашиваемый, не по карману. И оказывается, заглавие статьи «Бетховен нам дорог» означает вовсе не любовь к Бетховену, не тот факт, что мы им дорожим, а просто-напросто — Бетховен нам не по карману! Он слишком дорого обходится, чтоб мы могли его играть. Слишком дорого обходится, потому что залы пустуют и даже, если они полны, сбор не покрывает затрат, а если прибавку сделаешь к стоимости билетов, и без того высокой, то окончательно опустошишь залы… Ведь все построено на собственности, на себестоимости, на расплате за наличные, вообще — на «личной инициативе», «личной предприимчивости», этих хваленых божках капитализма… За все плати: жалованье оркестрантам, солистам, дирижеру, оплата помещенья, освещенья, услуг, реклам, афиш, программ и прочего и тому подобного, и притом за наличные, и притом иа твою ответственность, и притом с полной свободой воли твоей собственной индивидуальности. Вот и выясняется, что — хоть караул кричи — исполнять Бетховена обходится в копеечку, и, должно быть, социальные чувства, какие испытывает хор при пении финала, вовсе не похожи на великий социальный пафос Бетховена; при всем добром желании, вдруг да мелькнет в мозгу: какие шиши заплатят нам завтра за Бетховена?
Возможно, я преувеличиваю в своих комментариях к статье «Франкфуртер Альгемейне» от 24 декабря 1970 года. Но вот цитаты из этой статьи на усмотрение читателя:
«Посещают хорошо, только каждое пятое место остается пустым».
«Дефицит велик, факт ясен: Бетховен нам слишком дорог».
«Шкала дефицита начинается меньше чем с миллиона и доходит до превышения 6-ти миллионов на оркестр».
«Кто хочет для придворных симфонистов (Hofer Simphoniker) выхлопотать необходимую прибавку, должен чуть ли не со шляпой в руке побираться у четырех официальных учреждений».
«Жалобы на недостаток квалифицированного прироста оркестрантов всеобщи. Профессия вымирает, — сказал один пессимист».
И кроме этих цитат, которые легко сверить с газетой, есть в статье жалоба на женщин, отнимающих хлеб у мужчин и снижающих былое мужское достоинство оркестра: ведь раньше в немецком оркестре терпима была только арфистка, в длинном туалете усаживавшаяся у своей арфы, а теперь пошли скрипачки, виолончелистки… У статьи стоит подзаголовок: «К экономическому положению оркестра».
Второе «замечательное событие», закончившее для меня бетховенский фестиваль, — другого, даже совсем другого рода, и оно тоже случилось почти в последний день моего пребывания в Западной Германии. Друзья подарили мне на прощанье пластинку, обыкновенную на вид пластинку. Сперва я даже и не разглядела ее как следует. И только всегдашнее мое пристрастие прочитывать все печатное, относящееся к очередной рабочей теме, спасло радостный смысл этой пластинки для моей работы. Было, оказывается, нечто и для рабочего класса во дни бетховенского фестиваля в Западной Германии! Дуйсбург — это индустриальный город республики, ее рабочее место, Рур, — город на рейнском притоке Руре, рядом с Эссеном, Бохумом, Дортмундом, куда не идет никакая дорога с романтичным названьем, а только деловой экспресс; и в этом Дуйсбурге состоялся бетховенский концерт 26 ноября 1970 года силами симфонического радиоорксстра Лейпцига из ГДР. А к этому концерту Германская коммунистическая партия приготовила подарок — пластинку, заказанную Правлением партии. Так и стоит на пластинке: «Заказ Правления Германской коммунистической партии». А на обложке, с которой смотрят на нас рабочие люди за своими станками, напечатано:
«Почему издает бетховенскую пластинку Германская компартия? Почему организует Германская компартия бетховенский концерт?
Ответ прост: хранить и делать действенными передовые достижения нашей истории — принадлежность политики партии рабочего класса. Из них тоже развивается гуманистический образ человека, они союзники в борьбе против искривляющей человека массовой культуры империализма, они — составная часть творческой демократической культуры и призыв к борьбе за демократическое обновление государства и общества».
Л дальше — умное, близкое нашему духу, объяснение трех бетховенских вещей, записанных на пластинку: увертюр к «Эгмонту» и «Леоноре» и «Фантазии для рояля, оркестра и хора», предшественницы бетховенской Девятой. Исполнялись они симфоническими радиооркестрами Лейпцига и Берлина, а среди дирижеров знакомое для нас имя Курта Зандерлинга. И любопытный факт рассказывается на той же обложке о «Фантазии» опус 80. Бетховен был недоволен текстом Кристофа Куфнера, взятым для хора его «Фантазии». Но он напрасно искал, чем его заменить, потому что непременно хотел сохранить и в новом тексте слова «сила», Kraft. Вот так ревниво относился Бетховен к слову, якобы «безразличный» к своим текстам! В 1951 году Иоганнес Бехер, создатель Национального гимна ГДР, написал новый текст для «Фантазии» с сохранением слова «сила»: «Где объединяются разум и сила, там благо вечного мира»[166].
Так Бетховен спустя двести лет участвует в живой борьбе общества за будущее, и музыка его — великое наследие добра и света — приходит к тем самым миллионам, о которых пела его Девятая симфония.
Мюнхен
VI. Франкфурт-на-Майне
1
Все мои поездки были приурочены к прибытию в назначенное место под вечер — чтоб я могла любоваться, пока светло, панорамой из окна поезда. И так получилось, что в темноте, на перроне франкфуртского вокзала, две-три минуты я воображала, будто меня не встретят и — что же мне тогда делать? А пока я стандартно переживала это, — шла по перрону худенькая, скромно одетая женщина с бледным лицом и гладкой прической, шла и везла перед собой пустую тележку для багажа, поскольку носильщиков на немецких вокзалах не сыщешь. Увидя меня, остановилась, бросила взгляд на мою ручную сумку, откатила в сторону тележку и потянулась за сумкой. Все так, как вообще поступали со мной все мои «сопровождающие», хотя мне всякий раз становилось совестно, что они берут на себя роль носильщиков.
Скромная «сопровождающая» Франкфурта, не в пример Розмари, была молчалива и замкнута. Мы с ней приехали в деловитую гостиницу Гессенхоф, поднялись в солидный номер на шестом этаже, и, пока я раскладывалась, она увидела мою разорванную перчатку. Не успела я повернуться, как милая тихая немка вынула из кармана крохотный несессерчик, достала нитку, иголку — и вот она уже аккуратно зашивает мою перчатку, а я стою, беспомощно протестую и догадываюсь наконец хоть разговор завести… «Как вас зовут?» — «Александра», — как-то странно отвечает немка. «А фамилия?» — «Александра Вюртемберг». Спутница моя достает визитную карточку. На ней стоит: герцогиня Александра Вюртембергская… Ах ты господи, пронеси и помилуй! Сперва фон Брауны, потом баронессы, потом графини, а вот теперь — целая герцогиня! И зашивает мою перчатку. Но, может быть, это по мужу, а сама она урожденная, как все мы, грешные? И я ее спрашиваю: а кто же она сама, в девичьем своем звании? Тут моя спутница, смущенно улыбнувшись, пишет мне на оборотной стороне карточки: «Эрцгерцогиня австрийская», а пояснительно, в скобках, рядышком: «Габсбург-Лотаринген». Габсбург! Лотарингия! Императорский австрийский дом! Я вежливо заметила, когда пришла в себя, что знавала ее дедушку или дядюшку, императора Франца-Иосифа, давным-давно, в Вене: мне тогда было пятнадцать лет, и я ходила (разинув рот) по улице Марияхильферштрассе, а Франц-Иосиф проезжал на белой паре лошадей в коляске и раскланивался направо-налево с народом, в том числе и со мной.
Итак, в учреждении «Между нациями», скромно его обслуживая, работают не только дворянство и высшая знать, но и женщины императорских фамилий. Одной из самых милых и простых оказалась моя эрцгерцогиня австрийская, с которой я как-то душевно, по-бабьи, сблизилась, вместе поплакав вечером в кино, над фильмом «Дочь Брайана», про ирландское восстание, — превосходным фильмом, почему-то нами для Советского Союза не закупленным. Но это произошло на следующий день, а в первый франкфуртский вечер я только полюбовалась из окоп огнями шумного торгового города, куда свыше полувека назад вступила пешком, с рюкзаком за плечами, — в июле 1914 года… И рано легла спать.
Следующий день, 22 декабря, был по календарю самый короткий и самый темный в году. Ночь обложила его утром, не давая пробиться свету до десяти; ночь надвинулась чуть ли не сразу после обеда, сократив нам его рабочую видимость до трех часов пополудни. А между тем по насыщенности и полноте содержанья он оказался едва ли не самым длинным днем в моем путешествии.
Мы с Александрой сначала объездили город и остановились в Хиршграбене, перед домом Гёте. Война с огромной силой разрушила старую часть Франкфурта, и все, что связано в ней с Гёте, почти целиком было уничтожено. Знаменитые «Рёмер», во всей своей старинной живописности, стоят и сейчас, но они — только нарядная копия. Дом, где родился Гёте, стоит и сейчас, открытый для обозрения, — но он только копия. Обновлен был, в сущности, и веймарский дом Гёте, — и, проходя в Веймаре в прошлом году по его чинным музейным залам, я радовалась, что успела изучить его до первой мировой войны; обрадовалась и сейчас, стоя перед копией того настоящего подлинника, знакомца моего с первого десятилетия нашего века, — обрадовалась, что могу сравнить и даже кое-что подсказать. Франкфуртский этот дом был превращен в пепел 22 марта 1944 года, ровно (день в день) в сто двенадцатую годовщину смерти самого Гёте, — и что именно подсказать восстановителям, нашлось в первую же секунду: не было перед копией крытого крылечка, той типичной пристройки XVIII века, где играла детвора и осуществлялась связь жильцов дома с улицей, с соседями. Знаменитое крылечко, описанное в «Поэзии и правде», не могло быть, по-видимому, восстановлено из планировочных соображений: подобно тому как двести лет назад сама улица (население ее) испытывала потребность в таких верандочках для добрососедского общенья, сейчас та же улица потребовала снятия их, чтобы не мешать движению по тротуарам.
По уже в самом доме я забыла свое честолюбивое желанье напоминать гиду о том, что было и чего сейчас нет. Меня захватил интерес к тому, что нового внесли устроители в самый показ дома, на чем поставили свой главный акцент.
Веймар — культурнейший музейный центр в ГДР — совершил огромную работу, повернув внимание посетителей через прошлое — к будущему, он поставил акцент на тех прогрессивных началах творчества Гёте (и других веймарцев позапрошлого и прошлого века), которые свежо и поучительно перекликнулись с социалистической современностью. Но западногерманский Франкфурт акцептировал как раз домашнее, мелкобуржуазное, бюргерское бытие Гёте в доме его родителей, обратив вниманье гётеанцев не на социальное развитие его поэзии, не на бунтарский разрыв с банкирским домом Лили Шёнеман и революционный пафос Эгмонта и Клавиго, а на Гёте, безумно веселящегося в обществе Шёнеманов, на Гёте, совершающего церковные обряды, на Гёте, который в своей статье о Фальконе советует художнику исходить из интимного домашнего начала жизни и оттуда, изнутри, — расширяться на весь мир. Иначе говоря, если восточная соседка показывает через прошлое — будущее, западный ее сосед, с не меньшим блеском и трудолюбием, показывает через свое настоящее — прошлое.
Любя извлечь новое для себя, поучиться — ото всего и всюду, я извлекла много нового, забытого или вовсе еще не знаемого, даже из этой копии родительского дома Гёте. Правда, он как-то оставляет холодным посетителя. Рабочая горенка Гёте наверху, где он писал «Эгмонта», была полвека назад еще вся как бы теплая от гениального присутствия ее хозяина эпохи «Штурма унд Дранга» (бури и натиска). Все волновало в ней: лодочка-чернильница, скрипучие половицы, удобный свет из окна, подлинность. А сейчас половицы есть, но они не скрипят, свет так же удобен, но он озаряет новешенькую лодку-чернильницу — копию; и нет теплоты того, кто работал в ней, распахнув небрежную, смятую рубашку на груди и не пригладив растрепанных локонов. Однако же многое дает вам посещение и этого дома, прежде всего — интересные сведения о том, что уцелело после бомб и было извлечено из хаоса, например чугунные перила лестницы с инициалами в них отца и матери Гёте, железная балка-подпора и прочее, особенно и;о было мне интересно нее, что собрано тут о сестре Гёте, Корнелии, об ее дочери Лулу.
Много биографов отрицательно писали о музыкальном слухе Гёте, вообще о незначительности роли музыки в его жизни. А здесь в доме очень подробно, очень широко показана музыкальная комната с ее музыкальной жизнью в родительском доме Гёте, о проводившихся в ней концертных вечерах, об игре Корнелии на рояле и, наконец, — интереснейший факт, или забытый, или почему-то упущенный многими биографами, что сам Гёте играл на виолончели. Нельзя не отдать должное устроителям и в той восстановленной комнате дома, которую звали «комнаткой камина». Правда, опа закрыта для посещенья, но каталог вознаграждает посетителя рассказом о том, что в ней находится. Эта маленькая «адвокатская канцелярия» в первом этаже служила молодому адвокату (Anwalt — звание и профессия Гёте после окончания им юридических занятий в Лейпцигском университете и практики в Ветцларе) для приема своих клиентов и подготовки их процессов на суде. Часто упоминается в биографиях Гёте, как он тушил пожар в еврейском квартале, но почти ничего и нигде не упоминалось подробно об адвокатской деятельности молодого Гёте перед его отъездом в Веймар. Стремленье акцентировать бюргерское начало Гёте и детально проследить его связь с родным городом здесь принесло устроителям музея свои плоды. Гёте как адвокат, оказывается, был очень популярен во Франкфурте, он был уважаем и ценим и в том еврейском квартале, который спасал от пожара. Среди его клиентов, которым он помогал вести дела и вел их процессы в качестве защитника на суде, были учитель Самуил Мейер и бюргерша Рахиль Аарон Ветцлар с ее приказчиком, возбудившие дело против «Католической церкви немецкого государства». Гёте участвовал и во многих других интересных процессах эпохи его молодости, что само по себе могло бы стать темой для франкфуртской главы его биографии…
Гёте продолжал быть с нами и во время обеда. Мы зашли в великолепный итальянский ресторан с его традицией — выносить лучшие свои изделия на прилавок, чтоб гости их сразу видели и осязали. Во времена Гёте, да и полвека еще назад, таких ресторанчиков во Франкфурте, где пеклись бы настоящие пицы, сворачивались раволини с фаршем, ставился на стол тертый пармезан для спагетти и подавались толстенькие бутылочки дешевого кианти в их соломенных одежках, — еще и в помине не было. Гёте, страстно тосковавший по Италии, по-детски обрадовался в Мюнхене, на пути к ней, увидав первую улыбку юга — уличную торговку с корзиной итальянских фиг. А сейчас итальянская кулинария завоевала всю Европу и на каждом шагу встречает вас — даже в «туманном Альбионе». Знаменитое венецианское стекло «Мурано» вы можете купить в кёльнском универмаге, а полученный в подарок яркий, праздничный альбом «Бетховен», если разберетесь в немецком петите на его последних страницах, был отпечатан в Вероне издательством Мондадори…
Ровно в четыре часа нам предстояло побывать в Обществе, куда мы были приглашены. Общество это «fördert» (немецкий глагол «fördern» трудно переводим, лучше всего передать его словами «работает на» или «считает необходимым») культурное ознакомление и сближение между Западной Германией и Советским Союзом. Мне рассказали о нем много интересного. Члены его — люди думающие, крупные ученые, журналисты, коммерсанты, педагоги; во главе — директор «Макс-Планковского института биофизики», профессор Борис Раевский. Но фактически руководит им пастор Мохальски, хозяин небольшого издательства «Голос» («Stimme»). Помещается Общество в самом издательстве, одновременно и квартире пастора Мохальски.
Видимо, и Александра еще ни разу не была там. Ведя меня в наступившей ранней темноте по Финкенхофштрассе, она внимательно разглядывала номера домов, остановилась перед номером четыре и нажала кнопку. Нам открыл сам хозяин, крупный, большелобый и круглолицый человек с напряженными глазами. Тут же, прямо из передней, был его кабинет, с письменным столом в одном углу (заваленным и заставленным пачками книг, готовых к отправке) и с чайным столиком в другом углу, где аппетитно разместились тарелочки со всевозможным угощеньем.
Пока мы рассаживались, подошли другие участники собранья, несколько женщин и мужчин. Одна из черт, облегчающих наше общение с западными немцами, это несомненный интерес, с которым они к нам относятся. За все пятнадцать дней моего пребыванья в ФРГ и постоянных живых соприкосновений с ее жителями я ни разу и ни от кого не встретила недружелюбия. Но тут, во Франкфурте, передо мной был не мюнхенский рождественский вечер. Передо мной сидели хорошо подготовленные, широкообразованные люди. Многие из них побывали в нашем Союзе, и не в одной только Москве. Сам пастор Мохальски был у нас трижды. И разговор начали они сами, при этом с самого неожиданного вопроса: как я писала свою Лениниану и довелось ли мне лично встречаться с Лениным?
В музыкальном словаре есть слово «ключ», имеющее в музыке свое особое употребление; ключом в стандартном смысле мы отпираем дверь; ключ в музыкальном смысле ставится перед произведением, определяя тон и настрой, в каком оно будет вестись. Вопрос, заданный мне с самого начала, сразу выполнил оба своих действия: он и дверь распахнул между нами, и придал разговору определенное, глубокое течение. Такого вопроса я, признаться, совсем не ожидала; и начала отвечать так, как сделала бы у себя дома. Сперва — как и почему пришла к теме. На меня смотрели очень интеллигентные лица. Видно было, что спрашивают не формально, выполняя «мероприятие», а им действительно интересно поговорить на эту тему. И люди были из другого, нежели наш, мира, может быть, верующие, — ведь возглавлял их пастор. Но пастор в Германии — начало особого, протестантского духа культуры, пастор — это отделение церкви от государства, и если подменить здесь слово «церковь» словом «идеология», то раскрылось бы русло совсем особого общения, где идеологию можно было, отделив от государственности, трактовать в широком плане философского, неофициального типа. Что это значит, я попытаюсь сейчас объяснить читателю, поскольку и это ведь входит в работу пропаганды, как я ее для себя понимаю.
Вступив в Октябрьскую революцию почти тридцати лет от роду и будучи уже вполне сложившейся духовно, я была человеком старого мира, — и с этого надо было начинать ответ на первый вопрос, потому что это должно было быть им сразу и полностью попятно. Если меня, человека старого мира, захватило мгновенно явление Ленина, — первоначальным, всемирно видимым действием этого явления — первыми декретами, которыми начиналось новое общество на земле, — о мире, прекращающем войну; о земле, возвращаемой ее труженику — земледельцу; о национализации машин, средств производства, дорог, банков — делающих «всем» того человека, кто был «никем», как пелось в новом гимне, «Интернационале», — то почему это могло захватить меня, какие стороны моей души и характера рванулись навстречу этим декретам? Ведь сама я пс была ни труженицей на земле, ни работницей у стайка, ни солдатом, измученным на воине. Но я была звеном того огромного социального движения к правде и справедливости, того направления совести, той проникнутости этикой, какими много десятков лет была насыщена классическая русская литература, воспитательница русской интеллигенции. Когда я начала свой рассказ еще в тумане собственных поисков, а только с желаньем быть искренней, мне больше для себя, чем для слушателей, захотелось в четких, ясных контурах показать путь нашей великой литературы, се роль в освобождении крестьян от крепостного рабства, в просвещении народа, в пробуждении революционного духа в народе. И восприятие Ленина стало актом этической, нравственной необходимости для меня. Блестевшие глаза моего соседа справа, умного собеседника, вошедшего в ключ беседы, Вернера Ясперта, показали мне, что начинать надо было именно так и русло для общения намечено. На второй вопрос, видела ли я Ленина живого, я ответила: нет, но и апостол Павел не видел живого Христа…
Это было сказано шутливо и воспринято как шутка, — и Вернер Ясперт задал новый вопрос: когда же апостол Павел из эллина Савла превратился в философа-проповедника Павла?
И дальше пошел разговор о первой мировой войне, о выступлении пораженцев, о том, как поражение старого мира может служить рождению нового, а победа — только укреплению этого реакционного старого. Если я привожу более или менее точно это начало очень глубокой, очень интересной для обеих сторон беседы в обществе людей, искренне желавших попять советского человека и расположенных к повой, советской действительности, — то потому, что стою за самые разнообразные формы и методы нашего общения со старым Западом. Форма этого общения должна быть гибкой, но всегда — искренней. В этом ее КПД — коэффициент полезного действия. До сих пор не знаю, кто был Верпер Ясперт, кроме того, что он побывал в Ленинграде в 1964 году и поделился своими впечатлениями в книге, написанной участниками этой поездки. Но знаю, что мы встретимся друзьями, если вообще встретимся, — хотя бы он был далек от коммунизма.
На прощанье Мохальски поблагодарил за беседу, «давшую им много нового», как он выразился. Его напряженные глаза в этот вечер постепенно таяли и теряли свою Напряженность. Взяв со стола толстый том, отпечатанный çro издательством в 1967 году, — «Sowjet-Sibirien und Zentral Asien heute» («Советская Сибирь и Центральная Азия сегодня»), он подарил его мне, сказав, что я кое-что узнаю об их собственной деятельности на пользу сближения Западной Германии с Советским Союзом, если прочту эту книгу. И на ночь, когда наконец зажгла ночник у своей кровати, я действительно начала читать и зачиталась нашей Сибирью, показанной свежими глазами наблюдательных немцев.
2
Знаем ли мы сами дивные просторы нашей могучей Сибири, чувствуем ли ее колоссальный размер так, как пережили и запечатлели его в немецкой книге двадцать путешественников, приглашенных в январе 1967 года (в лице издательства «Голос») нашим, советским Комитетом защиты мира? Они пробыли у нас в гостях с 9 до 28 апреля, облетели Новосибирск, Иркутск, Братск, Байкал, Алма-Ату, Ташкент, Самарканд, Бухару и закончили этот богатырский облет в Москве, на совещании с советскими деятелями. Все это — особенно впечатленья от Академгородка в Новосибирске — было подробно передано авторами, с беседами, встречами, вопросами и ответами, — и при всей деловитости изложенья удивительно интересно в чтении.
Конечно, читая, не можешь не понимать разницы подхода к вещам у нас и у наших гостей. Когда пастор Мохальски в своей восторженной статье-очерке пишет о Новосибирске, что одна эта область Сибири включает в себя Англию, Голландию, Данию и Бельгию, вместе взятые, то нашему воображению это ничего не говорит: пространственные масштабы, поскольку мы меряем их всю нашу жизнь и привыкли к ним, на нас как-то не действуют. Когда он приводит цифры научных учреждений и ученых Новосибирска, это в порядке вещей, мы знаем их. Привычное не воспринимается дифференцированно, не дает ощущения качественной разницы между их восприятием и нашим. Но вот в выводе, в направлении внимания есть для нас эта разница. Маленький пример: в первый год Отечественной войны я остро почувствовала на Урале разницу поколений или, чтоб быть точной, не только ее, а новый тип молодого советского рабочего нового, подросшего поколения, когда один из передовых наших ударников, рабочий Дмитрий Босый, прервав разговор и взглянув на часы, сказал мне: «Пора лететь, поспеть на аэродром» — с простотой, как прежде сказал бы: «Пора домой». Меня тогда поразила простота и быстрота освоения нового вида транспорта, самолетного, у нашего рабочего класса, у молодежи, отцы которой где-нибудь в глухой деревне с благоговейным чувством взирали на «чугунку» с дымящим паровозом, увиденную ими впервые. Мне бросился в глаза маршрут, проделанный ростом сознания и привычек у рабочего в новых социальных условиях. Но для наших западных гостей то же самое явление измерилось не на масштаб человеческого роста, а на масштаб расстояний, воспринимаемый нашими людьми. Самолет из Иркутска в Братск [(«рукой подать — всего шестьсот километров, — а что такое шестьсот километров для Сибири!») из мерила роста сознания становится мерилом чувства расстояния. «Кажется, будто каждый здесь у себя дома: портфель в сетку — сел — вынул газету. Так оно в Сибири: расстояния не играют никакой роли, самолеты здесь — автобусы»[167].
Интересно и по-разному, в открытую, делятся двадцать западных путешественников своими мыслями о Сибири и о нас. Среди ученых и журналистов едет крупный промышленник, господин Курт Кёрбер, собственник так называемого Хауни-производства в Гамбурге, продукция которого была представлена в Москве на выставке. Для пего мы — рынок, и острыми глазами практика он подмечает все наши недостатки, с которыми борются и наши газеты, — и когда он их подмечает и описывает, ставя их рядом с явлениями огромного скачка Советской страны в области науки и техники, — становится стыдновато за себя. Богословы, тоже бывшие в группе путешественников и всюду главным образом искавшие встреч и бесед с представителями разных церквей, удивительным образом обпаруяшли пехватку того самого «отделения церкви от государства», какое отлично усвоили руководители церквей у нас, — по принципу «кесарево — кесарю, божие — богу». Им как будто все время хотелось встретить в ответах наших церковных пастырей залезаиие «божьей» оценкой в «кесареву» область, а когда этого не случалось, ответы казались им уклончивыми. Впрочем, ответы казались уклончивыми не только одним богословам, но и журналистке, Марион Дёнхофф.
Уклончивость воспринимается западными людьми, ждущими у нас ответов на вопросы, так же неверно, как неверно воспринимаем мы иногда эти западные вопросы. Они, их вопросы, кажутся нам каверзными, а им наши ответы — уклончивыми. Но, по-моему, в большинстве случаев ни там, ни тут нет ни каверзы, ни уклона. Когда вопросы касаются явлений, связанных с корневым существом нового строя, поворотом в области истории, или каких-либо искривлений, проистекших от нарушений главных, корневых принципов нашего общества, — ответ очень затруднен обилием объяснений, которые нужно начинать с Адама. Если ответишь близлежащим звеном явленья, последует новый вопрос о предыдущем звене, — и придется шаг за шагом поднимать целую сеть того сложного целого, которое можно назвать «социальной историей Октябрьского переворота на Руси и строительства в ней социализма». Уж не говоря о немыслимой протяженности такого ответа, под стать нашим сибирским расстояньям, — можно держать пари, что он или не будет понят, или опять-таки покажется уклончивым…
Вот почему надо держаться конкретно и быть всегда искренним и в вопросах и в ответах. Удивительно хорошо отвечал товарищ Палецкис в конце книги, когда западные гости собрались в Москве на заключительное совещание. И хорошо делает издательство «Голос» — нужную, умную работу, — издавая целую серию небольших брошюрок под названием «Ответы». Судя по проспекту, они касаются многого, что интересно для обеих знакомящихся друг с другом стран, Западной Германии и Советского Союза. Например: диалог между марксистом и христианином (он назван несколько иначе: «На пороге диалога между христианином и марксистом»). «Хозяйство, общество и демократия в Федеративной Республике», «Подъем и кризис немецкой социал-демократии», «Реформация за 100 лет до Лютера, — три речи, которые Ян Гус не смог произнести в Констанце» и т. д. — конечно, это не марксистские работы в нашем смысле слова, но они прогрессивны, критичны, информационны в объективном духе, проникнуты желанием обоюдного ознакомления.
Издательство «Голос» выпустило и превосходную книгу с четырьмястами пятьюдесятью документами из наших архивов об истории Ленинграда, с Октябрьского переворота, и до гражданского подвига ленинградцев во дни блокады… «Против своей воли даже враги оставили этому городу свидетельства его величия», — говорится об этой книге. Издательство собрало и напечатало очерки советских людей о ФРГ, книгу Валентина Бережкова (редактор «Нового времени») о дипломатической миссии к Гитлеру в Берлине 1940/41 года. Если помнить, какими острыми были взаимоотношения между ФРГ и нами все эти годы, то скромная работа пастора Мохальски, собирающего людей, настроенных просоветски, ведущего в этом духе издательскую работу, организующего поездки наших людей в ФРГ (герром Кёрбером предложена была даже стипендия для трех советских студентов в немецком университете и западных немцев в Советском Союзе), — эта скромная работа делает свой серьезный вклад в пользу мирного сосуществования.
Франкфурт-на-Майне
VII. «Старая Хейдельберг»
На немецком языке это она, женского рода. Гора Хейдель. И в старинной песенке о пей поется:
Alt Heidelberg, du feine. Du Sladt an Ehren reich, —что в переводе звучит почти нежно: «Старая Хейдельберг, ты тонкая, ты город, богатый почестями…» Утром, раздвинув шторы, я впустила в мой франкфуртский помер яркий солнечный свет. Как и в Мюнхене перед прогулкой, нас с Александрой ожидал сегодня необыкновенный день, на этот раз без снега, нагретый солнцем, без единого облачка, — для поездки, которой я ждала с очень большим волненьем, почти со страхом. Если существуют романтические «города моей молодости», то Гейдельберг был именно таким «городом моей молодости», поворотным пунктом почти в середине всей прожигой жизни, после которого эта жизнь, преломившись, пошла в другую — новую сторону. Пятьдесят шесть лет назад, закончив в Москве Высшие женские курсы, заменявшие женщинам университет, куда еще доступа нам не было, — я была направлена, по совету моего профессора Николая Дмитриевича Виноградова, в достославный город Гейдельберг, писать магистерскую диссертацию. Кончила я историко-философский факультет, и тема моей диссертации была историко-философская. А ее консультантом и руководителем в Гейдельберге должен был стать католический профессор Трёльч, один из известнейших тогда в Европе богословов.
Я приехала задолго до начала занятий, в летние каникулы. Помню мрачноватый холл и канцелярию старого университетского здания; и первую беседу с Трёльчем перед его летним отпуском. Он признался, что знает о теме моей диссертации ровным счетом не больше, чем знаю я сама. Но он заинтересовался ею, посмеялся, а потом, став серьезным, сказал, что, конечно, сделает все возможное, и огромная библиотека в моем распоряжении, и поможет покопаться в архивах… Тема действительно оказалась уникальной, и бедный Николай Дмитриевич, выудив ее из старого немецко-философского словаря, не подозревал, какую дьявольскую услугу мне оказал. Называлась она по-русски «Якоб Фрошаммер, философ мировой фантазии». А фундаментальный труд этого философа, который надлежало изучить и подвергнуть критике, — «Фантазия как принцип, лежащий в основе мира» — «Die Phantasie als Weltprinzip».
Философы-идеалисты для построения своих систем уже разобрали до него все приличные, идущие к делу принципы — субъективное Я с большой буквы, пантеистический Объект, Природу, Мировой Разум, Абсолют, — все с больших букв. А тут появился еще один немец, желавший создать систему, и ему, на его долю досталась последняя вещь с большой буквы, явно второстепенная, — Фантазия. Якоб Фрошаммер имел только двух учеников-последователей, написавших о нем — каждый — по жидкой брошюре, которые я уже имела на руках. И больше никаких исследователей Якоба Фрошаммера как будто не существовало. Я была третья. И диссертация моя — читатель, пишущий диссертации, сам может себе представить, какими сверхчеловеческими силами должна была я обладать, чтоб найти для нее «научные источники». До сих пор иногда спится опа мне, выуженная из книги Фрошаммера, где, казалось мне, были им разобраны все существующие в мире типы, роды и виды фантазии — объективные, субъективные, теоретические, практические, покоящиеся и не покоящиеся на реальных основах, — вот только еще не было в ней главы о нашей советской научной фантастике. Она спится мне укоризненная, без начала и конца, как невыполненный, невыплаченный долг…
Поскольку до окончанья каникул в те давние времена у меня оставалось время, я решила потратить его на пешеходное паломничество в Веймар, через города Лорш, Вормс, Франкфурт-на-Майне. И сейчас, из Франкфурта-па-Майне, мы с Александрой выехали в хорошем автомобиле по той самой Бергштрассе, по которой я свыше полвека назад шла сюда пешочком, с рюкзаком за плечами. Странно было снова оказаться в начале жизни, пройдя почти уже весь ее круг. Невольно думалось о самых неподходящих вещах, самых неожиданных цитатах:
…Настанет день, Когда все эти чудные виденья, И храмы, и роскошные дворцы, И тучами увенчанные башни, И самый наш великий шар земной Со всем, что в нем находится поныне, Исчезнет все, следа не оставляя. Из вещества того же, как и сон, Мы созданы. И жизнь на сон похожа, И наша жизнь лишь сном окружена…[168]И даже в голову забегала мысль о том, что Фрошаммер — но мог ли он оказаться не таким уж пустым местом в истории философии и не перечитать ли мне его сейчас снова, свежими глазами умудренной старости?
А местность вокруг постепенно повышалась, — и время как будто вместе с дорогой, вместе с той странной мною самой, шло назад, шло мне навстречу, девочкой, совершавшей свой путь оттуда сюда, пока я старухой ехала отсюда — туда. Знакомые названия бежали навстречу в обратном порядке — Лорш, Хеппенхейм… Очень ли все это изменилось? Кажется, совсем не изменилось. Книжка моя «Путешествие в Веймар», напечатанная уже в советское время нашим Государственным издательством — в 1923 году, — передает чувство пешехода, природу вокруг, дурманящий от летних испарений и выхоленной зелени влажный воздух долины Неккара, скрип красного песочка под ногами, когда я свернула с шоссе на красивую садовую дорожку гостиницы в Хеппепхейме, — передает все совершенно так, как и сейчас я занесла бы все это в дневник, если б шла, а не проносилась мимо.
Уже показались первые жилые домики Гейдельберга, встал на горизонте его тяжелый профиль — могучие контуры замка на горе, глядевшиеся в зеленый Неккар. Во франкфуртской моей программе стояло: «Среда, 23 декабря. И ч. 30 м. Приветствие, произнесенное ректором Гейдельбергского университета, проф. докт. Рольфом Рендтоффом в ректорате старого университета». С безошибочной точностью выполняя программу, мы ровно в одиннадцать тридцать подъехали к старому зданию университета. И я сразу узнала его. Узнала холл, отполированный временем. Навстречу нам выступила группа мужчин, с такой же безошибочной точностью во времени, с какой машина подкатила к дверям.
С 1914 года прошли две мировые войны. Но среди разрушений второй мировой войны, уничтожившей много старинных немецких городов, Гейдельберг остался нетронутым. Его редчайшая красота — предмет восхищения туристов всего света — все еще искрилась, как алмаз, в зеленой оправе Неккара; его узкие улички с готическими нишами, где лепилась средневековая религиозная скульптура, и старомоднейшими названиями кондитерских и студенческих пивнушек, его знаменитый карлик Перкео, стоявший в размалеванном кафтанчике возле огромнейшей бочки («самой большой в мире») в подвале замка, и эта спиральная аллея вверх, на гору, к замку, «только для пешеходов», — все, все, как запомнилось мне, — стояло полвека назад и стоит сейчас, словно погруженное в сказочный сон десятилетий и пробудившееся полминуты назад. Даже каталоги, даже песенки, даже характер сувениров в витринах табачных лавочек. Но к старому зданию университета был пристроен сбоку его новый корпус. Мы, однако, в него не пошли. Встреча была устроена в старом корпусе, и университетская жизнь, по-видимому, протекала главным образом в тех «аулах», в каких опа текла раньше.
Полвека назад Гейдельберг славился своей теологической кафедрой, с которой прекрасно уживался рядышком идеалист Виндельбанд. За эти годы здесь развился и выявился философский талант Карла Ясперса, одного из основоположников архимодной философии экзистенциализма, — и католический оттенок гейдельбергской «аулы», видимо, ничуть его не оттолкнул. Ясперс, правда, не остался в Западной Германии, он покинул ее для Швейцарии, где и умер недавно, однако Гейдельбергский университет был ему дорог по воспоминаньям. Здесь выковывались большие ученые, не только гуманитарных, но и точных наук. Сюда издавна приезжали учиться русские студенты, их было всегда много в Гейдельберге, и моя хозяйка тогдашняя, фрау Барт, из своих шести узких, как склепы, комнат — пять сдавала «руссишен херршафтен», от которых была без ума. Но так было пятьдесят шесть лет назад. С тех пор прошли две мировые войны, совершилась Великая Октябрьская революция, сама Германия разделилась, — отразилось ли все это на старой католической alma mater?
Приветствовавший меня молодой серьезный человек в очках, ректор университета, доктор Рольф Рендтофф, оказался по специальности богословом, как и мой старый профессор Трёльч. Мы поднялись всей группой по лестнице в кабинет ректора, расселись за круглый стол. Хорошенькая высокая немка обнесла нас подносом с бокалами золотистого вина, и вначале все, как полагалось, было сугубо официально. Опять встала передо мной, как во Франкфурте, увлекательная задача «разбить лед», пробиться к живому ощущенью собеседника человеком, с его припрятанным в укромном месте, защищенным официальщиной собственным «я». Но если во Франкфурте встретил меня дух немецкого протестантизма с его здоровым и практичным «здравым смыслом», здесь атмосфера была другая. Ворваться в нее и прорвать ее, как облачное небо, мог только юмор, всегда очень доступный эстетическому снобизму католиков. И разговор наш вспыхнул юмором — от натуральной необходимости рассказать, что привело меня свыше полвека назад в их ученую среду.
Неведомый Якоб Фрошаммер сам по себе казался чудным примером для юмора. Его и сейчас тут решительно никто не знал. Поскольку два его ученика, несомненно, уже умерли, я осталась одна на свете — специалисткой но таинственному Фрошаммеру, истолковательницей его теории, — в мире, который показал себя за истекшие десятилетия достаточно фантастичным, — и среди ученого синклита веселый смех встретил тему моей несостоявшейся диссертации. Лед был сломан. Тут мне вспомнились студенческие мои причуды, — их нынче, подражая английскому, назвали бы «хобби». Было у меня такое хобби, деятельно проявлявшееся долгими вечерами в библиотеке Румянцевского музея. Там я, в эпоху подготовки к сдаче экзамена по латыни, необходимого для обучения в старой высшей школе, — вдруг вместо классики увлеклась средневековой латынью. Я увлеклась ее облегченным, поэтическим звучаньем, ее приближеньем к итальянскому, ее «coeli coelorum», небом небес, — в исповеди Августина Блаженного, и целые тетрадки потратила на переписку средневекового «Жития святых» — «Acta Sanctorum», — неизвестно, для какой надобности. Но сейчас эта моя юношеская странность вдруг пригодилась, чтоб сообщить о своем бывшем хобби католическому ректору и тем примирить его с моей особой.
А во время застольной беседы, слева от меня, сидел седовласый, угрюмый старик с большим портфелем наготове. Это был старик не простой — русский эмигрант, профессор Чижевский. На вопрос, родня ли он покойному советскому ученому Чижевскому, автору интересной книги «Солнце и мы», он отрывисто ответил, что тот был сумасшедший, и вообще, подобно Ломброзо, обозвал всех значительных людей сумасшедшими (по-немецки это образнее звучит — verrückt, передвинутый), а когда я ему напомнила Ломброзо, энергично причислил к сумасшедшим и самого Ломброзо. Так вот этот старый филолог вытащил из портфеля первое издание моей «Orientalia» 1911 года, и объявил, что приобрел его в здешнем букинистическом магазине за три марки. Как я пожалела, что у меня не было времени порыться у букинистов! Ведь этого редкого издания с обложкой работы покойного художника Якулова у меня нет у самой.
Выяснилось, что среди присутствующих, кроме Чижевского, многие говорят по-русски. Прекрасно, как культурный русский интеллигент, говорил по-русски высокий, элегантный балтийский немец, Анатоль Алитан, — директор Института переводчиков при русском отделении Гейдельбергского университета, к тому же еще и вице-президент Общества всех преподающих русский язык в странах западного мира. Знал, кажется, наш язык и француз но происхождению, ученый-славист, издавший большой труд по антропонимии у гуцулов, Андрэ дё Венсан. Но беседа наша, с начала и до конца, все же велась по-немецки, — хотя бы еще и потому, что с нами сидела Александра, ни слова по-русски не понимавшая, но импонировавшая всем присутствовавшим своим герцогством. В кабинете ректората мы только как бы нащупали друг друга, совершили некую нужную «преамбулу» к предстоящему разговору. Когда же, шутя и смеясь, мы простились и ректор-богослов проводил нас по лестнице до самого выхода, почти все остальные вышли вместе с нами, чтоб продолжить беседу уже в кафе-кондитерской, расположенной неподалеку…
С каким внутренним удовлетворением вспоминала я, засыпая во Франкфурте, вчерашнюю беседу у пастора Мохальски! Но вот прошел день, солнечный и блистательный, один из самых лично счастливых (точнее, лично приятных) для меня дней в моей жизни, и, ложась спать в том же франкфуртском номере, я не чувствую удовлетворенья. Гейдельберг был прекрасен, был «славен почестью», как полвека или тысячу лет назад. Встреча была лестной, гостеприимной. Очень хорошо все прошло в кафе, где, вероятно, много раз гейдельбергские ученые встречали приезжих гостей. И позднее — обед, который мы с Александрой дали доктору Алитану в ресторане «Ritter», «Рыцарь», может быть стариннейшем и знаменитейшем во всей Германии. А все же червячок грусти, червячок неудовлетворения сосал меня перед сном после этого долгожданного, любимого Гейдельберга… Почему?
В моей программе (я называла ее про себя curriculum vitae) насчет встречи в кафе стояло: «12.00–13.00 часов. Встречи с дамами и господами русского отделения Института переводчиков Гейдельбергского университета. Приветственная речь руководителя русского отделения, господина доктора Алитана». Конечно, эти военные «ноль-ноль» были нами нарушены в сторону удлинения времени и в кабинете старого ректората, и в студенческом кафе, потому что беседа велась живая, веселая, с забвением времени. Беседа и там и тут состоялась. Но — за вычетом бесспорного снятия официальщины и сопутствующего ей напряжения — состоялась ли встреча, та встреча, в полном смысле этого слова, когда две стороны, идущие друг к другу, соприкасаются в контакте (хотя бы простой естественной любознательности!) и, расходясь, уносят с собой что-то новое — привесок знания, ознакомленья, взаимного обогащенья, — созданное происшедшей встречей-контактом? С горечью я призналась себе, что такой встречи не состоялось. Но если не состоялось, возник вопрос: почему — и что же это была за беседа, заставившая даже время забыть?
Кафе, куда мы вошли, было полно обеденного народу, шумно сидевшего за тесными столиками. Мы прошли мимо них и поднялись по внутренней лестнице на узкую площадку, где был накрыт длинный стол, нарезан немецкий кекс, а в сахарнице лежал сахар в бумажках, на которых, рядом с числами и месяцами, напечатаны были, для раз-влеченья присутствующих, соответствующие числам гороскопы. За столом уже сидели члены Института переводчиков («Dolmetscher-Institut» — по-немецки), поджидавшие пас. Мы расселись, и деловитая девушка по-домашнему разнесла чашки с кофе. К приятной неожиданности моей, среди молодежи оказались муж и жена Михайловы, чистейшие ленинградцы, живущие сейчас в Гейдельберге в качестве помощников (или консультантов) для тех, кто обучается переводу с немецкого языка на русский. Оказалось, что русское отделение института, в частности, располагает и нашими журналами, и нашими книгами, в том числе даже и старым шеститомником моего собрания, и даже — что вовсе было неожиданно — статью мою «О природе времени у Гегеля» читали. Но ни слова не было спрошено о нашей жизни, наших писателях, о наших литературных проблемах, ни слова не спросила и я о том, что́ переводится и чему помогают переводиться ленинградцы Михайловы. Казалось, это было вынесено за скобку интересов той и другой стороны, и если что и было обоюдным в непринужденности нашей беседы, так это именно «безмолвие» о главном. Оно, как вата, окружало наши речи, и оно ватой стояло в мозгу, окутывая две человеческие потребности: внимание и любознательность. Не знаю, как это случилось, но из нашей веселой, живой застольной беседы, длившейся дольше положенных «ноль-ноль» времени, я не могла вечером припомнить ни единого слова. Беседа состоялась, она была приятна, она заняла время, но опа была — никакая.
Профессор Чпжевскпй был с нами и в кафе. Как я узнала, он очень известный славист, издатель «Славянских Пропилей», печатающихся в Мюнхене, в издательстве Вильгельма Финка. Из своего необъятного портфеля оп, — видимо, чуть смягчившись в отношении меня, — вынул несколько своих опусов и проспекты книг, вышедших (и выходящих) в серии «Славянские языки и литературы. Восточная история», и подарил их мне, расписавшись на них по-русски: «Дмитрий Чижевский». Вечером я залпом их прочитала. Надо сказать правду — хорошим немецким языком, с лаконизмом, исчерпывающим предмет, он познакомил меня со стилем «барокко» в поэзии, и это было ново, поскольку барокко я всегда воспринимала лишь в области искусств пластических. Его статьи: «Основное о славянской поэзии барокко» («Grundsätzliches zur slavischen Barockodichtung»), напечатанная в трудах VI Интернационального конгресса в Праге в 1968 году; и особенно «Вне Прекрасного. Внеэстетические элементы в славянской поэзии барокко», того же года, из сборника «Поэтика и герменевтика III», — поражают таким конкретным определением особенностей барокко, что перед глазами тотчас же, во время чтения, проходят сильные, резкие, исполненные движенья и жестикуляции, статуи святых на старом карловопражском мосту, кажущиеся вам живыми и действующими. И вот в этом резком стиле, выходящем за рамки эстетики, за рамки красоты, имеются стихотворные произведения славянских поэтов, в истории литературы именуемые «барочными». Статья мне напомнила нашего Бахтина с его яркой книгой о Рабле… И эта статья могла бы прекрасно быть напечатана и у нас.
Но вот другой опус — и другое, очень тягостное ощущение: исторической ошибки. Не литературной. Ошибки жизненной, ошибки выбранной человеком позиции в том творении своей судьбы, которое выпадает каждому из нас на долю и о котором поэт Виктор Гончаров хорошо сказал в своем тосте на новый, 1971 год:
За лучшее Судьботворенье!В какой-то переломный, от нас не зависящий момент истории мы сами избираем свою судьбу — точку, за которой пойдет дальше развиваться творение нами нашей биографии в выбранном направлении. Профессор Чижевский, теоретик литературы, выбрал дорогу так называемого «формализма», примата формы над содержанием в создании литературы и в ее критическом исследовании. Он отлично знает молодое русское течение двадцатых годов, получившее названье формалистского. Он знает его бывших носителей, знает развитие наиболее ярких из них, например «блестящего Шкловского», из абстрактной формалистики пришедшего к сочному жизненному портрету книги о Льве Толстом, знает и худосочный конец тех, кто остался на позиции голого формализма. Он и сам в упомянутых выше статьях о барочной поэзии наполняет свое исследование историческими моментами, связывает (быть может, невольно) жест и антиэстетичность форм барокко с голосом действительности своего времени, давая пробиться роли содержанья в становлении формы… Но тем не менее — он на старой безжизненной позиции голого формализма. Когда вышла книга некоего Виктора Эрлиха — сперва на английском, потом на немецком языке — о формализме, — Чижевский пишет статью «Возрождение формализма? В каком роде?» — статью не столько вопросительную, сколько апологетическую по адресу русского формализма двадцатых годов в критике и в литературе. Именно в этой статье развитие и рост Шкловского он считает упадком, в этой статье он мыслит нашу советскую литературу как бы «несуществующей», признавая в ней только те элементы, что растут от эпохи символизма и модернизма.
Разворачиваю после опусов Чижевского проспект мюнхенского издательства. Рядом с публикацией старославянских текстов в ней встречают вас полным букетом имена, украшающие современные американские (и всякие иные) антисоветские издательства. Если что ново в этом проспекте — и даже приятно, — это внимание к нашей литературе двадцатых годов, первых окрыленных лет революции, — во всей свежести ее восприятия мира, ее споров, ее неокрепших, ищущих, наивных направлений. Этот раздел похож на русло далеких, отглаженных временем, как морские камушки, воспоминаний пережитого… Но и тут выбор издателя падает не на первые настоящие книги советской литературы, книги Малышкина, Гладкова, Сейфуллиной, Серафимовича, — а на вещи, повернутые лицом к прошлому. В облике профессора Чижевского почудилось мне большое человеческое одиночество. Я тихонько спросила у одного из наших собеседников, есть ли у Чижевского жена и где, если есть. Мне ответили: в Америке. Одиночество, когда утрачена Родина…
Чижевский был только одной стороной моих мыслей о Гейдельберге, стороной, с которой мы могли бы сообщиться, но не сообщились. Не произошло у меня контакта и с тем, что я очень уважала и ценила в «старой, тонкой Хейдельберг», — с тем, к чему я очень тянулась за время, проведенное в ФРГ, — с Гейдельбергским университетом. Естественным содержанием нашей беседы в ректорате был бы вопрос: что нового делается в университете? На какой кафедре есть выдающиеся ученые, что они делают? Знают ли они, — вот это самое важное, — какой необыкновенно бурный рост происходит по соседству, рядом, в ГДР, у родного им по крови народа, — в высшей школе и в народном образовании? Школьная революция, упразднение старого типа факультетов, работа студентов еще со студенческой скамьи — в производствах, единство профилей в университетах и на главных предприятиях одного города, участие студентов в городском управлении, на правительственных совещаниях, живые, нужные школьные работы и диссертации, переходящие сразу же, если они того заслуживают, из тетрадей — в рабочие цехи, — как смотрят на все это в Федеративной Республике? Но говорить об этом в старой атмосфере тысячелетнего университета, как в седых каменных, покрытых зеленью мхов стенах Кембриджа или Оксфорда, — было бы бестактным. И бестактным казалось для молодых профессоров Гейдельберга спрашивать, как эллин Савл превратился в Павла, — вопрос, с естественной простотой заданный мне и чистосердечно отвеченный мною на встрече у пастора Мохальски.
Гейдельберг
VIII. Краткий эпилог
В первые дни моей жизни в Бонне, ранним утром, служащие Тюльпанного отеля вдруг выкатили на улицу красную ковровую дорожку и протянули ее во всю длину до дверей гостиницы. Появилась кучка полицейских, занявших боковые пространства. Замаячили за ними журналисты с фотоаппаратами. Это приехал в отель король Иордании Гусейн, смуглый человек, известный на Западе не столько том, что он король, сколько своим, как говорят, несметным богатством. Все время его пребывания в Бонне полицию била «охранная лихорадка»: власти боялись демонстрации, особенно студенческой, ожидавшейся на воскресенье.
Но вот воскресенье прошло, и я спросила у моего гида-водителя, Фалька фон Брауна: а как демонстрация? «Была, — ответил мой гид-шофер, — состоялась на Кайзерплац, как обещали. Хотите, поглядим? Глядеть-то хотя уже нечего!»
Однако глядеть было чего. Кайзерплац, Царская площадь, в это хмурое зимнее утро казалась пустынной, ветер ворошил и пес над ней кучу каких-то разорванных бумажек. Одна уцелела. Она еще не была содрана с тяжелой, обклеенной двери университета. Это был большой плакат, отпечатанный, как официальное объявление, обычным канцелярским слогом, с огромным портретом короля Гусейна, уже приглядевшимся за эти дни с первых страниц газет:
ИЩУТ НЕКОЕГО ГУСЕЙНА, КОРОЛЯ ИОРДАНИИ, ОБВИНЯЕМОГО В УБИЙСТВЕ 30 000 АРАБОВ.
НАШЕДШЕГО ИЛИ ДАВШЕГО О НЕМ СВЕДЕНИЯ…
(И т. д., все как в обычных полицейских объявлениях.)
Спутник мой, глядевший на объявление довольно равнодушно, объяснил: «У нас в Бонне учатся шесть тысяч арабов-студентов, это они устроили демонстрацию».
Так я заглянула в кусочек внутренней жизни столицы ФРГ. Это был, правда, очень маленький кусочек, но зато характерный. В немецком университете немецкой республики волнуются студенты, печатают листовки, плакаты, выходят на площадь, — картина довольно привычная в западных городах; но только студенты эти — не немцы, а арабы. В Бонне сейчас около трехсот тысяч взрослого населения. В 1950 году, когда Бонн был «избран» столицей, их насчитывалось всего сто восемьдесят тысяч. Прирост создался за счет приезжих, новых, не рейнских людей, из них шестьдесят пять тысяч — служащие, дипломаты, журналисты, связанные с новым постом города Бони, как выбранной столицы. В последнем по времени издании описанья Рейнлянда (Рейнской страны) рассказывается о курьезном факте выборов столицы. Парламент Федеративной Республики стал местом чисто парламентской борьбы: в столицы республики был предложен большой, шумный, коммерческий Франкфурт-на-Майне, но при подсчете голосов оказалось, что за Франкфурт было подано двадцать девять голосов, а за Бонн на четыре голоса больше — тридцать три. Спустя некоторое время Социал-демократическая партия Германии возобновила вопрос, но выборы опять дали большинство Бонну. Таким образом, — небывалый факт в истории столиц — нейтральное место в республике возникло не органически, не на фундаменте народной истории, экономики, культуры, международного рынка, скрещивания торговых путей, — а как в своем рода президентский пост, путем парламентских выборов. И вот рядом со своим званием Бонн получил странное, сомнительное, подвижное определение, напечатанное курсивом в цитируемом мною справочнике: «Vorläufige Bundesstadt»[169] — в переводе «Предварительная» (или «пока», на «данное время», но смыслу — временная) столица федерации.
Если сами западные немцы называют так свой милый и (в исторической части) маленький город на Рейне, то заезжему гостю-иностранцу позволительно отнести свои разрозненные впечатления к этой «предварительности». Да простят мне мои западногерманские друзья и гостеприимные хозяева, если я откровенно поделюсь некоторыми из этих впечатлений. Побывав в марте прошлого года, по соседству, в ГДР, на Лейпцигской ярмарке, и объехав города ГДР, я ни разу не почувствовала в ГДР разрозненности или неорганичности того государственного целого, где провела почти месяц. Мне все время казалось, что я приехала в продолжение старой Германии XIX века, когда-то восхитившей мадам де Сталь; Германии — философской, баховской, гегелевской, гётеанской культуры, университетской кузницы многих и многих русских ученых, — но продолжение уже социалистическое, марксистское и потому родное и близкое нашему духу. А в Западной Германии, может быть из-за кратковременности пребывания, у меня не родилось чувства органичности ее государственного образования, ее, если хотите, народно-культурного комплекса. Я видела великолепную техническую оснащенность промышленности (насколько ее можно видеть но продукциям техники в мостах общественного пользования, на железных дорогах, в учреждениях, театрах, отелях, новостройках), видела удобнейшее применение техники в домашнем быту, международную широту ассортимента всего того, что покупается-продается. Видела, наконец, милый и внимательный народ, всеобщую вежливость к иностранцу, отсутствие придирчивости в полицейских учреждениях, где пришлось самой продлевать визу. Но почти на каждом шагу меня преследовала мысль о жутком, несерьезном слове, поставленном самими немцами перед названием своей столицы: «предварительная».
Слово «предварительная» имеет значение непрочного, преходящего. Нигде в Европе я не испытывала так остро временности, преходящести, непрочности капиталистической общественной системы, как во дни пребывания своего в Федеративной Республике Германии. Так, совершенно точно, хочется мне формулировать итог своей короткой поездки. Немцы всегда работали образцово; то, что они создавали, принимало черты показательности. И, говоря о чувстве преходящности капиталистической системы вообще, которое возникает наиболее остро именно в ультраразвитой технически Западногерманской Федерации, я хотела бы добавить парадоксальную мысль: не повинна ли в остроте этого чувства, не испытанного мной ни в Англии, ни в Голландии, ни в Швейцарии, — именно «показательная» работа самих немцев, доводящая дело свое до предела, — а в данном случае капитализм до его безбудущности?
Один вечер хочется мне помянуть на прощанье. В Кёльне. Влажный кёльнский воздух (крапал дождичек) умалял яркие огни этого крупного, исторического города, сохранившего даже сейчас какую-то двухтысячелетнюю римскую осанку. Мы поднимались по высокой лестнице, а на площадке, перед дверью своей квартиры, уже ждал нас в рабочей домашней одежде один из лучших писателей современности, Генрих Бёлль. Когда мы наконец разделись и вошли в его кабинет, типично писательский, а хозяин сел и лампа осветила его лицо, — я увидела большую голову, обрамленную волнистыми волосами, широкий лоб брахицефала, мягкие черты, открытую улыбку. Генрих Бёлль — обаятельный собеседник, с которым забываешь о времени. С нами сидела его внимательная, молчаливая жена, в комнату зашел его сын, красивый юноша с отцовской улыбкой, и Бёлль представил его нам гордым жестом: «Вот!» — сыном можно было гордиться.
Мы проговорили часа три. Но приводить то, что сказал писатель чужой страны, потребовало бы большого отдельного очерка о беседе, доставившей тебе теплоту и душевную радость. Генрих Бёлль достаточно говорит о себе в своих книгах. Тот, кто читал его, знает, что это писатель глубокий и думающий, и вопросы не разрешаются для него легко.
Да и где, когда, для кого разрешались они легко?
Бонн, декабрь 1970 г.
Поездка в Швейцарию
Письмо первое Париж — Женева
Автомобильный пробег между этими двумя центрами заезжен делегатами, депутатами, дипломатами, учеными и просто туристами — теми, кто хочет выгадать на скорости, не желая лететь самолетом, и теми, кто хочет ехать медленно, со вкусом, делая остановки днем и на ночь. Для последних дорога эта представляет огромный интерес, и если бы у современности был свой Радищев, он мог бы написать о ней книгу с социальными проблемами сегодняшнего дня, начиная с деятельности церкви и кончая деятельностью Лиги наций.
Вы минуете Орлеанские ворота, и с бархатной мягкостью, почти как на воду, вплывает ваш автомобиль на знаменитую авторуту, дорогу, построенную с совершенством, приятную и платную: в свое время с вас возьмут за проезд по ней. Направление ваше — Дижон, но до Дижона вы не доезжаете, оставляя великолепный, как на гравюре, далекий облик его почти под прямым углом справа. Еще не доезжая до этого поворота в сторону Женены, вам предстоит испытать на себе туристический быт во Франции.
В живописных местах, среди лесных холмов, на лужайках, по берегам прудов, речек и озерков, вписываясь, как говорят архитекторы, в пейзаж, стоят столы, скамьи, беседки, мусорные корзинки и красивая, отделанная внутри кафелем постройка, где есть умывальник с проточной водой, зеркало, полотенце, мыло, вообще все, что требуется, и, главное, в удивительной, первозданной чистоте. Сколько народу побывало здесь до вас, поедая свои «ленчи», моясь, охорашиваясь, приводя себя в порядок, а нигде ни бумажонки, ни пустых консервных банок, ни луж, ни папиросных окурков! Те, кто были тут первыми, заразились первозданной чистотой и решили «не быть хуже, чем прочие». Вновь прибывшие заразились от тех, кто заразился первый, и так оно пошло в ход. Чистота заразительна, она действует на самолюбие.
Вы едете дальше, местность все привлекательней. Птицы, как всегда к вечеру, летят низко. Зато поднимается ветер, и движение воздуха приносит вам ароматы земли, трав, полевых цветов, разогретых за день. Сразу за поворотом, налево от Дижона, дорога начинает холмиться, появляются зигзаги, внизу в ущелье откуда-то заворчала речка. Вторая ваша остановка — город Доль, и тут вы проводите чуть ли не весь остаток дня.
Город Доль на первый взгляд неказистый, обычный провинциальный городишко. Старые дома, не старинные, а только старые. Один из них стоит почти на самой реке, балками уходя вниз; в нем была кожевенная мастерская и жил ее хозяин, кожевник. Но посетители, переступая порог этого дома, если они мужского пола, невольно снимают шляпы. А номер у входа — 43 — упоминается во всех путеводителях. Дело в том, что тут, в обстановке, типичной французской провинции, родился полтораста лет назад сын у кожевника. Улица, где стоит № 43, носит его имя — Луи Пастёр.
Для меня это имя ’(знакомое даже неграмотным, потому что связано сейчас с этикетками на бутылках молока, ставшее почти синонимом охраны человеческого здоровья) было особо дорого с юных лет, притом отнюдь не «пастеризацией» и прививками. Оно мне стало дорого, как много позднее имя Владимира Ивановича Вернадского, своей близостью к проблеме Времени, занимавшей мой молодой мозг. Помню первое знакомство с Пастером по энциклопедическому словарю Брокгауза и Ефрона:
«Пастёр показал, что оптическая деятельность правой и левой винных кислот стоит в связи с различием в их кристаллической форме; вместе с тем ему удалось разложить виноградную кислоту на правую и левую…
…Оптическую активность правой и левой винных кислот Пастёр свел на дисимметрию их молекул. Эта первая работа Пастёра имела важные результаты… в науку введено было понятие о молекулярной дисимметрии».
Так начинал двадцатишестилетний Луи Пастёр.
Признаюсь, я ровно ничего не знала (и сейчас не знаю) ни о винных кислотах, ни о том, что такое оптические свойства этих кислот. Меня захватило другое: правая и левая сторона, дисимметрия… Дисимметрия, с которой начинается жизнь; симметрия, ведущая к смерти: потому что из симметрии не может возникнуть перпетуум-мобиле, вечное движение, а из нарушения симметрии может… вдобавок — из нарушения симметрии, коренящегося в самой молекуле, в мельчайшем кирпичике мироздания, имеющем левую и правую стороны…
В этих наивных размышлениях моей молодости, связанных со страстным желанием постичь «тайну бытия», Пастёр был одним из духовных источников, жадно впитываемых мною и пробуждавших мысль. А какая биография, какой универсализм! С чего он начал? В виноделы готовился? И вот с двадцати шести лет он адъюнкт-профессор физики в Дижоне, через три месяца адъюнкт-профессор химии в Страсбурге, через шесть лет декан естественных наук в Килле, через три года — руководитель научных занятий в Париже, в École Normale. Физик, химик, микробиолог, фармаколог, врач — все это вместе почти в античном, в средневековом (или в будущем двухтысячелетием!) понимании объемного признака подлинного ученого, ученого, исходящего из широты мышления, из гениальной способности связывать, ассоциировать и обобщать разные вещи в науке, ученого-практика, — кстати, почти до сорока лет не имевшего своей лаборатории…
Но я чересчур разговорилась перед скромной дверью бывшей кожевенной мастерской. Не так давно вся Франция, а с нею весь мир отпраздновали 150 лет со дня рождения Луи Пастёра. Могу себе представить, что тут было, как приоделся, приукрасился, взволновался этот маленький мир французских мелких рантье, ремесленников, чиновников, домохозяек, живущих по берегам темно-водной речушки в городе Доле. Но и до юбилея в домике-музее было предпразднично. Экспонаты, правда, состояли большей частью из фотографий да из оставшейся от отца Пастёра старой ремесленной обстановки кожевенной мастерской с ее примитивными орудиями труда прошлого века. Среди фотографий — русские девочки, спасенные Пастёром от последствий укуса бешеной собаки.
Самым интересным в музее-доме, где ровно ничего нельзя было узнать о Пастёре-универсалисте, упомянутом мною выше, была, конечно, книга для посетителей. Приятно было прочесть записи нашего бывшего посла и его жены (Зориных) и наших больших ученых — Энгельгардта, Збарского, — посетивших домик в Доле еще до юбилея…
Но как бы ни были вы утомлены остановкой в Доле, ехать дальше сразу не следует. Да и кто может устоять перед, внезапно мелькнувшим среди скромных серых строений прошлого века удивительным — не знаю, как назвать его, — сооружением из бетона и железных извилин абстрактной скульптуры, словно громадная улитка, вдруг задравшая вверх маленькую головку над массивным, расплывшимся телом, — вторым чудом города Доля или второй его достопримечательностью.
Если в домике Пастёра невольно задумываешься о могучей экспансии мышления научного гения, то тут, перед этим «ультра-модерн», нельзя не задуматься о другой экспансии, церковной. Я вступаю тут на почву, где может на меня обрушиться не только гнев католиков, но и эстетический фанатизм приверженцев «нового искусства». В Доле построили новую церковь. 7 мая 1961 года заложили ее первый камень. 14 июня 1964-го сюда прибыл «апостолический нунций во Франции, монсеньор Бертоли» с епископами из Сен-Клода и Вердяна для торжественного освящения этой церкви.
О ней, об ее архитектуре и мистике пишут брошюры. По правде сказать, будь это не церковь, а что-либо другое, несущее в своем назначении медленное, ползучее приближение к человеку, можно было бы говорить об эстетической стороне. Можно было бы и привыкнуть к этой эстетической стороне, если бы все здания вокруг превратились в таких же задравших голову ползунов. Человек привыкает к моде, его восприятие всегда под притупляющим влиянием массовости. Между прочим, первый момент парадоксальности, вносимый модой для органов восприятия, показывает тесную связь эстетики с этикой, зрительных и слуховых впечатлений с моралью, с привычками, с бытом, с мировоззрением, что само по себе интересно и наводит на мысль о целостности человеческих функций и связности реакций организма. Но сейчас разговор о другом.
Разговор об очень интересной деятельности церкви. Чтобы не потерять свою паству, церковь стремится идти в ногу с своим временем. Церковные формы и соотношения с прихожанами, как и главные бытовые действия — крещение, причащение, исповедь, — все это менялось столетиями. Трудно сказать, было ли что-либо революционное, не сразу осваиваемое верующими в смене романского тина церквей на готику — раннюю, среднюю, позднюю. Но сейчас, в эпоху научно-технической революции, когда, как в Библии говорится, «время пришло во умаление», то есть убыстрился исторический процесс развития, церковь почувствовала себя чем-то в положении вагнеровской «Гибели богов»; ее «храмы божий» наводнились туристами, стали превращаться в музейную старину. И вот по католическим и протестантским странам мира стала резко меняться церковная архитектура. Кто много ездит «по Европам», сплошь да рядом натыкается на бетонные образцы новейших церквей, похожие не то на старые «посты сторожевые» по простоте своих геометрических фигур, не то на тюрьмы без решеток, не то на предбанники без окон и не сразу находимых дверей.
Почин дала, кажется, брюссельская выставка 1958 года, вернее, не почин, а как бы санкцию на совершающийся процесс «бетонирования» церквей, своим пирамидообразным куском сплошной массы, с маленьким крестом на макушке, поднятой к небу, — выставочным павильоном Ватикана.
Но церковь города Доля интересна не одной лишь новейшей архитектурой, а и своим посвящением апостолу Иоанну, автору четвертого евангелия и мистической книги христианства — апокалипсиса. В ее архитектуре, расположении баптистерия, алтаря, в росписи стен «главными цитатами» из Иоанна и в скульптуре знаменитых апокалипсических коней — белого, рыжего, черного, красного, — как и в специальной брошюрке, авторы старались передать в применении к современности мистику апокалипсиса Иоанна.
Когда я находилась внутри этой церкви, испытывая полное отсутствие каких-либо старинных эмоций теплоты, умиленности, благочестия, невольно возникавших в душе от вида молящихся и от особого церковного мерцания восковых свечей, льющих свой розоватый свет и свой аромат воска (прошу прощения за длинноту фразы), так вот, когда я была в этой церкви, вместо молящихся находился в ней только один хихикающий старичок турист в очках. Он обратил мое внимание на «купель» в виде толстой подмигивающей рыбы, похожей на карпа, и на скульптуру, именуемую «Борьбой женщины с драконом». Если первая была чуточку смешной, то вторая — с драконом, похожим на «голого» быка, и лежащей под ним женщиной со стоячими, как два бильярдных шара, грудями — чуточку неприличной. Не знаю, может ли в таких церквах возникнуть мистическое чувство или простая человеческая вера, может ли продержаться любовь к Христу при виде его абстрактного «зигзага» на кресте, стоящего в алтаре. Не хочу оскорблять ни расхваленных и премированных архитекторов, создавших церковь в Доле, ни верующих, молящихся в ней, но только задаю вопрос: молятся ли в ней верующие?
Экспансия современного католичества замечается не только в архитектуре. Попробуйте поискать в старых (девяностых годов прошлого века) немецких словарях слово «екюмен» (ökumen, ökumenisch), вы его не найдете. В советских немецко-русских оно встречается и переводится, как «всеобщий», «мировой». Между тем в современных европейских газетах оно мелькает чуть ли не на каждой странице, и смысл его несколько иной: в русском церковном обиходе оно аналогично слову «вселенскость» и применяется к церкви — вселенская церковь. Это словечко влилось в европейскую речь совсем не просто. Как «общий рынок», как Лига наций, как всевозможные географические и политические союзы-сообщества, тенденция к соединению, к снисходительному стиранию острых углов в догмах веры и компромиссному сглаживанию разниц, к собиранию всех церквей под единый вселенский купол исходит от самого Ватикана и просачивается в западную печать. Мы как-то мало интересуемся всем этим, а между тем в международной политической жизни стремление церкви ко «вселенскости», к этому новому лозунгу «ökumen» вовсе не малозначащий фактор…
Стемнело, когда наконец отъехали мы от Доля. Дальше в пути можно заночевать под тремя звездочками гостиницы «У мельницы голубых форелей», если не бояться, что эти «три звездочки» обдерут вас как липку. Здесь тоже можно кое-чему научиться. Старинные замки, исторические дома, знаменитые поместья превращены во Франции в самые дорогие гостиницы для богатых туристов. Хорошо, когда они оправдывают свои цены красотой природы, комфортом и вкусным столом. Но, вчитавшись в проспекты, начинаешь подозревать, что есть и такие, где сдирают с путешественника за одну честь пребывания под вывеской аристократического имени бывшего владельца.
Утром, покинув «Мельницу голубых форелей», любуешься на оставшийся отрезок до Женевы, на ущелье, горы над ним и прелесть меняющихся картин, пока не подойдет граница. Между Францией и Женевой машина влетает на чинную, живописную площадку перед воротами замка, на этот раз не под «тремя звездочками», а, может быть, под одной большой звездой галльского гения. Фернэй! Поместье Фернэй, где жил Вольтер, куда к великому старцу совершали паломничества крупнейшие люди своего века, где велись беседы, которым цепы не было бы, если б кто-нибудь записал их для потомства. Фернэй… Вы прошли площадку, приблизились к воротам, чтоб увидеть в сохранности комнаты, где жил Вольтер, его кабинет, его рукописи, как это водится во всех домах-музеях; но тут же узнаете, что в Фернэе живут «нынешние хозяева». Не нации, не республиканской Франции принадлежит это поместье, а тем, кто его купил и намерен им пользоваться как своим жильем. Должно быть, имя знаменитого хозяина давних лет немало раздражает нынешних жильцов: «Толкутся тут, останавливаются без конца, выводят из терпения портье! Читали бы надпись на воротах!» А на воротах действительно есть надпись: «Доступ в дом открыт за плату только в августе».
Так, получив от дороги немало интересного, занявшего ум и чувство, спускается путешественник из Фернэя все ниже, бесконечными зигзагами, в столицу французской Швейцарии Женеву, закрытую от глаз мельчайшими капельками осеннего тумана.
Письмо второе Швейцарцы о Ленине
Сколько воды утекло из Роны, из знаменитого «водяного броска» — высочайшего в мире (как уверяют гиды) фонтана, бьющего летом со стрелки женевской набережной с тех давних пор, когда Владимир Ильич ходил по улицам Женевы! Он не любил этот город так, как любил Цюрих; ему трудней было заниматься в Женевской библиотеке, чем в лондонской Ридинг-рум Британского музея; и он жалел, что покинул Лондон ради Женевы. Если даже в те далекие времена было в Женеве шумно и беспокойно и это мешало углубленным занятиям, то что сказать о нынешнем времени?
Бурно растет новая часть города, и она теснит, отодвигает старую. Когда-то нарядная Гран-рю (Большая улица) со своим домом № 40, где в 1712 году родился Руссо, становится для туристов почти музейной. Милая легендарная «Каружка», где жили-были наши русские эмигранты, а в доме № 91 В. И. Ленин с Надеждой Константиновной, почти ушла в историю. Слава Женевы философской, Женевы мыслящей, ее университета и библиотек меркнет перед восходящим значением Женевы дискутирующей, Женевы дипломатической. В годы 1929–1936 выросло массивное здание Дворца Наций. Большие буквы, какими сейчас обозначают разные международные учреждения, большие буквы, стоящие впритык, подобно математическим формулам, не совпадают на разных языках, и в них очень легко запутаться, как в трех соснах. Массивный, в ширину разлегшийся Дворец Наций почти непрерывно заседает, обсуждает, дискутирует, «конгрессирует». И вот, несмотря на все эти новшества и отличия современной Женевы, именно здесь почти тотчас по приезде я услышала дорогие мне слова: «Тут очень уважают Ленина, газеты хорошо говорят о нем…»
Что в Швейцарии очень интересуются Лениным, я узнала года три тому назад, когда швейцарский посол в Москве, ныне покойный, письменно запросил меня об одном из фактов биографии Владимира Ильича. Это понадобилось для главного их архивариуса, работавшего над книгой о Ленине. Но интерес оказался гораздо шире и как-то «почвенней», чем я это себе представляла, в первую очередь он вызван, конечно, пребыванием Ленина тут, на швейцарской земле, в течение почти семи лет, — правда, не сплошь, а в разное время. Это создало для швейцарских исследователей очень важное преимущество перед другими западными странами.
При всем своем «демократизме» Швейцария любит своеобразный порядок и аккуратность. Эта «гостевая» страна, не беспокоя вас, ведет вам счет, требует гарантий длительного пребывания, свидетельств о вашей платежеспособности (как в царской России требовалось от вас при выезде за границу свидетельство о «политической благонадежности»), проверяет ваше общественное поведение — и все это отмечается в канцелярских бумагах вместе с точными адресами. Занятия в библиотеках тоже требовали от иностранцев всевозможного «ручательства» местных граждан.
Таким образом, кроме тех архивных документов, которые были переданы через швейцарских коммунистов в нашу страну, в Швейцарии накопился свой немаловажный архивный материал для серьезного исследователя. В нем запечатлены точные даты, фамилии, адреса, иногда и проскользнувшие мелочи более личного характера, например дальнейшая судьба хозяев, у которых Ильич снимал комнату. Этот материал заключен в официальные подшивки разных лет и учреждений, недоступные для советских людей. Таким образом, в книгах швейцарских авторов о Ленине может иной раз оказаться для наших исследователей что-то новое, пусть совсем маловажное, но в любви советского человека к Ильичу нет маловажного, любая мелочь зажигает теплоту в сердце и живой, нужный для общего знания интерес.
Но кроме этих «бумажных» фондов Швейцария имеет у себя и сейчас, а раньше имела во множестве, другой — словесный фонд, которым она располагала как своим собственным, исключительным. Вспомним, каким огромным богатством стали для нас устные рассказы рабочих и крестьян о встречах с Лениным, записанные позднее. Как интересны рассказы каприйских рыбаков, только мельком видевших Ленина. Какую огромную палитру — для живописания образа Ильича — представляют собой тома воспоминаний о нем!
Разумеется, это богатство нельзя и сравнить с бисеринками отрывочных высказываний людей, не подозревавших о том, кто с ними встретился. А все лее и бисеринка дорога. Владимир Ильич и Надежда Константиновна выходили с рюкзаками на плечах в долгие горные прогулки, со многими ночевками. Хозяева ночевок, случайные дорожные встречи, соседи квартир, где они останавливались, домовники, столовавшиеся в доме, где жил Ленин, каждый день трижды садившиеся с ним за один стол, прислуга кофеен и столовых — не перечесть всех, с кем на протяжении ряда лет сталкивался Владимир Ильич в Швейцарии; а Надежда Константиновна не могла но покупать хлеб или молоко, мясо или овощи в одних и тех же лавочках на одних и тех же улицах и не встречаться с соседними жильцами в кухне у газовки, где варилась и жарилась еда. Живые Ленин с женой все время соприкасались с живыми, простыми людьми Швейцарии. И кое-кто из стариков с сохранившейся памятью мог выудить из этой памяти кое-какие обрывки воспоминаний, малые по значению, но важные для нас, как точки в пунктире живого облика… Все это устный архив швейцарцев, огромное поле для их исследований, на котором они не могут встретить соперников.
Я ехала из Женевы в Берн в единственный ярко солнечный день за весь хмурый октябрь моего месячного пребывания в Швейцарии. На Лозанну — нижней дорогой, вдоль Лемана (Женевского озера), с просветами сквозь деревья его сверкающей голубой зыби. Мимо виллы-замка Коппэ, где более 180 лет назад знаменитая мадам де Сталь вместе с Бенжаменом Констаном «дискутировала» в своем салоне со съезжавшимися к ней писателями и мыслителями о будущем Европы, словно предваряя теперешний Дворец Наций. Мимо самой Лозанны, где в эти дни поселился Жорж Сименон, с которым мы заочно обменялись книгами и любезностями.
И ярким солнцем, облитый голубизной неба и белизной далеких Альп, встретил нас Берн, последним солнцем, виденным мной в Швейцарии за весь месяц. Наш посол вручил мне тут же, при встрече в Берне, сентябрьский помер швейцарского журнальчика «Тагес-анцайгер» — подарок, имевший для меня огромное значение. В этом номере были помещены две страницы из новой книги о Ленине Вилли Гаучи «Ленин как эмигрант в Швейцарии». Сейчас, возможно, она уже вышла в Цюрихе, в издательстве «Бенцигер», но тогда только рекомендовалась как будущая новинка.
Журнал я повезла с собой в Цюрих. А там ждал меня еще подарок: солидная буржуазная газета, долгие годы считавшаяся одной из лучших по своей осведомленности и точности, «Новая цюрихская газета» опубликовала в трех номерах (12, 16 и 19 октября) еще три отрывка из книги Гаучи, снабдив их иллюстрациями: портретом Ленина; снимком комнаты, в которой Владимир Ильич и Надежда Константиновна жили в Цюрихе в 1916–1917 годах (Шпигельгассе, 14); снимком здания (Нёймаркт, 5/7), где не раз выступал Ленин, и фотографиями Нобса и Фрица Платтена.
Для нас серьезные публикации о Ленине на Западе имеют очень большое значение. Они постепенно увеличиваются в числе, и по ним можно проследить, во-первых, растущий интерес к личности Ленина, принимающий с годами объективно-исторический оттенок, как к величине (самой по себе, вне политических симпатий и антипатий) масштаба всемирного. Во-вторых, — и это надо особо учесть — остающееся постоянным непонимание главной черты характера Ленина, сделавшей его борцом нового типа, борцом за будущее человечества, за будущего человека. Эго непонимание возникло на Западе от первых истолкователей Ленина — меньшевиков и белогвардейцев, русских философствующих черносотенцев, троцкистов, от исхлестанных сатирой Ленина мягкотелых оппортунистов и предателей и вызывавших ярость Ленина каутскианцев. Ими было прочно заложено это «непонимание» главного в Ленине.
Во второй публикации из книги Гаучи (от 16 октября) приводится случай, когда Анжелика Балабанова, примкнувшая к «Союзу русских социал-демократов», вступила с Лениным в спор после одного из докладов. Она непременно хотела узнать от него, как это может он «честных революционеров, бескорыстных людей» обвинять в предательстве: «Почему называет он социалистов, поставивших всю свою жизнь на службу обездоленным, — изменниками?» Ленин, по ее словам, ответил: «Когда я их так называю, я не хочу этим сказать, что имею дело с бесчестными людьми, — я хочу выразить тот факт, что занятая ими политическая позиция объективно ставит их в положение предателей»[170].
Несмотря на ясность такого ответа, Анжелика продолжала настаивать на своем, и тут Ленин «пожал плечами и ушел». Приведя этот случай, Гаучи от себя делает вывод: «В этом сказывается спорность своеобразной «этики» Ленина. В борьбе за власть пролетариата исчезал для него всякий интерес к обычным человеческим соображениям».
Здесь проходит разделительная черта между старой, абстрактной этикой и глубоко человечной конкретной этикой Ленина. Автор книги о Ленине Вилли Гаучи, приводя всякие свидетельства и всякие факты, подчас противоречащие друг другу, не выходит за грань сложившихся под влиянием одного из идеологов белой эмиграции, Бердяева, и троцкиста Фишера характеристик Ленина, не замечая, как сами факты, приводимые им, в корне подрывают эти характеристики. Бердяев, в конце своей озлобленной жизни пришедший к чудовищному отрицанию всякого добра и правды на земле, клеветнически утверждал в своих последних книгах, будто Ленин ненавидел людей, топтал их достоинство. Даже пытавшиеся быть дружелюбно объективными авторы книг о Ленине на буржуазном Западе приписывали обаяние Ленина, его умение захватить и повести за собой слушателей, его мощное влияние на рабочую массу, мастерство и силу его агитации только таланту и хитрости политика.
Но Ленин-борец был таким борцом, где Добро с большой буквы и цель борьбы сливались в одно великое целое. В этой исключительной цельности Ленина, в единстве его мыслей и чувств все представляет собой добро и правду. Ни тени тщеславия, ни тени фальши, ни тени самомнения, ни тени всего того, что исходит из буквы «я», ив личной для себя выгоды. И постоянное, глубочайшее внимание к людям, к человеку, которого он хочет понять и направить. Да, гнев его был беспощаден, но то был гнев любви. Меньшевистская трактовка его характера строится главным образом на двух ленинских работах — «Шаг вперед, два шага назад» и «Пролетарская революция и ренегат Каутский». Насыщены эти две книги таким поразительным, сокрушающим гневом, что, даже читая, только читая их, чувствуешь иногда, как сердце начинает колотиться. И на кого направлен этот неистовый взрыв гнева? На когда-то близкого Мартова, на бывшего марксиста Каутского! Если сила ленинского гнева действует даже только в чтении, спустя много лет после написанных слов, то как же должна она была действовать на современников, не согласных с ним, еще что-то недопонявших или — в силу глубины своих заблуждений — обреченных на непонимание?!
А ведь когда, и как, и почему произошел этот взрыв гнева? И что было бы со «страницей истории», которая тогда чуть начала «переворачиваться», если б этот гнев был приглушен и книги не написаны? Задал ли себе Мартов или сам Каутский этот вопрос? Истина конкретна.
В дни и часы создания партии рабочего класса, партии, способной реально взять власть, создать и провести в жизнь новый общественный строй, Мартов и его единомышленники отстаивают — против ленинского централизма партийной организации — раздробленность и местничество ее структуры. Они руководятся «возвышенными» идеями старого, абстрактного демократизма. А Ленин, знающий, что добра от такой разрозненности, такого местничества партии не будет, что единства силы у такой парши не будет, что преобразовать старый мир она не сможет, — яростно восстает против Мартова…
В часы и дни рождения нового социального строя на земле, когда весь собственнический мир ополчился на его первые зачатки, когда первое дыхание его оберегается большевистской ленинской партией, кто вдруг «с ученым видом знатока», с академической иронией восстает против первых шагов этого молодого строя, называя его не марксистским, не социалистическим? Каутский, тот самый Каутский, за плечами которого «Аграрный вопрос», марксистами благоговейно изучавшийся! Хуже, тяжелей, гаже этого удара в спину пролетарской революции трудно было себе представить! И Ленин, чувствующий всю силу этого удара, способного затормозить первые шаги новорожденного мира, обрушивает на ренегата Каутского беспредельную ярость своего гнева…
Анжелика Балабанова бормочет: и как же это можно честных революционеров называть изменниками? Десятки грязных перьев выводят: «Ленин унижал достоинство людей, отдавших…» и т. д. Но те, кто умеет читать, понимают, что страница истории должна быть перевернута и ее перевернул Ленин, видят всю силу любви Ленина к людям в этом его гневе против изменников революции.
Враг идет на птичье гнездо, где только что вылупился птенец; и птица-мать выскакивает из гнезда, бежит навстречу врагу, всем своим телом, всей своей яростью, своим клювом и перьями стремится защитить птенца, защитить будущее… Так много-много раз, в стихах и прозе, прославляли материнский гнев, становящийся сильным и яростным от своей любви. И враг отступал перед силой этой любви.
Конечно, сравнение, по старой пословице, не «резон». И все-таки нельзя не почувствовать, читая Ленина, что гнев его против оппортунистов, против ренегатов и решающие минуты истории рожден великой любовью к будущему, подобной материнской любви. И любовь эта всегда была Добром с большой буквы — важнейшей чертой характера в цельной натуре Ленина.
Письмо третье Вернувшись домой…
1. Когда говорят о «международном положении», а доклады о нем делаются у нас чуть ли не на каждом предприятии, редко-редко услышишь слово о Швейцарии. Разве что о Женеве, но «Женева» — это уже не местный швейцарский разговор, это как бы всеевропейская, общедипломатическая тема, далекая от самой Швейцарии как таковой. В большой политической игре западных дипломатов она как будто не та «карта», с которой можно пойти. Но посмотрим на другую карту — не политическую, а географическую. И увидим маленькое, очертанием похожее на сердце, пространство в Европе, втиснутое между тремя китами — Францией, Италией, Германией, словно действительное сердце западноевропейского массива. II хочется знать, как это сердце бьется, почему оно неглижируется не только в докладах, но и в газетных очерках, и действительно ли нечего о нем сказать, кроме разве описания красот природы, набившего оскомину еще в прошлом веке.
Да и так ли уж выдвинуты эти красоты первым планом, затмевая все остальное в Швейцарии? Если подумать серьезно, они вовсе не бросаются в глаза с первого взгляда. Пять раз побывав в этой стране, прожив в ней по нескольку месяцев (дважды до революции), я увидела Швейцарию «открыточную», Швейцарию красочную постепенно, не сразу, она спрятана за обычным равнинно-холмистым пейзажем, за тучами и облаками в немецкой ее части, за частым капельным неприятным туманом, похожим на кисею, во французской и за малой ее доступностью из-за горных перевалов — в итальянской. Так в чем же дело?
Память начинает бродить в прошлом — в русской литературе начала девятнадцатого века и даже конца восемнадцатого. Русские просвещенные люди, владевшие двумя-тремя европейскими языками с детства, иногда лучше, чем родным, были большими путешественниками. Они хорошо, отнюдь не налетом, знали западные земли и оставляли в своих записках целостный облик посещаемых ими стран. Иные подолгу жили на Западе и даже строили там дома, например некий Уваров, оставивший интересные воспоминания. Он построил себе в Лондоне дом, не желая считаться с английской любовью к холоду в комнатах, к одностороннему обогреву от камина и к горячей бутылке на ночь в постель (типичный домашний быт зажиточной английской семьи середины прошлого века). Уваров был одним из первых лондонцев, устроивших себе центральное отопление, и рассказ его о том, что из этого вышло и как отомстили ему английские «смоги» и «фоги» за такую вольность, до сих пор сохранил свою любопытную познавательную ценность. Позже русские писатели часто воспроизводили Европу. В русской классике, не говоря уж о Париже, точно и широко представлены и английский снобизм и немецкий романтизм, озаренные мягким светом русской образованности, тургеневской акварельной прелести. Ну а как со Швейцарией? Черным по белому, с абсолютной точностью гения, показал Швейцарию Достоевский в образе князя Мышкина. «Идиот» для своих, он мальчиком (сейчас сказали бы «трудновоспитуемым») был послан в Швейцарию, в частную швейцарскую школу некоего ученого-швейцарца. Именно швейцарец-ученый разглядел в своем воспитаннике сквозь сетку «идиотизма» черты высокой гуманности, натуральной детскости, здравого смысла, правдивости, простодушия и, вырастив настоящего человека, отпустил его на родину, в общество «праздно болтающих», «обагряющих руки в крови»…
Достоевский верным инстинктом гения определил сущность Швейцарии как педагогическую.
Педагогическим был и главный образ, сложившийся у молодежи моего поколения о Швейцарии. Когда мы в конце прошлого столетия приближались к последним классам средней школы (гимназии), за которой следовало университетское образование, у многих из нас было в обиходе заранее добывать проспекты швейцарских университетов и любовно изучать их, хотя возможности попасть в них подчас и не было. Швейцарские университеты, считавшиеся лучшими в Европе, прельщали нас, девочек, не только том, что дома, в России, доступ женщинам в университет был вообще закрыт, но и особыми русско-литературными традициями. Именно там, в Швейцарии, закончила учение первая в мире женщина-медик, и эта знаменитая женщина была русской; именно туда ездили наши девушки «эмансипироваться», спасаться от тирании старого семейного быта, вступая для этого в «фиктивный брак». А сколько романов прочли мы на эту тему!
Итак, Швейцария — «педагогическая». Но надо помнить, что «педагогика» у швейцарцев была особая. Не зная ее, не уважая особенностей чисто швейцарской литературной классики, чисто швейцарского прошлого, нельзя ничего понять в конфликтах нынешнего дня Швейцарии, в ее задымленном, раздвоенном, противоречивом современном развитии, отражающем в каком-то резко неприятном, остром для глаз свете все пороки американского и западноевропейского империализма. Нельзя ничего понять и в том, что осталось хорошего в Швейцарии, и в безуспешной, лихорадочной защите этого хорошего лучшими ее людьми… Но сперва об особенности швейцарской педагогики. Эта особенность выросла из конфликта умственного и нравственного в вопросах воспитания.
Если великий чешский педагог, творец современной школы, воспитатель мудрости, Ян Амос Коменский создал три столетия назад свою «пансофию», школу всеобщего знания, утвердив облагораживающую роль мышления в воспитании целостного человека, то более близкий нашему времени швейцарец Песталоцци сделал как будто обратное: он открыл весь вред слишком большой роли умственности при воспитании ребенка. В одной из самых сильных своих статей об элементарном образовании (1807 год) он написал удивительные для современной школы слова:
«Истинно нравственное элементарное образование по самой своей сущности заставляет чувствовать, молчать и действовать. Искреннее душевное настроение и жизненная сила, гармонирующая с этим настроением, по самой природе своей избегают всякого развлекающего лишнего слова. Речь нравственности в общем состоит из одного: да! да! и нет! нет! И чем эта нравственность истиннее и глубже, тем более опа уверена, что все, что сверх этого, то от лукавого»[171].
Молчать, когда царствует болтология всех сортов и видов, начиная с декламаций и поощрений показного ораторского искусства в школе, кончая парламентаризмом!
Чувствовать, когда радио, теле, кино, бесчисленные детские газетки и журнальчики с картинками и всякие «пиффы» и «паффы», «микки и «мукки» — рисуночки в детских отделах больших газет для взрослых — изо дня в день глушат и тупят детское восприятие, отучая от глубокого чувства!
Действовать, когда растущая автоматизация даже у ребят перехватывает трудовые действия, подсовывая им взамен спорт.
И наконец, «да, да» и «нет, нет» — в царстве современного западного мира, учащего «объективной» казуистике: «с одной стороны» — «с другой стороны». Ясно, что швейцарская действительность далеко ушла от своего старого национального типа швейцарца. Но кроме педагогики, воспитывавшей, по Песталоцци, этот малоразговорчивый, практически действующий, цельный тип швейцарца, есть и еще одна историческая черта, подкрепляющая национальную педагогику, — близость к природе. Не забудем, что самая сильная проповедь возвращения к природе, проповедь «натурального человека», прозвучала из уст великого писателя-швейцарца Жан-Жака Руссо. Все это было бог весть когда, воскликнет читатель, чуть ли не два века назад, во всяком случае куда больше столетия… Нашли о чем говорить в век научно-технической революции!
Да, все это быльем поросло… Но вот поздней осенью 1914 года, в первые месяцы первой империалистической войны, я жила в швейцарской интеллигентной семье, снимая у них в Цюрихе крохотную чистую комнатку. Хозяйка моя была молодым врачом, только что стала матерью; с ней жила младшая сестра, почти девочка, и обе они воспитывали новорожденного — совсем не похоже на то, что делалось у нас в таких же семьях. Весь день, с рассвета до заката, не глядя на погоду, маленький человечек лежал в своей люльке-лодочке у крыльца в саду. Его прикармливали чуть ли не со дня рождения соком персика, что приводило меня в ужас. И сам этот малыш, выкармливаемый свежим дыханием сада и светлым соком персика, плюс материнское молоко, сам начинал походить на моих глазах округлостью и золотистостью своих щек на персик. Обо хозяйки служили, мужа первой я почти не видела, обе часто оставляли ребенка в его люльке-лодке под охраной большого, тяжелого на подъем сенбернара, лежавшего у крыльца в дремоте. Быт был у них в доме точный и простой, как часы с кукушкой, и такой же ритмично-немногословный. Все как-то сливалось с чередованием самой погоды и сменой периодов утра, дня, вечера в этой горной части города Цюриха, слегка возвышающейся над озером, среди большого парка. Но совсем недавно, лет шесть назад, впечатление природного ритма, немногословия и чувства связи человека с натуральным ритмом земли я опять пережила в Цюрихе. Это было уже в нижней части города, почти на углу самой шумной торговой «Вокзальной улицы» — Bahnhofstrasse, которую нынешние туристы почему-то смешивают с банковской (Bahn u Bank) и совершенно неверно описывают, — в комнатке безалкогольного отеля, руководимого очень активным «женским союзом», и мне было хорошо, как шестьдесят четыре года назад…
Утекло еще шесть лет, всего шесть лет, и в октябре 1973-го я опять работаю в центральной цюрихской библиотеке, опять живу в маленькой комнатке безалкогольного отеля (Alkoholfrei). Но как все изменилось — и в гостинице, втрое подорожавшей, и в характере хозяев, и в ритме города Цюриха! Страшно стало жить в нем, как почти всюду на Западе. Не успела я приехать и нацелиться опять жить по-прежнему (утром — работа, вечером — дешевый концерт: один франк за вход и сиди где хочешь; или хороший фильм) — как друзья, знавшие мои вкусы, срочно предупредили: не ходи в кино! А концерты стали очень дороги, очень редки, все больше гастроли.
Да, мир в самом крупном городе Швейцарии стал другим. Об этом прежде всего оповещали афиши на больших круглых тумбах Вокзальной улицы. Они оповещали о десятках фильмов, и весь импорт их цинично откровенно, словно зазывая, говорил в многочисленных названиях о сексе, о всех видах и всех метаморфозах секса. Выше я написала «в остронеприятном для глаза свете». Конечно, нигде вы на Западе не убережетесь сейчас от «секса». Но если в названиях французских, шведских, американских фильмов есть своеобразная тонкость и завуалированность, — на цюрихских тумбах, таких еще десять лет назад прилично бюргерских, мне бросилась в глаза словесная грубость и безвкусица. Может быть, именно потому, что немецкий язык в Швейцарии, еще не совсем огрубевший, в нем нет-нет да мелькнет милое швейцарское окончание мягкого «ли» (хютли, штюбли), как изредка улыбнутся мягкие украинизмы и в нашей русской городской речи, видимо, еще не приспособился к западноевропейским циничным словам… В октябре 73-го разве только в одном-единственном кино показывался не секс, а «Последние дни Гитлера», но идти смотреть Гитлера было противно…
Позднее, обжившись опять в когда-то уютном Цюрихе, я убедилась, что тумбы со своими афишами — это еще не так страшно. Ведь даже в официальном центре, Берне, сохраняющем весь свой провинциальный, даже мещанский характер, появляются объявления в серьезной газете «Дер Бунд»: «Кино Форум. Учитесь насладиться сексуальной свободой! Секс за закрытыми дверями. Текст на немецком, французском, итальянском языках» («Der Bund», 22 октября, понедельник, № 27, стр. 51). Не так страшно, потому что «учиться» такому «наслаждению» призывает даже специально учебная газета, в целом помещающая едва ли не самый интересный общественно-политический материал, — «Цюрихский студент». Газета «Цюрихский студент» издается уже полвека; она выходит всего девять раз в год. У меня ее номер от 5 октября. Ее тираж — семнадцать тысяч. К ней приложен довольно объемистый «Концепт», более молодое газетное издание (ему всего два года) с серьезными статьями об искусстве, литературе и профсоюзных делах, руководимых, кстати сказать, «христианско-национальным союзом». Наши обозреватели вряд ли знают эти небольшие издания, носящие чисто местный характер; но, если вы захотите глубже заглянуть в общественную жизнь швейцарского центра, вы сразу узнаете из них о его сегодняшнем дне больше, чем из сотен брошюр и лекций. Узнаете не только плохое! Через плохое, как это всегда бывает, узнаете и хорошее. Но прежде чем рассказать об этой газете, поделюсь с читателем, как я сама через плохие афиши на тумбах узнала хороший фильм в Цюрихе, потому что, вопреки энергичным предостережениям друзей, я все-таки в первый же день (именно день, потому что было два часа дня) попала в кино.
2. Случилось это, когда, сойдя с моста через Лиммат, я вдруг словно в море окунулась, в море детских голов, кудрявых, стриженых, в бантиках, кепках, ведомых матерями и бабушками. Волна этих ребятишек захватила меня в свое движение, и нежданно-негаданно я очутилась перед кассой, а потом в первых рядах огромного, очень нарядного кинозала. Много-много лет назад, в возрасте вот этих чинных, румяных девочек с бантиками на кудряшках, мне довелось прочитать переводную книжку из школьной библиотеки. Называлась она «Дитя гор». Минуло чуть ли не больше семи десятков лет с того дня, как я прочитала ее. Память сохранила название, содержание и — самое главное — драгоценную атмосферу свежести, чистоты, детской тоски, пронизывавшую вас при ее чтении. Жила-была высоко в горах у дяди-пастуха маленькая девчушка, и она была счастлива вставать и ложиться с солнцем, трудиться рядом со старшими, помогать им пасти и кормить коз и коров. Но высокие горные деревушки обходил человек в очках, учитель. Он узнал, что есть девочка, еще не знающая грамоты, и заставил ее дядю послать эту девочку в город к родственникам, чтоб поучилась в школе. Вот она в богатом городском доме, вот она уже читает книги, пишет письма, но душа ее полна тоски по горам. Эту болезнь по горному воздуху, тоску по горным вершинам так хорошо передает книга, что до сих пор помню, как я сама, девочкой, стала тосковать по горам и стремиться из Москвы на Кавказ. Кончилось в книге тем, что девочка сделалась лунатиком, ходила по ночам при свете луны по карнизам дома, и старый добрый доктор посоветовал немедленно отправить ее домой. И она едет домой, в горы. Как я полюбила эту нехитрую книгу, ее необычайную эмоциональность, направленную не на людей, а на природу!..
Стемнело в зале. Открылся экран. Цветной фильм «Хэйди». И вдруг — спустя целый век человеческий! Швейцария и, кажется, Америка создали из старой-престарой детской книжонки, название которой, выдуманное переводчиком, было у нас «Дитя гор», а у автора-швейцарки «Хэйди», — из старой этой книжки моего детства великолепный фильм! Вот и говори «давно-давно», смейся над старостью, гонись за «злобой дня», забывай, что жизнь развивается спирально, история повторяется, древнее подходит вплотную к сегодняшнему, сегодняшнее вдруг утопает в давно прошедшем! Оно «утопало» в кинозале в давно прошедшем, зрители «утопали» в носовых платках. По плакали только мамаши. И я с ними. А девчушки смеялись, взвизгивали от смеха, досасывая свои палочки мороженого… Дети воспринимали сюжет без воспоминаний…
Я глядела, вытирая собственные слезы, на заплаканные лица мамаш и бабушек, молодых и старых, нарядно и не нарядно одетых в модные осенние пальто молодых, длинные старушечьи салопы старых. Почему, собственно, все мы расчувствовались? Как солнце сквозь летний дождик, уже у входа сквозь слезы выглянули улыбки, веселый конфуз над собой. Но слезы были, и реакция зрительного зала на сентиментальную старинную «Хэйди» была — я проверила ее собственными слезами. Почему все-таки она появилась? Двадцать и даже десять лет назад такая реакция, мне кажется, была бы невозможна, да и американские «продюсеры», чутко улавливающие «крик моды» и потребности рынка, вряд ли стали бы тратиться на экранизацию «Хэйди». Вот тут-то и пришло время заняться мало известной (или вовсе неизвестной!) у нас газетой, обращенной своим двойным ликом, подобно древнему Янусу, к молодежи. Газетой «Цюрихский студент».
3. Начинается она с виду просто замечательно. Приезжает осенью деревенская молодежь в свою столицу, чтоб продолжать образование, да и не только из своих деревень и городов помельче, но также из чужих стран. И вот перед ней Цюрих. Можно купить планы города, всякого рода туристские путеводители и рекламы, смотреть афиши и объявления, но первые не всегда будущему студенту по карману, а на вторые не всегда есть время. А тут осенний номер собственной студенческой газеты от 5 октября, и начинается он указателем для практического ознакомления («Benutzung» — использования!) города Цюриха. Составлен он живо, с подзаголовками, рисуночками и обязательно с милыми мягкими швейцарскими окончаниями на «ли». Вчитавшись, вы замечаете критический дух автора, его резкую неприязнь к архитектурной порче старого Цюриха, прорывающуюся местами через легкий тон о серьезных вещах. Оказывается, есть «важное» деление города — на «Дёрфли» (деревушечки) и «Копи» (сокращенно от «Кооператива»), Дёрфли — это места развлечений в старых кварталах по правой стороне реки Лиммат. В этой части есть нечто, чему «завидуют все остальные города»: в ней «с обеда и до полуночи, и еще чуть дольше, полно пульсирует жизнь». Какая — даются соответствующие адреса и соответствующие «добрые советы». Под заголовком «Знакомиться» стоит: на такой-то улице (не стоит ее называть) встречаются с 8 часов гомосексуалисты для того, чтобы «возбудить в обществе понимание, интегрировать их (принять в общество), дать нм возможность друг с другом встретиться». Указано и просто «нормальное» место для встреч и знакомства студенток со студентами, и тут же практическая приписка: кстати (noch etwas), для девушек, «желающих принимать пилюльки и но имеющих знакомого доктора», прилагается адрес врача, которому стоит только написать, и пилюльки будут присланы. Все эти улицы и адреса напечатаны черным по белому — и, честно говоря, ужасом наполняют сердце, когда вспомнится швейцарское студенчество ушедших времен, традиции внимательной, толковой, счастливой учебы, простые деревянные столы нескольких городских библиотек, объединенных сейчас в одну, серьезные лица молодежи, и этот жар, эта жадность, с какой поглощались науки… Другая часть города, рекомендуемая «указателем», «Копи». Она сопровождается рисунком большой головы Карла Маркса и его длиннейшей бороды, превращающейся в шелковистый каскад итальянских спагетти на подставленной под пей тарелке. «Копи» — это и дешевая столовка, и возможность даром получить зал для митинга, и встреча «левых товарищей», говорящих друг другу «ты», и дальше — сведения о книжном магазине, где можно задешево приобрести классиков, «всю ГДРовскую немецкую литературу» и во множестве «социалистическую литературу»… В перечисление тоненькой струйкой вползает ирония. Но она еще сильней и ярче присутствует и в описаниях других мест, где царствуют богема, размалеванные «не-совсем-уже девушки» (nicht-mehr-ganz-Mädchen) и где «все, что еще кой-как живет в этом городе, который скоро вобьет в свой золотой гроб последний хромовый гвоздь». Не только ирония — ненависть чувствуется в иных местах указателя, ненависть к крупнобуржуазной «головке» города, к растущему американизированию Цюриха. Если студент, например, захочет повести свою девушку, говорит в одном месте указатель, в идиллический «Линденхоф», где раньше студенты, когда «они еще были настоящими» и выходили «из настоящих кругов», — праздновали свои «маевки», сейчас он может насладиться оттуда видом гигантской новостройки, типичного примера искажения Цюриха «власть имущими» (Mächtigen, имеются в виду «отцы города»), шестьюстами стоянками для автомобилей, чтоб еще больше увеличить «транспортный хаос на улицах»…
В Цюрихе два высших учебных заведения: университет, сравнительно молодой — ему всего четыреста с лишним, и прославленная за пределами республики Высшая политехническая школа. Газета «Цюрихский студент» объединяет информацию о первом и о второй. Очень интересное и поучительное для моей темы объявление об одном из важных событий интеллектуальной жизни Цюриха. Собственно, все это объявление могло бы уместиться петитом и на маленьком кусочке страницы, а сейчас оно простерлось чуть ли не больше чем на всю ее половину. В самом объявлении говорится о том, что от 12 до 15 ноября в Высшей политехнической школе будет происходить симпозиум, посвященный важным областям научно-технической революции (говоря принятым у нас термином). И дальше — названия докладов, фамилии ученых. Казалось бы, обычное и для Запада и для нас лекционное событие. Но газета «оформила» это объявление рисунками от себя. Их два. Жирными, черными линиями стоит над ними лаконичная надпись: «Техника — для или против человека?» Первый рисунок изображает контур человека с большой головой, держащего в протянутой руке маленькое колесо зубчатого механизма, символизирующее технику. Второй рисунок изображает робота с огромным зубчатым колесом механизма вместо головы и крохотной человеческой головкой в протянутой искусственной руке. И эта газетная подача простого научного объявления без слов открывает больное место сегодняшнего дня, говорить о котором не очень-то по вкусу заправилам империалистического мира. Больное место — к счастью или к беде человечества ведет этот сумасшедший рост мировой техники? К облегчению или к погибели человеческой энергии приводит нынче чуть ли не каждое научное открытие? Не стоит ли человечество перед воронкой, куда стихийно, бесповоротно втягивается та гармония организма человеческого, которую воспевал античный мир греков как путь к счастью; то слияние человеческой души и природы, субъекта и объекта, в котором видели высшее достижение Спиноза и Гёте? Люди на Западе так обморочно заняты кризисами экономическими, что не замечают (или задвигают перед сознанием, как задвигается мысль о смерти) близкий кризис самой матери-земли, самой эмпирической материи, дающей жизнь человеку. Через какой-нибудь десяток-другой лет начнет исчезать питьевая вода, нарастет нехватка в топливе, в разных видах энергии, оскудеет земля и, как говорится в одном из замечательных монологов Райкина, «под землей останется одно только метро». Кризис материи! Человеческая головка, доживающая свой земной век на механической ладони созданного ею робота…
Казалось бы, чисто литературная тема для нынешней «научной фантастики». Но привычка критиков на Западе разбирать явления искусства и мысли вне их социального анализа, вне их опоры на бытие, обусловливающее духовную жизнь общества, приводит как раз к недостаточному вниманию к этому кризису земной материи. Чем только не объясняют «выскоки» и «выброски» отдельных человеческих групп и группок на Западе из исторического бытия своего государства и своего времени, выброски молодежи в странничество и бездомность битников и хиппи, выброски людей искусства в безвременность, внеисторичность философии экзистенциализма! Целые диссертации пишутся о влиянии буддизма на европейское мировоззрение, о захваченности японо-китайской сектой дзен (чань) крупнейших мастеров Запада — от композитора Густава Малера до художника Ван Гога, от новеллиста Сэлинджера до наших Хлебникова и Мандельштама… И как они, эти явления, объясняются? Чтением японской поэзии, отделенной от нашего времени веками, чтением буддийских трактатов тысячелетней давности, порождением сегодняшнего образа от позавчерашнего образа, искусства от искусства, мысли от мысли, — влиянием буквы на букву, а вовсе не давлением самой жизни, не давлением того, что совершается в обществе, на живущего сейчас, в эту минуту, в этом мире человека-творца…
Но оставим разговор о вещах, которым не видно конца вдалеке, за горизонтом бегущего времени, и вернемся к «бытию, определяющему сознание» моей собственной персоны осенью прошлого года в Цюрихе. Задумавшись над студенческой газетой, я как-то сложней ощутила слезы швейцарских мамаш и бабушек в кино, на фильме о Хэйди. Вряд ли сами они сознавали причину этих непроизвольных слез. В небытие уходило прошлое, уходила, вер-нее, ушла та старая, традиционная Швейцария, в которой еще жили-были «дети гор» с их привычкой к простейшему, бесхитростному образу жизни, с их слиянием с натуральным режимом самой природы. Дойди-ка сейчас до чудесных швейцарских домиков с пастухами, у которых детишки еще растут неграмотными! Есть чем похвастаться! Но, с другой стороны, и нынешние детишки едва ли кончают школу особыми грамотеями, охоту к книге у них отбивает торчание перед телевизорами. Впрочем, это сторонняя мысль, побоку ее. Идите, идите с рюкзаком за плечами, нас все равно обгонят автомобили всех марок; ищите избушки с пастухами, все равно уткнетесь в нарядные «шало» для туристов, где напоят вас чистейшим парным молоком от коровы, стоящей тут же и обряженной в бубенчики и лепты. До самого Монблана вознесет вас металлический трос. Так говорят вам сейчас старые швейцарцы, сидящие с подобранными из мусорных ваз сигаретами и оставленными кем-нибудь чужими спортивными газетками, — одинокие старики на скамейках шумной Вокзальной улицы. Так охотно поддакнут и старушки на улицах, все чаще жалующиеся прохожим — только заговори сними! — о том, как немыслимо трудно прожить в нынешние дни на пенсию.
«Кризис материи» — проблема растущей техники, к добру она или к погибели для двуногого царя природы и для самой природы? Проблема научной мысли, могущество которой направлено сейчас не на устранение зол для человечества — скажем, на излечение склероза и рака, предупреждение старости, продление жизни, очищение земли, воды и воздуха, на полное изгнание душевных болезней, — мало ли помех для светлой жизни на земле! — а направлено могущество мысли на орудия истребления людей, на развязывание и разрушение атомов, кирпичиков, из которых строится все живое и заключает в себе свою силу сама земная материя? Сказки — мудрая вещь. В сказке о рыбаке и рыбке все давалось жене рыбака, чего бы ни попросила; но захотела она сама стать той силой, какая заключена в материи, и мы видим ее снова у старого, разбитого корыта. Цивилизации погибали. Мы знаем, сколько их уже погибло…
Так оборачивается главная сейчас проблема для Запада, если стать на точку зрения западного человека, уносимого течением куда-то «не в ту сторону» нормального движения истории. Отсюда судорожные попытки схватиться за прочный берег у битников и хиппи, у отдельных, живущих инстинктом и тем, что зовется «интуицией», творцов искусства. Только берег, за который они хватаются, кисельный, в нем нет устойчивости, он вне материального русла истории. И самое страшное в этой сегодняшней проблеме для Запада — это поиски спасения у другого берега, судорожное хватание за противоположный берег традиции, берег прошлого, слезы по «старине» у мамушек и бабушек на фильме «Хэйди». Потому что этот берег — устойчивый и земной — захвачен на Западе рукою церкви. В Цюрихе ярче, чем где-либо еще, наталкиваешься на использование церковью в самых реакционных, неправедных целях всего, что носит само по себе знак нравственного качества. Если в политике многих западных государств реакционнейшую роль играет партия «христианских демократов», то в швейцарской республике рабочий класс опутывают «национально-христианские союзы». Церковь удивительно использует того, чьим именем она прикрывается. Если Христос изгнал торговцев из храма, то Ватикан наклеил его имя на свои банки; если Христос «принес не мир, но меч» на землю, как символ борьбы за правду, то с благословения церкви в Швейцарии в 1937 году заключен «знаменитый» (как о нем пишут буржуазные экономисты) мир между хозяевами и рабочими самой крупной промышленности — металлообрабатывающей. И организации, возникавшие, чтобы бороться с предпринимателями за рабочих и права их, отодвинуты «национально-христианским союзом». С чисто японским «патернализмом» поддерживает он мир между волками и овцами, отечески пуская в ход даже осуждение «замороженной зарплаты» (Lohnstopp) и умилительную теорию «взаимных уступок»… Христианские (на мой взгляд, квазихристианские) общества ведут пропаганду за святые традиции прошлого, за добрый мещанский быт, за осуждение секса, алкоголя, табака и крайностей технической революции; вы можете на улицах Цюриха получить немало всяких листочков и брошюрок с картинками, умильно убеждающих вас в грехе мира сего и призывающих лечь овцою рядом с волком в райском примирении всех классов и состояний, чинов и подчиненных, ибо это положено так самим богом на грешной земле. Нельзя сильнее скомпрометировать любую хорошую вещь, если пропагандировать ее берется реакционность. Когда зрители расходились после «Хэйди», их ждала на углу скромная девушка в очках. Она держала в руках стоику таких иллюстрированных листочков и деликатно раздавала их мамашам и бабушкам. Когда я прочитала образец этой пропаганды, слезы сразу высохли у меня на щеках. Нельзя выводить «среднюю» из столкновения добра и зла. Между угнетателем и угнетенным, между злом и добром не может возникнуть компромисс. Как писал Песталоцци о воспитании швейцарцев, голос нравственности может быть лишь «да», «да» и «нет», «нет»…
4. Помню, как несколько лет назад (чтоб быть точной, потому что для меня это был исторический день, — в среду 16 ноября 1966 года) ко мне в маленький номер моей безалкогольной гостиницы в Цюрихе вошел седой, старый человек, тяжело опирающийся на палку, румяный, с умным лицом, — Эдгар Воог. С ним была очень моложавая и энергичная жена его Лидия Карловна Воог. Чудесный старик, напомнивший мне большевиков-ленинцев, провел со мной весь день, а его жена показала на следующий день всю старую часть Цюриха, все памятные ленинские места, дом, где Ленин и Крупская жили, ресторан с деревянными лавками старинного деревенского типа и уюта, где собирались большевики, — словом, ввели меня оба в коммунистический мир Цюриха.
Старый секретарь Партии труда, Воог, умер недавно. А я запомнила его интересные рассказы, как эта партия (фактически коммунистическая) образовалась в 1943 году, с какими тяжелыми условиями пришлось ей встретиться и бороться, как в октябре 1944-го в Цюрихе провела она первый свой съезд и стала называть себя Партией труда Швейцарии с Центральным Комитетом в Цюрихе.
Я жадно слушала его, и мне казалось, что дышу воздухом далеких ленинских лет. О многом хотелось спросить и узнать и особенно выяснить точку зрения Воога на историческую традицию. Я была огорчена и обижена словами Энгельса: перед самым отъездом мне пришлось прочитать «Гражданскую войну в Швейцарии» и в ней Энгельс высмеивает вдохновенную клятву на Грютли и весь эпизод с выстрелом Вильгельма Телля в яблоко на голове своего сына, прославленный пером Шиллера, — чуть ли не как легенду. Знаменитую борьбу маленького горного народа за свою независимость, против ненавистного насилия габсбургских чиновников он называет иронически борьбой «упрямых пастухов против напора исторического развития», борьбой «варварства против цивилизации»[172]. Неужели швейцарские коммунисты согласны с таким отношением к своей традиции, своему эпосу, своей ну пусть даже легенде?
И Эдгар Воог ответил мне на первый взгляд очень просто, но с мудростью большевика, которую я оценила в полной мере только сейчас. Он сказал: «Чтоб прошлое ожило как часть развития народа, нужны соответствующие Социальные условия. Когда Энгельс писал, их у нас но было, и сейчас нет. Нужна социальная революция. Социализм есть логическое продолжение истории человечества, поэтому он при своем установлении на земле по-новому обнаружит связь прошлого с настоящим, и оживет для народа его прошлое, будет служить культуре по-новому». Я записала этот ответ Воога в дневник своими словами, ручаюсь только за его точный смысл. Естественное логическое продолжение истории… Когда прошлое обнаруживает связь с настоящим. Когда воскресает оно по-новому.
Мы это собственными глазами наблюдаем на воскрешении у нас, в нашем новом мире, древних эпосов, исторических традиций, конкретных национальных форм, нужных и прогрессивных в создании новой, социалистической культуры. Наблюдаем у многих древних народов нашего Союза, и отрицать это — значит идти против фактической правды.
Проблема, угнетающая сейчас западного человека, неразрешима в старом общественном строе. Но как легко и ясно меняет она свою пессимистическую, мрачную окраску при переносе в мир социализма! Возникают в вашем представлении новые средства борьбы и разрешения ее, новые возможности отодвинуть кризис материи, изменить распределение, учет, направление борьбы за сохранность природы… Только-то, спросит читатель. Но я ведь делюсь вслух своими мыслями, а не научными рецептами спасения Европы. И если там, на Западе, лишний раз приходишь к мысли, что в социальной структуре общества лежит и единственное средство разрешения многих проблем, разве этого мало?
Июнь 1974
В библиотеках Европы
1
Я помню их — каждую, — как помнят встречи с любимым человеком. «Сосуществование» — термин политический. Но два разных мира, две разные формы человеческих взаимоотношений, вытекающих из разности отношений общественных, — это реальность, и, как говорится, ее же не прейдеши. Можно держать пари с любым нашим советским человеком, если он настоящий советский человек, что долго пребывать в чуждом для тебя мире не может не становиться тягостно, не может не зародиться тоска по своему, привычному миру, именуемая ностальгией. Однако же в каждой чужой стране есть место, куда туристы, к сожаленью, не попадают, а если и попадут случайно, по воле своего гида, на час, на два, — то лишь для беглого осмотра, и это будет впустую. Будет впустую потому, что единственное место в капиталистических столицах, где чувствуешь себя как дома, или — почти как дома; где забываешь течение времени; где можешь хотеть продлевать и продлевать свое пребывание, жалеть, что вынужден уехать, — существует не для «осмотра», а для работы. Единственное это место — библиотека.
Когда я представляю себе, в каком именно месте на белом свете, кроме родного края, было уютно и хорошо Ленину, — я вижу его склоненную голову, сидячую позу, глаза, устремленные неотрывно вниз, на страницу книги, руку с карандашом над тетрадью конспекта; я словно слышу страстные, рвущиеся на этот конспект, такие громкие — но совершенно безмолвные — ответные восклицанья на прочитанное, бесконечные подчеркиванья дважды и многажды (термин, употребляемый самим Лениным[173]). Горизонтальные, вертикальные знаки на полях — согласия, несогласия, возмущения, одобрения; нотабены, нотабены, вопросы, — и весь этот полный безмолвия активнейший разговор с книгой — в библиотеках Европы. В лондонской Ридинг-рум — читальном зале Британского музея; в Женевской библиотеке; в разбросанной по частям в разных зданиях общекантональной библиотеке Цюриха. Часы и часы полного переключения, полного духовного удовлетворенья в беседе с книгой, — беседе такой безмолвной и такой выразительно-громкой для нас, когда мы сами читаем сейчас философские тетради Ленина.
Может быть, именно образ Ильича, постоянного посетителя библиотек, где бы он ни был — по дороге в шушенскую ссылку, в затянувшейся заграничной эмиграции, во время огромнейшей загруженности государственными делами в Петербурге (Публичная) и Москве (Румянцевская), — придал мне храбрости переступать пороги библиотек Европы. Не любопытство и не простой интерес заставляли меня решаться на это. Всякий раз — необходимость. Всякий раз — собственные книги или статья, нуждавшиеся в уточнении, сравнении, проверке. Начало моему знакомству с этими островками общечеловечности, родственными между собой особенными — как бы выходящими за скобки капитализма, за скобки частной собственности и эксплуатации человека человеком, — качествами: бесплатностью, общедоступностью, демократизмом, готовностью помочь, уважением к человеку, пришедшему работать над книгой, и даже некоторыми чертами общего библиотечного быта, — положило несколько лет назад первое посещенье лондонской Ридинг-рум. За ним последовала длительная работа в парижской Национальной (дважды); в болонской, венецианской, пармской, миланской, флорентийской, римской и в других итальянских библиотеках и в архивах консерваторий; вторично — более длительное — в лондонской Ридинг-рум и, наконец, в Цюрихской, сейчас собирающей свои разбросанные части в одно здание. О каждой из этих работ есть что рассказать читателю. Начало им положил самый трудный визит — в Лондон.
Это было в годы огромной, государственного размаха подготовки ко дню юбилея азербайджанского классика XII века Низами Гянджеви. Только одна советская власть могла позволить себе такой размах для чисто гуманитарной цели. Освоить нашей культурой гениальное наследство Низами — значило перевести пять его больших поэм («Хамсе», пятикнижие) с фарси на русский, на языки национальных советских республик. А для этого — привлечь к делу крупнейших ученых-востоковедов, чтоб они создали точные подстрочники с необходимыми комментариями, и поэтов, чтоб они оформили эти подстрочники поэтически, воссоздали их художественно. Целый творческий коллектив приступил у нас к многомесячной работе.
Мне досталась самая трудная поэма, «Махсан-уль-Асрар» («Сокровищница тайн»), бессюжетная и философская. Подстрочники к ней сделал превосходный иранист, профессор Рамаскевич, — но что это были за подстрочники! Весь совершенно неведомый мне мифологизм мусульманства, незнакомые, странные метафоры, названия вещей и предметов из лексикона мусульманских суфийских сект, их одежд, их еды, их психических состояний, ссылки на случаи в жизни Магомета — например, потеря им зуба или взлет на седьмое небо… Я чувствовала себя беспомощной, заблудившейся в этой чужой и чуждой мне словесной пуще, где не могла найти опоры ни в одном образе. Взялась за Коран в переводе Саблукова, нашла себе советчика — не среди ученых, а в лице бакинского моллы, для которого Коран был практической частью его жизни.
Из чтения книг, где упоминалось о Низами, я узнала, что «Сокровищница тайн», состоявшая из длинных философских рассуждений (макалэ) и сопутствующих им коротких басен, была полностью переведена с фарси на английский только единственный раз, англичанином по фамилии Хиндлей. Но перевод его остался в рукописи и хранится в Лондоне, в библиотеке Британского музея… Я загорелась во что бы то ни стало добраться до этого перевода и прочесть его, а вокруг были скептики. Кто-то из ученых сказал мне, что получить место в читальне Британского музея, рассчитанной на очень скромное число посетителей, почти невозможно. Крупнейшие ученые всего мира ждут своей очереди месяцами. «Да и кто вас туда пустит? И что даст вам, в конце концов, этот английский перевод, явно любительский, оставшийся в рукописи?»
Но я не сдавалась и ничему не верила.
Дело в том, что молла, явно брезговавший присутствием своей ученицы — иноверки, женщины и, «наверное, большевички», — минутами забывал про нее, воодушевлялся и входил в религиозный раж. И тогда — в эти минуты — весь он преображался, язык его — очень плохой русский — креп до громадной силы пафоса, и я, только глядя на него, только вполслуха, начинала охватываться тем, что никакой крупный ученый не смог бы дать мне, — атмосферой мусульманского восприятия мира. Образы, казавшиеся абракадаброй, оживали и выстраивались в систему, как только мне удавалось схватить связь между ними; пафос — насчет какой-то потери зуба или мифического коня, возносящего пророка на «седьмое небо», — приобретал свой психологический смысл, свою связь с древними греческими мифологемами, с Олимпом, с Пегасом, с «ахиллесовой пятой», и даже с «Божественной комедией» Данте, к которому докатывалось в эпоху Ренессанса веянье Востока. Словом, я входила в Низами, в его мир, в его эпоху, в его окруженье, и, чем больше узнавала его, тем глубже и всеохватней хотелось узнать его. Мне открылась в те дни мудрость моего выбора в советчики не ученого-ираниста, для которого Низами был не «вчера» и даже не то далекое «вчера», какое немцы называют «плюсквамперфектум» (давно свершившееся), — а скромного живого моллу. Для этого моллы мой материал был его «сегодня»; вдобавок сильно атакуемое «сегодня», не признаваемое «новой властью» за истину, которую долг приказывает с «пеной у рта» защищать.
Надо сказать — мне вообще невероятно везло с моей «Сокровищницей тайн». «Литературная газета» неожиданно поместила в те дни статью Кристофера Мэхью, сотрудника тогдашнего Британского совета в Лондоне, ведавшего советскими вопросами и относившегося к нам отнюдь не с «симпатией». Статья касалась возникавшей проблемы обоюдного туризма, и Кристофер Мэхыо ратовал в ней не только за коллективный туризм (группами, с гидом), но и за возможность индивидуального туризма, то есть поездок в одиночку. Вслед за ней появилась в «Литературке» другая, наша статья, решительно критиковавшая Мэхыо за его «индивидуальный туризм». И вот, приехав по командировке в Лондон, я в первый же день по приезде очутилась лицом к лицу не с кем иным, как с Кристофером Мэхыо.
В этот день в советском консульстве был скромный (не посольский) прием для наших, только что прибывших, работников просвещения, и Мэхью оказался в числе приглашенных англичан. Нас подвели друг к другу знакомиться. Услышав его имя, я воскликнула: «Мистер Мэхью! Я читала вашу статью в «Литературке»! И совершенно согласна с вами насчет индивидуального туризма…» Справа и слева ребра мои ощутили предостерегающее нажатие — чтоб не зарывалась. Все-таки ведь «не симпатизирует советской власти». Но мое неосторожное восклицанье было сделано от души — лично для меня коллективный туризм был мукой. С плохим слухом и зрением, но всегда с собственными познавательными целями — узнать для работы то-то и то-то, повидать для работы то-то и то-то — я просто прозябала бы в группе с гидом, теряя время на осмотр ненужного мне, знакомого с самой ранней юности и не имея возможности почитать или повидать нужное. И тут — неожиданно — на лице Мэхью расцвела улыбка. Улыбка удовольствия на лице сугубо официальном. Не просто улыбка — но знакомая мне, близкая мне, — улыбка автора. Кристофер Мэхью улыбнулся как автор неожиданно признанной и похваленной собственной статьи. Лед сдвинулся, завязался разговор.
— Вы приехали как туристка?
— Нет, мне до зарезу надо (heighly essential! — на плохом английском) позаняться в библиотеке Британского музея, но заранее знаю, что это очень трудно, невозможно, из-за недостатка свободных мест…
— Где вы остановились?
Называю гостиницу. И всё. Утром мне принесли элегантный конверт с печатью Британского совета на конверте. В нем было нечто вроде наших анкет, но с одним-единственным вопросом: над чем именно хочу заниматься в библиотеке? И письмо — с просьбой заполнить ее и «отправиться с этой анкетой в дирекцию библиотеки», — когда и в котором часу мне будет удобно.
Сейчас этому первому моему свиданью со знаменитой Ридинг-рум уже много лет. Но хорошо помню поспешность, с какой я использовала это «когда и в котором часу»: захватив тетрадку и карандаш, я тотчас помчалась, держа перед носом раскрытый план, на Руссель-сквер, к великолепному зданию музея, окруженному массивной решеткой. Сейчас это здание, как почти все в консервативной Англии, начиная с денежной системы и кончая числом этажей на новых жилищных корпусах, модернизируется, поддалось «веянью времени», — и милый, маленький, но такой вместительный, маленький, но такой огромный для того, кто имел счастье работать в его круглом храме под высоким, полным воздуха куполом, читальный зал будет разобран, перестроен, увеличен, а может быть, уже перестроен и увеличен, а может быть, и вовсе покинут и обрел бытие в другом, резко расширенном и модернизированном архитектурном пространстве? Но, как и множеству людей, англичан и неангличан, мне жалко его, жалко места, где сиживал Владимир Ильич, где дважды посчастливилось работать и мне.
До своей перестройки (если она сейчас уже произошла) читальня Британского музея выходила из своей тес-поты своеобразным разделением пространства и очень экономным его использованием — первое для посетителей, второе для книг. Очень мало читателей сидело в самой Ридинг-рум, центральной круглой комнате. Рукописное отделение имело свой зал, газетное — на втором этаже; новые, только что вышедшие книги помещались для читателя тоже в особой комнате. Книги — помимо фондовых помещений — тесно смыкали свои ряды поясами-полками по вогнутым стенам центрального круглого зала, и к ним вели лесенки, и шли они друг над другом, как ожерелья, — и эти ячейки книг, идущие вдоль стен по стройному кругу, казались на первый взгляд, в их музыкальном подъеме чуть ли не до самого купола и с фигурками человечков, обходивших по узким железным дорожкам, словно по мостикам, их бесконечные этажи, чем-то вроде пчелиных ульев, хранящих медовые соты человеческой мудрости. За два срока, разделенных годами, когда мне довелось работать в библиотеке Британского музея, у меня ни разу не было чувства тесноты, ни разу не приходилось подолгу ждать книгу или свободного места.
В этот мой первый приезд — как, собственно, и во второй — сидеть в самом «читальном зале» мне не пришлось, — я прошла из дирекции в длинную и узкую, заставленную удобными пюпитрами со стойками, комнату рукописей. Заведующий очень скоро принес и расположил на стойке, как ноты перед оркестрантом, довольно неприглядную рукопись Хиндлея, с первым переводом моей «Сокровищницы» на европейский язык. Наклейка на ней, списанная в тетрадку, пышно гласила: «John Haddon Hindley. Sketch of Makhsan ul Asrar. Additional 6961. Br. Mus.». И эго в самом деле был не столько дословный перевод, сколько «скетч». Я сразу же нашла в нем расхождения с подстрочником Ромаскевича и совершенно не нашла, даже в намеке, тот великий социальный смысл, какой выявляли мы, советские переводчики, в глубинной мудрости Низами. Сидя в уютном уголку «восточного отделения», предназначенного для чтения рукописей, и разбираясь, при помощи лупы, в неровных строках «любительского» почерка Хиндлея; глядя на эту рукопись, еще недавно бывшую несбыточной мечтой, а вот сейчас, сию минуту, ставшую реальностью, я вдруг необычайно сильно почувствовала разницу между «они» и «мы» — и огромную передовую мощь марксистского анализа. Большевиков «они» на Западе представляют себе разрушителями, какими-то Геростратами, молотком разбивающими античных «Фидиев». А между тем в руках у нас — вместе с марксистской диалектикой, марксистским историзмом в подходе к произведенью искусства — находится как бы «кристалл времени», тот самый кристалл, который Пушкин интуитивно назвал «магическим» («И даль свободного романа я сквозь магический кристалл еще не ясно различал…»), — кристалл времени, стереоскопично раскрывающий текст. И мы с удивительной ясностью глядим и видим сквозь этот кристалл — сразу, одновременно, перспективно в пространстве — его исторической фон, среду, социальную направленность, связь человека с эпохой, обществом, судьба его, — как растение с корнем в земле, с листвой и кроной над ним, — и все это вместе с общим земным пейзажем вокруг него. Для меня «Сокровищница» говорила живым голосом исторического человека и весь этот человек возникал, был видим и был увиден, как живой… А тут, в рукописи, лежало мертвое для переводчика «произведение, написанное калямом», восточным пером, восемь столетий назад, чуждое современности, нужное только библиотечно: Additional 6961, дополнительный № 6961. Но кроме этой огромной разницы, кроме чувства ожившего прошлого для марксистского литературоведения, чувства связи между тем, что было, и тем, что есть, — постепенно добавлялось мне и другое чувство, рожденное, быть может, именно благодаря первому: чувство схожести между библиотеками всего мира, пронесенной через века…
Пока я сидела и мудрствовала над Хиндлеем, жизнь вокруг шла своим чередом. Несколько стариков, сидевших рядом, погруженных в свои рукописи, — с перхотью на старомодных воротниках, с очками на побуревшей переносице, с потрепанными, как у меня, тетрадями; свет из-под зеленых абажуров, падающий на страницы в сумерках полутемной комнаты; фолианты, кучкой, с обычной жадностью читателя, наложенные сбоку, хотя до них, должно быть, неделя пройдет, покуда они понадобятся, — и… Милый, никогда раньше не виданный, но абсолютно знакомый человек, тоже в очках, но совсем не старый, тоже одетый не по моде, приносит мне большущий печатный том, — это каталог всех армянских рукописей, находящихся в библиотеке Британского музея. Моя армянская фамилия внушила ему эту милую интернациональную библиотечную любезность. И я, чтоб не огорчить библиотечного работника, с благодарностью просматриваю богатейший каталог.
В сущности, библиотечные работники схожи между собой; и даже те, кто работают с книгой, читатели, — здесь они мало чем отличаются в своем библиотечном быту от наших читателей, — именно в быту. И весь этот быт — система каталогов, карточки для заказов, сдача, получение, отметки для оставления книги за собой, буфет — где-нибудь на втором, третьем, этаже, раздевалка, сам воздух, чуть-чуть пахнущий шелушеньем книжного тела — бумаги, картона, кожи, — наконец, человеческий типаж… У нас так часто цитируют слова Горького о книге, так часто пи-тут о значении книги в жизни человека — и так мало сказано вообще о сущности библиотеки, — кроме того, что библиотека — жилище книги. Но главная суть библиотеки совсем не в книге, не в том, что она хранит в своих стенах книгу. А в том, что в стенах ее — по режиму, почти схожему всюду, во всех странах мира, — книга непрерывно читается, движется из рук в руки, находится в потреблении не одного-двух, не десяти — двенадцати, а сотен и тысяч читателей. Сотни тысяч — в тишине и почти беззвучии множества библиотек — работают одновременно над книгами, и работают их мозги, и функционирует книга, раскрывая и отдавая себя читателю, — «и так как все материальное как бы незримо «лучится» — отдается в воздух — своеобразным излучением мозговой работы, получением-отдачей, — то само пребывание в библиотеках не нейтрально для человека. Оно происходит в особой библиотечной атмосфере, чем-то поддерживающей и повышающей уровень вашей работы. Сидеть над книгой у себя, в одиноком кабинете, или работать с книгой в переполненном читателями зале — никогда не было и не будет одним и тем же. Вот в этой атмосфере, как и в черточках одинакового быта, и родится тот особенный демократизм, о котором я упомянула выше…
Второе мое занятие в Британском музее, спустя несколько лет, было уже и сложней, и привычней. Я уже не только должна была, но и хотела, и хотение, как аппетит во время еды, приходило в чтении. Должна была изучить «Таймс» восьмидесятых годов прошлого века (в газетном отделе). И захотелось непременно прочесть огромный томище Сетона-Ватсона «Русская империя 1801–1917»[174], только что вышедший, как писала «Sunday Times», и еще не попавший в общий каталог (значит — в комнате новинок). Тут в мою жизнь вошли два человека — мистер Фэйре, специалист по румынскому языку, работник дирекции, и ученая негритянка, имени которой не знаю, выдававшая мне «Таймс» в газетном отделении. С мистером Фэйрсом я долго потом состояла в переписке. Тихий и малословный (в библиотеках нельзя говорить громко), он каждый раз показывал мне место работы, подарил несколько фотографий ленинских документов, показал в круглом читальном зале, где Ленин (работавший под фамилией Рихтер) мог сидеть в соответствии с заглавной буквой указанной им фамилии, устроил мне чтение Сетона, которого я в конце лондонского пребывания, ценою голодной недели, все-таки успела купить, — словом, был добрым товарищем и помощником. Негритянка — при моей очень плохой памяти на лица — запомнилась мне вся и стоит сейчас передо мной, как живая. Очень внутренне похожая на ученых женщин вообще, со сдержанностью и быстротой в работе, скупая на каждую лишнюю трату времени, она поразила меня в первую минуту надрезами (несколько беловато-розовых полос вдоль правой и левой щеки), казавшимися незатянувшимися ранами от ножа. Я узнала впоследствии, что в африканских семьях, кажется — знатных, принято так надрезывать щеки ребенку еще в самом раннем детстве. Глубина Африки! Древний обычай! А вместе с ним, рядом с этим обнаженным, как десна, розоватым мясом, — европейская интеллигентность взгляда, уверенный жест специалиста, лоб мыслителя, строгие черты лица. Газеты «Таймс», переплетенные в огромные комплекты, за целый десяток прошлых восьмидесятых годов, было мне очень трудно таскать на свое читательское место. Снисходительно улыбаясь, она рационализировала для меня мое чтение, терпеливо убедив брать для работы но больше одного комплекта и помогши мне дотащить его, а все остальные сложив в одно укромное место, ловко отметив их карточкой, на которой она быстрым и красивым почерком проставила номер моего читательского билета. И все это она проделала с особым выражением лица — как старшая для младшей, хотя была моложе меня по меньшей мере на сорок лет…
2
Вот этот опыт чтения в «королеве всех библиотек мира» — лондонской Британского музея — сразу как бы окрылил меня на смелое вторжение во все другие, и прежде всего — на штурм Национальной в Париже. Узкая уличка герцога Ришелье была черт знает как далеко от моей гостиницы в тихой и фешенебельной части Парижа, в районе Военной школы. Но метро в обеих столицах, английской и французской, было освоено мною удивительно быстро и прочно. Их внутренний распорядок с цветными электрическими надписями, с бесплатно раздаваемыми и отлично составленными планами, с названьями станций, что-нибудь обязательно напоминающими из прочитанного или знакомого с детства, и с вежливыми ответами на вопросы, которые, наверное, жужжали в уши работников метро, как тучи летних комаров, — все это облегчало освоение. Кстати сказать, не надо смотреть на старых людей как на инвалидов. У стариков, как и ребят, — одна общая черта: любовь к самостоятельности, «я сам», «я сама». Если вы добиваетесь нужного вам собственными усилиями, вы это запоминаете раз навсегда. В детстве: я уже; в старости: я еще могу…
Я еще могла тогда (а вот сейчас, восьмидесяти восьми, вряд ли!) бесстрашно спускаться в метро, знать, где пересесть, где выйти, перейти улицу — в потоке переходящих, спокойно выхлопотать себе право на посещенье, узнать — куда, на какой этаж, — и так далее, очень много сложных «далее». Первое знакомство с менее величественной и больше похожей на старую нашу Румянцевскую парижской Национальной привело меня в ее отдельный корпус, где помещается музыкальный отдел и архив консерватории, — и там Вергилием моим стал не француз, а русский, музыковед (если не ошибаюсь — президент европейского общества музыковедов, во всяком случае очень занятой, но удивительно дружелюбный и знающий), — господин Федоров. Все дни моей работы над чтением архивных документов — нот, партитур — Йозефа Мысливечка он был мне советчиком и помощником, и с его помощью я нашла неизвестный подлинник, точнее, снимок с доселе неизвестного подлинника — медальонного портрета чешского композитора; с его помощью заказала переснять его для меня и получила свой заказ в Москве. Этот снимок впервые был напечатан во втором издании моей книги о Мысливечке… А второй раз, опять через несколько лет, я уже сидела в огромном общем зале читающих — в главном здании библиотеки. И здесь, при всей своей глухоте и застенчивости (а может быть, и благодаря им), завела знакомства с общительными, сразу вступающими в разговор заинтересованно, на тему вашей работы, опять же типичными, работниками библиотеки, главным образом ее каталогов. Каталоги имели свою систему в отличие от английской.
В Лондоне я их почти не видела, хотя главные из них, с изумительной экономией пространства, помещались чуть ли не на уровне ваших рук, когда вы подходили к окошечку выдачи книг. Эти окошечки, как и весь зал, располагались в небольшом внутреннем кругу этого круглого зала, а под ними, в глубине полок, и лежали каталоги. Но, помнится, они не понадобились мне, поскольку помогал достать нужную книгу сам мистер Фэйре. А тут, в Париже, вы и шагу не ступили бы, не найдя самостоятельно нужное для вас в каталоге и не проставив в бланке заказа все таинственные буквы и цифры — как музыкальные или, верней, библиотечные ключи к нахождению этого нужного.
Но сперва надо было найти помещенье самих каталогов, — и в этом, как вообще в принципе каталогизирования, в сложном мире классификации, парижская библиотека отличается, насколько я успела узнать, но только от лондонской, но, пожалуй, и ото всех других европейских книгохранилищ, где приходилось мне работать.
Из большого читального зала вниз, как в винный погреб, шла лестница с широкими и удобными ступенями. Почему я вдруг употребила это сравнение с винным погребом? Воздух внизу, в подвале — просторном, светлом, разделенном на многие части ящиками, стойками, рядами, — воздух мне показался особенным, сгущенным. Может быть — от тысяч названий, сотен подразделений, десятков отделов. Я не могла сразу уловить систему. Тут было размещение по годам, по языкам, по государствам и странам, — тут была советская и русская литература и социалистических республик. И, наверное, — по обилию разделений — здесь были не все книжные богатства, а только некоторая часть наиболее спрашиваемой, наиболее популярной литературы — как бы верхний слой каталогов общего читального зала.
Я не сразу нашла нужное, и мне очень охотно помогли сидевшие за отдельными столиками заведующие каждой «ротой» каталогов. После впечатления «сгустки» воздуха родилось другое ощущенье: чего-то военного — в системе классификации. Не по внутреннему, а по внешнему признаку — по годам, языкам, странам, вместо преобладания — как у нас, в наших каталогизациях, — социального признака, по содержанию. Но разумеется, все это постигалось на ходу, при первом взгляде, — и могло быть в корне ошибочным. Здесь, в этом царство классификации книг, можно было поговорить, не умеряя голоса, с соседом, с работницей-каталогисткой, посидеть и просто почитать названия, чему-то учась от одного их следования, — только следования. И записывать себе в тетрадку что-то впрок, на всякий случай…
В билете для пропуска был обозначен срок чтения. Как я заметила, мужчины, главным образом вахтеры, не были очень придирчивы. Уж не помню, как вычеркивались или отмечались в Париже отработанные дни, но это но всякий раз делалось, оставались как бы «неиспользованные» талоны, срок удлинялся, — да в вообще совсем не трудно было продлить его в дирекции даже иностранцу. Женщины на всех библиотечных постах были аккуратней в соблюдении правил. Когда из парижской Национальной я попала в итальянские библиотеки, нельзя было не заметить огромного преобладания среди библиотечных служащих, на всех постах — до директора включительно, — женщин. В Италии почти все, с кем я имела дело, были «докторами» — доктор такая-то, доктор такая-то. Фактически это еще не было научным званием, потому что все кончающие западные университеты выходят оттуда со степенью доктора — доктора вообще, — как у нас в России все мы, до революции, получали при окончании наших университетов званье кандидата; а первой действительно научной степенью, которую следовало защитить, была магистерская. В Европе, во всяком случае во Франции, научная степень доктора как ученое звание пишется не одним словом «доктор», а тремя словами («docteur ès sciences»). Но все же я первое время удивлялась обилию докторесс в Италии. Мне импонировало такое большое количество работников женского пола в области высокоинтеллектуального труда, особенно — во главе библиотек, на посту директоров. И сколько их, любезных и милых, запомнилось мне — всякий раз на фоне особого мира Италии, особого города, имеющего не только свой городской облик, но и свой цвет, окраску зданий, архитектурные комплексы в природу, как бы вписывающую данный город в свой собственный пейзаж.
Началась моя работа в Италии совсем необычно. Венеция. Сейчас в Венецию едут с деловой целью, пожалуй, только на знаменитый кинофестиваль. И времени у них в обрез, и дел много, и от нужных бесед не откажешься. А все-таки трудно себе представить, чтоб иностранные артисты, операторы, кинорежиссеры, приехав в Венецию, не постарались увидеть самое Венецию. Но у меня получилось так, что я сразу влезла в свои оглобли, как местный трудящийся люд, и мне просто не оставалось никакого интереса к самой Венеции, как если б я жила в ней с первого дня моего рождения. Ритм трудового дня, и особенно в позднюю осень, тесно связан с материальным восприятием времени. Для того, кто многие часы трудится в закрытом помещении, как-то исключительно остро ощущается переход времени от света к сумеркам, всегда связанный или с дорогой на работу, или с выходом после работы на воздух. Только очень большое искусство может передать эти переходы из одного времени (утро) до другого (сумерки) не через психологию или развитие действия, а через отдельную от вас, большей частью совсем незаметную жизнь солнца, неба, воздуха. Но кроме искусства, создающего на своих вершинах в одних красочных мгновениях то, что часами переходит из одного состояния в другое, — простой, ежедневно трудящийся человек невольно замечает и запоминает, иногда — бессознательно, складывая в котомку своей памяти. Я говорю сейчас о том, что пережила сама.
Было еще очень раннее утро, когда я выходила из своего маленького, грязноватого венецианского отеля, из узкой улички на площадь Сан-Марко. Меня будил равномерный хруст воды под веслами, — это гондольеры, единственные настоящие гондольеры, еще уцелевшие в Венеции для черной работы («чистая» работа перешла к моторным трамвайчикам, бороздившим большие каналы и залив), — они перевозили в отели и рестораны сырую провизию по грязным, тыловым, цвета сизой жести, канальчикам между глухими стенами зданий. Моя дешевая комната единственным своим окном выходила на такой канал. Я торопливо одевалась и, не глядя ни направо, ни налево, с неизменной тетрадкой спешила к знакомому причалу на набережной, где останавливался водный трамвай. Там уже стояли такие же, как я, рабочие люди с красными от холода носами и с перламутровым отблеском поздней, прикрытой редкими облаками, зари на щеках. Заря эта «кусалась», так по-ноябрьски холодно было в этой царице Адриатики. Мы стояли на борту и притопывали ногами, чтоб согреть их, а пароходик быстро, по-собачьи, бежал к отдаленному острову Сан-Джорджо. На этом острове находилось нужное для моей работы учрежденье, Фондационе Чини, с библиотекой, где хранилось так называемое «собрание Роланди», собрание старых оперных либретто восемнадцатого века. Пока совершался мой переезд, я думала, — какое наслажденье представлять себе материал своей работы, когда есть для этого свободное время! Думала о том, как ошибаются естественники и физико-математики, воображая себя единственными эмпириками, исходящими из опыта, экспериментов, накопления фактов, — а нас, гуманитариев, считая пустыми теоретиками, исходящими из пустых общих положений, ни на каких экспериментах в своей воздушной теории не основанных. Я как бы говорила самой себе: ну а старые либретто — это не эксперимент, не накопление фактов? Вообще вся наша большая работа, — моя, например, воскрешающая образ малоизвестного чешского музыканта, Йозефа (Джузеппе — в Италии) Мысливечка, — разве это не цепь накоплений и опытов, прежде чем обобщить? Кому нужны старые, покрытые пылью веков, ставшие от старости ломкими, как мертвые кости, либретто, лежащие без движенья два столетия? А вот нужны, нужны, не меньше, чем мушиные крылья или лягушечьи нервы для физиолога, для биолога, — и делать я с ними буду то, что и они, в своей мнимо уникальной экспериментальности, делают. Для того чтоб понять и обсудить одно-единственное нужное мне либретто одной из опер Мысливечка — я заказываю сотни других либретто и все их внимательно читаю; и конспектирую многие факты, самые неожиданные, самые разные. Например, тот факт, что все они играли в свое время роль наших «программ» — перечисляли, вместе с действующими в опере лицами, имена их исполнителей, певцов и певиц; тот факт, что большая часть оперных текстов принадлежала «королевскому поэту» того времени, писавшему под величественным псевдонимом Метастазио; тот факт, что на один и тот же его текст писали несколько разных композиторов, иногда в одно и то же время; тот факт, что тексты эти были преимущественно исторические, а не выдуманные; и для доказательства такого историзма в конце каждого изложенья содержания оперы стояли ссылки на уважаемые источники — Геродота, Плутарха, Тита Ливия и других, при этом с указанием названья труда, главы, страницы… совсем, как в диссертации… А мы-то! Мы, зрители, даже у Шекспира, в его сказочных вещах, не подозревали документальной основы итальянских хроник… Но дальше, дальше с фактами. Разве не факт, что в либретто, на месте исполнителей женских ролей, стояли мужские фамилии с обозначеньем «сопранист»? Это были кастраты с ангельскими голосами, — и вам странно было представить себе некоторых певцов, друзей Мысливечка, героев романов с певицами, например с Катариной Гариэлли, — кастратами.
Накопление фактов, идущее в быстрой, горячей последовательности, как пламя костра из сухостоя, перебрасывалось из простой их записи — к более сложным действиям, где ведущее место захватывало себе творческое мышление, — к аналогии, сопоставлению, сравнению, первому, еще робкому выводу, к подтверждению робкого вывода — уже твердому выводу, а из него — к поискам обобщения и к самому обобщению, уже относящемуся к теме моей книги, к образу Мысливечка: насколько грамотно и чаще других он упоминал об источниках, с кем, когда и в каком театре, в каком городе он ставил свои оперы, сколько времени тратилось тогда на переезд из одного города в другой; какой сезон был наиболее чреват спектаклями, на какие праздники (число, месяц и где) приходились фиера (ярмарка, связанная с именем святого данного города, — например, Антония Падуанского в Падуе) и карнавал — венецианский, римский… И вместе с накоплением и ростом научного инструментария мысли, умения сравнить, сопоставить, открыть, обобщить — нарастало и вдохновенное знание пусть только лишь клочка действительности, но настоящего клочка настоящей действительности, без которого немыслима позднейшая лейка цельного, живого образа исторического человека… А все из бумажных клочков, казалось бы уже отслуживших свою практическую жизнь на земле. Пусть — одна деталь, но деталь, ведущая к другим деталям и в конечном счете — к обобщению. Вот наше мушиное крыло или волосок лягушечьего нерва, уважаемые товарищи ученые!
Я работала в храмоподобном помещении библиотеки с огромным увлеченьем — и заражала им уже близкую и дорогую мне библиотекаршу, синьору Ритту Казаграпде. Наклонив свою красивую итальянскую головку, она с интересом разглядывала мои записи. Она мне рассказывала но время пауз, что такое «собрание Роланди», как пополнялись покупками сокровища больших библиотек и сколько неожиданностей приносили иногда эти покупки, если продавали их невежественные наследники после смерти коллекционера. Бывали настоящие открытия… Разве не роман, что дивная оратория Мысливечка («Абрамо и Исаако») долго приписывалась Моцарту, хотя сам Моцарт называл ее чудным творением Мысливечка, восхищавшим слушателей… и только во Флоренции открыта подлинная рукопись, восстановившая настоящего автора. Мы с Риттой Казагранде беседовали по-французски. Общность захватывающего нас интереса как-то стирала разницу языков, национальностей, общественных структур наших отечеств, где мы обе жили, — и казалось вдруг, что это не утопия — коммунизм будущего, когда люди заговорят на языке, понятном для всех племен и народов на земле…
Но — вдруг ощутилось безмолвие и пустота в зале. Сотрудники уже разошлись, никого из читателей не осталось. Заметно стало, что уже зажглись наверху золотые звезды электричества. Ритта Казагранде пересидела со мной все свои служебные часы. Мы обе стали убирать материал в папки, а папки запирать в шкафы, обе спешно оделись и — вышли. А день уже прошел, нет — он проходит, истаивает, как истаивает к концу сама жизнь человеческая, — и в воздухе новое холодное веянье уже не утра, а сумерек, и контуры на горизонте очерчены не розовым перламутром, а красочной гаммой крови, умирающей крови солнца. Не так ли переходит и возраст человека — все дальше, дальше к последней, уже болезненной, красноте конца дня?
В другом месте я уже рассказала читателю более подробно о том, где и с кем пришлось мне работать в Болонье, Парме, Флоренции, Милане, Риме, Ватикане и Неаполе — и сколько милых молодых докторесс узнать на своем долгом веку. Живы ли они (ну конечно!), работают ли все там же (возможно) и принес ли им истекший «год женщины» хотя бы повышение зарплаты? Мне сказали впоследствии, что преобладание женщин в культурных учреждениях, особенно в библиотеках, вызвано недостаточной цифрой жалованья, из-за которой мужчины с университетским образованием не идут туда, а женщины с таким же образованием («докторессы») идут, и потому их больше. И как это хорошо, что они идут туда, принося с собой добросовестность, увлечение работой, живое и сердечное отношенье к читателю!
Милые докторши, так щедро тратившие свое время на меня, читателя из далекой Москвы, — Ритта в Венеции, Эмма Коган-Пирани, Ванда Монтанпро, Эдуарда Мози, милая маленькая Мафальда Сангалли из миланской библиотеки при знаменитой пинакотеке Ля-Брера, Дорис Кун из Цюрихской библиотеки, Луиза Павелини в римской редакции журнала «Театральной энциклопедии»[175] и уже старый мой друг, коммунистка Альдипа Филиппи из знаменитой болонской библиотеки Падре Мартини, — прочтете ли вы когда-нибудь эти строки, вам посвященные? Я заканчиваю их запоздалым горячим приветом вам — с истекшим «Годом женщины»!
Переделкино, 1976
МАРИЭТТА ШАГИНЯН
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСЬМА
МОСКВА
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
1977
Р 2
Ш 15
Ш 70302-261 119-77
083(02)—77
Мариэтта Сергеевна Шагинян
ЗАРУБЕЖНЫЕ ПИСЬМА
М… «Советский писатель», 1977, 656 стр. План выпуска 1977 г. № 119. Художник Б. А. Мессерер. Редактор А. Д. Зеленов. Худож. редактор Е. И. Балашева. Техн. редактор И. М. Минская. Корректоры В. Е. Вораненкова и Т. Н. Гуляева
ИВ № 414
Сдано в набор 5/IV 1977 г. Подписано к печати 26/VIII 1977 г. А09551. Формат 84×1081/32. Бумага тип. № 1. Печ. л. 20½ Усл. печ. л. 34,44. Уч. — изд. л. 36,0. Тираж 100 000 экз. Заказ № 345. Цена 2 р. 60 к. Издательство «Советский писатель». Москва Г-69, ул. Воровского, 11. Тульская типография «Союзполиграфпрома» при Государственном комитете Совета Министров СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли, г. Тула, проспект им. В. И. Ленина, 109
Примечания
1
«Cahiers de la Commission économique de la fédération de l’Isère du P. C. F.», № 1. Problèmes de la Région Grenobloise. Conférence présentée par Jean Giard à L’Université Nouvelle de Grenoble, Novembre, 1964, p. 5–6.
(обратно)2
«Cahiers de la Commission économique de la fédération de l'Isère du P. C. F.», № 1. Problèmes de la Région Grenobloise. Conférence présentée par Jean Giard à L’Université Nouvelle de Grenoble, Novembre, 1964, p. 10–11.
(обратно)3
См. И. Соллертинский. Гектор Берлиоз. Л., 1935, стр. 50. См. также о Берлиозе статью-новеллу Л. Н. Глумова в журнале «Советская музыка», 1934, февраль.
(обратно)4
Ф. И. Тютчев. Стихотворения. Л., «Советский писатель», «Библиотека поэта», 1962, стр. 322.
(обратно)5
Joseph Jirard. Avignon. Paris, Edition Alpina, 1962, p. 22.
(обратно)6
«La journée Vinicole», journal quotidien des Buissons, 39me, Anneé, № 11472.
(обратно)7
Paul Verlaine. Choix de Poésie. Paris, 1891, p. 79–80.
(обратно)8
Я была счастлива получить через «Литературную газету», где статья моя была первоначально напечатана, сердечное слово благодарности за нее, адресованное мне в личном письме Альбером Швейцером в газету, незадолго до его кончины. — М. Ш.
(обратно)9
«Le présent se reticle dans le passé, l'avenir dans le présent» (франц.).
(обратно)10
Xостесс — хозяйки, популярная фигура на выставке: ловушки в каждом павильоне имеют свою форму, их задача — помочь посетителям.
(обратно)11
«Правда», 1958, 25 июля.
(обратно)12
Дж. Бернал. Наука и истории общества. М., Издательство иностранной литературы, 1956, стр. 402.
(обратно)13
Статья Джеральда Барри в журнале «New Statesman», 19 May 1958, p. 592, «Expo 58».
(обратно)14
«Путешествие вокруг света на корабле «Бигль», привожу по старому переводу под редакцией А. Бекетова, т. I. СПб., 1865, стр. 115.
(обратно)15
Дж. Бернал. Наука в истории общества. М., 1956, стр. 423–424
(обратно)16
Обо всем, что я тут пишу, читатель может прочесть в интереснейшей статье В. Белкина («Известия», 1958, 30 июля).
(обратно)17
«Правда», 1958, 1 августа, статья В. Александрова.
(обратно)18
«Спутник», 1958, 10 мая, № 3.
(обратно)19
«Спутник», 1958, 10 мая, № 3.
(обратно)20
Em. Lengui. 50 ans d'art moderne. Exposition universelle et internationale de Bruxelles, 1958. Каталог «Интернационального Дворца искусств».
(обратно)21
О родившемся и выросшем в России художнике-реалисте Грегорио Шилтяне смотри монографии: 1. Waldеmar George. Sciltian. Milano, Lacca; 2. Gregorio Sciltian. Pittura della Gealta. Estetiea e Tecnica Hoepli. Milano.
(обратно)22
Взято В. О. Лихтенштадтом в его книге «Гёте» (Госиздат, 1920, стр. 379) из веймарского издания «Sophien Ausgabe», т. XXV, ч. II, стр. 252 (добавление к «Годам странствий Вильгельма Мейстсра»). Привожу в переводе Лихтенштадта.
(обратно)23
«Palais Inelrnational de la science», 1958, p. 12.
(обратно)24
Стенограмма заседаний конгресса ПЕН-клуба в Лондоне, июнь 1956 г.
(обратно)25
См. библиографию в книге: Э. Линдгрен. Искусство кино. М., Издательство иностранной литературы, 1956.
(обратно)26
Oliver Bell. The British Film of the Future, pp. 176–178. «British Film Yearbook 1949–1950».
(обратно)27
Oliver Bell. The British Film of the Future, pp. 176–178. «British Film Yearbook 1949–1950».
(обратно)28
Там же.
(обратно)29
Oliver Bell. The British Film of the Future, pp. 176–178. «British Filin Yearbook 1949–1950».
(обратно)30
Charles Dickens. Posthumous Papers of the Pickwick Club. М., Издательство иностранной литературы, 1949. Обо цитаты на стр. 830.
(обратно)31
Charles Dickens. Posthumous of the PuckwicK Club.
(обратно)32
Цитируемый материал взят (за исключением специальных указаний) из книги «Blake’s Poems and Prophecies», со вступительной статьей Маркса Плоумэна («Everyman’s Library», № 792), и G. К. Сhеstеrtоn. William Blake, 1910.
(обратно)33
«Marxism Today», 1957, October, p. 16.
(обратно)34
Там же, p. 21.
(обратно)35
Иоахимиты — приверженцы Иоахима де Флоре, свободного толкователя Евангелия и зачинателя многих ересей.
(обратно)36
«Истории средних веков», т. II. М., Соцэкгиз, 1939, стр. 209.
(обратно)37
G. М. Trevelyan. English Social History. A Survey of Six Centuries. Chaucer to Queen Victoria, Longmans, Green and C°, 19–16, p. 139.
(обратно)38
«История средних веков», т. II, стр. 208.
(обратно)39
Там же.
(обратно)40
Я привожу цитаты из Шекспира большею частью в своем прозаическом переводе из превосходного издания Эрнста Риса. «Shakespeares Comedies». «Everyman’s Library», 1913, v. 1, p. 110, Другие издания всякий раз оговариваю, — М. Ш.
(обратно)41
Шекспир, т. IV. Под редакцией С. А. Венгерова. СПб., издание Брокгауза и Эфрона. 1903, стр. 409.
(обратно)42
Шекспир, т. III. СПб., издание Брокгауза и Эфрона. 1903, стр. 320.
(обратно)43
Там же, т. IV, стр. 381
(обратно)44
Мишель Монтень. Опыты. Кинга первая. М., 1954, стр. 266.
(обратно)45
Шекспир, т. IV. СПб., издание Брокгауза и Эфрона, 1903, «Буря», стр. 464.
(обратно)46
Шекспир, т. I. СПб., издание Брокгауза и Эфрона, 1903, стр. 380.
(обратно)47
Там же, стр. 480.
(обратно)48
Самым модным в Германии в первые месяцы войны 1914 года, которые довелось мне провести в баден-баденском концлагере, был выкрик в газетах и на демонстрациях: «Italien thut ihr Pflicht!» («Италия выполнит свой долг!»).
(обратно)49
«Правда», 1962, 26 августа, № 238. Глава «Реализация Римского договора и капиталистическая экономика».
(обратно)50
Там же. Глава «Первые социально-экономические и политические последствия «общего рынка».
(обратно)51
Подробнее об этом читатель найдет в моей книге «Воскрешение из мертвых». Гослитиздат, 1964; или «Иозеф Мысливечек». «Молодая гвардия», «Жизнь замечательных людей», 1968.
(обратно)52
И ответ я действительно получила уже в Москве.
(обратно)53
Донна Роза скончалась в минувшие годы; о профессоре я несколько лет ничего не знаю. — М. Ш.
(обратно)54
Глава из этого романа «Compriamo bambini» была напечатана в № 60 журнала «Nostro tempo» летом 1962 года. Сейчас он уже давно издан.
(обратно)55
В апреле 1967 года я узнала из газеты «Паэзе сэра» о внезапной смерти Луиджи Инкоронато. Замечательного писателя-коммуниста хоронила вся трудовая Италия.
(обратно)56
«Nostro tempo», 1962, июнь, № 60, передовая статья редактора. И дальше — о катастрофическом состоянии неаполитанской экономики и отсталого рабочего населения в Неаполе. Заметим кстати, что журнал отнюдь не коммунистический.
(обратно)57
Знаешь ли ты страну, где цветут лимоны… Знаешь ли дом? Крыша его покоится на колоннах, сверкает зал, и мерцают комнаты… (Goethe. Wilhelm Meisters Lehrjahre, T. I, В. III.)
(обратно)58
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 36, стр. 257.
(обратно)59
В западноевропейских университетах (как и у нас до революции) окончившие университет получают звание докторов философии; это не научный титул, а лишь показатель университетского образования.
(обратно)60
…реализм, как мне кажется, вот единственный путь, которым надо следовать после современного декаданса, такова задача, которую я рассматриваю как миссию моей жизни и которой посвятил свою живопись.
Грегорио Шилтян
(обратно)61
Человек должен быть еще разок разрушен (то есть возвращен к началу).
(обратно)62
Недавно вышла очень интересно написанная и великолепно изданная в Милане автобиография Шилтяна (на итальянском языке).
(обратно)63
Ю. А. Добровольская. Практический курс итальянского языка. М., Издательство международных отношений, 1964, стр. 568.
(обратно)64
С переменой названия на «Morning Star» стало как будто легче.
(обратно)65
В настоящее время Англия является членом «общего рынка».
(обратно)66
Сторицей расплачиваться (англ.).
(обратно)67
«Un fruit de la Mer Morte», volumes 1, 2. Paris, 1874.
(обратно)68
Rambler — бродяга, праздношатающийся (англ.). Так называлась первая газета, изданная Джонсоном 20 марта 1750 г. Последний ее номер вышел в день смерти жены Джонсона, 17 марта 1752 г.
(обратно)69
В оригинале: «Параличный трясет последней сединой».
(обратно)70
«Fanfrolico and after». London, 1962.
(обратно)71
«Death of the Него». London, 1962.
(обратно)72
«The Way the Ball Bounces». London, 1962.
(обратно)73
Перевожу словом «упырь», хотя bat в точном переводе — летучая мышь. — М. Ш.
(обратно)74
Имеется в виду здание театра, носящее определенное название, без стационарной труппы.
(обратно)75
Oliver Goldsmith. She Stoops to Conquer or the Mistakes of a Night.
(обратно)76
Сейчас, когда я пишу эти строки, «Present Laughter» уже спят со сцены. Он прошел на ней до весны 1966 года четыреста девятнадцать раз.
(обратно)77
Antony Crosland. The Future of Socialism, chart. X. 1956, p 234. (Подчеркнуто мною. — M. Ш.)
(обратно)78
«За рубежом», 1966, апрель, стр. 31.
(обратно)79
Antony Sampson. Anathomy of England, 1965. Глава «Redbrik».
(обратно)80
Смотри об этом биографию Антони Крослэнда, помещенную в иллюстрированном приложении к газете «Обсёрвер» за 25 июля 1965 г., стр. 9.
(обратно)81
См. Antony Crosland. The Future of Socialism. 1956, p. 264.
(обратно)82
Когда эти строки писались, шел 1955 год. — М. Ш.
(обратно)83
Сейчас, почти полтора десятилетия спустя, Прага застроена новыми домами на окраинах.
(обратно)84
Я.-А. Коменский. Избранные педагогические сочинения, т. II. Перевод с латинского проф. В. Н. Ивановского, Д. Н. Королькова и Н. С. Терповского. М., Учпедгиз, 1939, стр. 172–173.
(обратно)85
«Воспоминания о Ленине», т. 11. М., Госполитиздат, 1957, стр. 535.
(обратно)86
В. И. Ленин. Письма к родным. Соцэкгиз, 1931, стр 253, письмо № 131.
(обратно)87
Там же, стр. 265, письмо № 143.
(обратно)88
«Slezký Sbornik», 1948, č 4, str. 341.
(обратно)89
«Radostna zemé», журнал Силезского научного института в Опаве, 1951, стр. 94.
(обратно)90
В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 21, стр. 660 («Даты жизни и деятельности В. И. Ленина»), т. 48, стр. 69.
(обратно)91
Там же, т. 21, стр. 661.
(обратно)92
И. А. Гончаров. Собрание сочинений, т. 8, стр. 285 и 291.
(обратно)93
150 Marianské Lázné, 1808–1958. Krajské Nakladatelstvi, str. 113.
(обратно)94
Я.-А. Коменский. Избранные педагогические сочинения, т. II. М., Учпедгиз, 1939, стр. 96.
(обратно)95
Там же, стр. 84.
(обратно)96
Я.-А. Коменский. Лабиринт мира и рай сердца. Перевел с чешского Ф.-В. Ржига. Нижний Новгород, 1896, стр. 28.
(обратно)97
Я.-А. Коменский. Лабиринт мира и рай сердца, стр. 27.
(обратно)98
Я.-А. Коменский. О культуре природных дарований. Перевод с латинского Л. Н Модзалевского. СПб., 1893, стр. 9–10.
(обратно)99
Я.-А. Коменский. Великая дидактика. Перевод Адольфа и Любомудрова. М., 1896, стр. 335–337.
(обратно)100
Этот лозунг Коменского можно прочесть на всех титульных листах его сочинений.
(обратно)101
Я.-А. Коменский. Великая дидактика. Перевод Адольфа и Любомудрова. М., 1896, стр. 349.
(обратно)102
Там же, стр. 359.
(обратно)103
Там же, стр. 335.
(обратно)104
Там же, стр. 337.
(обратно)105
Я.-А. Коменский. Устав материнской школы. Перевел с чешского Ф.-В. Ржига. Нижний Новгород, 1893.
(обратно)106
«Goethes Werke». Berlin, Verlag Gustav Hempel. «Dichtung und Wahrheit», III Teil, S. 159.
(обратно)107
Я.-А. Коменский. Избранные педагогические сочинения. М., Учпедгиз, 1939, стр. 63–64.
(обратно)108
Там же, стр. 71.
(обратно)109
Я.-А. Коменский. Избранные педагогические сочинения, стр. 492.
(обратно)110
Там же, стр. 68.
(обратно)111
Там же, стр. 104.
(обратно)112
Я.-А. Коменский. Избранные педагогические сочинения, стр. 106.
(обратно)113
«Трехсотый юбилей отца народной школы, Амоса Коменского, в Петербурге», 1893.
(обратно)114
«Трехсотый юбилей отца народной школы, Амоса Коменского, в Петербурге», 1893.
(обратно)115
«Журнал Министерства народного просвещения», 1871, июль.
(обратно)116
Письмо Пушкина к жене от 18 мая 1836 г.
(обратно)117
Юлиус Фучик. Избранные очерки и статьи. М., Издательство иностранной литературы, 1950, стр. 199–201.
(обратно)118
У нас была опубликована в «Ученых записках Саратовского гос. под. института», вып. XVII, 1955, прекрасная статья о Гашеке Н. П. Кланского.
(обратно)119
См.: Карл Крейбих. Ярослав Гашек, его жизнь и творчество. Переведено с немецкой рукописи Н. Игнатовой. «Литература мировой революции», 1932, № 6, стр. 92.
(обратно)120
Публикация Здены Анчика в чешском журнале «Svĕt Sovĕtů», 1955, № 49, 7 декабря.
(обратно)121
Из книги: Vladimir Stejskal. Hašek na Lipnici Havličkův Brod. 1953, str. 10.
(обратно)122
Приведено в книге: Zdena Ančik. О životè Jaroslava Haška. Praha, 1953, str. 16–17.
(обратно)123
Я. Гашек. Избранные юморески. Гослитиздат, 1937, стр. 417.
(обратно)124
Приведено у Карла Крейбиха. «Литература мировой революции», 1932, № 6, стр. 101.
(обратно)125
Там же, стр. 96.
(обратно)126
Рассказ «Восхождение на Мезершпице».
(обратно)127
Приведено у Карла Крейбиха. «Литература мировой революции», 1932, № 6, стр. 99.
(обратно)128
Приведено у Карла Крейбиха. «Литература мировой революции», 1932, № 6, стр. 99.
(обратно)129
Подлинник этой анкеты хранится в Институте марксизма-ленинизма, ф. 17, on. 1, ед. хр. 307, л. 65.
(обратно)130
Воспоминания Иозофа Лады о Гашеке приведены в книге: Vladimir Stejskal. Hašek на Lipnici. Havličkův Brod, 1953, str. 1–20.
(обратно)131
Vladimir Stejskal. Hasek na Lipnici, str. 20.
(обратно)132
«Ученые записки Саратовского гос. пед. института», вып. XVII, 1955, стр. 114–118.
(обратно)133
«Новые материалы о Ярославе Гашеке». «Исторический архив», 1956, № 4. Изд-во АН СССР, стр. 122 и дальше.
(обратно)134
Приведено Анчиком в «Svĕt Sovĕtú», 1955, № 49, под указанием: «Ze vzpomínek V. Svihovského» («Из воспоминаний В. Швиговского»).
(обратно)135
Статья «Чехословаки». «Красная быль», Самара, 1923, № 3, стр. 176.
(обратно)136
Приведено в предисловии И. Ипполита к «Избранным юморескам» Ярослава Гашека. Гослитиздат, 1937, стр. 21.
(обратно)137
Приведено в статье Н. П. Еланского. «Ученые записки Саратовского гос. пед. института», стр. 121.
(обратно)138
Н. Какурин. Восстание чехословаков и борьба с Колчаком. Госиздат, «Библиотека красноармейца», 1928, стр. 8.
(обратно)139
Там же, стр. 18–19.
(обратно)140
Воспоминания «Шуриньки», второй жены Гашека, приведены в книге: Vladimir Stejskal. Hašek ns Lipnici, str. 95. У наших биографов Гашека, писавших до публикации этих воспоминаний, о встрече с Александрой Львовой говорится не совсем точно.
(обратно)141
«Ученые записки Саратовского гос. пед. института», стр. 121.
(обратно)142
Приведено в предисловии И. Ипполита к «Избранным юморескам» Ярослава Гашека. Гослитиздат, 1937, стр. 22–23.
(обратно)143
Карл Крейбих. Литература мировой революции, стр. 102.
(обратно)144
«Новые материалы о Ярославе Гашеке». «Исторический архив», 1956, № 4, стр. 254–255.
(обратно)145
«Svĕt Sovĕtů», 1955, № 49.
(обратно)146
См. «Ученые записки Саратовского гос. пед. института», стр. 121.
(обратно)147
Тусар — премьер Чехословацкой республики, избранный 8 июля 1919 г., лидер социал-демократической партии.
(обратно)148
Публикация Здены Анчика. «Svĕt Sovĕtů», 1955, № 49, стр. 278.
(обратно)149
Ярослав Гашек. Избранные юморески. Гослитиздат, 1937, стр. 438. Перевод и одном месте неточен: чешское слово «posdra» — «приветствие» — переводчик перевел как «поздравление». Это место мною исправлено. — М. Ш.
(обратно)150
Б. Шмераль. Чехословаки и эсеры. Главполитпросвет, 1922, стр. 5.
(обратно)151
Три рассказа из этих новых безымянных «приключений Швейка», написанных после смерти Гашека, переведены Тамарой Аксель. См. «Смена», 1945, №№ 19–24.
(обратно)152
Гёте. Фауст. Переложение знаменитых строк:
Wer ewig strebend sich bemiilit, Den konnen wir erlosen. (обратно)153
«Neues Deutschland», 1969, 22 März, S. 3.
(обратно)154
Ф. Энгельс. Людвиг Фейербах и конец классической немецкой философии. Политиздат, 1967, стр. 54–55.
(обратно)155
Werner Noth. Die Wartburg. Geschichte und Kunst, 1966, 57.
(обратно)156
Мариэтта Шагинян. Путешествие в Веймар. М., Государственное издательство, 1923, стр. 132.
Храни тебя бог!
Это было бы слишком прекрасно…
Храни тебя бог —
Этому не суждено было быть!
(обратно)157
В И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 359.
(обратно)158
«Der Neue Deutsche Merkur», 1793, erster Band, I Stück, S. 4 — Характерные подчеркивания — всюду самого Виланда.
(обратно)159
Herder. Abhandlung über die Ursprung der Sprache. Berlin, 1772.
(обратно)160
Herder. Briefe für Beförderung der Humanität. Riga, 1797.
(обратно)161
Herder. Rezension für «Bemerkungen über die Unterschied der Stände in der bürgerlichen Gesellschaft». 1772. (Цитирую по каталогу. — М. Ш.)
(обратно)162
Helmut Holtzhauer. Das Goethe Museum in Weimar, 1868, S. 17.
(обратно)163
«Berliner Zeitung», 1969, 29 мая, стр. 3, колонка 6.
(обратно)164
«Ludwig van Beethoven». Bonn, Beethoven-Archiv, 1969, S. 21.
(обратно)165
Ludwig van Beethoven. Missa Solemnis. op. 123, bei Henry und Gohen. Bonn, 1845, S. 29. (Курсив всюду мой. — M. Ш.)
(обратно)166
По-немецки: «Wenn sich Geist und Kraft vereinen, Winkt uns ewigen Friedens Gunst».
(обратно)167
«Sowjet-Sibirien und Zentral Asien heute». Frankfurt a. M., Stimme-Verlag, 1967, S. 69.
(обратно)168
Шекспир, т. IV. СПб., издание Брокгауза и Эфрона, 1903, стр. 483 (монолог Просперо в «Буре»),
(обратно)169
«Bonn. Sammlung Reinisches Land», № 11, 2 Auflage. Bonn, Wilgelm Stollfuss Verlag, S. 30.
(обратно)170
«Новая цюрихская газета», 1973, 16 октября, № 480, стр. 23.
(обратно)171
И. Г. Песталоцци. Статьи и отрывки из педагогических сочинений. Учпедгиз, 1939, стр. 101.
(обратно)172
К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, т. 4, стр. 351. «Гражданская война в Швейцарии».
(обратно)173
См. В. И. Ленин. Полное собрание сочинений, т. 45, стр. 114,
(обратно)174
The Russian Empire 1801–1917, by Hugh Seton-Watson. Oxford, 1967.
(обратно)175
«Энциклопедия делло Спеттаколо» во дворце Дориа, в Риме.
(обратно)



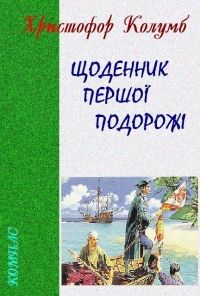
Комментарии к книге «Зарубежные письма», Мариэтта Сергеевна Шагинян
Всего 0 комментариев