Черный феникс. Африканское сафари
Путешествие в прошлое
Африка! Не уходи чересчур глубоко внутрь самой себя, не запирайся в тюрьму бессонных ночей, в одиночные камеры снов, заменяющих жизнь. Агостиньо НетоИстоки рода людского
Глава первая
Непредвиденные приключения на пути к долине Омо. — Засуха, погубившая миллионы людей. — Гиены заканчивают лукуллов пир. Васькин мыс — манящее название на карте Эфиопии. — Ветер сдувает моих спутников с пальмы. — Ловушка, устроенная нам самой природой
Хотя повстречавшийся еще три дня назад величественный старец в ярко-зеленом тюрбане и предостерегал нас с высоты верблюжьей спины ни в коем случае не приближаться к Омо, выполнить его совет никак не удавалось. Держаться подальше от коварной реки, вернее ее заболоченной долины, изобилующей старицами и зыбучими песчаными останцами-перекатами, мешали завалы камней, скатившихся с протянувшихся слева от нас руинных холмов. Белый дромадер кочевника, без труда перешагивавший через эти камни, еще долго маячил светлой точкой среди нагромождений черных глыб, как бы указывая нам верный путь. Однако ближе к вечеру он скрылся, словно давая понять, что, хотя наш вездеход и называется «земным бродягой»[1], за «кораблем пустыни» ему не угнаться.
Да и куда там! Не в первый раз я попадаю в эти суровые, иссушенные солнцем места на стыке границ Эфиопии и Кении, и каждый раз повторяется одно и то же. Обозначенные на карте караванные тропы оказываются занесенными песками, русла сухих рек, некогда доступные для езды на «Лендровере», завалены камнями или невесть откуда взявшимися деревьями, селения обитающих в здешних пустынях кочевников-кушитов покинуты.
На этот раз безлюдье особенно пугало. Несколько засух, неслыханных по своей жестокости и продолжительности даже в Африке, полностью изменили демографическую ситуацию во многих районах континента. Миллионы людей погибли. Десятки миллионов снялись с обжитых мест и откочевали поближе к городам или на горные, более плодородные и увлажненные земли. Сотни тысяч эфиопов в последующие годы были переселены властями в не затронутые засухой «целинные» районы. Теперь о страшном лихолетье здесь напоминают лишь обезлюдевшие стойбища да выбеленные солнцем скелеты коров и коз, то там, то сям бросающиеся в глаза среди безжизненных туфов.
Что остается делать путешественнику, рискнувшему проникнуть в край, где нечего надеяться на помощь? Верить в удачу, в счастливый случай — это само собой. Но в первую очередь полагаться на выносливость «земного бродяги» и на то «вечное» и «неизменное», что хранит информация географической карты даже столь изменчивой в своем облике местности, как та, по которой мы пробираемся.
Вместе с Питером — шофером, переводчиком, гидом и моим неизменным спутником в журналистских сафари — мы обсуждаем, что нам сулит один из трехсот листов топографической карты Восточной Африки, которой так гордятся ее английские создатели. Лист называется «Стефания» — по имени изображенного в самом его центре усыхающего, заболоченного водоема в Южной Эфиопии.
В крайнем нижнем левом углу листа синеет северо-восточная часть великого африканского озера Рудольф, или, как его теперь называют кенийцы, Туркана. Прорезая весь лист карты петляющей голубой лентой, окруженной узкой полосой зеленых лесов и голубых маршей, в озеро сквозь желтые пески несет свои воды река Омо. Это уникальная, единственная, никогда не пересыхающая крупная река, текущая по дну Великих африканских разломов. Туда, где, дробясь на многочисленные протоки, река впадает в великое озеро, к дельте Омо, мы и хотим пробраться.
— Итак, нам надо выехать к реке, а старик на верблюде предостерегал, что мы завязнем в окружающих ее топях, — подытожил ситуацию Питер. — Что же будем делать?
— Стоять и ждать бесполезно: изжаримся, — размышляю я вслух. — Поэтому, пока камни нас не остановят, надо ехать на юг. Рано или поздно, поближе к озеру, должны появиться люди. Найдем верблюдов и на них доберемся до реки.
— Или на вертолете, — оторвавшись от карты, вдруг говорит Питер, указывая в слепящее небо. — Раскрашен под зебру. Значит, частный, не военный.
Винтокрылая птица пролетела вдали, потерявшись в лучах заходившего где-то за Омо солнца. А мы вновь принялись за изучение карты.
— Значит, так, бвана[2], — после некоторого раздумья проговорил Питер. — Если тут ничего не напутано, то между приречными топями, которыми нас пугал старец, и непроезжими участками, помеченными на карте «Broken lands» (искореженные земли), есть узкая полоска. Видишь — написано: «Open bush» — «открытый кустарник». Скорее всего, это равнина. В сезон дождей мы бы там увязли, а в такую сушь проедем, как обычно.
«Как обычно» в таких местах означает тридцать— сорок километров в день и двадцать — двадцать пять остановок. Их заставляют делать острые камни, раскаленный песок и торчащие из него длинные зловредные колючки акаций, неумолимо дырявящие камеры автомобиля. В результате каждый раз приходится укладываться на раскаленную землю, отбиваясь от каких-то кусачих тварей, с виду напоминающих сороконожек, высвобождать колесо от нафаршированного камнями песка, поднимать машину, латать, чинить резину.
Хорошо еще, что наученные горьким опытом прежних путешествий, мы обвешали снаружи всю кабину «Лендровера» брезентовыми мешками с водой. Достать ее здесь — безнадежное дело. Когда местным кочевникам становится совсем невмоготу, они перерезают вену старому верблюду и утоляют жажду кровью. Но меня такое питье не привлекает.
Каждая ночь проходит как в кошмаре. Стоит нам с заходом солнца остановиться и, разведя газовые горелки, начать подогревать консервы, как на запах пищи из-за окрестных камней вылезают полосатые гиены. Несколько минут они сидят, присматриваясь к нам, а затем, словно по команде, начинают приближаться, смыкая кольцо вокруг «Лендровера». Чем аппетитнее пахнет еда, тем больше собирается гиен. Нанюхавшись ароматов, они вскоре принимаются выть так громко и омерзительно, что порою я был готов отдать им все запасы, лишь бы не слышать ночной какофонии.
Гиен можно было понять. За годы засухи, когда все вокруг было усеяно трупами не только домашних, но и диких животных, природа устроила этим падальщикам затянувшийся на несколько страшных для всех других лет лукуллов пир. От обилия пищи гиены не только пристрастились к обжорству, но и невиданно размножились. Но затем погибать в округе стало некому, падаль исчезла, после первых дождей люди и звери не успели еще вернуться в свои места, и для гиен наступили тяжелые времена.
Наглость этих животных возросла до опасного предела. Стоило положить на соседний камень что-нибудь съестное, как в одно мгновение с полдюжины гиен бросались к нему и устраивали дикую свару. Нередко они выхватывали пищу прямо из наших рук, проявляя прямо-таки обезьянью ловкость. Эксперимента ради я как-то едва проткнул банку с мясными консервами и бросил трем самкам, оказавшимся неподалеку вместе со своими детенышами. Не прошло и минуты, как мощные челюсти одной из гиен, одновременно успевавшей отбиваться от двух других, справились с металлом. Лишь струйка крови капала с клыков: металл все-таки поранил ее.
Гиены выли и ссорились всю ночь. Конечно, за толстыми стенами салона «Лендровера» их можно было не опасаться. Но заснуть они не дали…
Казалось бы, один раз побывав в этих местах, не захочешь снова туда ехать. Но на озеро Рудольф меня вновь потянуло из-за сообщений, после 1967 года систематически появлявшихся на страницах многих местных газет. В устье Омо приступили к работе палеоантропологические экспедиции, одна за другой делавшие сенсационные открытия. Окончательно же я принял решение отправиться на Омо тогда, когда в запасниках аддис-абебского музея натолкнулся на старый абрис маршрута в районе дельты этой реки. На карте среди африканских названий встретилось одно, заставившее меня буквально вздрогнуть от неожиданности: Васькин мыс.
С ним связана интереснейшая и, к сожалению, мало кому известная страница отечественной географии. Речь идет о путешествиях по Эфиопии русского ученого А. К. Булатовича. Александр Ксаверьевич был первооткрывателем этих мест! И, пользуясь правом первооткрывателя, один из мысов в дельте Омо он назвал Васькиным мысом — в честь спасенного им раненого африканского мальчонки, впоследствии увезенного в Россию. История, как видно, стоившая того, чтобы еще раз помучиться с колесами «Лендровера» и послушать гиен!..
Однажды, когда солнце уже склонялось к закату, в зарослях невысоких жестколистых акаций, увешанных красноватыми стручками, пугливой тенью проскользнули силуэты трех женщин. Подбавив газу, мы вскоре настигли беглянок. Перебрав с полдюжины языков, Питер наконец нашел средство взаимопонимания и завел беседу.
— Они говорят, что принадлежат к племени мерилле и что до большой реки пешком добираться полдня. Раньше их род жил далеко отсюда, в пустыне. Но, спасаясь от засухи, многие переселились поближе к реке.
— Где их селение, можно ли до него доехать на машине?
Этот, казалось бы, простой вопрос вызвал довольно долгие дебаты, исход которых стал мне ясен еще до того, как Питер начал переводить. Женщины отрицательно качали головами и упрямо твердили «Ыыы, Ыыы», что в здешних местах означает «нет».
— Они говорят, что мужья запретили им показывать дорогу в селение чужим. В округе появились воины мурле. Они недовольны, что мерилле перекочевали на эти земли и пользуются их пастбищами. Поэтому мурле часто нападают на мерилле.
— Но ведь женщины видят, что ни ты, Питер, ни, тем более, я не похожи на мурле? — удивился я.
Выслушав вопрос, женщины затараторили, а потом, очевидно приняв общее решение, дружно скинули с себя выгоревшие накидки, оставшись в одних узких кожаных набедренных повязках. Тем самым, скорее всего, они хотели доказать, что за мурле нас действительно не считают. Затем вновь начались переговоры с Питером.
— Женщины не знают, как посмотрят на наше появление в деревне старейшины, — заключил Питер. — Привести чужака в селение равносильно предательству. Старейшины грозятся, что прикажут закидать камнями любого, кто так сделает. Но сами они нас не боятся и могут показать, где удобнее всего провести ночь. Это совсем недалеко отсюда.
— А как же эти женщины одни остаются в пустыне, не опасаясь разбойников-мурле?
Вновь последовало длинное объяснение, причем одна из женщин пыталась даже что-то начертить на песке. Питер долго переспрашивал, но потом смущенно признался:
— Я не совсем понимаю их. Я говорю с женщинами на языке туркана, но они отвечают на каком-то другом, близком языке. До сих пор все было ясно, но сейчас они меня совсем запутали. Я только понял, что никто, кроме местных жителей, не найдет к ним дорогу.
Как и повсюду в экваториальных широтах, сумерки сгущались необычайно быстро, так что не оставалось ничего другого, как принять предложение. Две женщины отправились за корзинами, брошенными от страха в зарослях. Третья, идя впереди машины, примерно через час, уже при свете фар, вывела нас к берегу заросшей густой осокой старицы. У самой воды стояло несколько пальм-дум — единственных в мире пальм, имеющих ветвистый ствол. Не сбавляя шагу, женщина начала взбираться на наклонившийся над водой ствол.
Через мгновение она исчезла в темноте, и вскоре откуда-то сверху о брезентовую крышу машины ударился калабаш, из неплотно закрытого горлышка которого по ветровому стеклу потекло молоко. За калабашем последовали сплетенное из пальмового волокна блюдо, плоды папайи, алюминиевая кастрюля. Направленный вверх луч фонаря осветил на фоне неба тростниковый шалаш — нечто вроде огромного птичьего гнезда, устроенного в развилке ствола. Конечно, скачущим по пустыне на верблюдах воинам-мурле нелегко было бы заметить это потайное жилище, замаскированное широкими листьями.
Пока Питер разводил костер, а я открывал консервные банки к ужину, женщины плескались в старице. Но как только языки пламени осветили нашу стоянку, они вылезли из воды и принялись разбирать содержимое своих корзин. Помимо толстых зеленых корневищ, которые наши спутницы клали подрумяниться на уголья, а затем отправляли в рот, среди собранного ими за день «урожая» были виденные нами днем красноватые стручки. Женщины называли их рокю. Они объяснили, что из мясистой сочной оболочки семян, прячущихся в стручках, мерилле приготовляют напиток, пользующийся спросом среди населения приозерных районов. Сейчас, в период созревания стручков, заготавливается «концентрат» сока; в течение года его по мере надобности разбавляют водой, а напиток обменивают на зерно или мясо. Смеясь, одна из женщин плеснула в крышку калабаша воды и, выдавив туда содержимое стручка, протянула мне. Напиток оказался кислым и, наверное, неплохо утолял жажду.
Нашу еду женщины пробовать наотрез отказались. Постоянно полуголодные в этих суровых местах представители большинства нилотских и кушитских племен тем не менее проявляют удивительную консервативность к новой пище. Не раз, останавливая посреди пустыни машину в ответ на просьбу измученных голодом людей дать им поесть, мы встречались с отказом отведать незнакомые консервированные мясные продукты, в то время как хлеб и кукуруза принимались с благодарностью.
Оставив женщин и Питера у костра, я пошел в машину отдохнуть. Но спать пришлось не долго. Страшный непонятный шум заставил меня вскочить на ноги. Я дернул за ручку дверцы — тщетно, уперся в дверцу ногой — не помогало. А шум между тем переходил уже в рев. С трудом все же приоткрыв дверцу, я почувствовал, как в лицо ударила обжигающая струя воздуха, смешанного с песком, мелкими камешками, колючками акаций и сухими листьями. От неожиданности я отпрянул внутрь, и дверь с силой захлопнулась.
Протерев глаза, я включил фары и огляделся, пораженный увиденным. Казалось, все, что было на поверхности земли, поднялось и носилось в черном воздухе, подхваченное ураганом. Ветер выл на все лады, оглушительно грохотали высохшие листья пальм. Хлопая друг о друга, они издавали металлический лязг, скрежет. Поднятые ветром мириады песчинок и сухой листвы почти лишили атмосферу прозрачности. На западе, очевидно над рекой, одна за другой полыхали зарницы, придававшие воздуху матовый оттенок.
Я навел фонарь на пальму с шалашом, но в развилке ствола его не обнаружил. Скользнул лучом вниз — Питер и женщины сидели под пальмой, судорожно обхватив ствол.
Довольно легко открыв дверь машины с противоположной стороны, я выбрался наружу и сразу же почувствовал, будто в тело впились сотни, тысячи иголок. Кое-как добежав до пальмы, я пригласил всех в машину. Питер рассказал, что после того, как я пожелал оставшимся у костра спокойной ночи, он отправился в «гнездо». Но при первом же порыве шквального урагана он был сдут оттуда вместе с шалашом и его обитательницами. К счастью, все они отделались легкими ушибами…
Ураган буйствовал больше часа. Потом внезапно стих, и почти тотчас же на землю обрушился ливень. Ни до, ни после этого я не видел такого дождя. В течение следующего часа он ежеминутно то прекращался, то вновь изливал на нас водяные потоки. Когда дождя не было, иногда среди низких рваных туч на мгновение открывался кусок усыпанного звездами черного неба. Но через несколько секунд тучи смыкались и дождь вновь принимался за свое.
Вновь завыл ветер, но на сей раз уже для того, чтобы прогнать облака. Почти полная луна осветила непривычно залитую водой пустыню призрачно-голубым светом. И почти сразу же повсюду запели цикады.
Утром мы все же проехали километров десять сквозь заросли рокю, поселившиеся на песках, и остановились. Впереди, насколько хватало глаз, простиралось идеально ровное пространство, сложенное из довольно крупных, диаметром до двух метров, глинистых отложений, разделенных глубокими, шириной 25–30 сантиметров, трещинами. Они образуются на глинистых солончаковых почвах в результате засухи и на протяжении многих лет остаются твердыми как камень, звеня, словно такыр, под копытами изредка наведывающихся сюда антилоп. Но сегодня, как назло, за один час ливня соленая глина напилась воды и разбухла, раскисла.
Я вышел из «Лендровера» и встал в середину такого фрагмента. Ноги тут же по щиколотку ушли в липкую грязь, и я почувствовал, как неведомая сила тащит их в разные стороны — от слегка выпуклого центра такыра к периферии. Как ни старался я высвободить ноги, они расползались все дальше, и я упал, измазавшись в соленой грязи. Пришлось позвать на помощь Питера.
— Общение «Лендровера» с этими лепешками кончится гораздо трагичнее, — сказал я ему. — Как только машина забуксует — а случится это тотчас же, как мы въедем на солончак, — те же неведомые силы потащат ее в трещину. Высвободить колеса будет более чем трудно. Огромное пространство превратилось в непреодолимое для нас болото.
— О бвана, я только сейчас сообразил, о чем вчера говорили мне женщины, когда я не понимал их. Они объясняли, что никто, кроме местных жителей, не может найти их, потому что никто другой не найдет дороги сюда и дальше в их деревню. Мы встретили их на участке, который по форме похож на бутылку Одна из женщин рисовала мне ее на песке. Мы настигли их там, где находится как бы «дно» этой бутылки, которую обрамляют две старицы Омо, образующие «остров». На востоке эти старицы сближаются, образуя нечто вроде «горлышка». Только через него, по одной-единственной скрытой тропе, и можно попасть в «бутылку». Женщины очень удивлялись, как нам это удалось сделать. Во время сильных дождей старицы выходят из берегов и сплошь заливают «остров». Но обычно он сух и, как рассказывали вчера женщины, «покрыт большими круглыми тарелками, разделенными трещинами». Если мурле на своих верблюдах случайно забредут сюда, то скорее всего погибнут: ноги верблюдов попадают в трещины и ломаются. Вот, оказывается, о чем нам говорили вчера женщины. Но я не понял, о каких «тарелках» идет речь, пока сам не увидел этой странной местности, бвана.
Итак, мы оказались в центре гигантской ловушки, неизвестно для кого созданной самой природой. Можно, конечно, было бы попытаться вырваться из нее прежним путем. Но там подстерегали завалы черных камней, в сущности и загнавшие нас в «бутылку».
— Знают ли женщины, как выбраться отсюда в объезд солончака? — спросил я у Питера.
— Нет, — закончив, как всегда, длительные переговоры, перевел он. — Но они говорят, что где-то есть еще один проход, очень узкий и малозаметный, по которому раз в месяц ездит полицейская машина. Однако показать его нам они то ли не могут, то ли не хотят. Советуют обратиться к мужчинам.
— Согласны ли они теперь показать нам дорогу в селение, где есть мужчины?
— Нет. Но они могут сходить туда и привести знающего человека. Но могут и не привести, потому что почти все мужчины сегодня с утра должны были уйти к реке охотиться на бегемота. В селении только старики, а они могут и не захотеть показывать дорогу. Тогда придется ждать конца охоты — два-три дня.
Положение, конечно, было сложным, но не трагичным. Машина у нас на ходу, это — самое главное. В лучшем случае ближе к вечеру люди покажут нам дорогу, в худшем — спустя три-четыре дня все кругом подсохнет, и мы будем выбираться из «бутылки» сами.
— Скажи женщинам, чтобы они шли в селение и поторопили мужчин прийти к нам на помощь, — обратился я к Питеру. — Чем быстрее они придут, тем лучше будет вознаграждение.
Глава вторая
Профессор К. Арамбур спускается с неба. — На вертолете — в «палеоархеологический рай». — Омо — единственная «живая» река Великих африканских разломов. — Геологическая летопись первых шагов гоминидов. — «Вулканический календарь» определяет возраст находок в миллиона лет! — Почему древние назвали Эфиопию местом происхождения феникса?
Как выяснилось впоследствии, ждать нам пришлось бы два дня и две ночи. Но судьба решила по-иному. Не прошло и двух часов после того, как женщины скрылись в зарослях акаций, когда Питер вновь показал мне на небо. Там я увидел приближавшийся к нам вертолет.
— Это наш старый знакомец, раскрашенный под зебру, — щурясь от ослепительного света, пояснил Питер. — Наверное, богатые охотники, выискивающие орикса с рогами подлиннее.
Снизившись, вертолет завис над нами, затем смело плюхнулся на одну из «тарелок» по соседству. Еще не остановился винт, как из двери показался человек, при виде которого сразу захотелось улыбнуться.
Наш «гость» был облачен в идеально отглаженные, подтянутые чуть ли не под мышки брюки цвета хаки, в тон им светлый пиджак, бледно-салатовую накрахмаленную рубашку и галстук-бабочку бутылочного цвета. Ботинки из мягкой замши гармонировали с такой же шляпой цвета фисташки, с опущенными вниз полями. Под шляпой скрывались зеленые очки и, как мне показалось, буро-зеленые, очевидно от бесконечного курения, усы.
«Зеленый человек» приветливо помахал нам рукой, снял очки и в нерешительности близоруко уставился на землю, явно не решаясь спрыгнуть вниз.
Я подбежал к вертолету, чтобы помочь ему.
— Бонжур, мсье Арамбур, — обратился я к прибывшему. — Коман са ва?
— А мы разве уже знакомы? — почему-то несколько разочарованно произнес он.
— Да нет. Просто когда я живу не в буше, а в Найроби, то иногда просматриваю газеты. Мне запомнились фотографии, на которых человек в галстуке-бабочке разгуливает по пустыне на фоне скелетов доисторических ископаемых.
— Ну насчет скелетов это уж слишком. Так, всего лишь мелкие кусочки наших предков. Хотелось бы большего. Но вот то, что получить известность в пустыне куда проще, чем в Париже, — это точно! — засмеялся профессор Арамбур. — А вы кто такой?
Я представился, добавив, что оказался в этих местах именно для того, чтобы познакомиться с ученым и его раскопками.
— Мои коллеги с вертолета уже несколько дней назад заметили вашу машину и с тех пор ежедневно «следили» за ней. Мы были уверены, что рано или поздно у вас что-нибудь случится. Но, пока машина двигалась, мы не навязывались в помощники. Чем могу быть полезен теперь?
— Спасибо, «Лендровер» на ходу.
— Тогда вам может помочь лишь солнце и ветер. Через пару дней они вновь обожгут солончак в каменные плиты, и вы сможете тронуться в путь. А пока что прошу в гости в наш экспедиционный лагерь.
Переложив кое-какие вещи из машины в вертолет, мы взмыли в воздух.
— Русского нам только не хватало, — лукаво улыбаясь, говорит Камиль Арамбур. — Там, на Омо, собралась воистину интернациональная компания. Самый южный участок, чуть выше дельты, достался нам, французам. Севернее — американцы. Ими руководит Кларк Хоуэлл. Его хобби — изотопы, радиоактивный метод, компьютеры. Зачастую мне кажется, что они ищут ископаемого человека не в толще осадочных пород, а на экранах дисплеев. Ну да это уж их дело! А самый дальний, вверх по течению реки, участок — к нему мы сейчас и подлетаем — достался кенийцам.
Сначала заправлять всеми палеоархеологическими работами здесь собирался сам Луис Лики, — продолжает профессор. — Это его идея — «экспедиция Омо». Благодаря последним сенсационным находкам ископаемых гоминидов[3], сделанным Луисом, и громкому имени всего его «археологического семейства» старику удалось пробить разрешение на раскопки и добыть для них немалые средства. Однако «великий старик» не намного моложе меня. Поэтому в последний момент он отказался от общего руководства, а возглавить работу кенийской группы поручил своему сыну, двадцатитрехлетнему Ричарду. Вон, как раз слева, между двух пальм, видна его палатка.
— А что, Ричард сейчас здесь? — вытягивая шею в указанном направлении, полюбопытствовал я.
— Хороший парень! Но еще в детстве получил слишком большую дозу палеоантропологии и, по-моему, сыт ею по горло. Похоже, он бежал от нас… Кое-какие работы кенийцы ведут сами; и, говорят, особенно преуспевают у них африканцы, прошедшие полевую школу у Луиса. Но я в их дела не вмешиваюсь…
Пилот открыл окно вертолета, и из-за ворвавшегося в кабину шума беседу пришлось прервать. С высоты птичьего полета внизу открывалась потрясающая картина. Фантастичны были не столько ее краски и масштабность, сколько геологический облик местности.
Вертолет летел над Омо, красной лентой лениво извивающейся по плоской равнине. Прямо из воды вставали галерейные леса, сплошным изумрудным шатром скрывавшие от взора прибрежные земли. За их узкой полосой простиралась саванна на бурых почвах, полупустыня — на серых, еще дальше — лишенные даже самой скудной растительности, желтые пески. И все это было прорезано лабиринтами проток и стариц Омо, разлившихся после ночного дождя луж, словно огромные зеркала отражавших приближавшееся к зениту солнце.
Повсюду видна была активная работа эрозии. Стоило вертолету на какой-нибудь километр отклониться от русла, как мы оказывались над царством оврагов. То здесь, то там, глубоко врезаясь в толщу осадочных пород, они обнажали разноцветные пласты, поражающие мозаичностью своей палитры. Здесь можно было увидеть и серые пятна озерных осадков, и черные отложения вулканического пепла, и ярко-желтые пласты песков, оставшихся от эпох, когда дно озера превращалось в пустыню, и снова черные пеплы, на которых лежали красноватые толщи — свидетели активного сноса латеритов с северных гор во влажный период, пережитый Восточной Африкой миллионы лет назад.
Арамбур хлопает меня по плечу и, подняв большой палец в многозначительном жесте, кричит в ухо:
— О’кей? Уверен, что такого нет нигде в мире. Смотрите, смотрите!!!
Потом он просит пилота «повесить» вертолет. Под нами — совершенно свежая, размытая ночным ливнем толща осадочных пород, лежащих не параллельно земной поверхности, а как бы вспученных, образующих большой холм. Слагающие его разноцветные пласты расположены наклонно, в результате чего самые древние из них последовательно выступают над окружающей равниной. Забраться на такой холм, а затем, словно по ступенькам, спускаться вниз по его разноцветным пластам — это то же самое, что совершать воображаемое путешествие из одной геологической эпохи в другую…
— О’кей! — не без гордости за Омо повторяет профессор и дает пилоту указание лететь в лагерь. Впереди, в мареве влажного воздуха, уже блестела гладь нефритового озера.
А прямо перед нами разворачивалась живописная дельта Омо. Она напоминала брошенный посреди буро-желтой равнины гигантский веер, образованный зелеными островками лесов и красными прожилками речных проток. «Где-то там Васькин мыс?» — вытягивая шею, подумал я. Но вертолет пошел на посадку, и дельта скрылась за верхушками пальм, окружавших лагерь французской экспедиции.
Кроме двух вывезенных из Кении слуг-туркана, весь наряд которых составляли набедренные повязки и замысловатые головные уборы из цветных перьев, никого в палаточном городке не оказалось.
— Все убежали осматривать обнажения в надежде, что ночной дождь приготовил им сюрпризы, — показывая мне свое экспедиционное хозяйство, объясняет профессор. — Наша молодежь, воспитанная на скудных в палеонтологическом отношении отложениях Западной Европы, буквально потрясена тем разнообразием и богатством ископаемых, которое дарит им Омо.
— А какими сенсациями из жизни ископаемого человека собираетесь вы, профессор, удивить мир в нынешнем, уже подходящем к концу полевом сезоне? — поинтересовался я.
— И не спрашивайте, и не надейтесь на ответ, — с нарочитым испугом выставив вперед руки, говорит Арамбур. — В нашей работе все зависит от случайности, от везения. Поэтому палеонтологи и археологи — народ очень суеверный. Надо еще двадцать раз проверить и обмерить все, что мы нашли, сопоставить с предыдущими находками, прежде чем делать выводы. К тому же я глубоко убежден: найдем ли мы здесь бедро гоминида, жившего два миллиона лет назад, или фалангу пальца, датируемую четырьмя миллионами лет, — не в этом дело.
— А в чем же? — удивился я.
— В геологии, в геологии Омо, мой милый, — назидательно проговорил ученый. — Долина Омо — геологическое чудо! Почти повсюду в мире, где бы ни работали палеоархеологи и ни находили останки ископаемого человека, все упирается в проклятую проблему: точность определения их возраста, соотношение возрастов находок, сделанных в различных районах. Мои коллеги спорят, низвергают авторитеты и возводят себя на пьедестал. Но продержаться на нем им зачастую удается не долго: всего лишь до той поры, пока какой-нибудь студент-практикант не раскопает новую кость, лежавшую под находкой его учителя, и не наречет ее «древнейшей». Это особенно опасно в Африке из-за сложной, запутанной стратиграфии, слабой геологической изученности континента.
Омо же дает нам возможность поставить все на свои места. И знаете почему? На протяжении очень длительного отрезка времени — от четырех до одного миллиона лет назад, то есть как раз в тот период, когда, по нашим представлениям, и происходила активная эволюция гоминидов, в долине Омо существовали условия, которые привели к созданию здесь уникальной геологической летописи.
Вы сейчас спросите, в чем эта уникальность? — улыбаясь, обратился ко мне француз. — А я вам не отвечу. Я приглашу русского гостя к столу и, накормив, послушаю, что он увидел и понял здесь сам. Маленькое развлечение для старого ученого…
На обед подавали консервированные салаты и разносолы из нильского окуня. Рыбина эта, вылавливаемая в озере Рудольф, прожив в парниковых условиях изобилующего пищей озера 5–7 лет, нагуливает 50–60 килограммов веса. Поэтому одного такого окуня достаточно, чтобы обеспечить всех гурманов французского лагеря не только ухой, но и заливным, форшмаком, вторыми блюдами из жареной рыбы или под маринадом. Современная техника позволяет приготовлять и сохранять подобную гастрономию в этом одном из самых неосвоенных районов Африки благодаря электрическому движку. Есть движок — значит, посреди пустыни люди обзаводятся холодильником, грилем, электроплитой и прочими атрибутами городской жизни.
За «дарами озера» последовал обязательный сыр камамбер и кофе.
— Кофе в Каффе, — задумчиво произнес Арамбур. — Интересно: миллионы людей ежедневно пьют этот напиток, даже не подозревая, что он распространился по всей земле именно из здешних мест, вернее, с гор, где берет начало река Омо.
— Ну, профессор, здесь, в пустыне, эфиопским кофе и не пахнет, — заметил я. — Аромат идет от вашего, бразильского. А что касается Каффы, то до нее был древний человек.
— Ха-ха! — откашлявшись после очередной выкуренной трубки, проговорил ученый. — Товарищ журналист уводит разговор на интересующую его тему. Или вы думаете, что в палеонтологии вы сильнее, чем в истории Каффы?
— О Каффе я поговорю с вами с не меньшей заинтересованностью. Но выдержать у профессора Арамбура экзамен-экспромт мне действительно не терпится.
— Валяйте! Только не здесь, за столом, а в поле, среди великих отложений великой Омо!
Мы вышли из лагеря, по хорошо протоптанной тропе, петляющей под пологом пропитанного влагой припойменного леса, выбрались к подножию холма. За ним открывалась поросшая чахлой растительностью равнина, испещренная глубокими оврагами.
Профессор бросил на меня иронически-вызывающий взгляд.
— Признаюсь, мсье Арамбур, не так давно я побывал в танзанийском ущелье Олдовай, где были сделаны почти все знаменитые находки Луиса и Мэри Лики. Там я смог неплохо подготовиться к «билету», по которому мне предстоит экзаменоваться.
— Не как француз, а, скорее всего, как специалист в этой области я бы начал с Мэри, — перебил меня «экзаменатор». — Она — феноменально везучая. Главные находки в Олдовае были сделаны именно ею либо когда Лики трясла в палатке малярия, либо когда он добывал своими лекциями в Найроби деньги для дальнейших исследований.
— Я учту это, профессор. Мэри рассказывала мне, что геологически Олдовай принадлежит к системе Восточно-Африканского рифта — колоссального разлома в земной коре, который от Мертвого озера, через Красное море и всю Восточную Африку тянется вплоть до великой Замбези. Его наиболее низкие участки отмечены цепями озер и обрамлены гигантскими обрывами. Я бы сказал, что долина Омо очень похожа на Олдовай с той лишь разницей, что здесь есть река. Именно Омо и поддерживает существование озера Рудольф, которое без ее стока уже давно превратилось бы в этих жарких местах в пыльную чашу.
— Наверное. За последние четыре миллиона лет озеро не раз увеличивалось и уменьшалось.
— Именно об этом я и хотел сказать, профессор. Свидетельством таких колебаний уровня служат высокие, еле виднеющиеся вдали надпойменные террасы, амфитеатром поднимающиеся на запад и восток. Некогда и долина Омо, где мы сейчас находимся, и эти террасы были покрыты водами гигантского водоема — праозера Рудольф. Рифт — геологически очень активная зона. Извержения вулканов, и сейчас напоминающих о себе на южном побережье озера, не были редкостью. А смещения больших участков земной коры, тоже свойственные зоне разломов, приводили то к повышению, то к понижению уровня как озера, так и многочисленных рек. Ведь климат за четыре миллиона лет здесь конечно же, как и на всей планете, не раз менялся, а следовательно, вокруг Омо не всегда простиралась пустыня…
— Ну-ну, — подбодрил меня К. Арамбур. — Ближе к делу, к осадочным породам, к этим фантастическим разноцветным толщам, которые окружают нас!
— Толщи эти — производное тех условий, которые я пытаюсь воссоздать. Как и сегодня, миллионы лет назад водоем этот был внутренним, бессточным, воды рек и все, что в них содержалось, не стекали в океан, а аккумулировались в этой внутриматериковой долине, занятой медленно заболачивавшимся озером. Кости обитавших вдоль его берегов животных не разрушались и не переносились текучими водами, а оставались, не перемешиваясь, на месте, постепенно заиливались или покрывались пеплом извергавшихся неподалеку вулканов. Потом древний водоем начинал усыхать активнее, озерные осадки оказывались надежно похороненными под мощной броней континентальных толщ. Нередко их горизонтальное залегание нарушали очередные подвижки земной коры. И так повторялось несколько раз. Сейчас современная эрозия, активизируемая столь редким для рифта соседством с «живой рекой» — Омо, обнажает древние осадки, в том числе и сохранившиеся в них кости. А современные калий-аргоновые методы определения возраста пепла дают ученым возможность пользоваться местными прослойками туфов как своего рода «вулканическим календарем»…
— Ну ладно, с вами все ясно и совсем неинтересно, — дружески хлопая по плечу, прервал меня профессор. — Вы хорошо усвоили уроки Мэри, начитались перед этой поездкой статей Хоуэлла и теперь строите из себя «умника». Я же затеял эту игру в «экзамен» потому, что хотел лишний раз попытаться понять сам себя. Ведь первый, кто начал изучать геологию Омо, был ваш покорный слуга. Это было давно, в 1937 году. Тогда геологическая история района показалась мне довольно ординарной, его стратиграфия — скучной. Меня потом критиковали: конечно, обладая данными радиоизотопных анализов, теперь это делать нетрудно!..
— И как же вы, профессор, с позиций сегодняшней науки смотрите на этот район?
— Вы сказали, «вулканический календарь»… В долине Омо действительно сохранилась непрерывная летопись событий, поддающихся датировке. Нигде больше в Африке, где встречаются ископаемые гоминиды, такого нет. Если попытаться продолжить сравнение Омо с Олдоваем, то я бы прежде всего сказал, что они соотносятся друг с другом, как крупное производство с лабораторией. Олдовай — это всего лишь небольшое ущелье, где продуктивные для палеоархеолога пласты отражают период не более чем в двести тысяч лет, втиснутые в какие-нибудь тридцать метров датируемых отложений. Здесь же осадочная толща порою превышает километр! Олдовайские отложения — это плейстоцен, Омо же позволяет нам заглянуть и в глубь плиоцена, проследить эволюцию животного мира на протяжении целых четырех миллионов лет. Она читается здесь по примерно двум сотням четких горизонтов, причем добрая сотня из них буквально нафарширована окаменелостями.
Все эти горизонты теперь датируются с помощью анализа пепла, в котором столь поднаторел Хоуэлл. Он прав, когда говорит: открытия палеонтологов здесь будут столь обильны, а реконструируемые ими картины геологической истории Африки столь красочны и полны, что с их помощью можно будет датировать окаменелости, найденные и в других частях континента. Иными словами, последовательность залегания двухсот горизонтов Омо — уникальная геологическая шкала, созданная самой природой. С нею теперь будут соизмерять все палеонтологические открытия прошлого и будущего в Африке.
На этом фоне находки гоминидов в долине Омо могут показаться довольно скромными. Американцы, надеявшиеся обнаружить там «нечто потрясающее», преуспели меньше всех, невольно подтвердив тем самым суеверия Арамбура. Их вклад в изучение доисторического человека в первую очередь свелся к тому, что благодаря разработанной К. Хоуэллом «геологической шкале» оказалось возможным более точно определить возраст находок Л. Лики в Олдовае.
Зато французам повезло. Сначала они нашли челюсть австралопитека, а затем — трудно поверить! — почти две сотни зубов. К этому со временем добавились хорошо сохранившиеся части нескольких черепов, кости верхних и нижних конечностей. Научное значение находок группы Арамбура оценивается, однако, не их количеством, а «качеством». Многие окаменелости, обнаруженные в наиболее древних отложениях Омо, были вдвое старше олдовайских, что сразу отодвигало возраст рода человеческого почти на полтора миллиона лет назад. А находки в верхних, молодых горизонтах датировались так же, как и те, что уже описал Л. Лики.
— Мне представляется, что работы в Омо в конечном счете дадут нам редкую возможность проследить эволюцию первопредков человека, — убежденно говорил Арамбур, когда на следующий день он позвал меня в свой «огород» — так ученый называл обнажение, подарившее ему наиболее интересные находки. — Можно будет выделить несколько типов гоминидов, датировать их возраст и сопоставить с тем, что было найдено в других районах. Благодаря «вулканическому календарю» здесь также без труда определяется возраст каменных орудий, которыми пользовались те древние обитатели долины, чьи кости мы находили. Все это наконец позволяет палеоантропологии Африки выйти из младенческого состояния и встать на ноги…
Не дослушав профессора, я стремглав бросился вперед, где среди гальки и серого песка увидел обмытый водой, прекрасно сохранившийся…
— Череп! — завопил я. — Я нашел череп!
Карабкаясь по склону обнажения на четвереньках, я наконец добрался до цели и без труда вырыл руками из мягкого песка округлую, оказавшуюся довольно тяжелой окаменелость. «До сих пор на Омо находили лишь фрагменты черепов, а этот сохранился целехонький», — про себя ликовал я, кубарем скатываясь по откосу к ногам профессора.
На удивление мне он раскуривал свою трубку, не проявляя никакого интереса к моему открытию.
— Он же целехонький! — прокричал я.
— Успокойтесь, молодой человек, успокойтесь, — охладил мой пыл Арамбур. — Во-первых, вы уже наполовину обесценили свою находку. Никто в наше время не хватает окаменелости гоминидов и не тащит их подальше от найденного места. Надо сделать фотографии, все кругом описать, обмерить. И главное — пригласить побольше коллег. Горизонт, о который вы испытали прочность своих пальцев, очень древний, находке минимум три миллиона лет. Поэтому хорошо, чтобы коллеги подтвердили: да, окаменелость лежит на «родном» месте, а не принесена вами из более молодой толщи в целях научной фальсификации.
— Значит, моему черепу три миллиона лет! — воскликнул я.
— Вашему черепу ровно столько лет, сколько написано в вашем паспорте. А три миллиона лет — окаменелому панцирю древней черепахи, ради которой вы изодрали себе колени в кровь.
— Черепахи… — разочарованно повторил я.
— Не вы первый, не вы последний, — лукаво подмигнул мне профессор. — Эти окатанные водой «тартиллетки» действительно чертовски смахивают на черепную коробку приматов. Американцы рассказывали, что один их соотечественник, как-то оказавшийся в лагере, чуть было не свихнулся. Он один отправился гулять вокруг, набрел на целую россыпь «тартиллеток» и, решив, что это черепа австралопитеков, сразу же подсчитал: за каждый в Штатах дадут один миллион долларов. Среди ночи он вернулся к находке с сизалевым мешком из-под муки и набил его «тартиллетками». А на следующее утро увидел, как какой-то парень из экспедиции использует «черепа» вместо ядра для метания на утренней разминке. Этот же парень и открыл несостоявшемуся «миллионеру» глаза на содержимое его мешка…
Пожалуй, только в монгольской части Гоби, в районе «моря динозавров», мне приходилось видеть такое фантастическое количество окаменелостей. Копать в Омо почти не надо. Эрозия сама вскрывает расположенные под углом к поверхности древние слои, порою выставляя на обозрение удивительные экспонаты. Профессор рассказывал, что помимо «тривиальных» находок в рифтовой долине можно столкнуться и со следами подлинных уникумов.
Он не исключал, например, что первые австралопитеки могли еще видеть на берегу праозера Рудольф стада впоследствии вымерших гигантских овец. Судя по фрагментам скелетов, высота животных достигала двух, расстояние между кончиками рогов — четырех метров. Под стать им были древние кабаны, клыки которых скорее напоминают бивни слона. Жирафы с рогами ветвистыми, словно у лося, страусы, переросшие современных жирафов, громадины павианы-лимнопитеки — их тайны тоже хранят осадочные породы Омо.
— Но если забыть о вымерших гигантах, то долина реки, ее климат и растительность остались такими же, как и во времена австралопитеков, — подводя итоги нашей экскурсии, рассказывает ученый. — Я уверен, если бы нам удалось воскресить тех, чьи останки скрываются в этих песках, то они бы чувствовали себя в привычной обстановке. И в этом тоже уникальность Омо! Нет больше такого места на земле, где бы экологические условия, среда обитания древнего человека дошли до нас как бы в «законсервированном состоянии». Если пофантазировать, то можно себе представить, как в будущем, когда наука достигнет новых высот, на берег Омо будут направляться экспедиции ученых, с тем чтобы воссоздать картину условий эволюции древнего человека, так сказать, «на месте» его возникновения.
— Вы считаете, профессор, что это «место» именно здесь?
— Это трудно сказать. Но утверждаю, что в Омо сложилась очень благоприятная ситуация для эволюции человека, и поэтому задаюсь вопросом: «А почему бы роду человеческому не вести свое начало именно отсюда?»
Жившие охотой и бортничеством гоминиды могли «тренировать» здесь себя в самых различных природных условиях, не утруждаясь ненужными дальними переходами. Все было рядом: и открытые пространства саванны, кишащей дичью, и лес с его плодами, и переполненный рыбой водоем. Повсеместно встречающиеся вулканические породы, кремнии и роговики, да еще и обточенные рекой, легко раскалывались на острые пластины, служившие примитивными орудиями.
Но природа не только баловала. Она же заставляла наших прапрапра… идти вперед в своем развитии, чтобы выжить. Надо было опасаться многочисленных хищников, объединяться для совместной борьбы с ними в стаи. Надо было приспосабливаться к различным ситуациям, вызванным то извержением вулкана, то землетрясением, то поворотом русла Омо, изменениями климата, наступлением пустынь, со временем оставившим австралопитекам для жизни лишь узкую долину реки, зажатой мертвыми песками.
Пора задуматься и вот над чем: рифт — это место истончения земной коры, в рифте мы более всего приближены к мантии планеты. Отсюда — повышенная радиоактивность этой зоны и, быть может, многое другое, о чем мы пока даже не подозреваем. Не были ли эти специфические условия «провокаторами» тех мутаций, катализаторами тех эволюционных процессов, которые в конечном счете и привели к появлению чуда природы — человека — именно в рифтовой зоне Африки? Кто знает, кто знает…
Арамбур остановился, раскуривая трубку. Бросил задумчивый взгляд на реку, медленно катившую буро-красные воды на юг. Взглядом проводил парившего над нею марабу.
— Знаете, когда перед войной, совсем еще молодым, в качестве геолога-первооткрывателя я попал на Омо, то не почувствовал величия и очарования этого края. Теперь на склоне своих лет волею судьбы я вновь оказался здесь. Каждый день, осмотрев новые обнажения, я устраиваюсь в шезлонге на берегу реки, наслаждаюсь крепким кофе и смотрю на Омо. Иногда мне кажется, что передо мною отраженное в ее водах проплывает прошлое Человека, который, подобно Фениксу из мифологии древних, вышел из огня и, пройдя через все испытания временем, возродился в наших современниках, в том числе и в нас с вами. Быть может, воспользовавшись соседним шезлонгом, и вы сумеете испытать нечто подобное? И давайте задумаемся: случайно ли древние — египтяне, ассирийцы и эллины, — помнившие о прошлом человечества куда больше, чем люди двадцатого века, местом происхождения Феникса называли Эфиопию? Что это — символ, или отраженный в мифе осколок реальности, или простое совпадение?..
— С благодарностью принимаю ваше приглашение в шезлонг, профессор. Тем более что чашечка кофе вновь послужит для нас предлогом поговорить о Каффе.
Глава третья
Русский первооткрыватель прародины человечества. — Страна каффичо — «африканский Тибет», где хранилась разгадка последних секретов Нила. — Гусар-схимник знаменит отнюдь не только как персонаж «Двенадцати стульев». — А. Булатович — летописец и «навигатор» похода войск Менелика II в загадочную Каффу. — Первое в мире научное описание «могущественной южно-эфиопской империи» было опубликовано в Санкт-Петербурге. — «Фантастично!» — восклицает профессор К. Арамбур
Сваренный а-ля капуччино кофе — со взбитыми сливками, присыпанными тертым шоколадом, — на берегу Омо был бесподобным. Мы долго молчали, глядя на реку и думая каждый о своем. Опять пили кофе и опять молчали. Потом, перехватив взгляд профессора, я решился нарушить тишину.
— Ни в коей степени не оспаривая, что вы были геологом-первооткрывателем Омо, кого бы вы назвали пионером изучения этих мест да и вообще Каффы среди географов?
— Совсем не оттого, что я француз, но если говорить о Каффе в целом, то — своего соотечественника Антуана д’Аббади. Он, конечно, не сделал никаких великих открытий: все свои одиннадцать каффских дней провел в Бонге, расположенном у северных границ Каффы торговом центре, где арабские и эфиопские купцы скупали у каффичо мешки с ароматными зернами. Но и это пребывание и путешествие вдоль границ запретного царства позволили д’Аббади собрать уйму интересного о Каффе. Потом, кажется в 1883 году, на ее северные окраины проник Поль Солейе — опять-таки француз. Он оставил потрясающе интересное и красочное описание жизни каффичо в книге «Торговые исследования в Эфиопии», которую мне как-то посчастливилось купить на книжных развалах вдоль Сены. Потом еще были три итальянца — но те опять-таки либо побывали в Бонге, либо бродили вдоль каффских границ. Вот и все, что общеизвестно: пять человек, которым удалось немного приоткрыть завесу таинственности над родиной кофе.
— А территории к югу от Каффы? Эта великая «долина палеоантропологии»? Устье Омо? Кто из европейцев описал ее первым?
— Мне известно всего лишь одно имя: бедняга В. Боттего, итальянец. В августе 1896 года он первым увидел места, где мы с вами сейчас сидим. Но затем вскоре свихнулся, затеял глупую бойню эфиопов где-то к северу отсюда и погиб. Так что науке его появление на берегу Омо почти ничего не дало.
Неожиданно из-за кустов, где были разбиты палатки сотрудников К. Арамбура, грянули звуки рок-музыки. Ученый недовольно поморщился.
— Сегодня к нам в гости должны пожаловать обитатели американского лагеря. Молодежь будет всю ночь танцевать и кричать «ча-ча-ча», — объяснил он. — Здесь, где само безмолвие природы как бы возвращает человека в его первоначальное лоно, этот гвалт кажется мне кощунственным. Немудрено последовать вслед за Боттего. Кстати, быть может, вы что-нибудь добавите к сказанному мною?
— Совсем не оттого, что я русский, но если говорить об устье Омо и научном описании всего этого района, то первым его исследователем был мой соотечественник.
К. Арамбур посмотрел на меня с долей сожаления.
— У меня в Париже есть русский друг, у которого на случай приступов подобного квазипатриотизма припасены две очень занятные фразы… Как это? — потирая виски, поморщился ученый. — А, вспомнил. Первая фраза: «Россия — родина слонов», вторая: «Советские часы — самые быстрые в мире».
— И все-таки эту «землю обетованную» мировой палеонтологии и палеоантропологии первым описал русский…
— Доказательства? И немедленно!
— Все зависит от того, куда мы сможем перенестись на вашем вертолете. Если в Ленинград, то они будут неопровержимыми. Если в Аддис-Абебу, то частичными: я смогу показать вам там, например, рескрипт императора Менелика II. В нем утверждается предложение русского путешественника Булатовича назвать открытый и описанный им хребет — вон тот, что маячит на правом берегу Омо и отлично виден в лучах заходящего солнца, именем…
— Святого Николая, — перебил меня ученый, с лица которого все еще не исчезла ироническая усмешка.
— Нет, императора Николая II, самодержца российского. А в дельте Омо я могу показать место, нареченное тоже по-русски: Васькин мыс.
— Фантастично! — произнес ученый.
— А если же мы с вами перенесемся сейчас к моему «Лендроверу», то я достану кое-какие выписки и расскажу вам все поподробнее.
— Фантастично! — повторил Арамбур. — Как вы назвали имя этого русского первопроходца Омо?
— Булатович. Александр Булатович, штаб-ротмистр царской армии.
— Фантастично! Я начинаю вам верить, молодой человек.
— ???
— Дело в том, что еще в конце тридцатых годов, после того как я впервые побывал здесь, ко мне в Париже приходила дама. Она рассказывала о своем брате, русском офицере, побывавшем на озере Рудольф, и просила найти следы его пребывания в Эфиопии, во многом, как она говорила, потерянные. Она называла мне ту же, что и вы, фамилию путешественника, но ни словом не обмолвилась о его заслугах первооткрывателя. Фамилия дамы была… нет, не припомню, смахивавшая на кавказскую.
— Орбелиани, — напомнил я, — Мария Ксаверьевна.
— Так, так, Орбелиани, — теперь уже с нескрываемым интересом посмотрел на меня старый ученый. — Тогда по ее просьбе и здесь, и в Аддис-Абебе я наводил кое-какие справки. Но почти безрезультатно… Напал на какой-то, как мне говорили, «русский след», но так его и не распутал. Потом началась война, было не до того. В последние годы, когда мое имя вновь появилось в печати в связи с «экспедицией Омо», мадам Орбелиани снова повторила свою просьбу. Писала она из Канады… Все это начинает меня интриговать.
К. Арамбур занялся трубкой. Потом, вдруг хлопнув себя ладонями по коленям, с неожиданной для его возраста проворностью вскочил с шезлонга.
— В нашем распоряжении еще сорок минут, пока не скрылось солнце. Летим к «Лендроверу»! Мне не терпится узнать, что там, в ваших записях. И подальше от «ча-ча-ча». Рассказ о русском, опередившем меня на Омо, я хочу выслушать в «русском лагере».
Француз-вертолетчик, уже познакомившийся с американскими студентками и опустошивший не одну банку пива, был отнюдь не в восторге от перспективы провести ночь в нашей компании. Однако посадить вертолет в непосредственной близости от местонахождения Питера ему все-таки удалось.
Никаких происшествий в «русском лагере» не произошло, мужчины из селения мерилле так и не показывались. Но, как уверял многоопытный Питер (того же мнения придерживались оба француза), через пару дней «тарелки» должны были окончательно высохнуть, что позволит нам вновь тронуться в путь на машине.
Не теряя времени даром, Питер в наше отсутствие добыл в тростниковых зарослях, окружающих старицу, молодого самца антилопы-топи и теперь гостеприимно приглашал нас на шашлык. Вертолетчик, не забывший прихватить с собой пузатую бутылку божоле, несколько воспрянул духом.
Мне не надо было особенно собираться с мыслями для рассказа о А. К. Булатовиче. Задолго готовясь к этой поездке в долину Омо, еще находясь в отпуске в Москве, я навестил ныне покойного советского африканиста Исидора Саввича Кацнельсона. У этого ученого было свое научное «хобби»: русские путешественники по Эфиопии. Именно благодаря его исследованиям уже в наши дни, с опозданием на три четверти столетия, удалось по достоинству оценить вклад наших соотечественников в дело изучения Африки.
Воздав должное кулинарным способностям Питера и пожурив вертолетчика за то, что он не прихватил больше вина, Арамбур постучал кулаком по «Лендроверу», где я возился с записями.
— Итак, мы начинаем! — торжественно провозгласил он. — Прежде всего мне хотелось бы уяснить, молодой человек, как это получилось: великое географическое открытие русских в Африке сделано еще в прошлом веке, а известно о нем становится лишь сейчас?
— Современники по заслугам оценили подвиг Булатовича. Его книга «С войсками Менелика II. Дневник похода из Эфиопии к озеру Рудольф» была издана в Петербурге в 1900 году и получила хорошую оценку в прессе. За нее путешественник был удостоен серебряной медали Русского географического общества. Заслуги его перед Эфиопией в деле изучения еще никем не исследованных областей были отмечены высшей военной наградой империи — золотым щитом и саблей. А Франция, да будет вам известно, пожаловала Булатовичу орден Почетного легиона.
— Первооткрыватель Омо — кавалер французского ордена? И Камиль Арамбур, который своими руками перебрал там все камни, до сих пор не знал об этом?! Фантастично! Что же дальше?
— Всего Булатович совершил три путешествия в Эфиопию. И наверное, если бы его судьба сложилась по-иному, если бы он обработал свои дневники, написал новые книги, то вошел бы в историю как «русский Ливингстон». Однако в 1900 году царь, вместо того чтобы облагодетельствовать человека, увековечившего его имя на карте Африки, направляет молодого офицера в Маньчжурию. Влюбленному в Африку гусару это назначение было явно не по душе. В 1906 году он уходит в отставку и, изумляя весь петербургский свет, где он был весьма заметной личностью, становится монахом.
В этом новом своем качестве А. Булатович отправляется в последнее путешествие в Эфиопию. Но теперь его уже интересуют не неведомые земли, а подвиги во имя Христа. Он служит молебен у постели умирающего Менелика II, растирает тело негуса святой водой и елеем, прикладывает к больным местам императора чудотворные иконы. Одновременно Булатович ведет переговоры об открытии неподалеку от Аддис-Абебы русской православной духовной миссии.
Однако как путешественнику ему везло куда больше. Ни с чем он возвращается на родину, участвует в монашеском бунте на Афоне. В годы Первой мировой войны появляется на передовой в качестве священника, проявляя при этом, как рассказывают очевидцы, чудеса храбрости. Потом совсем глупая, непредвиденная развязка. В декабре 1919 года его — выходившего один на один со львом и не боявшегося без оружия вести переговоры с боевыми отрядами африканских племен, подозрительно настроенных к белым пришельцам, — убивают грабители. Убивают среди ночи в родовом имении под Харьковом.
— Но ведь после этого трагического случая прошли десятилетия. Можно было бы и вспомнить о Булатовиче?
— Думаю, о нем не вспоминали потому, что жизнь Булатовича, особенно в последние годы, не вписывалась в бытовавшую долгое время официальную схему «положительного героя». Царский офицер, любимец светских салонов, монах… Все это заслонило его подвиги в Африке. Лишь в пятидесятых — шестидесятых годах в отечественной литературе вновь заговорили о Булатовиче, впервые назвали его первопроходцем Каффы.
— Тогда вернемся к самому началу этой удивительной истории. Рассказывайте все по порядку, — попросил К. Арамбур. — Как этот загадочный гусар оказался в закрытой в его время для всех загадочной Каффе?
Не стану утомлять читателя пересказом всего того, о чем мы переговорили той ночью. Суть нашей беседы сводилась к следующему.
К концу XIX века заканчивался колониальный раздел Африки. Италия, одной из последних подоспевшая к этому дележу, метила захватить Эфиопию, еще сохранявшую свою независимость. Однако 1 марта 1896 года объединенные войска императора Менелика в битве при Адуа одержали блистательную победу над итальянцами, в пух и прах разбив их отборную колониальную армию. Поражение это не только вынудило Рим подписать мирный договор с Эфиопией, подтверждающий независимость древнейшего государства Африки. Торжество эфиопского оружия необычайно подняло авторитет Менелика, проводившего политику объединения всех некогда подвластных негусам земель в единое феодальное государство, и развязало ему руки для борьбы с более сильным и коварным противником — Англией.
Для эфиопского двора не было секретом, что Лондон лелеет мечту сомкнуть свои африканские колонии от Каира до Кейптауна. Звеном, разъединяющим их, были лишь тогда «ничейные» и никому не ведомые районы верховий суданского Нила и озера Рудольф. Отсюда англичанам открывался путь и в Каффу. Ореол таинственности, окружавший это загадочное государство, способствовал живучести легенды о сказочном богатстве его владык, несметных сокровищах его недр. Было известно, что к границам Каффы из уже подчиненной британской короне Уганды выступает отряд под командованием майора Макдональда. Он должен был утвердить «английские права» в устье Омо, верхнем течении Нила и бассейне реки Джубы, то есть в областях, непосредственно граничащих с Каффой.
Опередить англичан и вернуть Каффу в лоно эфиопского государства — таково было решение Менелика, продиктованное объективными историческими условиями. Правда, вассалы Менелика уже шесть раз пытались подчинить себе страну-затворницу, но безуспешно. Теперь же, после победы при Адуа, принесшей Менелику в качестве трофеев большое количество винтовок и патронов, артиллерию и весь обоз, исход похода был предрешен. У каффичо было всего лишь триста устаревших ружей, остальные воины имели лишь копья и луки.
В начале 1898 года эфиопская армия под командованием раса[4] Уольде Гиоргиса выступила походом на Каффу, с тем чтобы восстановить древние рубежи своей страны. В ее передовом отряде по личному желанию Менелика находился русский офицер А. К. Булатович. Двумя годами раньше он в составе миссии русского Красного Креста приехал в Эфиопию и своей активной деятельностью в Аддис-Абебе, прекрасным знанием языка и любовью к местным жителям завоевал особое расположение и симпатии негуса.
Так, волею судеб наш соотечественник стал первым европейцем, пересекшим Каффу с севера на юг, единственным европейским свидетелем завоевания этой легендарной страны, остававшейся, по образному выражению А. К. Булатовича, «географической тайной» для всего мира.
В описаниях русского путешественника Каффа предстает как «могущественная южноэфиопская империя», «населенная сильным народом, проникнутым любовью к своему отечеству и предприимчивым, воинственным духом». Как и во всех древнеафриканских деспотиях, власть верховного правителя Каффы — тато — обожествлялась, а жречество пользовалось политическим влиянием. Вся страна, предстающая на страницах работ А. Булатовича сильным государственным образованием, была разделена на двенадцать областей. Каждая из них управлялась назначавшимся тато губернатором — цараба, отвечавшим за сбор налогов и организацию ополчения. Каффское общество знало классы. Оно состояло из «аристократов», к которым причисляли всех представителей старших линий всех родов свободных граждан, а также зависимых земледельцев и касты ремесленников. Собственно Каффа являлась ядром государства, окруженного вассальными княжествами, которые населяли различные народы.
Главной столицей последнего владыки Каффы — тато Тченито — был город Андрачи. Никому из европейцев до А. Булатовича не удавалось проникнуть в эту запретную для иностранцев цитадель, и никто после него уже не смог увидеть этот город: эфиопские войска сровняли его с землей. Размеры Андрачи и его архитектура произвели большое впечатление на русского путешественника. Главной достопримечательностью города был громадный дворец; каждый из столбов, поддерживавших это сооружение, был в несколько обхватов. Со всех сторон дворец окружали священные рощи исполинских сикоморов.
Перед тем как в середине января 1898 года выступить из Андрачи во главе своего шестнадцатитысячного войска на юг, Уольде Гиоргис вызвал к себе Ыскындыра, как он называл Александра Булатовича. Эфиопский военачальник хотел обсудить с ним план предстоящего похода. В дневнике русского путешественника потом появилась такая запись:
«Рас закидал меня вопросами. Как далеко до озера Рудольф? Сколько градусов? Как далеко расстояние до операционной линии? Где находится второй градус? Почему такие большие вышли два градуса? Откуда их считают? Пришлось прочитать лекцию о шаровидности Земли, дать понятие об экваторе, широте места, где мы находимся, и т. п.
— Почему там, куда мы поедем, нет (на карте. — С. К.) ни надписей, ни рек? — спросил меня рас.
Я отвечал, что местность эта до сих пор еще не исследована. Рас покачал головой и задумался. Действительно, предстояла нелегкая задача: было приказано покорить и присоединить к Абиссинии громадную территорию, расположенную между Каффой, озером Альберт и озером Рудольф до второго градуса северной широты, противодействуя при этом всякой другой державе, которая возымела бы подобное же намерение. Край, который рас должен был завоевать, был совершенно неизвестен абиссинцам. Все имевшиеся сведения относились только к самому близлежащему от Каффы району и к живущему там племени шуро. Оставалось совершенной загадкой, какое пространство занимает шуро, кто его соседи, есть ли вообще таковые, наконец, что представляет местность, находящаяся за границами этого племени».
Как впоследствии выяснилось, захваченные в плен местные жители не могли служить проводниками, что очень осложняло дело. Даже тогда, когда армия находилась в двух днях перехода от устья Омо, никто из них не мог сказать расу, где «ложится» река, то есть где ее текущие воды сливаются с неподвижной гладью озера Рудольф.
Без преувеличения можно сказать, что в этих условиях присутствие А. Булатовича в немалой степени способствовало успеху военной экспедиции раса, которая в Аддис-Абебе рассматривалась современниками как выдающийся подвиг. С помощью новейших по тем временам приборов, привезенных из Петербурга, русский офицер систематически определял местонахождение эфиопского войска, помогал Уольде Гиоргису ориентироваться на местности, выбирать по карте оптимальное для передвижения армии направление. В последние дни перехода, когда привыкшие к прохладным горным лесам Эфиопии солдаты попали в выжженные солнцем безводные пустыни и начали роптать, единственным человеком, на кого полагался рас в своих решениях, был Ыскындыр. По нескольку раз в день он просил его «винтить солнце», то есть производить астрономические наблюдения, уточняя направление перехода.
Однако А. Булатович не только был летописцем и «навигатором» в походе эфиопов к озеру Рудольф. Пытливый ум исследователя заставлял русского путешественника покидать отряд Уольде Гиоргиса и совершать самостоятельные рекогносцировочные походы, проводить подробную маршрутную съемку местности, составлять географические карты неведомых для европейцев районов. До озера Рудольф еще оставались долгие недели пути, когда, выйдя к долине Омо, А. Булатович на основании своих собственных съемок сделал вывод: высота реки над уровнем моря достигает 700 метров. При весьма малом падении и очень медленном течении Омо ей необходимо было бы пройти громадное расстояние, раньше чем соединиться с Нилом. А такого расстояния, судя по картам, быть не может. Значит, правы те, кто не связывает Омо с Нилом. Река эта может впадать только в озеро Рудольф… Выйдя затем к дельте Омо, А. Булатович подтвердил свою догадку. Так русским путешественником была решена одна из последних загадок бассейна Нила, подводившая черту под великим географическим спором.
Мне было очень любопытно узнать, что среди народов, обитавших в низовьях Омо, были в конце прошлого столетия и масаи — главный объект моих этнографических интересов в Восточной Африке. В поисках лучших земель или под воздействием политики колониальных властей недавнего прошлого этот гордый народ позднее переселился почти на тысячу километров к югу, к кенийско-танзанийской границе. Тогда же масаи, или, как их называет А. Булатович, машай, судя по его дневникам, не были редкостью в долине Омо. Они вели такой же, как и сегодня, образ жизни: их одежда и обычаи с тех пор почти не изменились.
Столь же точно характеризуется А. Булатовичем облик «воинственных степняков — кочевников таргана», или, как их ныне называют, туркана. «Мужчины высокого роста, с довольно правильными чертами лица, прямым носом, совсем не похожим на негритянский. Губы не особенно толстые, глаза умные, выражение лица открытое. Он обрезан, и бедра нататуированы мелкими крапинками. На плечи накинута черная шкура козленка, свешивавшаяся с плеч назад и составлявшая всю его одежду… Его спутница была молодая, очень стройная и сравнительно красивая женщина… На руках железные браслеты».
С проводником туркана русский путешественник ходил в один из своих рекогносцировочных походов по хребту Николая II. «Отсюда как на ладони виднелась вся северная часть озера с его тремя заливами: двумя узкими, длинными на востоке, в один из которых, Рус, впадает Няням, и широким заливом на западе — Лабур, окруженным, как амфитеатрами, горами, — читаем мы в дневнике путешественника. — Этот залив заканчивается на юге высоким скалистым мысом, на котором возвышаются три пика. Я не мог узнать его местного названия и поэтому в честь Васьки, которого нашел в тот день, назвал его Васькиным мысом…»
— Фантастично! — подытожил К. Арамбур, прослушав мой рассказ. — Мы обязательно должны побывать там вместе и возложить венок на этом мысу. Ваш гусар-схимник достоин пера Дюма! А пока не мешало бы подкрепиться.
Было без малого три часа ночи. Светила полная луна, на небе не было ни облачка. Вдалеке вели перекличку какие-то птицы. Когда же они замолкали, наступала неестественная тишина.
Отправившийся за мясом Питер вскоре возвратился назад, разочарованно прищелкивая языком. Его хитрость — он затащил остатки козьей туши на дерево — мало кого обманула. Судя по следам, оставшимся на песке, сначала к дереву подходил каракал. Но он, очевидно, вскоре ретировался, поскольку про мясо проведали муравьи. «Это зрелище стоит посмотреть», — закончил Питер.
Насекомые покрыли всю тушу сплошным панцирем крохотных тел, тускло поблескивавших при свете наших факелов. А по стволу дерева к туше поднимались все новые мириады муравьев.
— Это опасно, — с тревогой предупредил Питер. — Надо откочевать подальше.
Проехав с километр по старой колее, мы расположились на ночевку. Утром Арамбур, договорившись о новой встрече, улетел в лагерь, а мы, спасаясь от солнца, вернулись на старое место, в тень деревьев. На одном из них белел целехонький, будто препарированный, скелет, валялись обрывки серой шерсти. Это было все, что оставили муравьи от почти что не тронутой нами туши антилопы-топи.
Глава четвертая
Воины-мерилле приказывают взобраться на верблюда. — Локинач — селение охотников на бегемотов. — Женщины носят по десять килограммов украшений. — Пчелы переходят в наступление. — Еще один «русский след»: художник Е. Сенигов — «белый эфиоп», влюбленный в Каффу. — На пироге, вниз по Няням. — Мы вступаем на Васькин мыс. — Три скалы на берегу озера Рудольф
В поисках спасения от солнца, которое в этих широтах мучает больше не жарой, а яркостью света, ощутимо, физически наваливающегося на вас и как бы вдавливающего в землю, мы залегли в раскаленную машину. Однако вскоре двое красавцев мерилле на белых верблюдах въехали в наш лагерь и, не слезая с дромедаров, начали колотить хлыстами по крыше «Лендровера».
— Если вы торопили нас прийти к вам на помощь, то должны ждать нас, а не дрыхнуть, как ленивые бараны, — ошарашил один из них высунувшегося из машины для переговоров Питера.
— А если вы нас не ждете, мы уедем, поскольку спешим, — бросил другой.
Пришлось вмешаться в разговор мне. Усмирив гордых кочевников пачкой сигарет и рассыпав комплименты по поводу того, как быстро они приехали, я перешел к делу.
— Знаете ли вы дорогу на восток, где идет караванная тропа в Кению, и можете ли показать ее нам?
— Мы для того и здесь, чтобы показать эту дорогу, — ответил мерилле, выдававший себя за старшего. — Но наши жены распустили о вас слух по всей округе, и теперь вас хочет видеть полицейский старшина. Он запретил нам показывать дорогу до тех пор, пока не проверит ваши документы. Он прислал вот этого верблюда, чтобы кто-нибудь из вас приехал к нему. Мы же поедем на втором.
— Куда надо ехать?
— В Локинач. Это в трех часах перехода на верблюдах, — ответил мужчина. — Конечно, для тех, кто умеет ездить на верблюдах.
Не стану лгать: на верблюде я ездить почти не умел. Но во-первых, для простоты дела, поскольку с иностранцами местные власти решают дела гораздо быстрее, чем с африканцами, а во-вторых, чтобы не проводить лишний день в надоевшей «бутылке» и посмотреть новые места, я решил ехать сам.
Вряд ли стоит описывать эту поездку. Скажу лишь, что вопреки расчетам она заняла вдвое больше времени и окончательно подорвала мой авторитет в глазах кочевников. Суровый этикет пустыни не разрешал им отпускать в мой адрес шуточки, но их взгляды достаточно красноречиво говорили, каких слов я заслуживаю, хотя ехать без седла на верблюде по «тарелкам», а затем продираться сквозь заросли акаций-контыр, усеянных цепкими двадцатисантиметровыми колючками, так и норовившими стянуть вниз, было действительно трудно.
Локинач — крохотное селение, со всех сторон окруженное старицами и протоками Омо, прячущимися под сводами пальм. Еще задолго до того, как показались его островерхие хижины, навстречу нам выбежала нагая детвора, а на околице, где мужчины разделывали накануне вечером убитого бегемота, мы увидели и все взрослое население, включая сержанта.
Подозреваю, что никаких формальных дел сержант, учтивый молодой амхарец, прилично говоривший по-английски, ко мне не имел. Просто, зачахнув со скуки в этом богом забытом селении, среди людей, на языке которых он говорил не лучше, чем я, сержант решил воспользоваться нашим пребыванием по соседству, дабы себя показать и других посмотреть. К тому же вот уже больше месяца сержант сидел без курева. Во всяком случае, выслушав мой рассказ и получив в подарок предусмотрительно захваченный блок сигарет, он не стал проверять документов и перешел к светской беседе.
Локинач, по его словам, был административно-торговый пункт, куда охотники и кочующие в пустыне кочевники приходят сбыть, а вернее, поменять свои товары. Главная его забота — борьба с браконьерством, но успехами похвастаться нельзя. Ежегодно между Локиначем и устьем Няням убивают до двадцати тысяч крокодилов, пять тысяч бегемотов, несчетное количество водяных козлов, а в пустыне — десятки тысяч антилоп. В последнее время с юга сюда наведываются браконьеры, нередко европейцы. У них — моторные лодки, автомашины, лошади. Одному сержанту и двум помогающим ему аскари[5] справиться с ними не под силу. Что же касается местных племен, то дикие животные для них — единственный источник существования. Прежде чем запретить охоту, надо дать им другое занятие, иначе люди погибнут от голода. А поскольку такого занятия пока нет, приходится мириться с нарушениями закона.
— Конечно, я бы мог арестовать всех тех, кто добыл бегемота, еще у въезда в селение. Но тогда их жены и дети придут ко мне требовать пищу. Поэтому всякий раз дело кончается тем, что я ем гиппопотамье мясо вместе с охотниками. А сегодня заставлю и вас присоединиться к нашей компании. Надеюсь, вы не откажетесь от доброго куска свежей вырезки, — улыбаясь, обратился ко мне сержант. — Я отлучусь на пару минут, отдам распоряжения.
Вслед за сержантом я вышел на свежий воздух. Прямо на пороге полицейского офиса сидел средних лет мужчина с огромной, словно зонтик, шевелюрой, завернувшийся в, белоснежное покрывало. Из-под него виднелась лишь одна нога, меж пальцев которой была вставлена большая медная гильза. Понаблюдав за ним, я понял, что это — писарь, а гильза служила ему чернильницей. К мужчине подходили почему-то все больше молодые женщины — не столько одетые, сколько украшенные. Они что-то рассказывали писарю, тот кивал головой и, макая всаженное в тонкую бамбуковую палочку перо в гильзу, быстро писал на листке ученической тетради. Деньги ему давали редко, чаще пакетики с солью или перцем. Прямо напротив, мирно беседуя, стояли пять нагих мужчин, «изображая своими руками виноградный листок», как выражался в подобных ситуациях А. Булатович. Время от времени до меня доносились звуки: «Ць-ць-ць» — так здесь выражают удивление — или протяжное «Ы-ы-ы» — «нет». Даже разговаривая, они не выпускали изо рта ветки дерева энтырь. Их слегка разжевывают, превращая тем самым в своеобразную зубную щетку. Чистящим же средством является вызывающий сильное слюноотделение сок дерева, выделяющийся из «щетки». Многие утверждают, что именно благодаря энтырю у большинства африканцев бывают такие белые зубы.
В наряде, состоящем из двух кожаных передников, надеваемых как спереди, так и сзади, важно прошествовала через площадь пожилая женщина с огромной охапкой хвороста на голове. Стайка мальчишек в набедренных повязках, с коробками из-под обуви вместо портфелей проследовала то ли на занятия, то ли с занятий. Потом на площадь, истошно вопя, вбежал старикашка. Он странно размахивал руками, словно отбиваясь от кого-то. Я пригляделся: над его головой вился огромный рой пчел.
Старикашка опрометью ринулся в противоположный конец площади и там плюхнулся в забетонированное углубление для воды, у которого толпились полторы дюжины ишаков. Истошный крик прекратился. Но вскоре один из ишаков, нещадно брыкаясь, понесся по направлению к хижинам. Как видно, обманутые стариком пчелы решили атаковать животное…
— Извлеките из этого урок на будущее, — посоветовал мне воротившийся сержант. — У нас на каждом дереве висит по нескольку ульев. Мед — один из основных продуктов местной «экономики», из него делают не только турчу — освежающий напиток, но и крепкое зелье. Поэтому пчел кругом очень много, некоторые их разновидности на редкость агрессивны. Не вздумайте среди дня есть на открытом воздухе или даже в доме с незакрытыми окнами что-либо сладкое, пить подслащенную воду. Да и вообще, пока пчелы не заснут, лучше ходить голодному: никогда нельзя предсказать, что именно им сегодня понравится. На моей памяти с десяток случаев, когда люди были искусаны ими до смерти. Есть какой-то зловредный рой, его пчелы так и норовят укусить вас в язык. После такого укуса человек начинает задыхаться, корчиться в судорогах.
— Так что бегемота мы будем есть сегодня ночью? — уточнил я.
— Конечно. Ведь его поливают соусом из меда с перцем.
Я хотел было спросить, не слишком ли это смелое сочетание, когда в небе раздался гул, а затем над пальмами показался полосатый вертолет.
— Питер сказал, что вы здесь, — еще на ходу объяснил мне К. Арамбур. Потом как со старым знакомым обменялся рукопожатиями с полицейским. — Надеюсь, сержант, вы не обижаете нашего гостя?
Тут же на площади профессор начал пересказывать сержанту подробности, услышанные от меня минувшей ночью. Сержант со все убыстряющейся частотой произносил «ць-ць-ць» и со все большим уважением смотрел в мою сторону. Затем они начали выяснять судьбу какого-то сарая, до недавних времен стоявшего неподалеку от Локинача на тропинке, ведущей к Омо. Потом полицейский извлек из карманчика на рукаве своей форменной рубахи свисток и использовал его по назначению. Один из пяти беседовавших неподалеку мужчин отделился от группы и, перестав прикрываться рукой, подошел к нам, а затем поочередно отдал всем честь.
Сержант что-то приказал ему на гортанном, изобилующем звуками «ч», «ц» и «щ» языке, мужчина вновь отдал честь и стремглав бросился бежать к одной из хижин. К. Арамбур принялся было что-то объяснять мне, когда мужчина вышел из хижины, держа в руках… связку книг. Он вручил их сержанту, отдал честь и вновь присоединился к своим собеседникам.
В связке оказалось несколько старых брошюр на амхарском языке, с виду напоминавших букварь, Библия на итальянском, английские журналы за 1903 год и… Я не поверил своим глазам. «Наши черные единоверцы, их страна, государственный строй и входящие в состав государства племена» — по-русски было написано на титуле книжицы. Она была отпечатана в 1900 году в Санкт-Петербурге у П. П. Сойкина. В левом верхнем углу сохранилась надпись побуревшими чернилами: «Е. Senigoff».
— Помните, когда я говорил вам о мадам Орбелиани, то упомянул о некоем «русском следе», на который напал, — поймав мой удивленный взгляд, сказал К. Арамбур. — Давно, еще до мировой войны, я обнаружил здесь сарай, в котором, к своему удивлению, нашел неплохую библиотеку на десятке европейских языков. Стены его были увешаны карандашными рисунками и акварелями — сочными, динамичными зарисовками батальных сцен, лирическими пейзажами и портретами представителей местных племен в национальных костюмах. Старики Локинача с благоговением говорили о хозяине сарая — внутри, кстати, выглядевшего вполне уютно, — называли его «белым эфиопом» и сетовали, что он не посещал их уже несколько десятилетий. Рассказывали, что в былые времена с наступлением холодов он каждый год приезжал в свой «сарай» и подолгу жил здесь, рисовал и лечил местных жителей. Зенигоф? Это ведь написанная на немецкий манер русская фамилия?..
— Евгений Сенигов — исторически известная личность, — сказал я. — Он попал в Эфиопию, кажется, в 1899 году в составе военной миссии, которую возглавлял другой выдающийся русский исследователь этой страны — Н. Леонтьев. Выходец из обеспеченной дворянской семьи, подпоручик царской армии, Сенигов еще в России попал под влияние народников, проникся идеей, что только крестьянская община может служить основой развития свободного, демократического государства. В России, где капитализм беспощадно крушил общинные устои, Сенигов не видел возможностей для реализации своих идеи. В Эфиопии же, особенно в ее южных районах, где феодализм и церковь не были столь уж сильны, он надеялся на успех. Плененный африканской природой, он решил навсегда поселиться в Эфиопии и задался целью создать на одном из островов озера Тана нечто вроде «демократической коммуны».
— И что же получилось из этого начинания? — живо поинтересовался профессор.
— Доискаться до истины ни в Аддис-Абебе, ни на островах мне не удалось. Менелик II очень благоволил к Сенигову, который выучил не только амаринья, но и несколько других местных языков, ходил в шамме[6] и предпочитал эфиопских друзей европейскому кругу знакомых.
— Кто-то говорил мне, что неподалеку отсюда, в Лобуни, — вставил К. Арамбур, — у него была пассия-масайка и от нее — трое сыновей.
— Кто знает… Первые годы своей аддис-абебской жизни Сенигов активно занимался созданием коммуны, отдавая этой затее все деньги, которые он зарабатывал как художник. Отличный рисовальщик, к тому же долгое время не имевший никаких конкурентов в Аддис-Абебе, он пользовался большим успехом как среди придворной знати, так и среди европейцев, живших в эфиопской столице. Однако в островной коммуне что-то не ладилось, и вскоре Сенигов расстался со своей утопией. Он начал много ездить по стране, питая особое пристрастие к Каффе, ее древней культуре. Художник собирал легенды, записывал со слов стариков рассказы об обычаях и традициях каффичо и рисовал, рисовал, рисовал…
Одному из своих итальянских знакомых, Карло Монтани, которого в 1968 году я еще застал в Аддис-Абебе, он поведал: «Я хочу, чтобы Каффа осталась на географической карте Африки таким местом, о котором бы говорили: этот район был не только открыт, но и досконально изучен русскими». Тот же Монтани рассказал мне, что, собираясь издать свое детальное исследование о культуре и искусстве каффичо, Сенигов отослал весь свой материал не то в Рим, не то во Флоренцию, где он затерялся. А какова судьба тех акварелей, что вы видели в тридцать седьмом году? — обратился я к профессору Арамбуру.
— Три из примерно полусотни мне удалось купить у старика, приставленного сторожить сарай. Они и сейчас украшают мою парижскую квартиру: туркана, ловящие корзинами рыбу на озере Рудольф; группа копейщиков-нилотов… Пейзаж, выполненный пастелью… Кажется, то же озеро и черная пирамида из камней на берегу.
— А не слыхали ли вы что-нибудь о судьбе других рисунков? — поинтересовался я у сержанта.
— Мой предшественник передал мне только эти книги. Если бы рисунки у кого-нибудь здесь сохранились, я бы знал о них.
— А как вам кажется, сержант, есть ли в Лобуни сейчас мужчины, которые могли бы быть детьми русского художника?
— Ы-ы-ы, — было мне ответом. — Все жители там еще чернее, чем в Локиначе.
Похоже, что старая сойкинская книга была тем последним «русским следом», который хранил память о русских первопроходцах в долине Омо. Сержант и Арамбур уговорили меня увезти ее с собой. И теперь, когда я пишу эти строки, она лежит у меня на письменном столе. В окне — зимний пейзаж Подмосковья, и кажется странным и удивительным то путешествие, которое проделала эта книга во времени и пространстве. Петербургская книга с берегов Омо, откуда, быть может, ведет начало род человеческий…
Гулкие звуки тамтама, раздавшиеся сразу же после того, как солнце скрылось за хребтом, исследованным А. Булатовичем, оповестили нас о том, что наступила пора дегустации мяса бегемота. Для местных жителей — это не какое-то выдающееся событие, а проза жизни.
Асалафи — так в Эфиопии повсеместно называют человека, раздающего еду, — вручал каждому подходившему мужчине огромный кусок мяса. Затем обладатель куска отходил в сторону, садился на землю у заранее приготовленного им листа пальмы или банана, клал на него мясо, расчехлял копье и принимался орудовать им как ножом. Женщины тем временем стояли в длинной очереди к огромному глиняному кувшину, из которого как раз тот старикашка, что днем подвергнулся нападению пчел, разливал всем по консервным банкам едкий перечно-медовый соус.
Мне объяснили, что старик совмещает в Локиначе роль главного пасечника и «посредника в общении» с пчелами и что именно благодаря таким людям, как он, наследующим от своих предков из поколения в поколение «искусство понимать пчел», эти создания и дают мед человеку. Почему в таком случае старик не смог отговорить пчел кусать сегодня именно его, никто объяснить не мог. Но все уверяли, что, даже если бы этот «пчелиный человек» и не бултыхнулся в поилку для скота, нападение роя он перенес бы куда легче, чем любой другой, не умеющий «общаться с пчелами».
Когда женщины наполнили свои банки, произошло «воссоединение семей»: они дружно отошли от кувшина и направились к мужчинам. Только после этого к родителям, согласно местному этикету, смогли присоединиться дети, все это время наблюдавшие за происходившим из-за кустов. Поливая куски мяса соусом, все молча ели, а старик, ритмично ударяя бамбуковой палкой по опустошенному кувшину, воздавал хвалу щедрой реке Няням.
Няням кормит бегемотов, Няням поит пчел, Няням дает жизнь всем, И за это люди славят Няням, —перевел мне сержант нехитрые слова, речитативом выкрикиваемые стариком.
Завершив трапезу, те, кто повзрослее, разошлись по хижинам, а молодежь начала собираться у костра. От высохших на солнце стеблей осоки в небо взметнулись высоченные языки пламени и осветили все вокруг; у костра закружил хоровод. Взявшись за руки, девушки в кожаных юбках-передниках и юноши в набедренных повязках бегали по кругу, продолжая славить Омо-Няням. Иногда где-то в темноте бухали тамтамы. Тогда хоровод замирал, и танцующие, не разнимая рук, начинали подпрыгивать. Затихал тамтам — вновь оживал хоровод.
— Так будет продолжаться всю ночь, — предупредил сержант. — Советую получше выспаться, с тем чтобы завтра пораньше, пока не наступит пекло, отправиться к озеру.
К. Арамбур настоятельно рекомендовал воспользоваться для этой поездки его вертолетом. Однако я предпочел более традиционный в этих местах вид транспорта — выдолбленную из цельного ствола дерева пирогу. Она была, правда, снабжена мотором и надписями «Полиция» по бортам. Тем не менее такой способ передвижения, как я полагал, позволит лучше проникнуться той атмосферой путешествия по реке Омо, какую ощущал Булатович.
С середины реки не было видно ни желтых пустынь, ни выжженных солнцем бурых холмов: их скрывали встающие прямо из воды леса. Растущие ближе всего к воде пальмы, изогнувшись чуть ли не под прямым углом, тянули свои стволы почти параллельно речной глади. С них в воду спускались пряди эпифитов, а навстречу им, из реки, поднимались вьюны, усыпанные крупными ярко-желтыми цветами. В затоках и заводях между островками цвели лиловые кувшинки. По их листьям деловито бегали длинноногие ибисы. Птиц было полно и в прибрежном лесу. Очевидно, находя все необходимое для жизни на границе воды и пальм, они не выходили за пределы леса. Ни в саванне, ни в пустыне я никаких птиц, кроме марабу, за эти дни не видал.
У сплетенной из тростника пристани, обозначенной надписью «Французская экспедиция Омо», в пирогу подсел К. Арамбур. Профессор, как всегда, был при бабочке, а в руках держал зеленый мягкий саквояж.
— Я хочу сказать вам, молодой человек, что в те годы, когда Булатович открывал устье Омо, политика Франции и России в отношении Эфиопии совпадала, — обтирая лицо платком фисташкового цвета, сообщил ученый. — В Париже считали, что своим соседом в Африке лучше иметь эфиопского, чем британского льва. Поэтому мы были заинтересованы в том, чтобы Менелик II восстановил древние границы своего государства и даже продвинул их к югу, вплоть до нашего Конго. Так что сегодня мы будем представлять здесь именно те державы, которые помогли негусу достичь южного предела нынешних границ Эфиопии…
Арамбур, видимо, не собирался заканчивать на этом, но наша лодка резко развернулась и наскочила на мель. Профессор вылетел на мелководье через левый борт, я — через правый. Когда же выбрались из воды, сержант смущенно объяснил:
— Я заслушался, что вы там говорите, и совсем не заметил огромного крокодила, плывшего прямо по ходу лодки. Пришлось резко изменить курс, иначе все мы барахтались бы в глубокой воде рядом с крокодилом…
Никто ничего себе не ушиб и не поломал. Поэтому, поблагодарив сержанта за спасение от крокодильих зубов, мы быстро стащили пирогу с мелководья и отправились дальше.
— Крок[7], гиппо[8], гиппо, крок! — показывая то в одну, то в другую сторону, кричал нам сержант.
И действительно, несмотря на хищническое истребление животных, редко где мне приходилось видеть так много бегемотов и крокодилов, как на этой реке. Ближе к устью, где Омо намыла длинные песчаные острова и косы, меж красно-желтых отмелей я насчитывал по три-четыре сотни гиппопотамов. Когда катер приближался к берегу, из зарослей в воду то и дело плюхались крокодилы, будто какой-то великан, затаившийся в лесу, сваливал наперерез нашей пироге бревна. Я засек время: за 15 минут в воду плюхнулось 84 огромных пресмыкающихся.
Не дойдя до озера пять-шесть километров, Омо дробится на множество рукавов, которые и доносят воды реки до нефритовой глади озера Рудольф. На западе дельта Омо, как и описывал А. Булатович, была ограничена черной, сложенной вулканическими туфами перемычкой, над которой возвышались три таких же черных зубца. Это и был Васькин мыс. Неподалеку на песчаной косе трепетал на ветру выжженный солнцем эфиопский флаг.
— Фантастично! — воскликнул К. Арамбур и опрометью бросился к пироге. Оттуда он извлек зеленый саквояж, а из него — венок, сплетенный из диких цветов саванны.
Венок он положил у горки камней, наваленных у основания флагштока. На его бумажной ленте было написано: «Русскому первооткрывателю реки Омо от французского пионера исследований древнего человека долины Омо». Я положил на венок значок с видом кремлевской башни. Сержант подбросил в основание горки несколько камней. Затем мы крепко обнялись.
— Мне представляется, что на одном из увезенных мною отсюда рисунков Сенигова изображена именно та «высокая куча» из камней, о которой упоминает Булатович. Нет! Просто фан-тас-тич-но! Я проработал здесь больше трех десятков лет и ничего не знал об удивительных «одиссеях» русских в этих местах. Вы, молодой человек, буквально спустили меня с небес на землю.
Глава пятая
В гости к Лики. — Вокруг — лишь лавовые тля, заваленные глыбами черного туфа. — «Трудно поверить, но обезьяна сделала палку своим орудием именно здесь», — говорит Луис. — В палаточном лагере ученых на мысе Кооби-Фора. — «Щелкунчик» и «Золушка» жили еще 1,7 миллиона лет назад. — Мемориальная доска посреди рифтовой долины Олдовай. — Эстафета семейной традиции: Ричард и Мив делают «находку века»
Наконец солнце и ветер сделали свое дело — высушили «тарелки». Можно отправляться в путь.
Прощаясь, К. Арамбур сказал, что, «согласно информации, полученной из достоверных источников кенийской части экспедиции», Луис Лики недавно прибыл в лагерь Ричарда. Лагерь находился на восточном побережье озера Рудольф, и не побывать в нем сейчас, когда отец и сын оказались там вместе, было бы непростительно.
Я вспомнил свои встречи со знаменитым археологом в Найроби и Олдовае, неоднократные приглашения посетить его в «раю Туркана» и решил ехать. Сержант дал надежного проводника, с помощью которого мы не без приключений, но все же выбрались из «бутылки», а затем разыскали караванную тропу, ведущую на юг.
Незаметно мы пересекли границу Кении, пропутешествовали еще два дня, положили с полсотни заплаток на камеры и наконец предстали перед изумленными кенийскими полицейскими в Илерете. По их словам получалось, что уцелели мы в этой поездке просто чудом, поскольку в районе очень неспокойно. Воинственные гелубба недавно вторглись на земли местных кочевников — мерилле, похитили женщин, угнали скот. Полиция здесь слишком малочисленна и даже не пытается вмешиваться в подобные столкновения. Мерилле уже оправились от нападения и готовятся к ответному рейду. В это время посторонним на их земле показываться не следует.
Южнее, куда мы собирались ехать, по сведениям полицейского, также сложилась напряженная обстановка: на «тропу войны» встали туркана и самбуру. Во время недавнего столкновения, происшедшего из-за огромного, более чем в тысячу голов стада скота, стрелами и копьями было убито с обеих сторон более восьмидесяти человек.
— Очень, очень опасно ехать, — неодобрительно качая головой, заключил полицейский.
Питер возразил, что, на наш взгляд, в этом районе «слишком спокойно», что мы и рады были бы кого-нибудь встретить, чтобы разузнать о дороге, но почти никого не видели. Потом он начал выяснять, как найти Лики. «Профессор Лики», «всемирно известный антрополог», «знаменитый ученый» — все эти слова не вызывали у местных стражей закона никаких ассоциаций. Тогда Питер решил перейти к языку жестов.
— А, это люди, роющие землю на берегу залива Аллиа, — радостно хлопнув себя по затылку, догадался полицейский. — Это не близко, и ехать придется по почти необитаемой безводной местности. Но я дам вам аскари из местных, который покажет дорогу. Он поедет на верблюде.
У аскари на голове поверх буйных волос была налеплена шапочка из глины, разрисованная красной и синей красками и увенчанная страусовым пером. Такую прическу носят месяцами, пока глина не растрескается. Важно восседая на верблюде, шагавшем впереди нашей машины, аскари выглядел очень живописно.
Мы ехали по настолько унылому и однообразному краю, что я даже не берусь его описывать. Это не пустыня, у которой есть свои краски, жизнь, свое очарование. Страна племени габбра совершенно лишена растительности; это — лавовые поля, заваленные глыбами черного туфа, скелетные почвы вдоль неглубоких сухих долин, россыпи камней. Мертвый ландшафт. Кое-где приходилось объезжать руины скал, сложенные красными сланцами, то ли еще не успевшими остыть после извержения, то ли уже с утра раскалившимися под лучами солнца. Иногда попадались груды снежно-белого кварца, ослепительно сверкавшего на солнце.
Сотни забывших, что такое вода, сухих русл, называемых здесь «гура», изрыли безрадостную землю. По ним кочевники-аскеты гоняют своих тощих, неизвестно чем живущих коз, склонных к самоубийству под колесами нашей автомашины. Ездить по гура можно довольно успешно. Самое тяжелое — выбираться из них или сползать по осыпям в новое русло. Верблюду эти упражнения удавались значительно легче, чем нашей машине.
Наш живописный аскари не знал ни единого слова ни на одном из понятных нам языков, что не мешало ему время от времени останавливаться, жестом вызывать меня или Питера из машины и с высоты верблюжьей спины что-то объяснять. Я тоже задавал вопросы. Меня особенно интересовало происхождение обтесанных каменных плоских глыб, кое-где испещренных непонятными значками. То явно были мегалиты — памятники, оставленные древними обитателями этих мест. Аскари что-то объяснял, водя пальцем по значкам. Но понять друг друга мы так и не сумели.
В отличие от вспоенной водами зеленой долины Омо представить себе этот неприветливый край прародиной человечества было очень трудно. Так же трудно, как поверить ученым, что в те далекие времена, когда обезьяна прочно встала на ноги и сделала палку своим орудием, здесь были не пышущие жаром пески и камни, а зеленые долины.
Впервые Африку прародиной человечества назвал Чарлз Дарвин. Великий основоположник эволюционного учения считал, что богатые флора и фауна Тропической Африки облегчали нашим примитивным предкам поиски пищи, а теплый климат не только избавлял их от необходимости сооружать жилища и заботиться об одежде, но и ускорял процесс исчезновения у них волосяного покрова. Но все это были плоды теоретических рассуждений, а не сделанные на основе раскопок и фактов аргументированные выводы. Антропология делала тогда первые шаги и не могла дать Ч. Дарвину никаких доказательств.
Когда же палеоантропология вышла из младенческого возраста, то начала опровергать Ч. Дарвина. В 1892 году на Яве французский врач Е. Дюбуа впервые обнаружил остатки «обезьяночеловека» — питекантропа. Все новые и новые сенсации приносили раскопки в пещерах под Пекином. Там нашли еще одну ископаемую форму доисторического человека — синантропа, а рядом с ним — множество каменных орудий. Обитатели пещер жили в начале четвертичного периода, то есть несколько сот тысяч лет назад.
Пока Африка не предоставляла доказательств, в Южной Азии, где также тепло и влажно, одно антропологическое открытие следовало за другим. В науке укрепилось твердое мнение, что родиной человека была Азия, где огромные области тропического климата начиная с мезозоя не знали ни морских трансгрессий, ни вулканических катаклизмов. Это хорошо согласовывалось с соседством древнейших цивилизаций и устраивало расистов от науки, которые не могли примириться с мыслью о появлении человека на Черном континенте.
И вдруг в 1924 году как гром среди ясного неба появилось сообщение южноафриканского анатома профессора Раймонда Дарта, тогда еще дилетанта в антропологии. Дарту удалось обнаружить возле Йоханнесбурга целую коллекцию ископаемых черепов. Среди находок обращал на себя внимание череп, слишком примитивный для человека, но необычайно прогрессивный для обезьяны. Обладатель другого черепа (трех-четырехлетний ребенок) имел большой мозг, каким не могла похвастаться ни одна из человекообразных обезьян, и зубы, похожие на человеческие. К тому же, судя по костям, он ходил гораздо прямее, чем шимпанзе. Дарт назвал обладателя черепа австралопитеком африканским и заявил, что считает его «промежуточным звеном» между обезьяной и человеком. Это был переворот в антропологии.
Двадцать лет спустя соотечественник Р. Дарта профессор Роберт Брум в пещерах под Йоханнесбургом находит другой череп, а затем кости скелета, доказывающие, что австралопитеки передвигались в выпрямленном состоянии. Теперь уже и речи быть не могло о том, что открытые Р. Дартом и Р. Брумом древние виды всего лишь доселе неизвестные науке вымершие человекообразные обезьяны. Это были существа, близкие к предкам человека, которые появились в плиоцене и жили вплоть до самого начала четвертичного периода. А это означало, что австралопитек старше и питекантропа, и синантропа и что лавры Азии вновь должны перекочевать в Африку. Кажется, Ч. Дарвин был прав!
Но великий англичанин уже давно умер, а двум профессорам из заштатного южноафриканского университета и кучке их сторонников из молодых ученых было не так-то легко переспорить маститых приверженцев азиатской теории. Этот спор, быть может, продолжался бы до сих пор, не появись в Кении новый патриот «африканской прародины» — Луис Лики.
И вот я сижу в его палаточном лагере, разбитом на длинной, глубоко вдающейся в озеро Рудольф песчаной косе Кооби-Фора. Смотрю в его загорелое моложавое лицо и не могу поверить, что этому человеку шестьдесят шесть лет, что эпитеты «великий ученый», «революционер в антропологии», равно как и высокие звания — профессор, доктор Кембриджского университета, директор Института палеонтологии Кении, президент Географического общества Кении, — относятся к нему. Простому, по-юношески увлеченному своим делом Лики.
— Не принимайте это, конечно, на свой счет, но я очень не люблю иметь дело с журналистами, — лукаво улыбаясь краешками глаз, говорит Лики. — Они обязательно прибавляют к возрасту моих находок три лишних нуля, перевирают все названия и ставят меня в дурацкое положение. Когда потом приезжаешь из экспедиции в Найроби, находишь ворох критических статей коллег по поводу «моих» заявлений, которые я никогда не произносил. Вместо того чтобы сделать важное научное сообщение о новом открытии, приходится оправдываться. Публика в таких случаях всегда недовольна: «Лики опять пошел на попятную. Писали, что он открыл человека, который жил 2400 миллионов лет назад. А оказывается, его находке «лишь» 2,4 миллиона лет».
— Тогда, профессор, разговаривайте со мной не как с журналистом, а как с географом. Тем более что ночную беседу посреди пустыни никак не назовешь интервью… Что натолкнуло вас на мысль искать древнего человека именно в Африке?
— Наверное, любовь к этому континенту. Я родился в Кении, рос и воспитывался среди кикуйю. Я говорю на их языке так же свободно, как по-английски, даже думаю на кикуйю. Играя с африканскими мальчишкам, мы находили в оврагах странные предметы, которые вымывала из глины дождевая вода: наконечники для стрел. Они были точь-в-точь такие же, как те, которыми пользовались наши друзья из леса — старики охотничьего племени ндоробо. Но сделаны эти наконечники были не из металла, как у них, а из камня. Я спрашивал о своих находках у ндоробо, а они, смеясь, отвечали: «Это — лезвия духов. Их ниспослали на землю духи грома!»
Вообще, «школа ндоробо» очень много значила для меня, — продолжал Луис. — Прирожденные следопыты, на протяжении тысячелетий постигавшие искусство выслеживать дичь в темном лесу, не промахиваясь стрелять сквозь трепещущую от ветра листву, они привили мне зоркость, научили видеть вокруг то, что не видят другие. В результате получалось, что древние рубила, лезвия и скребки буквально сами шли мне в руки. Создавалось впечатление, что не я их ищу, а они меня.
Потом родители — они хотя и были миссионерами, но мыслили весьма материалистически — объявили мне, что этими каменными орудиями пользовались древние люди. Я начал зачитываться Дарвином. Все это распаляло мое мальчишеское воображение. Вслед за Гекели мне казалось, что именно на этой земле, древней и немного загадочной, должно было свершиться великое таинство — появление человека. Я верил в это, что и помогло после двадцати восьми лет поисков обнаружить «наткрекера».
— Ты и мама называли его между собой «дорогушей», — напомнил, проходя мимо, Ричард. — «Наткрекер» был приманкой для меня, очередная попытка привить непутевому сыну настоящий интерес к родительскому делу.
— В чем была суть научного спора вокруг «щелкунчика», который разгорелся после его открытия? — спросил я.
— Солидный возраст, из-за которого многие не хотели признавать в зинджантропе предка человека. К тому же череп «наткрекера» напоминал череп гориллы, и поэтому никто не мог согласиться с моей идеей о том, что каменные орудия, найденные рядом с черепом, принадлежали моему «щелкунчику». Всех пугали 1,7 миллиона лет!
Мы верили в Олдовай, копали все глубже и наконец нашли то, о чем даже не могли мечтать, — продолжает Л. Лики. — Помимо новых зубов и черепа, которые были необычайно ценны для сравнения с останками «щелкунчика», мы обнаружили стопу и ключицу. Исследования стопы дали ошеломляющие результаты: она разительно отличалась от обезьяньей и очень мало — от человеческой. А это значило, что найденное нами существо — я назвал его «презинджантроп» — тоже ходило на задних ногах. И умело кое-что делать руками: об этом говорили особенности строения его пальцев и грубые орудия из камня, найденные рядом. Поэтому я решил перекрестить презинджантропа в Homo habilis — «человека умелого». Со временем в Олдовае были обнаружены фрагменты четырех черепов этих древнейших представителей рода Homo. Чтобы «наткрекеру» не было скучно, одну из находок мы прозвали Синдереллой — «золушкой». У нее был больший, чем у зинджантропа, мозг — шестьсот восемьдесят пять кубических сантиметров.
— Таким образом, найденный в более древних отложениях «человек умелый» имел куда больше прогрессивных черт, чем его логический «потомок» — «щелкунчик»? — удивился я.
— Именно так. И это говорит о том, что эволюция человека протекала не так просто, как до сих пор думали: от низшей ступени к высшей. У природы были «ошибки», были тупиковые формы, нежизнеспособные виды. Это доказывает и возраст моих находок. Когда был известен лишь питекантроп, процесс антропогенеза определяли в восемьсот тысяч лет. Появились африканские австралопитеки, и стало ясно, что антропогенез — дело не такое уж простое. На рождение человека «отвели» 1,7 миллиона лет. А находкам Камиля Арамбура, как вы уже знаете, 3,5 миллиона лет.
Но я сторонник еще более древнего возраста человека, — продолжает Лики. — Коллеги мне не верят, и поэтому я копаю и советую копать молодежи. На кенийском острове Русинга, посреди озера Виктория, в 1968 году были сделаны очень интересные находки. Мои юные помощники, Джуд Коверинг и Эрастус Ндере, отправились на остров провести кое-какие геологические исследования. Собирая остатки ископаемых раковин, они вдруг заметили на скальном обнажении часть окаменевшей челюсти и прекрасно сохранившиеся зубы примата, названного нами Kenyapithecus africanus. Мне даже страшно назвать его возраст, когда представляю, какой шум поднимут при этом некоторые мои оппоненты. Но находка была сделана в миоценовых отложениях, и ей, следовательно, не меньше двадцати миллионов лет. Kenyapithecus, конечно, еще не человек. Однако Кения может гордиться тем, что на ее территории найдены самые древние среди известных ныне останков существ, из которых развился Homo sapiens.
Новыми открытиями порадовал Олдовай, — продолжает Лики. — Отрадно то, что теперь раскопками интересуются африканцы, они своими руками переворачивают древние страницы истории. Один из моих африканских помощников, Петер Нзубе, нашел в Олдовае череп более древний, чем найденный мной.
— Доктор, а каковы итоги ваших работ в пустынях плато Туркана?
— Об этих пустынях скоро вспомнят, о них будут упоминать в школьных учебниках, — говорит Лики, исчезая в своей палатке.
Обратно он выходит, бережно неся серовато-белый ископаемый череп.
— Вот пока что главный результат наших раскопок у восточного побережья озера Рудольф. Прекрасно сохранившийся череп человеческого предка, который жил здесь два с половиной миллиона лет назад, а быть может, и раньше.
— Ричард, как вы его нашли? — спросил я молодого палеонтолога.
— Утром, пока еще было прохладно, мы вместе с Мив решили осмотреть останец — выступ осадочных пород, сильно разрушенный эрозией. Пошли вверх по сухому руслу ручья. И вдруг я замер: он лежал прямо на каменистом выступе, пяля на меня свои глазницы. Словно ждал меня.
«Мив! — заорал я, протирая глаза и не веря, что такое может быть. — Мив!»
«Тебя укусила змея? Змея!» — истошно завопила она и бросилась вверх по ручью.
Ничего не говоря, я указал на череп. Она вскрикнула и бросилась мне на шею. Мы целовались, обнимались, смотрели на череп и опять целовались. Тогда-то я и решил, что Мив станет моей женой.
Потом мы стали перед находкой на колени и принялись ее разглядывать. Было ясно, что это австралопитек: массивные надглазничные валики, костяной гребень на небольшой черепной коробке. Сохранность, надо сказать, была редкостная. Разрушенными оказались лишь нижняя челюсть и зубы…
Инициатива в разговоре вновь переходит к Луису.
— Мы нашли еще один череп, но о нем я рассказывать не буду, пока не закончу полного изучения. Кроме того, мы разыскали останки еще пяти древних людей, кости саблезубой кошки и самые древние на земле каменные орудия. Для одного сезона работ это более чем достаточно. Найденные окаменелости дают новый материал о сложном пути развития человека. И питекантроп, и синантроп были вполне развитыми существами. Между обезьяной и ими был огромный пробел — тысячелетия развития. Теперь этот пробел заполняется, многое становится на свои места.
Я верчу в руках огромный череп с внушающими уважение зубами и спрашиваю профессора, какими он представляет себе своих древних «питомцев».
— Они не имели атомной бомбы, — отшучивается Лики, — но во всем остальном австралопитеки были страшнее нас, не говоря уже о кротких гориллах. Они, правда, были менее громоздки, более деятельны, чем современные человекообразные обезьяны. Но эту подвижность они использовали как хищники: для преследования жертвы. Они были плотоядны, эти наши волосатые предки, о чем говорят их зубы. Палка, камень и кость со временем делались все более грозным орудием в их руках. Конечно, австралопитеки бывали добычей самых крупных хищников. Но то, что они выжили, расселились по континенту, эволюционировали в питекантропов и неандертальцев, говорит о том, что случалось это не так уж часто.
Когда через день, осмотрев места раскопок экспедиции, я уезжал из лагеря, Лики подошел к моей машине.
— Если будете что-нибудь писать, считайте нули и не увлекайтесь сенсациями. А вот что Восточная Африка — от Дар-эс-Салама до эфиопских плато — регион происхождения человека, наша общая прародина, отметьте. Можете даже взять эти мои слова в кавычки. И обязательно приезжайте к нам снова!..
Глава шестая
Плато Туркана сулит стать еще одним «палеоантропологическим раем». — Возраст «бедняги» под инвентарным номером 1470 равен 2,6 миллиона лет. — Ричард отвергает австралопитеков как наших прямых прародителей. — Мэри Лики напала на след прямоходящего гоминида, «засомневавшегося» 3,7 миллиона лет назад. — «Люси» — новое «чудо» со дна рифта. — Была ли «Люси» прапрапра… «щелкунчика»? — «Великий восточноафриканский разлом» в антропологии
Я откликнулся на это приглашение, но к тому времени доктора Л. Лики не стало: он скончался от сердечного приступа в одном из лондонских госпиталей. Руководство экспедицией, работавшей на берегу залива Аллиа, в Кооби-Фора, перешло в руки Ричарда.
— Конечно, боль утраты еще не прошла, но перенести ее помогает то, что догадки отца о возрасте его находок оказались верными и что отныне его имя навсегда связано с переворотом в науке о происхождении человека, — ответил на мои соболезнования молодой ученый. — Совсем недавно из Кембриджа прислали окончательные результаты лабораторных исследований находок, которые вам показывал отец. Они еще старше, чем он предполагал: 2,6 миллиона лет. Допускаются поправки плюс-минус 260 тысяч лет, но, даже если принять во внимание минимальный возраст, это еще один переворот в антропологии. В свое время коллеги отца, пугаясь солидного возраста 1,7 миллиона лет, не хотели соглашаться даже с тем, что олдовайский австралопитек — предок человека. А вы представляете, как расширила наши знания о периоде антропогенеза эта находка! Уже два с половиной миллиона лет назад здесь обитали наши праотцы, которые умели делать каменные орудия и обтесывать края базальтовых пластин. Мы уже набрали здесь около ста экспонатов, которые отодвигают время изготовления первых орудий производства в глубь веков примерно на 800–900 тысяч лет. И это тоже предвидел отец!
— Не вызывает ли и сейчас сомнение возраст этих находок? — поинтересовался я.
— Конечно, скептики есть. Но они идут против фактов. Нам очень повезло, поскольку орудия были найдены в вулканическом туфе. Вкрапленные в него минералы дают возможность с помощью радиоактивных методов исследования вполне достоверно определить возраст нашпигованного антропологическими ценностями пласта. Плюс-минус 260 тысяч лет, о которых я уже говорил, принципиально не меняют картины. Находки относятся к эпохе плиоцена.
И еще помогают олдовайские находки моих родителей. Их открытия позволяют проследить, как совершенствовалась техника обработки инструментов, мастерство и умение наших предков, — раскладывая передо мной резцы и пластины, говорил Ричард. — Каменные орудия из Олдовая были сделаны на достаточно высоком уровне.
Это наталкивало на мысль, что они — не первые образцы человеческого труда. И вот доказательства этого перед вами. Если ножам олдовайских зинджантропов 1,7 миллиона лет, то местные ножи, согласно данным кембриджской лаборатории, почти в полтора раза старше. Археологам никогда еще не удавалось сталкиваться со столь древними орудиями труда.
Когда Луис Лики, добившись организации международной экспедиции на Омо, понял, что не сможет уже работать там сам, пришлось позвать сына. Мэри, да и он были уверены, что «семейное образование» Ричарда, пятнадцать полевых сезонов в Олдовае значат куда больше, чем пять лет университетской скамьи.
И они оказались правы. Приехав на Омо, Ричард сразу же понял: отведенный кенийской группе участок долины беден ископаемыми и «неконкурентоспособен» по сравнению с теми, что достались французам или американцам. Он не бежал из «палеонтологического рая» Арамбура, а отправился искать собственный рай. Воспользовавшись тем же полосатым вертолетом, который я еще застал на Омо, он начал методично обследовать с воздуха восточное побережье озера Рудольф. Это был смелый замысел. Его внимание вскоре привлекла широкая полоса обнаженных пород, протянувшаяся по краю неприветливой пустынной местности. Он вспомнил слова отца о том, что там должны были бы преобладать плио-плейстоценовые отложения, сулящие много интересного. Когда Ричард выпрыгнул из вертолета, то оказался прямо в центре залежи окаменелостей.
— Тогда-то я и решил создать свой опорный лагерь на Кооби-Фора и серьезно заняться исследованием местных отложений, — рассказывал Ричард. — У них был очень «удобный» возраст — от четырех с половиной миллионов лет почти до миллиона. А это именно тот период, когда человекообезьяна в Африке начала превращаться в человека. Находки следовали одна за другой — и массивные австралопитеки, и гоминиды, необычайно сходные с грациозной «золушкой» и ей подобными Homo habilis. Это последнее обстоятельство внушало мне особый оптимизм, поскольку я верил в существование древнейшего Homo как самостоятельного вида.
— Насколько мне известно, ваш оптимизм оказался оправданным? — спросил я. — Та находка, о которой отец суеверно воздержался рассказывать мне, превзошла все ожидания.
— Ее уже назвали «находкой столетия», «палеоантропологической сенсацией двадцатого века», но почему-то ей не дали собственного имени. Приходится поэтому в разговоре довольствоваться инвентарным номером: 1470. Я же неофициально окрестил череп «беднягой», потому что он достался нам не целиком, а раскрошенным на уйму мелких осколков. Мив, уже тогда миссис Лики, проделала поистине ювелирную работу. Она собрала, склеила, воссоздала «беднягу» практически полностью. И знаете, что оказалось? Емкость черепа — 777 кубических сантиметров! Мы опять прыгали, обнимались и целовались… Понимаете почему? Потому что «бедняга» жил на один миллион лет раньше, чем «золушка» и все другие олдовайские Homo habilis, а емкость черепа у них была на двадцать процентов меньше. В этом-то и заключается главная сенсация: неожиданное сочетание человеческих признаков с возрастом почти три миллиона лет. Череп «бедняги» похож на череп современного человека больше, чем все известные нам черепа питекантропа или, тем более, австралопитека. Да и не только в черепе дело… Неподалеку от «бедняги» был найден обломок голени и две бедренные кости. Они разрешают нам утверждать, что «1470-й» расстался с прыгающей походкой обезьяны и избавился от ее сутулости.
— Иными словами, напрашивается вывод, что австралопитеки, которые почти на миллион лет моложе «бедняги» и в то же время примитивнее его, не могли быть предками человека? — подытожил я. — Значит, совершенно прав был ваш отец, не склонный видеть в австралопитеках наших прямых прародителей.
— Вот-вот… И одновременно повышаются шансы Homo habilis. Устанавливается взаимосвязь между олдовайскими находками родителей и «беднягой», период их эволюции растягивается еще на миллион лет. Я все больше и больше склоняюсь к мнению, что в Восточной Африке в одно и то же время жили рядом, сосуществовали два вида прямоходящих приматов: массивные растительноядные Australopithecus и более изящные всеядные Homo. Это, конечно, взрывает устои «классического антропогенеза», сторонники которого исходили из того, что на Земле никогда не было и не могло быть более одного вида прямоходящих гоминидов. Находки в Олдовае, в долине Омо, на плато Туркана в сопоставлении друг с другом не только не подтверждают, но даже опровергают «теорию одного вида». Эволюционное развитие человека шло совсем не по прямой и уж точно брало свое начало не от австралопитеков. Что же касается «1470-го», то я уверен: он был предчеловеком. Он быстро развивался, его экологическая ниша быстро расширялась по мере увеличения мозга. Всеядный Homo становился охотником, а став им, вытеснил с лица планеты подотставших от него в развитии австралопитеков.
После мучительно душной ночи в тростниковой хижине, гостеприимно предоставленной мне Ричардом, я рано утром отправился вместе с учеными на раскопки. Антропологи собирались обследовать отложения осадочных пород километрах в восьми к востоку от залива Аллиа.
До обнажения мы доехали на верблюдах, а затем пошли пешком вдоль красноватой гряды, вытянувшейся параллельно побережью озера Туркана. Часа через три Ричард, нагнувшись, извлек из-под колючего куста огромный окаменелый слоновий зуб, а после полудня — череп саблезубой кошки.
— Главное значение наших исследований в этом районе заключается в том, что они позволили наметить контуры еще одного грандиозного, не затронутого деятельностью современного человека района, скрывающего в своих недрах поистине бесценные для науки свидетельства о плиоценовой и плейстоценовой фауне, — бережно отделяя породу с очередной находкой, говорил Р. Лики. — Сама природа создавала в рифтовой зоне клад, спрятанный на площади в тысячи квадратных километров. Геологические пласты района — своеобразная книга древней истории Земли и человечества. Предстоящие еще более интересные открытия, возможно, произведут подлинную революцию в антропологии и палеонтологии.
Не знаю, быть может, именно в тот момент, когда Ричард произносил эти слова, его мать, Мэри Лики, уже сумела прочитать новую страницу в этой книге природы. Исполняя волю Луиса, она отправилась в танзанийский район Литоли, расположенный в сорока пяти километрах к югу от Олдовая.
Еще делая свои первые шаги в палеоантропологии, Л. Лики облюбовал там густые заросли растительности вокруг цепочки озер, разбросанных по долине. Деревья вокруг смыкаются там так густо, что антилопы и зебры не отваживаются проникать под их темный полог, и поэтому берега озер не подвергаются нашествию копытных. В своем воображении Л. Лики заселил эту долину древними охотниками, он всю жизнь рвался туда и твердил: «Литоли сулит находки, уходящие в середину плиоцена». Незадолго до своей кончины Луис направил в эти места Камая Кимау. Расчистив приозерные заросли, африканец, которого М. Иди характеризует «лучшим специалистом по розыску ископаемых в Восточной Африке», обнаружил в скрытых под зеленым дерном туфах останки гоминида. Их возраст приближался к… 3,7 миллиона лет!
Позже Мэри Лики рассказывала как-то в Найроби:
— Первые два года работы в Литоли не принесли особых результатов.
Это расхолаживало молодежь, отправившуюся в экспедицию. Поэтому вместо того, чтобы тратить время на поиски или обрабатывать уже найденное, они к концу сезона больше дурачились, чем занимались делом. В тот день все затеяли игру, получившую у нас название «элефантбол», — швырялись друг в друга сухими шарами слоновьего помета. Один из игроков побежал за шаром по высохшему руслу ручья. Там он наткнулся на следы, отпечатавшиеся в слое вулканического пепла.
— Еще один пример везучести Мэри, — заметил я.
— Да. А через год эфемерные следы превратились в одно из главных открытий палеоантропологии. В Литоли навестить меня заехал Филипп — еще один наш с Луисом сын. Он обычно не интересуется раскопками. Но тут, наигравшись в «элефантбол» и услышав, каким открытием эта игра завершилась в прошлом году, Филипп вдруг увлекся. На пару с одним из сотрудников экспедиции он отправился искать «свои» следы. И нашел… Огромные отпечатки слоновьих ног, а рядом цепочку следов человека. Мы потом ставили опыт: клали рядом две фотографии — этих следов и следов Филиппа на песке. Отличить их по строению было практически невозможно! А временная дистанция между ними — 3,7 миллиона лет…
Трудно, конечно, представить, как следам древнего гоминида удалось так хорошо, я бы сказала идеально, сохраниться, — продолжала М. Лики. — Мы реконструировали, воссоздали всю их историю. Неподалеку от Литоли возвышается вулкан Садиман. Чуть поодаль — еще более мощные вулканы — Оломоти, Эмбуибул, Ол Доиньо Ленгаи… Ныне они считаются потухшими, но примерно 3,5–4 миллиона лет назад были действующими. И совсем не обязательно, чтобы их извержения носили характер катаклизмов, когда все испепеляющая на своем пути лава покрывает землю броней черных базальтов. Вулканы просто «дышали», время от времени выбрасывая в воздух облака карбонатитового пепла. В безветренную погоду он легким покровом два-три сантиметра толщиной ложился на землю. Потом его смачивал дождь, и пепел превращался в подобие свежего асфальта. Кто бы ни прошел по нему — слон, человек или даже птица, — все оставляли свои следы. В течение дня солнце их высушивало, следы оказывались как бы «запечатленными в камне». Вулкан вновь засыпал их пеплом, но дождя сразу после извержения могло и не быть. Мягкий пепел заполнял след, на него ложился песок, пыль, осадочный слой все утолщался и уплотнялся, надежно предохраняя его от разрушений. И вот только теперь, благодаря эрозии, мы увидели эти древнейшие следы. Следы, уводящие нас в глубь тысячелетий…
Со временем в итоге скрупулезных раскопок в Литоли была обнаружена целая цепочка следов длиной 23 метра. По мокрому вулканическому пеплу прошествовали два гоминида — женщина ростом 120 сантиметров и мужчина на 20 сантиметров повыше. Мэри даже уверяла, что «прочитала» по их следам признаки «сомнения». Так она была склонна трактовать внезапный поворот следов в сторону, остановку, затем возобновление движения в прежнем направлении.
Это скорее всего лирическая фантазия. Но неопровержимо самое главное: уже 3,7 миллиона лет назад гоминиды из Литоли передвигались не шаркающей походкой обезьяны, а шагом человека.
Этот вывод был своевременен и важен тем более потому, что летом 1979 года в 3,75 миллиона лет был оценен возраст другой уникальной находки, известной в антропологии под именем «Люси». Так американец Д. Джохансон назвал гоминида, ископаемые останки которого были обнаружены им еще в 1974 году в так называемом афарском треугольнике — самом северном участке Великого африканского рифта, в долине реки Аваш, на стыке границ Эфиопии и Джибути, неподалеку от селения Хадар.
— Почему «Люси»? — поинтересовались во время одной из пресс-конференций журналисты.
— Потому что когда мы поняли, что за чудо нашли, то устроили в своем лагере праздник, — объяснял Д. Джохансон. — Врубили магнитофон и всю ночь танцевали под мелодию «битлов», которая называлась «Люси в бриллиантовом небе».
— А почему вы считаете «Люси» чудом? — было моим вопросом.
— На то есть три причины. Во-первых, она не похожа ни на что найденное ранее. «Люси» — очень примитивный и малорослый гоминид, не превышавший 105 сантиметров. Во-вторых, никому не удавалось найти столь цельного скелета столь древнего гоминида. Хадарская находка — это не фрагмент, по которому воссоздается или додумывается целое, а на сорок процентов сохранившийся скелет, в котором почти каждое недостающее звено компенсируется наличием симметричного звена. В-третьих, это самый древний из всех известных науке останков наших прямоходящих прапрапра…
Таким образом, и из Литоли, и из Хадара древние гоминиды одновременно передали нам из прошлого один и тот же сигнал: уже 3,7 миллиона лет назад они встали на две ноги. Приняв его, Д. Джохансон почувствовал настоятельную необходимость осмыслить все восточноафриканские находки, согласовать их друг с другом во времени, найти для каждой место в процессе эволюции человека.
Задавшись этой целью, американский ученый счел возможным выделить «Люси» и ей подобных хадарских гоминидов в новый вид, дав ему название Australopithecus afarensis — австралопитек афарский. Затем он построил свой вариант «родословного древа» человека, отведя этому новому роду центральную роль в эволюции гоминидов. При этом Д. Джохансон исходил из того, что от ствола наиболее ранних прямоходящих существ Литоли и Хадара, в которых ученый не признавал еще человека, в процессе эволюции выделились две ветви. Одна из них — это как раз и есть так называемые массивные австралопитеки долины Омо, Олдовая и Южной Африки. Другая — род Homo, к которому был отнесен умевший делать каменные орудия Н. habilis; в нем Джохансон и видит первопредка Н. sapiens. Он считает, что дивергенция — расхождение признаков и свойств, этих двух ветвей в процессе эволюции — началась примерно около 3 миллионов лет назад. А уже через миллион лет становление человека, окончательно вступившего в каменный век, было закончено. Два миллиона лет назад Homo и массивные австралопитеки были равноправными двуногими обитателями Великой рифтовой долины. Однако прошел еще миллион лет, и австралопитеки, не сумев доказать природе свою жизнеспособность, исчезли с лица земли.
Казалось бы, «древу» человека, составленному в строгом соответствии с возрастной «вулканической шкалой» Омо, основывающейся на новейших методах исследований, известных сегодняшней физике, химии и молекулярной биологии, уготована долгая жизнь в науке. Однако, как только «древо» было опубликовано, против него восстал «клан Лики». Мэри, верная идеям Луиса, отказалась допустить, что человек мог произойти пусть даже от очень древней, неизвестной ее мужу формы австралопитековых, каковым был джохансоновский A. afarensis. Ричард поддержал мать и выдвинул еще одно возражение: Джохансон слишком «омолаживает» человека, его возраст куда древнее, чем 2 миллиона лет.
Спор между Лики и Д. Джохансоном, отразивший основные направления дискуссии о происхождении человека в западной науке в целом, кенийские газетчики остроумно назвали «великим восточноафриканским разломом в антропологии». Кто из них прав? Ответить на этот вопрос пока что трудно. Однако последние находки в Африке работают на тех, кто склонен «удревнять» человека, исчислять процесс его эволюции многими миллионами лет.
Так, в 1984 году совместная англо-кенийская экспедиция, начавшая раскопки в районе рифтового озера Баринго в Кении, обнаружила нижнюю челюсть человекообразного существа, жившего 5 миллионов лет назад. «Новый рекорд!» — так оценила эту находку лондонская «Таймс».
Вновь напомнили о себе Kenjapithecus, роли которых в составлении картины происхождения человека такое большое значение придавал Л. Лики. Японцы, смело включившиеся в восточноафриканский археологический «марафон», в том же 1984 году раскопали на плато Самбуру, как раз на полпути между озерами Баринго и Рудольф, кости приматов, обитавших в этом районе 15 миллионов лет назад. Доктор Хидеми Исида из Осакского университета, показывая журналистам найденную им челюстную кость и зубы, сказал: «Это было обезьяноподобное существо, предшествовавшее появлению человека».
Почти одновременно американцы обнаружили в пересохшем русле реки на севере Кении остатки «волосатого существа, близкого к шимпанзе». Фрагмент нижней челюсти такого же существа раскопал и Р. Лики. Возраст находок — 17 миллионов лет. Комментируя их, антрополог из Гарвардского университета Д. Пилбим, слывущий главным знатоком ископаемых останков человека, заявил:
— Итак, возраст кениапитеков Лики оценивается в 20–30 миллионов лет, прямоходящие гоминиды появились 3–4 миллиона лет назад. В промежутке между этими двумя датами общее древо приматов разделилось на две ветви — крупных обезьян и гоминидов. Похоже, что наше «волосатое существо» относится как раз к периоду, непосредственно предшествовавшему разделению двух ветвей. Оно, возможно, является общим предком той ветви, от которой произошли, с одной стороны, теперешние орангутаны, с другой — человек и такие обезьяны, как шимпанзе и гориллы. Если обнаруженные в Кении кости действительно являются столь древними, как предполагается по результатам химического анализа, то «волосатое существо» может оказаться промежуточным звеном между человеком и развитыми крупными обезьянами Африки, с одной стороны, и орангутанами и его предками — с другой…
В 1986 году с плато Туркана вновь подал голос Р. Лики. Там был найден череп Australopithecus boisei, но на 800 тысяч лет старше того, что описал Луис. Среди всех древних гоминидов, останки которых когда-либо были обнаружены, он наделен самым маленьким мозгом. «Существо с обезьяньими возможностями мышления, — сделал вывод Ричард. — Это подтверждает лишь одно: австралопитеки вроде «Люси» не могли быть нашими прямыми прапрапра».
— Мы еще можем спорить о том, кто был первопредком человека в Африке. Но диспут о том, что человек появился именно в Африке, решается однозначно, — заявил Р. Лики, выступая в 1987 году в угандийском университете Макерере. — Первыми обитателями нашей планеты были чернокожие африканцы, расселившиеся затем по всей земле. Судя по ископаемым останкам, уже в конце плейстоцена в Африке начался процесс расообразования.
Нет никаких доказательств правоты тех, кто все еще делит континент на Северную Африку и Африку к югу от Сахары, силясь доказать, что между ними нет ничего общего, — продолжал археолог. — Для подобного противопоставления нет никаких оснований. И напротив, есть веские доказательства того, что начиная с четвертого тысячелетия и на протяжении всего додинастического периода в долине Нила происходило непрерывное развитие единой культуры явно африканского происхождения. Все говорит о ее генетическом родстве с неолитическими культурами Сахары.
Культура Египта отчетливо уходит своими корнями в традиции южной части континента, — подытожил Р. Лики. — В эпоху династического Египта усиливается влияние Месопотамии и Леванта. Но речь идет только о культурном влиянии. Нет доказательств в пользу гипотезы о вторжении некой «династической расы», послужившей толчком к развитию нильской цивилизации на африканской земле. Напротив, на протяжении всего династического периода физический тип египтян претерпел едва заметные изменения. Это подтверждают не только палеоантропологические и палеоархеологические новейшие исследования. Чем больше лингвисты изучают современные кушитские, берберские и чадские языки, тем больше общего они находят между ними и древнеегипетским языком. Да, очень многое говорит об автохтонном, местном, африканском происхождении цивилизации додинастического Египта. Вывод: прародина человека, Черный континент, является и колыбелью древнейших цивилизаций человечества…
По законам предков живущие
Глава седьмая
Калахари означает «мучимая жаждой». — Древнейшие обитатели Черного континента обладают… желтой кожей. — Люди, которые предпочитают хижинам жизнь в кустах. — Немного бушменологии. — Ученые открывают новое племя. — Язык, на котором говорят с закрытым ртом. — Удивительная приспособленность антропологического типа к географической среде. — О временах, когда бушменоиды были хозяевами доброй половины Африки. — Наскальная живопись помогает воссоздать прошлое
Вот уже несколько часов крохотный самолетик, принадлежащий местной компании «Ботсвана эйруэйз», летит из Серове на запад. Летит так низко, что хорошо видны перевеваемые ветром дюны, каменные россыпи, безводные русла рек и песчаные смерчи, поднимающиеся над выжженной землей. Такова пустыня Калахари. В самом ее центре, почти у границы с Намибией, расположен единственный город ботсванской части Калахари — Ганзи. Там мы пересаживаемся на «Лендровер» и уже без всяких дорог, прямо по Калахари, отправляемся искать бушменов — «народ-загадку», как называют их этнографы.
Два или три раза мимо нас бешеным галопом промчалось стадо жирафов. Затем в том же направлении проскакали антилопы-гну.
— Там омурамба — сухое русло, — объезжая очередную дюну, объясняет нам шофер Мутуни.
Озера и болота высохли начисто, в реках воды тоже вроде бы нет. Однако у многих водоемов Калахари существуют как бы «подземные запасы». Животные знают эти места и, разрывая копытами дно, добывают там солоноватую влагу. Слоны же пробивают растрескавшуюся корку ила хоботом, с помощью которого, словно насосом, выкачивают воду из подземного водоносного слоя.
Сорокаградусная жара, отсутствие воды, вечная засуха — вот что делает Калахари непригодной для жизни человека, вот что заставляет живущих по ее периферии банту всегда прибавлять к названию «Калахари» эпитет «кхо-фу» (страшная). А само название «Калахари» произошло от бечуанского «калли-карри» — мучимая жаждой. Калахари не имеет ни одного постоянного водотока. Раскаленный, пыльный, сухой воздух при почти постоянном ветре обжигает лицо. Монотонное однообразие выгоревшей равнины с редкими ксерофитными травами и песчаными дюнами тяжело действует на психику человека, вызывая у него ощущение одиночества и потерянности. И только бушмены — эти подлинные дети природы — чувствуют себя в «страшной Калахари» как дома.
Мы набрели на селение бушменов через три дня скитания между дюнами, после бесчисленных остановок и толкания увязшего в песке «Лендровера». Селением, правда, стоянку бушменов можно назвать с большой натяжкой, поскольку, кочуя по пустыне в поисках пищи и преследуя диких животных, бушмены не задерживаются на одном месте и не строят себе жилья.
Первое, что поразило меня при знакомстве с бушменами, — их язык. Увидев редкого в этих местах белого, бушмены сперва испугались и попрятались в свои песчаные укрытия. Но вскоре из-за кустов вылезли мальчишки, которые, как видно, обсуждая мой вид, обменивались необычными, не похожими ни на что щелкающими и свистящими звуками. Затем появились мужчины. Получив по пачке сигарет, они уверовали в нашу доброжелательность и степенно расселись вокруг машины. С помощью Мутуни завязалась беседа.
Ее можно слышать, но нельзя записать. Совершенно невозможно передать своеобразие звуков, издаваемых бушменами. Они цокают языком и свистят, прищелкивают и хрипят, причем зачастую такой разговор происходит с закрытым ртом. Многие звуки бушменского языка произносятся только горлом с участием мышц живота и груди. И пока идет эта загадочная для меня беседа, пока мужчины расспрашивают, зачем приехали к ним гости, а Мутуни терпеливо выясняет интересующие меня подробности бушменского быта, я разглядываю наших хозяев.
Бушмены — низкорослый народ, однако сложены они пропорционально. А вот какого цвета у них кожа, сразу определить трудно. В Калахари тратить воду на мытье — непозволительная роскошь, и поэтому «естественные наслоения» мешают выяснить этот вопрос. Ясно только то, что бушмены гораздо светлее пигмеев и своих соседей — банту и что они имеют кожу желтоватого оттенка, свойственную жителям Южной Азии. О них же напоминает и специфическое строение лица охотников Калахари: широкие скулы, обусловленный эпикантусом узкий разрез глаз и немного припухшие веки.
Облик молодых бушменок преисполнен обаяния. Известный датский этнограф Йене Бьерре в своей книге «Затерянный мир Калахари» пишет, что, повидав много африканских племен на всем континенте, он не встречал никого красивее девушек-бушменок. «У них отсутствуют крупные, как у негров, черты лица, а женственность подчеркивается стройностью ног и нежностью рук превосходной формы, — пишет И. Бьерре. — Красивую шею сплошь и рядом венчает очень привлекательная головка, напоминающая по форме сердце, и эта физическая привлекательность еще больше выигрывает от обычной для них милой проказливости».
Мне остается лишь присоединиться к словам датского этнографа. Но все это справедливо лишь для совсем молодых бушменок. А женщины? Я не писал о них до сих пор, потому что еще до нашего приезда все матери, подвязав детей кожаными ремнями к спине, ушли в пустыню: где-то неподалеку села стая саранчи (любимое лакомство бушменов), и женщины поспешили на промысел. Вернулись они лишь к обеду, радостные и возбужденные, наперебой рассказывая мужьям о своих приключениях и показывая им кожаные мешки, набитые насекомыми.
Как не похожи взрослые бушменки на своих очаровательных юных соплеменниц! У них чрезмерно развиты бедра и ягодицы — гораздо в большей степени, чем у женщин других африканских народов. В результате ненормального питания живот у бушменок постоянно раздут. Поэтому многие бушменские племена, стремясь выделить пользующихся у них особым уважением беременных женщин, обмазывают их золой или охрой. Быстро стареют и бушменские мужчины: к тридцати пяти годам их тела покрываются глубокими морщинами, кожа обвисает.
Кто эти люди, веками кочующие по неприветливой Калахари, испытавшие на себе влияние других народов, но ведущие в XX веке жизнь охотников и собирателей доземледельческой эпохи? Какова окутанная тайной история этих бродячих отшельников, разгадка которой может дать ключ к пониманию великих древних миграций народов Африки? Несмотря на то что в последние годы бушменология во всем мире развивается необычайно бурно, ответить на эти вопросы можно лишь в форме гипотез и предположений, основываясь на разрозненных фактах.
За две тысячи километров к северу от Калахари, по берегам расположенного в девственной саванне озера Эяси, я как-то несколько дней ездил по стойбищам двух небольших племен — хадзапи и сандаве. Вокруг них живут более развитые и сильные негроидные народы, говорящие на языках банту. А хадзапи и сандаве изъясняются с помощью щелкающих звуков и до сих пор существуют охотой. Не это ли доказательство того, что сотни, а может быть, и тысячи лет назад бушмены жили не только в Калахари, что они заселяли гораздо большую территорию?
В Танзании и Замбии археологи находят ископаемые черепа, имеющие бушменские черты. Причем чем дальше на юг, тем меньше возраст найденных черепов, тем ближе они по своему строению к черепам современных бушменов. Не говорит ли это о том, что центр возникновения бушменской расы находился в центре континента, поближе к рифтовой зоне, и что именно оттуда эти древние жители Африки, а может быть и ее тогдашние единственные хозяева, начали расселяться в другие районы?
В 1870 году торговец Теофил Хан случайно открыл на территории современной Намибии, на склонах у реки Хейчаб, наскальную живопись, выполненную желтой, белой и красной красками. Это было первое знакомство европейцев с древним искусством бушменов. Затем находки следовали одна за другой, и со временем стало ясно, что Калахари — подлинный музей бушменского искусства. Засушливый климат пустыни сохранил до наших дней бесценные шедевры, способные пролить свет на историю «народа-загадки». Французский археолог аббат Брейль, известный знаток первобытного искусства, определил возраст нескольких наскальных рисунков бушменов, причем не только в Калахари, но и на склонах Драконовых гор, примерно в три с половиной тысячи лет.
И тут интересна одна деталь. Если самые старые наскальные картины бушменских художников изображают животных, мирных людей, сцены охоты, то со временем тематика их меняется. Все большее внимание безвестные живописцы уделяют батальным сценам, на которых изображены эпизоды столкновений бушменов с воинами банту. Не позволяет ли сопоставление тематики этих рисунков и выводов, сделанных антропологами, изучавшими ископаемые бушменские черепа, выдвинуть еще одно предположение: мирные собиратели и охотники, населявшие ранее обширные пространства Центральной и Южной Африки, были затем оттеснены к югу более развитыми племенами банту. Спасаясь от них, бушмены ушли в Калахари, где засушливый климат был естественной преградой для скотоводческих и земледельческих народов банту. Там, в Калахари, в добровольной изоляции от других цивилизаций бушмены сохранили до наших дней чистоту своей расы, свой первобытный строй и удивительные обычаи.
Колонизация Южной Африки бурами и англичанами усилила изоляцию бушменов и привела к резкому сокращению численности этого народа. Спасаясь от цивилизованных варваров, бушмены бросали обжитые места и богатые охотничьи угодья и уходили в глубь ботсванской Калахари, где их не могли настигнуть ни ищейки, ни пули, ни законы расистов. Поэтому долгое время считали, что бушмены — вымирающий народ.
Но в начале 60-х годов, после обретения Ботсваной независимости, когда бушмены начали выходить из своих пустынных укрытий, а в Калахари одна за другой устремились этнографические экспедиции, стало ясно, что «народ-загадка» выжил. В вышедшей в Габероне фундаментальной работе «Обзор бушменов» их численность оценивается более чем в пятьдесят тысяч человек. Около тридцати пяти тысяч бушменов живут в Ботсване, остальные — в Намибии и Анголе.
Глава восьмая
Суровые законы Калахари. — Основа бушменской «экономики» — собирательство и охота. — Чтобы стать выносливым, надо есть порошок из костей слона. — Здесь знают 80 видов ядов. — Из страусового яйца можно сделать очень многое. — Там, где саранча, — радость. — Женщины знают пустыню как свой дом. — Стеатопегия — ответ организма на необходимость есть впрок. — Главное богатство рода — источник воды. — Моральные ценности первобытного коллективизма
Однако хватит истории и гипотез. Мутуни уже обо всем договорился со стариками, Цзинчхана — старейшина бушменов — встает и жестом приглашает меня в свое жилище-яму. «Так как гость привез мужчинам много табака, а женщинам дал соли, мои люди тоже хотят сделать подарки», — объясняет он.
По местным обычаям, жилище старейшины племени расположено на восточном краю стоянки, «ближе к солнцу». Насколько я понял из разговоров с Цзинчханой, бушменский вождь, или старейшина, не имеет каких-то особых прав и большой власти. Старейшина — это просто пользующийся авторитетом человек, опытный охотник, человек, способный справедливо разрешить нехитрые споры, возникающие иногда у соплеменников. Авторитет Цзинчханы подкреплялся, очевидно, и тем, что он был еще немного и колдуном. На скрюченных ветвях напоминающего наш саксаул дерева, под которым разместилось жилище старейшины, были развешаны самые непонятные вещи. А сидевший неподалеку сын вождя равномерными ударами небольшого отточенного камня — «кве», употребляемого бушменами вместо ножа, пытался разломать большую кость.
— Все эти вещи помогают нам быть настоящими охотниками, — уклончиво ответил старейшина на мой вопрос об их назначении.
— А как помогают, Цзинчхана? — упорствую я, протягивая ему новую пачку сигарет.
Соблазн был велик, и старейшина, оглянувшись по сторонам и удостоверившись, что большинство соплеменников заняты изучением зеркала «Лендровера», подвел меня к дереву.
— Это желудок черепахи, — протягивая мне черный сморщенный шарик, объясняет Цзинчхана. — Тот, кто съест его, может легко обходиться без воды и ходить по пустыне много дней. А чтобы мужчины быстро ходили, а не ползали как черепахи, я даю им вот эти сухожилия антилоп. Их не едят, а кладут вот сюда, — говорит старик, показывая большой шрам на своей ноге. — Если охотник плохо бегает, надо сделать вот такой надрез и втереть туда порошок, приготовленный из сухожилий.
— А что, когда Цзинчхана был молодой, он плохо бегал? — удивляюсь я.
— О, бегал я всегда хорошо. Но у нас есть такой обычай: когда юноши делаются мужчинами и получают право стрелять отравленными стрелами, им всем перед началом настоящей охоты втирают такой порошок. Жаль, что гость приехал так рано. Скоро, когда луна сделается совсем круглой, мы будем праздновать посвящение наших трех юношей в охотники. Я буду втирать им сухожилия антилопы, а потом они будут есть кашу с порошком из кости слона, которую толчет мой сын. После этого они станут сильными и выносливыми.
— А зачем эта змея, Цзинчхана? — спросил я, указывая на высушенную гадюку, также украшающую дерево.
— Из нее мы добывали яд для стрел, — ответил он, — А теперь она висит просто так.
Как получают бушмены свои другие яды, мне так и не удалось выведать у Цзинчханы: очевидно, то была настоящая племенная тайна. Уже в Габороне, просматривая в библиотеке литературу о бушменах, я прочитал, что им известно более восьмидесяти видов всяческой отравы. Ее делают из растений, грибов, личинок насекомых, скорпионов, пауков-землекопов. Многие исследователи утверждают, что в засушливый сезон, когда бушмены лишены обычных источников получения всяких ядов, они извлекают их из трупов животных.
Есть у бушменов и противоядия. Для этого используется множество насекомых и корней растений. Против укусов змей и скорпионов в сделанные лекарем на животе надрезы профилактически втирают сушеные травы. Я наблюдал, как женщины, отправляясь в пустыню, смазывали себе ноги змеиным жиром, что, по их мнению, предохраняет от укусов. Наслышанный о том, что, вырабатывая у себя иммунитет к укусам, бушмены принимают небольшие дозы змеиного яда, я спросил об этом Цзинчхану.
— Пусть гость сам попробует, — улыбнулся старик и протянул мне коробочку, сделанную из панциря черепахи. Но я воздержался от эксперимента.
В землянке Цзинчханы познакомился я и с предметами бушменского быта. Ничего не получая от современной цивилизации, его племя полностью обеспечивает свои потребности за счет окружающей среды. Страусовые яйца, стоявшие на полу землянки, заменяют людям сосуды для хранения жидкостей, в панцирях крупных черепах они держат сыпучие продукты, а панцири поменьше используют как ложки или табакерки. Одеждой служат шкуры диких животных, нитками — специальным образом обработанные сухожилия зебр, иглами — страусовые кости, в которых ушко просверлено каменным шилом. Даже металлическим стрелам, которые в обмен на шкуры, страусовые яйца и черепаховые панцири привозят сюда предприимчивые торговцы-тсвана, бушмены предпочитают наконечники собственного изготовления, выточенные из рогов антилопы. «Они лучше впитывают и сохраняют яд», — объяснил один из охотников.
Неподалеку от землянки вождя небольшая стайка девушек, весело переговариваясь, била о большой камень страусовые яйца. Нисколько не смутившись при моем приближении, одна из юных красавиц встала и, смеясь, надела мне на шею связку маленьких белых кружочков — бушменские бусы. Их делают из скорлупы яиц, тщательно отшлифовывая каждый ее кусочек и придавая ему круглую форму. Затем заостренной костью в центре диска просверливают дырочку и нанизывают на сухожилие. Таким же образом делают серьги, а также подвески и мониста, которые калахарские модницы укрепляют прямо на волосах, так что они порою закрывают весь лоб.
Наступило время еды, и девушки, закопав свои «драгоценности» в песок, побежали к взрослым. Туда же отправился и Цзинчхана, которого позвали делить саранчу, принесенную женщинами из пустыни.
На небольшой площадке в центре стоянки, где уже дымился костер, собралось все взрослое население — двадцать девять человек. Бушмены редко живут большими группами, поскольку в этих суровых местах много людей не могут ни прокормиться, ни найти себе воды.
Внимательно осмотрев кожаные мешки, Цзинчхана приказал ссыпать саранчу в большую кучу, а сам тем временем обратился с чем-то вроде благодарственной речи к женщинам, доставшим «так много еды, хорошей, вкусной еды». Затем, взяв большой черепаховый панцирь, служивший, как видно, меркой, он начал делить добычу. Первыми получили долю собравшие саранчу женщины, потом старики, затем уже охотники-мужчины, юноши и девушки. Все проходило тихо и мирно, никто не нарушал очередности. И, только получив свою порцию, кое-кто из молодежи начинал весело приплясывать и, не дожидаясь, пока все соберутся у очага, принимался поедать свое любимое лакомство. Оторванные у насекомых крылья и лапы бросались в сторону, а жирное, еще подергивающееся туловище — в рот.
В засушливый период, когда крупные животные уходят из Калахари и охотники не могут обеспечить селение мясом, добычей пищи начинают заниматься женщины. Калахари для них — огромный огород, где бушменки ведут себя как рачительные хозяйки. Они никогда не сорвут не до конца созревшую дикую дыню цаму и не выкопают из земли еще маленькие клубеньки пустынного лука уинтзйиэз. Они лишь воткнут рядом хворостинку и придут через неделю-другую, когда плоды подрастут.
Удивительны знание этими людьми природы, их способность по едва заметным приметам находить себе пищу, воду, умение брать от пустыни все необходимое. Исключительно острое зрение позволяет им видеть объекты, невидимые для европейца. Меткость движений и дар имитации позволяют им приблизиться к дичи на расстояние выстрела, благодаря быстроте и выносливости они могут мериться силами в беге с животными.
Если шествующая по песку стройная колонна муравьев вдруг исчезает под землей, это для бушменов означает, что здесь есть съедобные корни. Небольшая птичка кцузчи, порхающая над кустом, подсказывает им, что где-то рядом гнездо пчел с вкусным медом. Стая грифов, кружащая над песками, указывает на то, что в расставленные там охотниками ловушки попала дичь. Прошел дождь, мутные потоки размыли песок, изменили знакомый бушменам облик местности, унесли установленные женщинами хворостинки у дозревающих плодов. Кажется, что можно найти в эти часы в столь изменившейся пустыне? Тем не менее все население стоянки от мала до велика спешит за ближайшую дюну. Живущие там муравьи после дождя извлекают из-под земли сушиться сделанные ими огромные запасы семян. Бушмены собирают эти семена и варят из них кашу. С той же целью ищут они «бушменский рис» — яйца муравьев и термитов. В пищу идут улитки и гусеницы, съедобные коренья и листья, змеи и черепахи.
Однако подобная пища лишь поддерживает существование, но насытиться ею нельзя. Голод — постоянный спутник жителей Калахари. И поэтому, когда охотникам удается подстрелить крупную антилопу или зебру, ее съедают тут же, в один присест. Во время такого пиршества каждый бушмен поглощает по нескольку килограммов мяса: тем самым он утоляет вчерашний голод и страхуется от завтрашнего. В их суровой жизни на помощь пришла сама природа. У взрослых бушменов желудок имеет способность растягиваться, как гармошка, если пищи много. Даже дети в Калахари осознали суровую необходимость есть и пить впрок. Ни один народ не смог бы жить в тех пустынях, где живут бушмены.
— Где вы берете воду? — поинтересовался я. За время поисков бушменов мне пришлось убедиться, что в радиусе добрых ста километров здесь нет ни одного водотока.
— Наверное, никто из белых не ответил бы, где находится только ему известное месторождение золота или алмазов. Так и мы никому не говорим о воде. Но поскольку у гостя у самого есть много сладкой черной воды, — говорит уже успевший отведать кока-колы первый охотник и деревенский мудрец Дзадцно, — я покажу ему источник. Он рядом.
И действительно, в нескольких шагах от землянки Цзинчханы под засыпанными песком камнями и травяными циновками была вырыта ямка, в которую просачивалась мутная вода. Как только ямка наполнялась, женщины собирали драгоценную влагу в сосуды, сделанные из страусовых яиц, где вода отстаивалась. Когда же влага прекращает поступать наружу, ее выводят с помощью полых стеблей растений, а нередко прямо высасывают из подземных слоев.
— Каждый кунг с малых лет учится искать и находить влагу по различным приметам: растениям, цвету песка, солям на его поверхности, — вступает в разговор Цзинчхана. — Когда я был еще молод, то работал на рудниках в Цумебе. Предприятию нужна была вода, и белые начальники много дней рыли пустыню, но ничего не могли найти. Потом об этом узнал я и другие кунг, и мы показали им, где есть вода, много воды. Большой белый начальник дал нам тогда ящик пива и много табаку…
— Ну а если подземную воду все же не удается найти? — интересуюсь я.
— Тогда бывает плохо, очень плохо, — сокрушенно качая головой, отвечает Дзадцно. — Помню, когда у меня родился сын, стояла большая жара. Мой мальчик уже начал ходить, говорить и играть с другими детьми, а дождей все не было. Наши колодцы пересохли, а в песках исчезла даже дикая дыня цама, из которой в тяжелые дни мы выдавливаем влагу. И тогда Цзинчхана собрал всех людей и спросил: что делать? Мы оставили стариков, которые не могли идти, и ушли далеко, туда, где в больших болотах живут люди окаванго.
— И никто не погиб во время перехода?
— Только несколько пожилых людей, которых мы оставили в пустыне, — говорит охотник. — Но они бы все равно умерли.
Возможно, многие содрогнутся, прочитав эти строки. Для мыслящего категориями цивилизованного мира человека — это жестокость. Но в суровой Калахари — это мера, позволяющая выжить более сильным, более приспособленным, нечто вроде инстинкта сохранения рода.
Калахари ограничивает и число детей у ее обитателей. В отличие от окружающих африканцев-банту, которые имеют в среднем восемь-десять детей, у бушменов, как правило, встречаются семьи с двумя-тремя детьми. Женщин у бушменов примерно на десять-пятнадцать процентов меньше, чем мужчин, поэтому среди этого народа распространена моногамия. Только в том случае, если первая жена не может рожать, бушмен приводит в свой дом вторую.
Как никто другой в Африке, бушмены, находящиеся на одной из самых ранних стадий развития человеческого общества, связаны с природой. Связаны, но не подчинены.
Личные желания, эгоистическое «я», поступки, идущие вразрез с интересами остальных, практически отсутствуют у бушменов. Один человек, лишенный поддержки своего племени, не может выжить в Калахари. Он должен быть частью коллектива. И этот «первобытный коллективизм» — неписаный закон бушменов, продиктованный им самой жизнью, самой природой. Ребенка воспитывают всем племенем, его учат делить со своими сверстниками найденную цаму, отдавать последний глоток воды, вместе охотиться и жить с людьми и для людей.
— А что вы делаете, если в селении появляется молодой человек, который утаил добычу или не пошел со всеми собирать саранчу? — спрашиваю я Цзинчхану.
— Мы попросту не разговариваем с ним, — говорит старик. — Но я помню только один такой случай.
Этот своеобразный воспитательный бойкот — сильное наказание. Нет бушмена, который может перенести равнодушие и холодность со стороны своих соплеменников.
Глава девятая
Их учебники — древние сказки. — Бушменская версия сотворения мира. — Легенда о том, как Великий Дух превратил бабуинов в людей. — Быль о «превращении» людей в страусов. — Танцы под калахарской луной
На огромной территории, населенной бушменами, нет ни одной школы. Их университеты — сама жизнь, их учебники — древние поэтические сказки и легенды, рассказываемые стариками. По вечерам, когда мужчины возвращаются с охоты и сделаны все хозяйственные дела, у костра Цзинчханы собирается молодежь.
Даже наш приезд не нарушил этого обычая. Сначала старейшина расспросил о новостях, похвалил особо отличившихся, пожурил лентяев, а затем начал свой рассказ.
Бушменский фольклор — своеобразный свод знаний о «племенной этике», правилах охоты и поведения, истории народа и его обычаях. Вот один из этих мифов, рассказанных у костра Цзинчханой.
— В старину все люди были бабуинами. Они жили на деревьях, собирали еду на земле, ни о чем не думали и весело кричали, прыгая с ветки на ветку. Но однажды Великому Духу надоело слушать их крик. Он созвал всех бабуинов и велел им принести воды, чтобы полить землю. Одни бабуины тотчас же отправились исполнять его волю, а другие продолжали прыгать и веселиться. Они ни о чем не думали и забыли, что им надо делать.
Бабуинов, которые первыми начали поливать землю, Великий Дух превратил в людей. Он дал им землю, мотыгу, семена и сказал: «Вы будете обрабатывать землю, сажать растения и так добывать себе еду. Вы будете земледельцами».
Потом пришли другие бабуины с водой, и Великий Дух тоже превратил их в людей. Он подарил им буйволов и коз, дал пастбища и сказал: «Вы будете разводить животных, и они не дадут вам умереть с голоду. Вы будете скотоводами».
Но остались бабуины, которые не принесли воды и продолжали играть и кричать. Великий Дух созвал их всех и сказал: «Мне надоел ваш крик, и поэтому я тоже превращу вас в людей. Но вы не принесли воды, не полили сухую землю, не дали взойти на ней семенам, вырасти травам, которые кормят зверей. Поэтому вы всегда будете жить в пустыне и есть то, что найдете в ней».
Так появились племя кунг и другие народы Калахари. Великий Дух дал им коренья и насекомых, больших и маленьких зверей, страусов и черепах, мед и муравьев и много-много другого, что мы теперь едим. От Великого Духа мы также получили и яд. Великий Дух позвал змею, взял у нее изо рта маленькую капельку желтой жидкости и намазал ею стрелу. Потом он сделал лук и выстрелил в дерево. Стрела глубоко вонзилась в его ствол. «Так вы будете стрелять в животных, — сказал он мужчинам. — Если стрела попадет в них, зверь умрет, и вы получите мясо. Охота — дело мужчин». Вот как люди кунг получили лук и ядовитые стрелы. Вот как люди кунг сделались охотниками.
Потом Великий Дух сказал, чем надо заниматься женщинам. Он сделал так, что они могут рожать детей. Он научил их собирать семена и насекомых, варить из них кашу и искать воду.
И наконец, Великий Дух научил людей кунг жить вместе. «Если охотник убьет антилопу, он не должен есть ее сам, он обязан позвать других и поделить мясо поровну. Тогда, если охотник в следующий раз не найдет антилопы или будет болен, другие люди дадут ему часть мяса от своей антилопы, и он не умрет с голоду. И если женщина найдет в пустыне куст с ягодами, она не должна его утаить, а должна позвать есть ягоды всех. Потому что, когда один помогает другому, легче жить в пустыне, легче охотиться, легче выжить. Помните это, люди кунг, и не деритесь из-за еды, как это делают бабуины. И тогда вы будете настоящими людьми. И тогда вы будете счастливы». Так сказал Великий Дух и поднялся наверх.
Цзинчхана было собрался начать новую сказку, но я остановил его:
— Уже поздно, Цзинчхана, а путь предстоит дальний, нам пора уезжать.
— Да-да. Но может, гость чем-нибудь недоволен, может быть, он хочет еще что-нибудь посмотреть?
— Спасибо, я всем доволен, Цзинчхана. Жалко только, я не видел бушменских танцев, я много слышал о них.
— Если гость останется у нас еще немного, мы покажем ему свои танцы.
И, не дождавшись ответа, старик подозвал к себе мальчишек и что-то сказал им.
В костер подбросили хворосту, трое юношей поставили прямо у огня обтянутые шкурами барабаны, начав отбивать призывную дробь. Побросав домашние дела и посадив в кожаные заплечные мешки младенцев, пришли женщины. Запаздывали лишь мужчины, занятые, очевидно, подготовкой к танцу.
Вдруг барабаны смолкли, и над пустыней разнесся протяжный нежный звук. Это юноши заиграли на гауэингке — небольшом музыкальном инструменте, по форме напоминающем лук. Толпа расступилась, и на образовавшуюся перед костром площадку вышли три охотника. Медленно, пружинистыми движениями, почти не касаясь земли, они крались вокруг костра, держа перед собой натянутые луки. Зрители замерли, как бы боясь помешать охотникам выследить добычу, и только треск костра, бросавшего загадочные блики на людей, нарушал мертвую тишину пустыни. «Это танец охотников и страуса», — шепотом объяснил Дзадцно.
Потом к костру вышли еще трое бушменов, наряженные в шкуры и перья страуса. Их движения настолько точно имитировали повадки птиц, что на первых порах я невольно вздрогнул: уж не присутствую ли я при воплощении в жизнь передаваемых из уст в уста во всей Южной Африке легенд, в которых рассказывается, что бушмены, «знающие язык животных», могут якобы вызывать из болота гиппопотамов или разговаривать с бабуинами. И только шепот Дзадцно, называвшего имена танцующих, вывел меня из мистического настроения.
— Так мы иногда охотимся на страусов, — объяснил он. — Охотник натягивает на себя шкуру и перья и, поддерживая страусиную шею палкой, входит в птичье стадо, выбирает птицу покрупнее и в упор убивает ее из лука или палкой.
Ну уж если ошибаются даже страусы, то мне простительно…
Изгибая шею и прихорашиваясь, топорща перья и подпрыгивая, как это обычно делают самцы страусов в пору любовных игр, ряженные птицами продолжали разыгрывать пантомиму. «Охотники» же тем временем обошли их с другой стороны и, выбрав момент, когда «страусы» уж слишком увлеклись своим танцем, выпустили в них стрелу. В смертельной агонии, беспомощно хлопая крыльями, на землю упали две птицы, а третья, испустив истошный крик и перепрыгнув через костер, скрылась в темноте.
И тут зрители, хранившие до сих пор полное молчание, тоже сделались действующими лицами. К лежавшим в песке «жертвам» подбежали женщины и начали имитировать разделывание туши. Девушки с криками: «Мясо! Много мяса!» — бросились к охотникам, благодаря их за хорошую добычу. Затем последовала сценка приготовления пищи и пиршества. В сущности, здесь каждый играл сам себя: любое движение, каждая роль были известны из обыденной жизни.
Когда все «насытились», когда охотники «съели» страусовые глаза («Чтобы быть зоркими», — объяснил Дзадцно), начались настоящие танцы.
Я не стал прерывать общее веселье. Попрощался с предупредительным Дзадцно, обнял Цзинчхану, попросив его после танцев поблагодарить от моего имени всех своих соплеменников.
— Хорошо, я так и сделаю. И пусть гость на память о нас возьмет в свой далекий дом вот это, — сказал вождь, протягивая мне оплетенное тростником страусовое яйцо, в котором хранят воду.
Я сбегал в палатку, где лежал мой багаж, и достал захваченный еще из Москвы сувенир — модель спутника.
Даже того короткого времени, что я пробыл среди бушменов Калахари, было достаточно, чтобы проникнуться уважением к маленькому, но смелому и трудолюбивому народу — народу тяжелой судьбы, тысячелетиями борющемуся за свое существование и сумевшему выжить, сохранить свою самобытность в «страшной Калахари».
«Ты не человек, если не полюбил Калахари и если, побывав в ней хоть раз, не захочешь вернуться в нее снова», — гласит бушменская поговорка. Я полюбил Калахари и ее мужественных охотников. Я уезжал от них с тайной надеждой вновь встретиться с моими бушменскими друзьями, послушать мудрые сказки Цзинчханы, поохотиться с Дзадцно, посидеть у костра и посмотреть удивительные танцы под калахарской луной…
Глава десятая
Девять лет спустя. — Кунг переселяются в хижины. — Что происходит, когда бушмены сталкиваются с частной собственностью. — «В независимой Ботсване не должно быть вымирающих племен». — Сложная история простого колодца. — Старый Кейчхуама «видит» воду на глубине 58 метров
— Как же, как же, я помню тебя, баас, — протягивая мне свою морщинистую руку, проговорил Цзинчхана. — Ты рассказывал нам, что приехал оттуда, где люди научились летать к звездам. Тогда ты подарил мне маленький блестящий шарик и сказал: «В таких же, но только больших шариках мои соплеменники подолгу живут на небе». Этот твой подарок до сих пор хранится у меня. Ты помнишь об этом? Ведь с тех пор большая жара наступала два, еще раз по два, два и, пожалуй, еще один раз. Не правда ли, баас?
— Конечно помню, Цзинчхана, — обнимая старика, сказал я. — А дома у меня и сегодня хранится сосуд из страусового яйца, которое ты дал мне на прощанье…
Из первых же фраз, произнесенных старейшиной, я понял, что за девять истекших лет его представления о космических полетах совсем не продвинулись вперед, а в языке кунг так и не появилось слов для обозначения числительных, превышающих «два». Однако то, что я увидел вокруг, сразу же навело меня на мысль: кое-что изменилось и у бушменов Калахари. Цзинчхана приветствовал меня посреди песчаной площадки, вокруг которой расположилось десятка два хижин, сооруженных из сухих веток и шкур антилоп. Чуть поодаль, за небольшой дюной, виднелось сооружение из досок под крышей из рифленого железа. Над ней, развеваемый обжигающим калахарским ветром, реял голубой флаг Ботсваны.
— У тебя, Цзинчхана, как у старейшины, новый дом? — спросил я.
— Что ты, баас, — энергично качая головой, ответил он. — С меня на старости лет хватит и хижины. В этом же доме останавливаются большие начальники, вроде тех, которые прилетели с тобой.
«Большие начальники» — это руководитель созданного при министерстве кооперации Ботсваны специального департамента по делам бушменов мисс Лиз Уили, врач Ганс Гейнц и экономист Р. Секуньяне. Вместе с ними прилетел и южноафриканский публицист Лоренс ван дер Пост, который, как и я, интересуется успехами ботсванцев в решении «бушменского вопроса».
Что это за «вопрос»? В первую очередь он связан с проблемой решения психологической и, если так можно выразиться, экономической совместимости первобытной цивилизации бушменов с цивилизацией современной. Кунг, например, равно как и другие бушменские племена, до сих пор не имеют понятия о частной собственности. Но в то же время они считают: все то, что растет и пасется в пределах территории их обитания, принадлежит всем им на коллективных началах. Подобные экономические взгляды, весьма противоречащие принципам капиталистического общества, утверждающегося по периферии пустыни Калахари, в прошлом уже стоили жизни тысячам бушменов.
Лоренс ван дер Пост рассказывал, что после того, как в начале нынешнего века бушмены убили одну корову из стада его деда, тот приказал повесить более 30 мужчин из племени, к которому принадлежали охотники. Затем фермеры-буры организовали ряд карательных экспедиций, уничтожая бродячих бушменов, словно диких животных. На них устраивали облавы с собаками, сжигали заросли кустарника вместе со спрятавшимися в них людьми. «В барах Кейптауна и сегодня еще можно повстречать с виду вполне респектабельную даму, которая хвастается тем, что всего за один день собственными руками отравила 120 бушменов, подсыпав сильнодействующий яд в их водоем, — говорит Лоренс. — Я даже не скрываю: мой интерес к бушменам — это проявление своего рода «комплекса вины» за те зверства, которые чинили против обитателей Калахари мои белые соплеменники».
Но и в условиях независимой Ботсваны, конституция которой гарантирует бушменам все права наравне с другими племенами этой страны, проблемы их взаимоотношений с соседями не исчезли. Племена бечуанов, населяющие Ботсвану, — бамангвате, бангвакетсе, баквена, батавана и другие — прирожденные скотоводы. Когда бушмены начинают охотиться на их коров и коз, возникают серьезные неприятности.
Батавана за каждую убитую корову похищает молодую бушменку, делая ее бесправной «младшей женой», а на деле — полурабыней. Еще и сейчас в языке бечуанов есть слово, означающее одновременно и «дикий» и «бушмен».
— Мы долго думали, как найти выход из этого положения, как «вживить» бушменов в современность, по возможности сохранив их примитивную, но неповторимую культуру, — говорит Лиз Уили. — Многие предлагали нам пойти по уже проторенной дорожке: перенять опыт Австралии, создать в Калахари для бушменов нечто вроде резерваций аборигенов в Большой Каменной пустыне. Но, побывав там, представители нашего министерства пришли к выводу: резервации Ботсване не подходят. Во-первых, от них попахивает расизмом, стремлением белых австралийцев урвать себе побольше хороших земель, а аборигенов загнать в бесплодные районы. Во-вторых, оказавшись за оградой резервации, перейдя на оседлый образ жизни, потеряв возможность охотиться и заниматься другими привычными видами деятельности, аборигены очень быстро утрачивают самобытность и превращаются в своего рода «нахлебников» общества, живущих за счет случайных подачек благотворительных обществ. Любые попытки заставить аборигенов клеить конверты, сколачивать деревянные ящики или вязать шерстяные шапочки, то есть заниматься трудом, который обычно выполняют инвалиды-надомники, не вызывали энтузиазма у этих людей, привыкших к активной жизнедеятельности в условиях первобытной свободы.
Вот почему всю свою деятельность департамент по делам бушменов сейчас строит на принципе: приобщение жителей Калахари к современности должно проходить в привычной, естественной для них природной среде. И в основе этого приобщения должны лежать не чуждые им занятия, а трудовые навыки, существующие у бушменов веками и, следовательно, органически слившиеся с их традициями, с их культурой.
Как это достигается? Люди Цзинчханы стали первыми, кому предложили включиться в разработанную департаментом «Программу развития бушменов». Ботсванское государство на первых порах выделило им лишь материалы для строительства «сарая начальников», в котором сейчас разместились мы, но который обычно используется как своего рода «кабинет наглядной агитации». Именно здесь в 1974 году и состоялась первая кгатла — общеплеменное собрание людей племени кунг, на котором выступил министр кооперации Ботсваны.
— Мы знаем, что в прошлом — и в давние, и в совсем недавние времена — вам жилось совсем нелегко, — сказал он. — Именно поэтому вы, кунг, равно как и другие, близкие вам племена собирателей и охотников — хейкум и нарон, ауэн и йен, спрятались в Калахари, где вас не могли достать расисты. Долгое время вас называли вымирающим народом. Две трети всех сарва[9] обитают сегодня в Ботсване. Вот почему на нашей молодой республике лежит наибольшая ответственность за судьбы кунг и их братьев. Мы не хотим, чтобы в Ботсване были вымирающие народы. Поэтому мы и предлагаем вам начать жить по-новому. Как и прежде, вы сможете охотиться на страусов, собирать в Калахари дикие арбузы и ловить саранчу повсюду, где вам вздумается. Как и прежде, вы будете иметь право вырыть себе ночлег под каждым кустом Калахари. Но кроме этого у вас будет еще одно, постоянное жилище, в которое вы все сможете прийти, когда наступит засуха.
Министр уехал, но кгатла перед одиноким сараем, над которым уже тогда развевался голубой флаг республики, продолжалась еще два дня и две ночи. Обычно говорящие между собой шепотом, чтобы не спугнуть дичь, охотники спорили и шумели на всю округу. Небольшая часть рода все же ушла в пустыню. Но большинство кунг, руководимых мудрым Цзинчханой, решили последовать совету министра.
— Переубедил всех Дзадцно, — рассказал мне Цзинчхана. — Два раза приходила большая жара с тех пор, как он умер. А тогда, словно предчувствуя это, он встал и сказал: «Знаю, что жить мне осталось недолго. Когда я совсем лишусь сил, то вы бросите меня посреди песков и пойдете дальше. Так уж заведено у кунг. Незачем таскать за собой по пустыне умирающего человека, а остановиться и ждать много лун подряд, пока он умрет или поправится, нет возможности. Если же мы построим вокруг «сарая начальников» себе хижины, а рядом с ними, как нам обещал министр, выроют колодец, в котором всегда будет вода, то часть наших людей останется в них. Прежде всего — женщины с детьми. Они могут ухаживать за мной, и поэтому я смогу пожить вместе с вами подольше».
Другие старики поддержали Дзадцно, и мы начали обживаться вокруг сарая. А когда построили колодец, то к нам присоединились и те кунг, что ушли от нас после кгатлы. Так что теперь мы опять все вместе, все живем вокруг колодца, — довольный, заключил Цзинчхана.
Вода — основа основ жизни в Калахари, и поэтому именно колодец, по верному замыслу сотрудников департамента по делам бушменов, должен был сыграть главную роль в переводе кунг на рельсы новой жизни. Сейчас он стоит в самом центре поселка, посреди площади — этакий неодолимый соблазн, зовущий и других бушменов задуматься над тем, не стоит ли последовать примеру кунг…
— Тяжело он нам дался, — рассказывает Р. Секуньяне. — В первом нашем колодце шестиметровой глубины вода исчезла на четвертый день. Углубили колодец до десяти метров — воды хватило недели на две.
Что делать? Старики сарва утверждали, что «большой воды» здесь нигде нет. Мы им не верили, хотя по характеру почв, цвету лишайников на камнях, поведению насекомых они всегда безошибочно указывали нам на присутствие подземных вод. Но все это — на небольшой глубине. А откуда старикам знать, что делается под мощным пластом песка? Однако бурение на глубину пятнадцать метров действительно не дало никаких результатов…
И тогда Дзадцно и еще один старик ушли в пустыню, вернувшись оттуда через восемь дней с еще более дряхлым старцем. Он тоже был сарва, из племени йен, а имя его, Кейчхуама, так и переводилось: «Тот, кто видит воду».
Кейчхуама бродил вокруг несколько дней, заставлял мужчин рыть небольшие лунки во многих местах. Потом он приказал выкопать глубокую яму и заставил женщин делать тчекх. Так сарва называют сложный способ добывания грунтовых вод, при котором с помощью очень быстро вращаемых руками тростниковых трубок в них создается нечто вроде вакуума, заставляющего влагу подняться на поверхность. Сменяя друг друга, падая от усталости и стирая себе руки в кровь, женщины делали тчекх от восхода до заката солнца, пока не появилась вода.
Но Кейчхуаму это ничуть не обрадовало. Еще четыре дня, но в разных местах старик заставлял людей делать то же самое. На пятый день он подозвал к себе Секуньяне и, указывая на большой камень, рядом с которым женщины только что закончили тчекх, удовлетворенно произнес:
— Вода, которая будет всегда, прячется здесь. Но очень-очень далеко.
— Откуда ты знаешь, Кейчхуама? — спросил тот.
Старик вылил на свою ладонь несколько капель воды из тростниковой трубки, рассмотрел ее, выплеснул и накапал еще.
— Вот, смотри, — сказал он, показывая ладонь Секуньяне.
— Ну, вода, — сказал тот удивленно.
— А что в воде?
— Ничего.
Тогда Кейчхуама колючкой акации указал Секуньяне на крохотные красные точки, взвешенные в воде.
— Там, где есть это, есть и вода, которая бывает всегда, — уверенно сказал старик.
— Почему ты так думаешь? — удивился Секуньяне.
— Я знаю, — гордо ответил старик и, сочтя не нужным вдаваться в подробности, удалился. Но на полпути все же обернулся и добавил: «Но вода прячется очень-очень далеко».
На первых порах Секуньяне подумал, что эти красные точечки — кусочки ржавчины. Их собрали в пробирку и вместе с водой отправили в Габороне, а оттуда — в Йоханнесбург. Ответ оттуда поразил всех: красные точечки оказались неизвестными до сих пор науке живыми организмами, приспособленными к существованию в переувлажненных слоях земли. Вода же в пробирке была ювенильного происхождения…
— Конечно, бурить на большую глубину, полагаясь исключительно на интуицию и опыт старого Кейчхуама, было делом очень рискованным, — рассказывал Секуньяне. — Но обращаться к геологам у нас не было средств. Бурим на двадцать, двадцать пять, тридцать метров — воды нет. Чтобы бурить глубже, надо выписывать новое оборудование, а на него у департамента тоже нет денег. Тогда мы предлагаем сарва попробовать переселиться в другое место, где заведомо есть пласт грунтовой воды. Но они, проведя новую кгатлу, отказываются. Таков уж «бушменский характер»: свои решения они отменяют лишь после того, как убедятся в полной нереальности их осуществления. Понять же, почему «машина белых не хочет рыть дальше», они не могли. Кроме того, было задето самолюбие Дзадцно и других стариков, решивших в свое время позвать Кейчхуама. Дождаться того момента, когда именно на том месте, что указал Кейчхуама, забьет вода, было для них делом чести, символом торжества опыта и знаний этих «хозяев пустыни» над теми, кто появился в Калахари совсем недавно.
Тогда собрались на свою кгатлу сотрудники департамента. Кажется, Лиз Уили сказала: «А давайте смотреть на создавшуюся ситуацию, исходя из принципа: «Нет худа без добра». Представьте себе, что вода забила бы на тридцать первом метре. Что бы мы делали тогда? С помощью каких стимулов можем мы побудить кунг после этого осуществлять следующие этапы нашей программы: выделывать шкуры для продажи, заниматься ремеслами, разводить скот? Скорее всего, получив колодец, они с утра будут уходить в пустыню собирать коренья и кузнечиков, с тем чтобы вечером съесть их у этого колодца, запив свежей водой. Если же колодца на первых порах не будет, мы сможем сказать: «Мастерить луки и стрелы на продажу, делать бусы из скорлупы страусовых яиц, разрисовывать кожи вам необходимо для того, чтобы была «большая вода». Так мы получим средства для продолжения бурения колодца, а бушменам дадим первый наглядный урок того, что сулит им приобщение к товарной экономике».
Бушмены приняли это предложение. Департамент влез в долг, подписал компании, которая вела бурение, гарантийное письмо, выписал новое оборудование. Вода забила на 58-м метре. С тех пор колодец не высыхает вот уже пятый год.
— Но как же старый Кейчхуама, даже не имевший представления о том, что такое пятьдесят восемь метров, смог связать наличие подземных вод на такой глубине с этими красными организмами? — вслух подумал я.
— А как вы объясните, например, то, что многие сарва способны слушать радиопередачи без приемника, сидя под столбом с проводом? — ответил вопросом на мой вопрос Секуньяне. — Мы проверяли это: сажали сарва, которые уверяли, что «понимают говорящие провода», у столба, а сами в километре от него слушали радио. Если передача велась на языке сисвана, который понимают кое-кто из бушменов, то они потом довольно внятно пересказывали нам содержание услышанного. Другие бойко отстукивают сигналы азбуки Морзе, которые тоже улавливают «из проводов»… Этого не понять даже ученым, которые уже приезжали сюда и беседовали со стариками.
Секуньяне помолчал, раскуривая сигарету, затем вновь вернулся к прерванной теме.
— Когда я был мальчишкой и жил неподалеку от Ганзи, то мы со сверстниками часто сталкивались в пустыне с бушменами. Мы кидали в этих низкорослых людей камнями, потому что наши родители отождествляли их «с дикой природой». Мы презирали их, наблюдая украдкой, как они поедают гусениц и змей, и содрогались от отвращения, слушая рассказы старших о том, что во время засухи сарва утоляют жажду выжимками из желудков убитых ими антилоп, а то и собственной мочой, профильтрованной через лишайники.
Но теперь, столкнувшись с сарва поближе, я понял: у этих людей есть много из того, что утратили мы, жители города, — продолжал Секуньяне. — У них необычайно развито чувство коллективизма и взаимопомощи. Здесь не знают, что такое воровство, жажда наживы, зависть.
Глава одиннадцатая
Люди Цзинчханы вспоминают старые ремесла. — Первобытные собиратели начинают работать на рынок. — Смогут ли кунг одомашнить диких антилоп? — «Большое собрание» среди болот Окаванго. — Бушмены узнают, что они… бушмены. — «Мы не будем делать вреда тем, кто ведет войну за свободу», — говорит вождь. — Женщина в Калахари может теперь иметь двух младенцев.
— Ну а чем же кончилась история с выплатой долга компании с помощью продажи изделий бушменов? — поинтересовался я.
— Они и здесь показали себя с наилучшей стороны, — вступает в разговор Лиз. — Как только мы объяснили людям Цзинчханы, что к чему, они сказали: «Колодец нужен нам самим, и поэтому все, что нужно для того, чтобы «большая вода» поднялась наверх, мы сделаем сами. Если «большой воде» надо много бус, ожерелий, луков и стрел, мы готовы приняться за работу».
Организацию дела взял на себя Дзадцно и его сын Цондзома, который в те годы, когда я сдружился с его отцом, был еще совсем мальчишкой. Главным было решить проблему сырья. Поскольку охотников с ружьями в Калахари последнее время появляется все больше, дичь становится пугливой, и бушменам, не признающим иного оружия, кроме лука, подкрасться к ней на расстояние полета стрелы делалось все труднее. Тут-то и помог опыт Дзадцно, знавшего все премудрости древних охотников Калахари.
Сначала ограничивались продажей просто выделанных шкур. Но потом старые женщины вспомнили, что в былые времена, когда дичи, воды, а следовательно, и времени было больше, кунг делали подстилки для сна, сшитые из различных шкур и украшенные орнаментом. Такие подстилки, которые в туристских магазинах называют «бушменскими аппликациями», дают теперь кунг самый большой доход.
— Больше четырех лет все наши кунг не покладая рук трудились ради того, чтобы расплатиться за свой колодец, — рассказывает Лиз Уили. — Общее дело как бы привязало их к одному месту, а нам дало возможность наглядно показать людям Цзинчханы те блага, которые они могут извлечь из занятия ремеслом в условиях нового для них, полуоседлого образа жизни. Теперь они очень гордятся тем, что колодец был создан при их непосредственном участии, и рассказывают всем проходящим мимо соплеменникам, что «большая вода» у них теперь есть именно потому, что ими было сделано много шкур, фляг и бус.
— Но я вижу, что большая часть людей Цзинчханы ремесленничает и сейчас, — говорю я. — Какие цели ставите вы перед ними теперь?
— Я думаю, не будет преувеличением сказать, что за последние годы мы смогли привить жителям этого стойбища нечто вроде вкуса к расширению их потребностей. Именно это заставляет их теперь мастерить все больше своих изделий в обмен на металлическую посуду, соль, спички, украшения и многое другое. Кроме этого, на деньги, вырученные от продажи изделий бушменов через магазины для туристов, мы купили им несколько голов крупного рогатого скота и начали знакомить кунг с основами скотоводства. Успех налицо: последние два года дети обеспечены молоком.
Однако, по мнению доктора Гейнца, приобщение бушменов к разведению крупного рогатого скота не имеет перспектив в Калахари.
— Давно известно, — говорит он, — что пастбищное скотоводство убивает природу Африки: там, где в скудной саванне, а тем более в пустыне побывала корова со своим аппетитом, растительность не восстанавливается, начинается бескормица. С другой стороны, местные дикие животные, напротив, оставляют после себя еще столько растительности, что через несколько лет пастбища без труда восстанавливаются. Не следует забывать также, что любое более или менее крупное стадо в условиях Калахари будет постоянно испытывать недостаток воды, в то время как дикие животные обеспечивают ею себя сами.
Именно это породило у доктора Гейнца и его коллег мысль о том, что в условиях «мучимой жаждой» пустыни перспективнее заниматься не разведением крупного рогатого скота, а плановым одомашниванием диких животных. Он утверждает, что до сих пор все попытки сделать это кончались неудачей, поскольку цивилизованные люди не ладили с пугливой дичью. Диких животных могут с успехом одомашнить только люди, стоящие на той же ступени развития, что и наши предки, приручавшие теперешних домашних животных.
— Именно на этой ступени находятся сейчас бушмены, — убежденно говорит он. — И знаете, что натолкнуло меня на эту мысль? Когда мы впервые привезли сюда коров и коз, то люди Цзинчханы долгое время отказывались их доить, предпочитая сосать молоко прямо из вымени. На наши недоуменные вопросы бушмены ответили: «В Калахари иногда бывают добрые антилопы, которые разрешают нам пить молоко вместе с их телятами». Мы не поверили. Но через несколько дней один из бушменов позвал в пустыню и, спрятав нас за дюной, отправился по направлению к небольшому табуну ориксов, маячивших на горизонте. В бинокль мы отлично видели, как он подошел к самке с детенышами, приласкал их, а затем начал сосать молоко.
— Почему же тогда ориксы не подпускают к себе близко охотников? — спросил потом у него Гейнц.
— Потому что ориксы знают, когда мы идем их убивать, а когда подходим к ним с мирными намерениями, — удивившись неосведомленности белого доктора, ответил бушмен.
Нереально? Но я лично не раз видел и фотографировал в Восточной Африке львиц, спокойно шествовавших мимо огромных стад газелей и антилоп и не вызывавших среди них ни малейшей паники. Инстинктивно, по повадкам и поведению хищника, его потенциальные жертвы чувствовали, что львицам — не до охоты, и поэтому практически не обращали на них никакого внимания. Так почему же тогда не может быть установлено «взаимопонимание» между ориксами и людьми, живущими одной жизнью с дикой природой Калахари?..
Мне показалось, что при всей значимости эксперимента, осуществляемого работниками департамента, масштабы его настолько локальны, что их просто еще рано распространять на все бушменские племена Ботсваны, продолжающие в условиях почти полной изоляции существовать в Калахари по законам каменного века.
Однако Цзинчхана дал мне понять, что эта изоляция в наш век не так уж абсолютна, как прежде, а Калахари не служит больше непреодолимым препятствием для проникновения новых веяний, даже политических идей, в бушменское общество.
Начался наш разговор потому, что мне хотелось выяснить отношение старика к его собственной роли в новой жизни кунг, возникшей вокруг колодца. Ведь раньше, в условиях постоянно полуголодного состояния в пустыне, бушмены практически не имели никаких социальных институтов, потому что не могли разрешить себе такую роскошь, как существование вождей, колдунов и знахарей, живущих за счет общества. Старейшины, подобно Цзинчхане, избирались из числа наиболее умных и авторитетных членов рода, но не пользовались никакими материальными преимуществами. Напротив, сам Цзинчхана в тот мой первый приезд, чтобы подать пример молодым, отказался от моих угощений в пользу кормящих женщин, а в пору засухи отдавал свои запасы воды детям. Теперь же старик получил от властей официальный титул «chif» — вождь и даже имеет по этому случаю какую-то зарплату.
— Наверное, Цзинчхана, ты стал первым вождем среди кунг? — спросил я.
— Среди кунг — первым, — гордо ответил он. — Но в других бушменских племенах теперь тоже есть вожди. И не только там, где бушмены живут под голубым флагом.
Последняя фраза означала, что вожди появились у бушменов не только в Ботсване, но и в соседних странах — Анголе и Намибии. Но откуда старик, который даже не знает названий этих государств, осведомлен о возникновении там институтов власти? И почему Цзинчхана произнес «бушмены», когда общеизвестно, что люди, которых так называют европейцы, сами не признают этого слова и не имеют никакого понятия об общности племен кунг, нарон, хейкум и ауэн, позволяющей ученым объединять их в единую этническую группу?
Сформулировав эти вопросы в доступной для Цзинчхана форме, я получил прелюбопытнейший ответ.
Оказывается, незадолго до моего приезда в «краю, где воды больше, чем земли», то есть скорее всего в районе огромных болот Окаванго, состоялась большая кгатла — собрание всех вождей и старейшин племен, населяющих Калахари. Уверен, что это была первая в многовековой истории этих аборигенов Африки встреча на «общебушменском высшем уровне».
Выступившие на ней представители властей рассказали вождям и старейшинам, что некогда предки их соплеменников населяли почти половину континента и что, в отличие от высокорослых, имеющих черный цвет кожи банту и белых европейцев, все племена охотников и собирателей Калахари низкорослы и имеют желтый цвет кожи. Поэтому их выделяют в самостоятельную расу.
«Сначала мы все обиделись, что нас не причисляют к остальным людям, — рассказывал Цзинчхана. — Но потом мы начали сравнивать друг друга с теми, кто не живет в Калахари, и увидели, что все мы действительно похожи друг на друга, хотя раньше и не встречались, но отличаемся от тех высоких и черных людей, которых знали давно. Мы обрадовались этому и наконец поняли, что мы все и есть те, кого белые называют бушменами. И согласились, что все мы — бушмены».
Уже один этот рассказ из первых уст, дающий представление о том, как в голове первобытного охотника возникает сознание этнического единства отдельных племен, ранее никогда не сталкивавшихся друг с другом, свидетельствовал о сдвигах в традиционном обществе бушменов. Однако то, что я услышал от Цзинчханы дальше, поразило меня еще больше.
Так, из его рассказа следовало, что после обсуждения на кгатле целого ряда вопросов чисто хозяйственного значения перед вождями и старейшинами «выступил человек в зеленой одежде, который живет в стране, где тоже есть бушмены и где идет война». Речь конечно же шла о Намибии. А «человек в зеленом», судя по тому, что он говорил, был представителем Народной организации Юго-Западной Африки (СВАПО), ведущей борьбу за освобождение Намибии от оккупации расистской ЮАР.
Если сопоставить рассказ Цзинчханы с теми данными, которые появлялись на страницах печати, то получалось следующее. В последнее время расистские власти Намибии начали довольно активно использовать бушменов-«смертников» в карательных операциях против патриотов СВАПО. Пользуясь их полной неосведомленностью в военных делах, расисты, например, давали бушменам сильнодействующее взрывное устройство, поручали ночью прийти в лагерь СВАПО, не вызывая никаких подозрений, посидеть у костра, а затем бросить устройство в огонь.
Уверяя бушменов в том, что целью СВАПО является якобы уничтожение всей крупной дичи в Калахари, расисты формировали отряды «бушменских снайперов» — не знающих промаха лучников, участвовавших в засадах против патриотов. Из бушменов делали соглядатаев и доносчиков, проводников и следопытов расистов — ведь никто лучше их не знает Калахари и не может помочь ориентироваться в пустыне. А поскольку бушмены не признают государственных границ и свободно переходят из одной страны в другую, то в преступления расистов вовлекались не только бушменские племена Намибии, но и обитатели пустынных районов Ботсваны и Анголы.
— Человек в зеленом рассказал нам тогда, что его люди борются сейчас против таких же белых, которые давным-давно отобрали у нас лучшие земли и охотились на наших матерей с собаками, загоняя нас в пески, — сокрушенно качая головой, продолжал Цзинчхана. — Он привел с собой двух бушменов, которые тоже были в зеленом. Они говорили на нашем языке и рассказали, что люди в зеленом сражаются за то, чтобы всем в той стране, где идет война, было хорошо. И тогда мы, старейшины и вожди бушменов, решили запретить своим людям причинять зло людям в зеленом. Ведь хотя кожа у нас, оказывается, желтого цвета, мы всегда жили рядом с черными людьми. А в последнее время черные люди все чаще помогают нам…
— А что, Цзинчхана, лучше стало жить с тех пор, как кунг поселились у колодца? — спросил я.
— Ты бы посмотрел на двери вон той хижины, что напротив моей, а потом спрашивал, — улыбнувшись, ответил старик. — Видишь, у входа в нее копошится ребенок, который не прожил еще и двух сезонов «большой жары». А мать его уже кормит другого сына… Разве возможно было такое в ту пору, когда мы с тобой познакомились? Женщины у нас поили ребенка своим молоком два и еще два сезона «большой жары». Потому что без материнского молока ребенок умер бы от грубой пищи, голода и жажды. Если же в это время у женщины появлялся другой ребенок, его не оставляли в живых. На двоих бы молока не хватило. А теперь хватает…
Глава двенадцатая
Ночь в экваториальном лесу. — Встреча с пигмеями, убившими буйвола. — «Дети леса» поют песню для леса. — Антропологический тип негриллей создан специфическими условиями жизни в гилее. — Средний рост — 141 сантиметр. — Старейшина Мвиру обеспокоен «поведением»… магнитофона. — Пигмеи «настоящие» и «туристские». — Психологические особенности первобытного общинника и современность. — Африканцы, для которых опасно солнце
В семь часов вечера, как и положено на экваторе, было уже совершенно темно. Мы пробирались на машине по заросшей папоротниками лесной дороге, все время опасаясь врезаться или в дерево, или в полусонных буйволов, которые почему-то предпочитают ночевать прямо у обочины. На ровных участках свет фар устремлялся далеко вперед, и тогда толстенные гладкие стволы, внизу совершенно лишенные листвы, казались гигантскими каменными колоннами, воздвигнутыми лесными циклопами. Мириады блестящих жуков вились перед нами, то и дело громко стукаясь о ветровое стекло.
— Скоро ли доберемся до деревни? — поинтересовался я у проводника Рубена Раундзаджара.
— Если на тропе, которая отходит от этой дороги к пигмейскому селению, нет завалов, то часа через два, — ответил он.
— По пути еще будут горные участки?
— Нет, тут все время только холмы. Будут болота, но они обычно сухие в это время года.
Мы ехали по предгорьям Вирунги, вулканической системы, расположенной на стыке границ Уганды и Руанды. В этом лесном сердце Африки я хотел поближе познакомиться с жизнью пигмеев и с их помощью добраться до мест, где обитают горные гориллы. Отправляться одному в такое путешествие и уповать на успех было слишком самонадеянно. Поэтому я обратился за помощью к Рубену — проводнику по горилльим местам Вирунги. Это он водил по лесистым склонам вулканов американца Д. Шаллера, автора широко известной книги «Год под знаком гориллы». Мне Рубен решил показать глухой уголок Руанды, зажатый между болотистым озером Мвулеру на востоке и вулканами Мухавура и Карисимби на западе. Где-то здесь находилась пигмейская деревня, с вождем которой Раундзаджара был в хороших отношениях. «Пигмеи знают этот огромный лес, как я — собственную хижину, и наверняка смогут провести вас к гориллам», — уверял он меня, когда мы обсуждали наш маршрут.
Километрах в десяти от того места, где должна была находиться деревня, Рубен попросил меня остановить машину, посоветовал оставаться на месте, а сам углубился в лес. Выключив фары и привыкнув к темноте, я заметил вдалеке, за толстенными стволами деревьев, пляшущую точку огня: очевидно, то был костер. Ждать пришлось довольно долго. Наконец минут через сорок я увидел возвращающегося Рубена и вместе с ним маленького коренастого человека с луком за плечом.
— Около того места, где горит костер, пигмеи недавно убили здоровенного буйвола, — рассказал Раундзаджара. — В такой поздний час даже пигмеи воздерживаются от прогулок по лесу, и поэтому охотники решили ночевать возле убитого животного. Но в деревне нет мяса, люди ложатся спать голодными. Для того чтобы расположить их к себе, было бы неплохо положить кусок туши и требуху в багажник, захватить с собой нескольких охотников и так прибыть в деревню.
Рубен был прав: привезти голодным пигмеям среди ночи мясо — значит сразу же доказать им свое дружелюбие, завоевать их доверие. Мы перетащили в машину большой кусок туши, пригласили с собой трех охотников и отправились дальше по едва заметной лесной тропе.
Пигмеи устроились на заднем сиденье. Они все время болтали, весело вскрикивая от удовольствия всякий раз, когда нас подбрасывало на ухабах.
Один из них, Аамили, немного говорил на суахили и, показывая мне дорогу, все время рассказывал разные истории, связанные с местами, где мы проезжали. В основном это были охотничьи происшествия.
Когда Аамили, перелезший поближе ко мне и Рубену на переднее сиденье, замолкал, сидевшие сзади моментально начинали петь. Это был своеобразный речитатив, быстрый, на высоких нотах. Пели они на непонятном мне языке, очевидно на уруньяруанда, но я без труда улавливал, что каждый из них тянул свою песню. Лишь время от времени, когда речитатив переходил не то во властный крик, не то в заклинание, слова певцов сливались воедино.
— О чем эта песня? — спросил я у Аамили.
— Это песня для леса. Вечерами мы всегда поем, чтобы лес не уснул и не забыл нас. Ведь он большой и добрый, но у него много дел, и иногда он может не позаботиться о нас, своих детях, и тогда случается несчастье. Посмотри, бвана, какой хороший лес кругом. Он высокий и стройный и прячет нас, своих детей, от всего плохого. Нам хорошо в лесу, потому что он любит нас. Но если бы мы не пели, лес потерял бы нас, и у нас случилось бы что-нибудь плохое. А когда мы поем, лес слышит нас и заботится о нас. Мы поем веселые песни, и вместе с нами весело и лесу.
Не знаю, была ли это импровизация, на которую Аамили воодушевила первая в его жизни поездка по ночному лесу на машине, или он просто пересказал ранее слышанное, но говорил он очень убежденно и поэтично.
«Дети леса» — так назвал свой народ Аамили. Когда обиженный малыш бежит к матери, чтобы прильнуть к ее добрым рукам, он зачастую не рассказывает ей о своих печалях, не жалуется и не просит наказать обидчика. Он просто обнимет ее, поплачет и успокоится, потому что с матерью ему хорошо, он знает, что с ней его не тронут. Для пигмеев такая добрая мать — лес. Они свято верят в его доброту. Для них лес не просто скопление деревьев. Лес — это их мир, нечто единое и понятное. И пигмей рассматривает себя как неотъемлемую часть этого доброго единого мира, дающего ему пищу и приют. Вера в лес — религия пигмеев.
— Но ведь бывают и охотничьи неудачи? — спросил я Аамили. — Ведь случается, что леопард утащит запутавшуюся в сетях хорошую добычу или полчища термитов нападут на деревню. Ведь не всегда же лес добр к вам?
Аамили хмыкнул и посмотрел на меня с недоумением:
— Лес всегда добр к своим детям. Если леопард съел добычу в наших сетях, значит, он был голоден и лес не мог ему дать другой пищи. Около деревни появились термиты? Так это мы, люди, не напомнили лесу о себе, не сказали ему, где мы живем. К нам лес всегда добрее, чем к другим.
Свою «оду лесу» Аамили оканчивал, когда мы уже въезжали в деревню. Из расположенных по кругу хижин выскочили мужчины, держа наготове луки. В тусклом свете тлевшего костра их крохотные обнаженные тела отливали бронзой.
Аамили бросил несколько фраз, и люди успокоились. Несколько мужчин стали выгружать из машины мясо, а Рубен подвел меня к испещренному морщинами пигмею-старейшине Мвиру. Я обратился к нему с приветствием и просьбой разрешить пожить несколько дней в деревне.
Мвиру пригласил к костру и начал расспрашивать о причинах моего появления и о последних новостях «там, за лесом». В свою очередь я выяснил у старейшины, что его охотники знают о местообитании горилл. Мвиру заверил меня, что даст проводника к «волосатым людям». По его словам, там недавно работали «те, кто умеет сохранять чужой голос и чужие движения», и он показывал им горилл.
Я догадался, что речь шла о японской киноэкспедиции, снимавшей незадолго до моего приезда фильм об обезьянах Центральной Африки.
Благодарные японцы записали голос Мвиру на пленку и подарили ее старейшине вместе с крохотным батарейным магнитофончиком «Сони». Сидя у костра, он то и дело нажимал на блестящие кнопки «Сони», извлекая оттуда свой голос и недоверчиво спрашивая: «Как же так? Я не хочу говорить, а говорю? Я хочу говорить другое, а говорю там одно и то же? А что будет, если я начну делать не то, что нужно?»
То ли возраст, то ли переживания, вызванные «непослушным голосом», долго не давали заснуть Мвиру. Мне же после утомительной дороги смертельно хотелось отдохнуть. Заверив старика в том, что магнитофон не принесет несчастья, и записав на пленку для пущей убедительности пару собственных фраз, я пожелал Мвиру спокойной ночи и отправился в машину.
Я давно собирался забраться куда-нибудь поглубже в лесные дебри и пожить там несколько дней рядом с пигмеями, получше узнать их. Но приехать белому человеку к пигмеям «просто так» — значит взбудоражить все население деревни, выбить его из привычного ритма жизни, а самому так толком ничего и не увидеть. Дети, глядя на незнакомое высокорослое и белокожее существо, будут испуганно реветь, женщины застенчиво выглядывать из хижин, а мужчины настороженным взглядом провожать каждое ваше движение, так и не зная: то ли ждать неприятностей от гостя, то ли поверить в его добрые намерения и, оставив женщин, идти на охоту. Появление же у пигмеев в сопровождении Рубена, да еще и с мясом в багажнике облегчило дело.
В пигмейских деревнях я не раз бывал и раньше. Но все это были «пигмейские островки» среди заселенных и возделанных банту земель, где маленькие «лесные люди» жили в непривычных для них условиях, смешиваясь с другими племенами, теряя свои обычаи.
Первобытный уклад жизни пигмеев, приспособленный к обитанию в условиях леса, тотчас разрушается, придя в соприкосновение с иной цивилизацией. А быстро воспринять новый уклад, вжиться в новые условия пигмей не может ни психологически, ни физически.
Психологически — потому, что пигмей, подобно бушмену, по природе своей коллективист, не имеющий понятия о частной собственности, привыкший делить со своими соплеменниками все, чем он обладает на сегодняшний день, и не думать о завтрашнем. Грек Кикирос, владелец местных вольфрамовых рудников, единственный европеец, живущий на склонах Вирунги, как-то решил использовать пигмеев на своих предприятиях. Но его затея окончилась бесславно. Нанятые им люди в один день проедали и пропивали всю недельную зарплату в надежде, что пировавшие с ними банту на следующий день отплатят им тем же. Однако вчерашние собутыльники оказались людьми некомпанейскими, и пигмеи начали голодать. Двое из них умерли, не проработав на руднике и месяца, остальных пришлось отпустить обратно в лес. Другой курьез произошел со стариком пигмеем, которого Кикирос нанял на кухню. В первый же день он раздал своим соплеменникам все хранившиеся в доме припасы и кое-что из посуды. Причем это было не воровство. Старик действовал открыто, не таясь. Ему и в голову не приходило, что один человек может прятать уйму съестного, в то время как другие люди ходят рядом голодные.
Физически же пигмеи не могут привыкнуть к новым условиям потому, что их организм приспособлен к жизни в условиях гилей. В девственных дебрях заирских лесов Итури, где пигмейские селения отделены от деревень банту сотнями километров, почти все исследователи отмечают обилие стариков. Нигде в других африканских деревнях нет столько долгожителей, потому что в лесу почти неизвестны болезни, которые подстерегают людей в любой африканской деревне на открытой местности. Выйдя же из леса, пигмей вынужден променять чистый родник на стоячую воду озера, зараженную бильгарцией. Пигмеев здесь подстерегают туберкулез, фрамбезия, малярия, десятки инфекционных заболеваний, против которых у них нет никакого иммунитета. Но, как ни странно, самым опасным для этих людей экваториальных широт оказывается солнце. Пигмеи не переносят длительного воздействия его прямых лучей, они получают тепловые удары, ожоги, страдают от заболеваний кожи.
К сожалению, именно с такими пигмеями и сталкиваются большинство туристов, у которых нет возможности углубиться в лесные районы и которые ограничиваются посещением селений, находящихся вблизи дорог и деревень банту. Судить по их жителям о пигмеях в целом — все равно что, на один день попав в Париж и проведя час в ночном клубе, с видом знатока говорить потом, что все француженки легкомысленны и фривольны. Потерявшие связь со своей средой и своим народом, забывшие охотничье искусство, но не научившиеся земледелию, больные и лишенные источников существования, такие пигмеи действительно производят гнетущее впечатление. Кое-кто из них отлично усвоил, что заезжим туристам, обвешанным кинокамерами, нравятся кривляния у объектива, ничего общего не имеющие с настоящими пигмейскими танцами, «пожирание» сигарет, свидетельствующее якобы о недостатке солей в организме пигмеев, трясущиеся руки, выпрашивающие монету после подобного «представления», и подобострастные лица.
Жующих сигареты стариков и трясущихся женщин в лохмотьях мне впервые пришлось видеть в Бурунди близ Гитега. Я вспоминал тогда появляющиеся время от времени в печати статьи о «вымирающем народце» и с горечью думал: неужели целый народ за пятьдесят колониальных лет мог быть доведен до такого состояния? Неужели нет больше искусных следопытов-охотников и мудрых стариков — хранителей непревзойденных пигмейских легенд и сказок?
Но, к сожалению, охотники и сказители не попадались. Несколько раз я видел пигмеев в Заире — крохотных, истощенных. Потом в Уганде, близ Форт-Портала, я набрел на две деревни, где пигмеи занимались земледелием: между полуразвалившимися хижинами торчало несколько стволов бананов. Глава семьи, облачившийся по случаю моего приезда в полуистлевший пиджак, просил дать лекарство его сынишке, слепнувшему от трахомы.
Из Форт-Портала я поехал дальше и за рекой Семлики, там, где кончаются дороги и где не знают туристов, вдруг столкнулся с совершенно другим народом — низкорослым, но крепким и сильным, веселым и деловым, разговаривавшим со мной как с равным, прекрасно знавшим лес, который они называли «наш дом».
Вот и теперь с помощью Рубена я вновь встретился с «настоящими» пигмеями, свободными и радостными, незнакомыми с соблазнами цивилизации, живущими своей полнокровной жизнью.
Бросив последний взгляд на деревню, освещенную бликами костра, на котором жарилось мясо, я заснул. Мне снились гориллы, записывавшие свой голос на пленку, и лес, немного напоминавший врубелевского «Пана», даривший пигмеям магнитофоны.
Глава тринадцатая
Будни под пологом сумеречного леса. — Одежду здесь заменяет пучок травы. — Украшения из жуков. — Пигмейские девушки пользуются популярностью. — Обмен — главная форма взаимоотношений с высокорослыми соседями. — Шашлык по-пигмейски. — Тапа — ткань из коры фигового дерева. — Строится дом из веток и листьев. — «Разве можно хорошо делать два дела сразу?»
Утром полумрак экваториального леса обманул меня. Солнце почти не проникало сквозь высокий плотный шатер, образованный огромными кронами деревьев. Тишину нарушали лишь монотонные звуки капель, падавших с деревьев на голую, без подлеска и даже травы, землю. Каждый раз, открывая глаза, я решал, что еще рано, что деревня еще не проснулась, и вновь впадал в полудрему.
Наконец я понял, что яркого освещения здесь не дождаться. Оказалась обманчивой и тишина. Люди уже бодрствовали. Между стволами деревьев я увидел своих вчерашних знакомцев: Мвиру, глубокомысленно державшего в руках магнитофон; разговорчивого Аамили, который с десятком других мужчин чинил лиановые сети; копошившихся у хижин женщин. Аамили щеголял в подаренном мною ярко-красном куске пластика, заменившем ему плащ. Все же остальные пигмеи работали в своей «национальной одежде», сведенной до минимума.
Женщины довольствуются лишь передниками, обильно украшенными зелеными и синими чешуйками крупных жуков, которые тучами слетаются на вечерние костры пигмеев. Наряд замужних пигмеек дополняли ожерелья из ракушек и браслеты из коры с выжженными на ней фигурками животных. Девушки же обходятся даже без передников и разгуливают по деревне в костюме Евы. В ушах у многих продернуты маленькие ветки или свернутые листья.
Когда я наконец вылез из машины и появился в деревне, меня встретили почти как своего. Мвиру осведомился, как я спал и нравится ли мне лес, а затем пригласил разделить с ним утреннюю трапезу. Жена Мвиру умерла несколько лет назад, и все хозяйские дела легли на плечи его младшей дочери, пятнадцатилетней Сейку.
— Ей уже пора замуж, да вот все жалеет оставить меня одного, — говорит старик, нежно глядя на дочку ростом с ребенка, но в остальном внешне совсем взрослую женщину.
— Жених-то есть? — поинтересовался я.
— Женихов хоть отбавляй, но она просится за Кайибу. Он не нашего племени, из хуту. Их женщины часто бесплодны, и парни-хуту охотно берут наших девушек. Выкуп дают неплохой — сорок металлических стрел и дюжину брусков соли. Надо делать свадьбу, — как бы уговаривая самого себя, заключил Мвиру.
Я поинтересовался взаимоотношениями между пигмеями и их высокорослыми соседями — банту. В западной, особенно французской, литературе в последнее время нередко пишут о том, что пигмеи все больше попадают в зависимое положение от банту и делаются чуть ли не их рабами.
— Очень давно в этих местах жили только мы, маленькие люди. Но потом сюда пришли племена хуту, которые сажают растения, а много спустя — скотоводы-тутси. Сначала мы воевали с ними, но потом увидели, что можем прожить и в мире, потому что они не заходили в наш лес, а нашим охотникам нечего было делать среди их полей и пастбищ. Пришельцы давали нам железные стрелы, с которыми лучше шла охота, давали просо и бананы, а мы им — слоновую кость и мед. Это был справедливый обмен. Но потом где-то далеко, за лесом, появились белые и начали собирать с тутси и хуту налоги. Нас они не трогали, потому что лес всегда любил и прятал своих детей. Но белые знали, что тутси и хуту известны наши селения, и стали удерживать налоги за нас с них. Поэтому тутси и хуту начали требовать, чтобы мы больше давали им слоновой кости и меда. Кое-где белые заставляли наших строить дороги и сопровождать сафари через лес. Но это было около городов и больших дорог. У нас же с хуту остались прежние отношения. Они носят на рынки нашу добычу и дают нам все, что мы просим. Когда мы встречаемся, то смеемся над ними, потому что они боятся леса и копаются на своих полях, словно черви. Но мы никогда не ссоримся по-настоящему, — рассказывал Мвиру.
Сейку тем временем накрыла «стол» и предложила нам приняться за еду. На земле были разложены заменяющие тарелки большие листья, а на них — нанизанное на палочки жареное мясо. Рядом, у костра, шипела новая порция пигмейского шашлыка. Каждый кусок мяса был переложен какими-то плодами, выделявшими специфический горько-терпкий сок. Палочки не укреплялись над огнем, а втыкались в землю вертикально вокруг костра. Я не могу сказать, чтобы мясо мне очень понравилось. Но во всяком случае, оно было вполне съедобным.
Наевшись, Мвиру улегся на бок и, тяжело дыша, почти моментально уснул. На добром старческом лице, испещренном морщинами, отражалось состояние блаженства и покоя. Сейку заботливо отодвинула отца подальше от костра, накрыла остатки еды листьями и присоединилась к подругам.
Те тоже покончили со своими кухонными делами и собрались поддеревом, где на двух больших колодах было установлено длинное, выдолбленное из целого ствола корыто. Еще утром, проходя мимо, я заинтересовался им. В корыто была налита вода, где плавали длинные полосы коры фигового дерева, из которого во всей Тропической Африке делают своеобразную растительную ткань — тапу. Это одно из немногих ремесел, знакомых пигмеям. На рынках Бужумбуры, Кигали и Форт-Портала выделанная ими тапа очень ценится, поскольку, как африканцы считают, пигмеи добросовестнее других изготовляют эту ткань.
Став по обе стороны от корыта, девушки взяли палки-колотушки и равномерными ударами принялись колотить по коре. Из корыта летели брызги, девушки весело смеялись, а я невольно поймал себя на том, что залюбовался ими. Лица пигмеек нельзя назвать красивыми, но сложены девушки ладно и пропорционально, и, когда рядом с ними не стоит высокорослый человек, они не кажутся очень маленькими. Упругие молодые тела блестели на солнце, капельки воды весело искрились на светло-шоколадной гладкой коже. Раз — и длинные колотушки подпрыгивают вверх. Раз — и они так же слаженно опускаются вниз, обдавая девушек новой порцией брызг. Работали они часа два, без передышки, и, казалось, это не утомило их.
К концу брызги почти исчезли, а стук колотушек сделался тише: они били уже по чему-то мягкому: от твердой коры отделилось тонкое шелковистое волокно — «сырье», из которого лесные люди делают свои ткани. Девушки извлекли его из корыта и начали раскладывать, вернее, размазывать на огромных листьях фриниума. Размазывали аккуратно, равномерно по всему листу так, чтобы не получилось утолщений или просветов. Иначе через несколько дней, когда волокнистая масса высохнет, на ней будут бугры или дыры.
И вот тут-то начинается самое главное, за что ценится пигмейская тапа. Другие африканские племена, как только ткань высохнет, пускают ее в употребление или несут на рынок. Пигмеи же слегка смачивают тапу мокрыми ладонями и заново бьют колотушками, снова мочат и снова бьют. Тапа, сделанная африканцами-банту, часто ломается, ее нельзя согнуть, а изготовленная пигмеями похожа на настоящую ткань, эластичная, мягкая, шелковистая.
Одно из главных занятий пигмейских женщин — строительство и ремонт жилищ. Хижины пигмеев довольно хлипкие и быстро приходят в негодность. Глины и кизяку способных скрепить постройки, в лесу нет, поэтому сильные дожди систематически разрушают строения. В какой бы пигмейской деревне мне ни приходилось бывать, я всегда видел женщин или строящих, или ремонтирующих свои жилища. Но именно женщин. Девушек же, еще не имеющих семьи и собственного дома, к этой работе не подпускают.
Вот и сейчас шесть женщин-соседок, стащив с крыши лиственную кровлю, укрепляют остов хижины.
Архитектура домов предельно проста. У пигмеев бамбути в Уганде и Конго я встречал хижины, остов которых крепится к центральному столбу. Живущие же в Руанде и Бурунди пигмеи батва строят сферические хижины. Мужчина, глава семьи, когда хочет построить дом, отправляется к старейшине и просит на то разрешение. Традиция эта чисто формальная, отказа никогда не следует. Но разговор ведется долгий, глава семьи рассказывает старейшине и без того известные ему подробности: сколько детей у него в семье, сколько им лет и кому из них надо дать отдельную хижину.
Окончив переговоры, мужчина выходит из дома старейшины, держа в руках ньюмбикари — длинную бамбуковую палку, к которой лианой привязан колышек. Это символический предмет, говорящий жителям о том, что согласие старейшины на строительство новой хижины получено. Есть у ньюмбикари и чисто утилитарное назначение. Это своеобразный пигмейский циркуль, которым глава семьи очерчивает границу будущего жилища. На этом участие мужчин в строительстве дома заканчивается.
Теперь наступает очередь женщин. По окружности, очерченной ньюмбикари, они втыкают в землю лозу, которую перекидывают на определенной высоте через центр будущего жилища и укрепляют в противоположной стороне. Так получается куполообразный остов, который затем переплетают лианами, а сверху покрывают листьями. У пигмеев, знакомых с земледелием, крыши делаются из банановых листьев. Здесь же кровлю чаще всего сооружают из листьев пальм. Первые слои листьев просто накладывают друг на друга, а верхние, которые может унести ветер, связывают лианами. Если за такой крышей постоянно ухаживать — убирать сгнившую листву и добавлять свежую, то она абсолютно водонепроницаема. Во всех трех хижинах, крыши которых на моих глазах были разобраны и обновлены женщинами, было сухо.
Женщины, по-моему, были не очень довольны моим присутствием, потому что подвязанные у них за спиной сыромятными ремнями крохотные курчавые ребятишки, поворачиваясь в мою сторону, всякий раз начинали реветь и колотить ручонками матерей по голове. Но оставить дом без кровли к приходу мужей с охоты женщины не решались и поэтому были вынуждены продолжать свое занятие.
Пола у хижин не было. На сухой траве, а чаще на песке лежали связанные лианами «стволы» бамбука, заменяющие кровати. Вместо подушек — ворох листьев. Прямо у входа, чтобы можно было взять, не заходя в хижину, сложены несколько луков, пучки стрел и копья. Посредине очаг. Напротив двери стоят глиняные, выменянные у банту горшки для воды. Никаких съестных припасов пигмеи не держат. Когда есть мясо, его съедают в тот же день, а если не испортится — на следующий.
В каждой хижине обязательно есть музыкальный инструмент: в одной — духовой, сделанный из рога антилопы, в другой — барабан; в третьей — украшенная выжженным орнаментом ликембе — встречающийся только у пигмеев инструмент, напоминающий длинное деревянное блюдо, по краям которого прикреплены струны из сухожилий животных. Под руками музыкантов ликембе издает негромкие, нежные звуки.
— Почему в каждом доме лишь по одному музыкальному инструменту? — спросил я у Мвиру.
— Играть надо хорошо. А играть хорошо можно только тогда, когда знаешь свою ликембе или рожок-зомари и их мелодию. Разве можно хорошо делать два дела сразу?
— Лес добр к пигмеям и часто дает вам возможность убить антилопу или кабана, — сказал я. — У них хорошая теплая шкура, а вы спите на голом бамбуке и дрожите по ночам от холода. Ведь из этих шкур можно сшить одежду, как это делают другие люди.
Мвиру удивленно посмотрел на меня, покачал головой и направился к своей хижине. Оттуда он вышел с полуметровой трубкой, на конце которой была прикреплена глиняная чашечка. Набив ее какими-то листьями, он раскурил трубку у костра и только тогда вернулся к разговору.
— Другие люди не живут в лесу, а мы — дети леса. Лес создал нас такими, какие мы есть, и он любит нас такими. А если мы наденем чужие шкуры, лес перепутает нас со зверями и не будет помогать нам…
Глава четырнадцатая
Мы взбираемся на Мухавуру. — Крестьяне наступают на заповедные склоны. — Огнедышащие кратеры вулканического братства Вирунги. — Пять часов в компании горилл. — Миролюбивый силач горных лесов. — Главное лакомство — бамбуковые побеги. — Воспитание у человекообразных. — Точка зрения Мвиру на «волосатых людей»
Только на четвертый день нашего пребывания у пигмеев мы наконец собрались в лес, где обитают гориллы. Сопровождавшему нас пигмею Мвиру велел идти туда, где снимали свой фильм японцы. По дороге, естественно, разговор зашел о гориллах. Я спросил у Рубена, не меньше ли стало обезьян за последнее время в этом районе.
— Меньше — не то слово. Скоро их вообще не будет, — с горечью ответил он. — Сорок лет назад, когда покрывающий склоны Мухавуры лес Нканда был объявлен резерватом горилл, в этих местах жило около четырех тысяч обезьян. Но, когда в Конго началась гражданская война, вызванная сепаратистскими действиями Чомбе, и в предгорья Вирунги устремились тысячи беженцев-скотоводов, здесь уже почти не оставалось нераспаханных земель. Поэтому скот начал ходить в горы. В результате границу заповедника отодвинули на тысячу футов выше. Гориллы не хотят жить в тех местах, где так часто бывают люди, они забираются все дальше, к вершинам. Но там им неуютно, нет растений, которые они любят. К тому же наверху холоднее, и поэтому обезьяны, как и люди, простужаются, заболевают и умирают. Я думаю, что сейчас на Мухавуре не более восьмисот горилл.
Прямо напротив нас чернели леса младшей сестры Мухавуры — горы Гахинга. Округлые холмы мягко и плавно уходили за горизонт. Мозаика террасных полей, пастбищ и лесов, чередование света и теней создавали удивительную гамму оттенков зеленого цвета. Во впадинах между холмами блестели озерки, кое-где поросшие папирусом. Солнечные лучи проникали через его метелки, отражались в воде и подсвечивали их изнутри золотистым фосфоресцирующим светом. За папирусами начиналась открытая вода — вариации синего и голубого.
К озерам тянулись цепочки журавлей. А от земли к ним поднимались струйки дыма от деревенских костров. Где-то на западе крестьяне подожгли лес, и целый холм загорелся дымным пламенем. Пока мы взбирались на Мухавуру, небо все больше покрывалось тучами и становилось все темнее, а огонь — все ярче. Он осветил горы кроваво-красным пламенем, и казалось, что Вирунга проснулась, языки смертоносной лавы зальют сейчас окрестные поля, а подземный грохот нарушит идиллическую тишину сказочного края.
Когда-то здесь, на месте горной страны, плескались воды древнего водоема, занимавшего западную часть Великих африканских разломов. Современные озера Эдуард и Джордж — лишь небольшие, оставшиеся от него участки. Гигантский водоем был неспокоен, его дно то и дело сотрясали подземные толчки, которые рождали гигантские волны-цунами. Они обрушивались на берег, смывали леса и бродивших там животных, а сами уходили под землю, в провалы, которые пересекали местность при каждом землетрясении. Дно водоема и его берега с запада на восток избороздили глубокие трещины. Поднимавшаяся по ним вязкая густая лава не растекалась по поверхности, а тут же застывала. А на нее из разверзнувшихся земных недр стихия выбрасывала все новые и новые порции лавы, наращивая конусы вулканов и холмов. Так возникла современная горная цепь Вирунга — удивительный ландшафт Руанды.
Из вулканической восьмерки Вирунги лишь два — Ньира-Гонга и Ньямла-Гира — оказались «долгожителями», они действуют до сих пор. Конус Ньира-Гонги все время маячит перед нами на горизонте. Над его вершиной клубилось белое облако, и мне почему-то казалось, что оно вырвалось из пышущего жаром жерла. Наконец мы добрались до покинутого японцами лагеря. Да, пигмеи указали им для съемок место, лучше которого вряд ли мог найти опытный оператор.
По лианам мы с Рубеном залезли на дерево и стали ждать горилл, которые, как говорили пигмеи, обычно появляются, «когда солнце доходит до середины неба». Устроившись поудобнее на настиле, сооруженном японцами, мы замерли в ожидании.
Прошло больше двух часов, прежде чем Рубен тронул меня за плечо и указал в сторону кустов. Взглянув в протянутый им бинокль, я невольно вздрогнул. Среди кустов появился огромный, ростом определенно больше полутора метров самец с серебристым мехом. Шел он вразвалку, как бы сознавая собственную силу, уверенно ступая по земле ногами и едва касаясь ее длинными пальцами рук.
Эти руки, пожалуй, больше всего поразили меня в горилле. Густая шерсть скрывала его шею, и поэтому казалось, что руки начинаются прямо из головы, могучие, подвижные, почти одной толщины от плеча до кисти. Когда самец останавливался и опирался на руки, они превращались в единую дугу, создавалось впечатление, будто это не часть обезьяньего тела, а что-то инородное, на что животное просто положило голову. Самец либо не видел нашу группу, либо просто был настолько уверен в себе, что решил не обращать на нас никакого внимания.
Наблюдая горилл, невольно меняешь свое представление об обезьянах как о существах непременно суетливых, подвижных, проворных. Вот самец неторопливо вышел на небольшую открытую площадку между кустами, постоял, потом сел и в такой позе, не то задумавшись, не то задремав, оставался минут двадцать. Потом он встал, лениво почесал макушку, увенчанную мохнатой холкой, поднялся на мощные ноги и провел руками по груди, как бы расчесывая ее. Вынув застрявшие в шерсти ветки, самец обнюхал их, выбросил и вразвалку, лишь на одних ногах прошел несколько метров к зарослям бамбука. Вблизи ничего съедобного он не нашел и поэтому полез вглубь, сильными руками раздвигая упругие зеленые стебли. Там он провозился минут пять и вернулся на поляну, держа во рту молодой белый бамбуковый побег. Поддерживая его рукой, самец на ходу вытащил зубами мягкую сердцевину, выплюнул кожуру и принялся за еду.
Жуя побег, самец дошел до поваленного дерева, но не пожелал перелезать его, а отправился в обход и скрылся в кустах. Минут через двадцать он появился в окружении трех самок и двух молодых, довольно резвых существ непонятного пола. Самки важно расселись на почтительное расстоянии друг от друга и, протягивая руки то к одному, то к другому кусту, принялись срывать с них оранжевые плоды, молодые побеги и съедобные ветки. Прежде чем отправить пищу в рот, обезьяны внимательно осматривали ее и иногда томным жестом, как бы отмахиваясь, отбрасывали прочь. При этом они каждый раз корчили недовольную гримасу и издавали звуки, напоминающие чихание.
Когда все съедобное вокруг было уничтожено, одна из самок встала и заковыляла на новое место. Только тогда я увидел, что на ее обвислом животе, растопырив розовые лапки, висел крохотный детеныш. Мать села, и он исчез в густой шерсти.
А наш старый знакомец самец опять отправился в заросли. О его присутствии напоминали лишь звуки ломающихся стеблей. Что же касается юнцов, то они походили на плохо воспитанных детей, которые не могут найти себе занятия в то время, когда старшие поглощены делом. Сначала они бесцельно слонялись между кустов, изредка отправляя себе что-нибудь в рот. Потом уселись на старый муравейник и начали исследовать собственную шерсть, скрупулезно перебирая каждый волосок. Мартышки и павианы обычно освобождаются от насекомых с помощью друг друга. Гориллы же действовали в одиночку, ловко доставая длинными руками до любого участка тела.
Когда это занятие им наскучило, они отправились к отцу в бамбуковые заросли. Густая растительность скрыла от нас педагогическую сцену, которая там разыгралась. Скорее всего, отец счел, что молодежь проявила непочтительность к его особе, без спроса нарушив трапезу в одиночестве, и задал перцу юным нахалам. Молодежь пошла было «жаловаться» к самкам, но те не удостоили их вниманием.
Мы просидели на помосте уже более пяти часов. Почти все время гориллы вяло передвигались по очень небольшому клочку земли, затратив на это минимум движений и не сделав ничего такого, что обычно ждут от обезьян. Наверное, наблюдать любое другое столь же неподвижное животное на протяжении долгого времени было бы мучительно скучно. Но сознание того, что перед тобой «предки», видеть которых на воле удавалось лишь очень немногим, делало зрелище интересным и придавало значимость малейшему движению обезьян.
Начало смеркаться. Самец вышел из бамбуковых зарослей, подошел к самке-матери, которая грудью кормила младенца, поощрительно-ласковым жестом провел лапой по ее спине и пошел дальше. За ним, словно по команде, отправилась и вся группа, скоро исчезнувшая в дальних кустах…
Вечером, когда мы уже вернулись в деревню, старый мудрец Мвиру поведал мне «точку зрения» своего народа на поведение горилл. По его словам, их нежелание перелезать через поваленные деревья, медлительность и осторожность имеют вполне определенные причины.
— Раньше, как и подобает обезьянам, — говорил мне Мвиру, — гориллы жили на деревьях. Были они такие тяжелые, что ломали все сучья, а ели так много, что уничтожали все плоды. Лес начал чахнуть, пищи не осталось не только для горилл, но и для других животных. Нам, лесным людям, не на кого стало охотиться. И тогда наш великий вождь Мту пошел к Хозяину леса. Хозяин леса любит нас, своих детей, и поэтому он сказал гориллам, чтобы они жили на земле. Так они и сделали. Но ходят гориллы по ней медленно, чтобы ничего лишнего не помять, обходят деревья, чтобы не рассердить Хозяина леса. Гориллы боятся, что Хозяин запретит им жить даже на земле.
Возможно, конечно, что пигмеи, видя внешнее сходство между людьми и гориллами, распространяют это сходство и дальше, наделяя животных привычками, свойственными им самим. Мвиру утверждал, что гориллы имеют в лесу собственные «зоны влияния» и никогда не заходят на участки, принадлежащие семьям других горилл. Если какое-нибудь крупное животное поселится в их лесных угодьях, они сообща изгоняют незваного гостя. Бывает это редко, поскольку даже слоны и буйволы избегают встреч с гориллами. Насколько я понял, эти обезьяны никогда не нападают первыми на других животных, но уж если противник вынуждает их применить силу, то они умеют за себя постоять.
— Мы тоже не любим есть горилл, потому что, когда с них сдерешь шкуру, они становятся похожими на человека, — объяснил Мвиру. — До тех пор, пока здесь не появились вазунгу[10], мы не охотились на обезьян. Но белые начали давать нам за обезьяньи шкуры и черепа деньги, на которые можно купить хорошие стрелы. Поэтому теперь мы иногда убиваем горилл.
Из дальнейшего рассказа Мвиру получалось, что, если не считать человека, единственный враг горилл — леопард. Иногда он нападает на спящих обезьян. Но бывает это очень редко, когда в лесу пропадает дичь и хищник не может найти себе ничего другого.
Однако отнюдь не всегда кровожадная кошка выходит победителем из схватки с обезьянами. И пигмеи, и их соседи-баньяруанда рассказывают, что не раз видели, как взрослым гориллам удавалось задушить леопарда, а затем ударами о ствол дерева размозжить ему голову.
После такой схватки, однако, обезьяны покидают места, где они одержали победу. Их поведение Мвиру объяснял тем, что «волосатые люди» остерегаются мести других леопардов…
Глава пятнадцатая
Тамтамы приносят важную новость. — Почему в лесных чащобах Африки много покинутых пигмейских селений? — Лесные кочевники знают, что такое голод. — Дождь на экваторе начинается по часам. — «Белый на охоте испортит все дело: он громко дышит». — Я прибегаю к хитрости. — Священнодействие перед охотой. — Немного антропологических наблюдений. — Пигмеи — носители доисторической традиции, древнейшей африканской культуры
На другой день в полдень мы сидели с Мвиру у костра. Было промозгло. Старик облачился в старую шинель и, зябко ежась, то перебирал струны ликембе, то, отложив инструмент, принимался развивать свою философию о лесе.
Вдруг он замер и напряженно прислушался. Потом крикнул что-то женщинам, которые сразу же прекратили работать и разговаривать. Я попытался тоже уловить хоть какие-нибудь звуки, но не услышал ничего, кроме шума падающих капель.
— Барабан говорит, что охота была неудачной, — нарушил наконец тишину Мвиру. — Почти весь день охотники преследовали большого буйвола, но он ушел в непроходимое болото. Завтра всем мужчинам опять придется идти на охоту.
Пигмеи — лесные кочевники. Они живут на одном месте полгода, год, пока вокруг стойбища есть дичь. Потом с легким сердцем оставляют свои нехитрые постройки и переходят на другое место, нередко за сотню километров, где еще есть непуганые животные.
Но в лесных чащобах Африки не оставалось бы столько покинутых пигмейских селений, не будь еще одной причины. «Если кто-нибудь умер, значит, лес не хотел, чтобы человек жил в этом месте. Значит, всем пигмеям надо уходить», — слышал как-то я в Итури. В справедливости этого тезиса твердо уверены батва и бамбути. Поэтому, когда деревню навещает смерть, покойника закапывают под крышей его же хижины, а все селение, проведя ночь за поминальными плясками, на следующее утро снимается с насиженных мест и уходит поглубже в лес строить новые жилища.
Мвиру, очевидно, расстроило известие о неудачной охоте. Он уселся у входа в свою хижину, крикнул Сейку, чтобы та принесла ему другую трубку, и начал курить, надрывно кашляя после каждой затяжки. В одну из трубок старик набил крупно истолченные листья, заменяющие здесь табак, а в другую насыпал темно-красного порошка мтупаега, поверх которого положил тлеющий уголек. Мтупаега — древесный гриб, встречающийся в лесах между озерами Киву и Эдуард. Его курят в растертом виде не только пигмеи. Но основными поставщиками этого наркотического зелья на рынок считаются батва.
Разговаривать теперь Мвиру явно не хотел. На мои вопросы он отвечал нехотя, полузакрыв глаза.
Неожиданный порыв ветра, зашумев в вершинах деревьев, напомнил о том, что экваториальная природа — педант, что и сегодняшний день не пройдет без дождя. Ветер налетал, кренил гигантские стволы, поднимал хороводы сухих листьев и мчался куда-то дальше. А лес и все вокруг снова замирало, безмолвно и обреченно ждало.
Сверкнула молния, и дождь, даже не предупредив о себе первыми каплями, сплошным потоком поглотил лес.
Я укрылся в машине, но подумал, что под лиственной кровлей в хижинах пигмеев, наверное, куда уютнее. Водяной поток с такой силой барабанил по металлической крыше, что, даже зажав уши, я не смог избавиться от шума. Деревни, которая находилась от меня всего в полусотне метров, не было видно. Я заметил время: дождь начался в 13.50 и кончился в 14.20. Кончился так же внезапно, как и начался, как будто бы над нами была не иссякавшая туча, а гигантский резервуар воды, который мгновенно захлопнули. Сразу стало тихо и светло. За деревьями вновь виднелась деревня — хижины среди воды, как островки в половодье. Но через каких-нибудь полчаса вода спала, образовав два мутных потока вокруг селения, которое, оказывается, пигмеи построили на небольшом бугорке. Машина же моя оказалась на самом пути новорожденной реки. Среди веток и листьев, которые поток проносил мимо, я заметил распластавшего алые крылья турако.
У пигмеев не обошлось без происшествий. С некоторых хижин унесло крыши, и женщины вновь принялись их настилать. Но больше всех был огорчен Мвиру. Впопыхах он забыл на земле одну из своих трубок, и вода, конечно, унесла ее. Трубка, оказывается, была не простая, а вроде родовой реликвии: ее передавали от одного старейшины к другому.
Но я еще не знал об этом и совсем не вовремя обратился к расстроенному старику с просьбой разрешить мне пойти завтра с мужчинами на охоту.
— Можно испортить все дело. Вазунгу не умеют ходить по лесу: громко дышат и шумят. Если охотники и сегодня ничего не поймают, то деревня опять будет без мяса, — проворчал он, на четвереньках ползая вокруг хижины в поисках ценной пропажи. Вскоре ему стали помогать и женщины: они обшарили уже обнажившееся дно потока, но тщетно.
Сочувствуя горю Мвиру, женщины ползали по земле тихо, не переговариваясь. Вдруг в полной тишине, воцарившейся в отдыхавшем после дождя лесу, я услыхал барабанную дробь, глухо отдававшуюся во влажном воздухе.
— Охотники решили ночевать в лесу, потому что напали на новый след, — перевел «морзянку» тамтамов Мвиру. — Говорят, что это большой кабан, просят принести новую крепкую сеть. Домой не вернутся, потому что ушли далеко, за большой холм.
Лицо старика преобразилось, в глазах появился живой огонек. Видимо, в нем заговорил врожденный охотничий азарт. Он мысленно был с теми, кто сейчас шел по охотничьей тропе, выслеживая добычу. И он должен был помочь им.
Старик отдал какие-то распоряжения женщинам и почти бегом направился к навесу, под которым стоял большой тамтам. «Та-тра-тррам-трата!» — с силой, которой я даже не ожидал от этого маленького старичка, выбивал растопыренными ладонями Мвиру. «Трам-тра-та-та!» Как объяснил мне Аамили, он вызывал мужчин, находившихся в другой деревне. «Нам с Мвиру с сетями не справиться, а женщинам к ним прикасаться нельзя», — добавил он.
Надо было обязательно задобрить Мвиру, чтобы он разрешил мне участвовать в завтрашней охоте. Но теперь я начал издалека.
— Ведь деревня, где сейчас находятся наши мужчины, примерно на полпути оттого места, где я видел горилл? — прикидываясь простаком, спросил я. — Ведь это далеко отсюда?
— Луна будет вот над теми деревьями, когда они вернутся к нам, — ответил старик.
Где будет луна, я не имел ни малейшего понятия, но, вспомнив вчерашнюю поездку, прикинул, что мужчинам придется идти часа четыре.
— Пока они придут, пока приготовят сети, будет совсем поздно, и им придется идти к охотникам ночью.
— Придется идти. Большой кабан — много мяса. А луна светит хорошо.
— Но пешком идти долго. А вот на машине вчера мы доехали совсем быстро, — как будто невзначай кинул я и пошел прочь. Сразу предлагать свои услуги было нельзя: использование автомобиля явно не предусматривалось охотничьими канонами пигмеев. Надо было посеять в душе Мвиру сомнение и дать ему возможность самому понять, как было бы выгодно сэкономить сейчас пару часов.
Я посидел немного на бревне у деревенского костра, побродил среди хижин и опять вернулся к Мвиру. Он сосал свою трубку и задумчиво смотрел на небо.
— Когда ты приехал вчера от горилл, луна была около той ветки? — спросил он.
Я совсем не был уверен в этом, но счел нужным согласиться с ним.
— Тогда если бы они сегодня ехали с тобой, то были бы здесь еще засветло. Жаль, что бвана решил смотреть горилл вчера, а не сегодня.
— Я хочу съездить к гориллам и сегодня, а по дороге мне нетрудно подвезти людей, — сказал я, не желая, чтобы Мвиру принял это как одолжение.
— Аамили покажет тебе дорогу, — заключил Мвиру.
Доехали быстро. Пигмеи, вызванные тамтамом, успели пройти километра полтора и были в восторге, что им «подали» машину. Семеро пигмеев уместились сзади, четверо — спереди, но особой тесноты мы не испытывали. Все говорили хором, смеялись и удовлетворенно чмокали языками. Как перевел мне Аамили, некоторые из них не прочь были бы доехать на машине до стоянки охотников, другие возражали. Одна из спорящих сторон доказывала, что это невозможно, поскольку лес не допустит такой вольности и охота будет неудачной. Другие склонялись к тому, что можно проехать хоть полпути, «как будто не на охоту», тем самым усыпив бдительность своего благодетеля. Никому из них и в голову не приходило, что по непроходимому лесу к месту охоты машина просто не смогла бы проехать.
Когда мы вернулись в деревню, луны на небе еще и в помине не было. Мвиру был доволен и сразу же приступил к делу. Он обнюхал вытащенную из какой-то хижины сеть и отдал несколько распоряжений мужчинам. Двое из них подтащили к сети два глиняных горшка с водой, остальные принесли из леса ворох сочных стеблей, перемешали их с водой и стали месить руками. Один из старых охотников, бормоча что-то скороговоркой, начал сыпать в горшки какую-то коричневатую массу. Иногда он останавливался и испускал странный звук, напоминающий хрюканье.
— Он сыплет в воду кабаний помет, — объяснил мне Мвиру. — Когда идешь на охоту, лучше всего намазать сети пометом того животного, какое хочешь убить. Но нельзя говорить об этом животном. Надо только думать о нем и говорить его голосом.
— А почему же ты тогда говоришь о кабане? — удивился я.
— Но ведь я же не пойду на охоту. Я останусь здесь и буду просить лес послать нам удачу.
Я подумал, что, в сущности, пигмеи занялись разумным делом. Сеть пропахла человеческим жильем, и это, естественно, могло помешать успешной охоте. Но, начав с полезного дела, пигмеи, по-моему, вскоре о нем забыли и превратили промывку сетей в какое-то таинство. Старик продолжал что-то приговаривать, а Мвиру достал из костра пару красных угольков и положил на них кусочек кабаньего клыка. Как только появился резкий запах горелой кости, Мвиру сложил угольки и клык на небольшой черепок и начал поочередно обносить им каждого из мужчин, которые смачно плевали в его шипящее содержимое. Потом черепок с угольками был завернут в листья и передан старшему мужчине. Угольки понесут на ночную стоянку, где ими разожгут костер.
Большинство пигмеев умеют добывать огонь с помощью трута или двух камней. Но прибегают они к этому способу очень редко. Костер посреди их деревни горит днем и ночью, и, когда кто-нибудь из пигмеев отправляется в путь, он непременно берет с собой уголек из деревенского очага. Пигмеи верят, что у каждого племени, у каждой семьи есть «свой очаг», отличный от очага других соплеменников, и что костер, зажженный принесенным из деревни угольком, как-то связывает их с домом, родным лесом и оберегает от опасности…
Когда окуривание сети было закончено, мужчины вылили на нее содержимое горшков, размазали ногами и опять сплюнули. Девять мужчин взвалили себе на плечи еще мокрую, извергающую потоки мутной зеленоватой жижи сеть, взяли в правые руки копья, в левые — луки и, выстроившись цепочкой, пошли в лес. Они были похожи на сказочных воинственных гномиков.
— Братья Фежи и Лугупа вместе с Аамили поведут завтра с утра женщин, которые будут загонять кабана. Можешь идти с ними, — хитро прищурившись, обратился ко мне Мвиру, когда фигурка последнего охотника исчезла за деревьями…
Фежи и Лугупа могли бы быть прекрасным объектом для изучения антрополога. Мать их — всеми почитаемая мудрая Хеми, обычно весь день сидящая у костра и дающая неоценимые советы женщинам, — была чистокровная пигмейка. В молодости она вышла замуж за хуту, но тот вдруг умер, и Хеми вернулась в родную деревню, где вскоре появился на свет Лугупа. Через два года ее взял в жены сын старейшины соседнего пигмейского племени, от которого у нее и родился Фежи. Но второй супруг Хеми тоже прожил не долго: вскоре он погиб от когтей леопарда. И тогда она вновь переехала в родное селение. Больше в жены Хеми никто не брал, что, правда, не помешало ей вырастить еще шестерых детей.
Сейчас Фежи двадцать восемь лет, Лугупе — тридцать один. Я заметил место на своей рубашке, до которого, стоя рядом со мной, Фежи достает макушкой, и таким образом выяснил его рост: 134 сантиметра. Лугупа, единственный во всей деревне мужчина с примесью чужой крови, выглядел великаном, хотя он вряд ли перерос 155 сантиметров. Кожа у него была гораздо темнее, чем у остальных пигмеев, а тело почти лишено растительности, всю же грудь его брата покрывали рыжеватые курчавые волосы. Но главное, что бросалось в глаза, когда они стояли рядом, — форма рта. У Лугупы рот был обычных размеров, но с широкими, как у всех банту, губами, немного вывернутыми наружу. У Фежи губы тонкие, а рот очень длинный. Такая форма рта типична для всех негриллей.
Я много читал о необычайно вздутых, так называемых барабанных животах пигмеев. Но, по-моему, это справедливо лишь для тех из них, которые живут по периферии леса или в «туристских» деревнях и не могут прокормиться охотой, а употребляют непривычную пищу, причем нерегулярно.
Ни Лугупа, ни Фежи не давали никаких поводов для беспокойства, что у них «лопнет живот». Как и у всех пигмеев в щедром «добром лесу», у них были широкие, несколько непропорциональные грудные клетки, длинные мускулистые руки и немного тяжеловатые торсы. Только у Лугупы этот торс был посажен на обычные, а у Фежи — на короткие ноги. Именно из-за коротких ног главным образом и сокращается рост пигмеев. Это ноги следопытов, крепкие и выносливые. На следующий день, во время охоты, я наблюдал за обоими братьями: Лугупа, подкрадываясь к добыче, шел «на полусогнутых», испытывая явное неудобство. Фежи двигался прямо, шел на зверя как бы своей нормальной походкой.
В Лугупе было что-то от угловатого крестьянина, он казался немного нелюдимым, этаким увальнем. А в Фежи чувствовался человек вековой свободы — непосредственный, веселый, подверженный капризам собственных эмоций. В глазах у него постоянно светился озорной огонек. Прослышав, что завтра мы вместе идем на охоту, он тотчас же взял меня под свою опеку.
Глава шестнадцатая
Фараон Неферкар воздает должное мастерству низкорослых танцоров. — Пантомима под аккомпанемент ликембе. — Фежи отвергает рок, но воздает должное Генделю. — Бедность — отнюдь не главная «экзотика бытия» кочевников леса. — У истоков знаменитой школы живописи «Пото-Пото» стоит искусство пигмеев. — Каждый здесь — артист и художник
С какой бы просьбой я ни обращался к Фежи, что бы я у него ни спрашивал, он всегда мне отвечал на суахили: «Мзури» (хорошо). На первых порах это у меня не вызывало никаких сомнений. Но потом я заметил, что все мои просьбы остаются неудовлетворенными, и начал задавать ему прямые вопросы. Тут уж «мзури» было ни к чему. Оказалось, что Фежи знал на суахили одно-единственное слово. Пришлось перейти на язык жестов.
Я хотел послушать, как пигмеи играют на своих музыкальных инструментах, а заодно надеялся, что звуки музыки привлекут женщин и заставят их сплясать что-нибудь у костра. Пигмеи известны как прекрасные танцоры еще с древнейших времен. Сохранилось, например, письмо фараона VI династии Неферкара (около 2000 лет до н. э.), в котором упоминается о пленном пигмее, мастере танца.
Фежи тотчас же понял мои жесты, принес ликембе и заиграл. Время от времени под ее дребезжащие звуки он скороговоркой что-то напевал или молча вставал и крадучись проходил вокруг костра, очевидно движением подтверждая то, о чем рассказывали слова и звуки ликембе.
Для меня понятнее всего было лицо Фежи. Не знаю, «играл» ли он специально для меня или такой богатой мимикой всегда сопровождается исполнение песен у пигмеев. Ожидание и радость, испуг и смех, муки и удивление, как в калейдоскопе, сменялись на лице Фежи, отлично согласовываясь с аккомпанементом ликембе. Когда в будущем пигмеи начнут посылать своих представителей на международные конкурсы мимов, то лавры первенства на соревнованиях, бесспорно, будут принадлежать им.
Играл Фежи долго, но женщины не появлялись. Деревня ложилась спать полуголодной, и, очевидно, людям было не до танцев.
Внезапно Фежи провел пальцами по всем восьми струнам ликембе и резко оборвал песню. Потом, довольный, рассмеялся и протянул инструмент мне. Надо было как-то выйти из затруднительного положения, и я дал понять, что предпочитаю «сыграть» на своем инструменте. Жестом пригласил Фежи в машину, усадил на переднее сиденье и… включил транзистор.
Длинные волны были заполнены разговорами на непонятных языках. На средних я тотчас же поймал развлекательную африканскую программу — рассчитанные на местный вкус песенки, которые без устали транслируют ближние радиостанции. В Восточной Африке такая музыка получила название «конгос» — намек на внутриполитическую неразбериху в Конго (Заире) начала 60-х годов. В ней много криков, назойливого перезвона гитар и завываний саксофонов.
Фежи слушал минут пять, потом начал ерзать на сиденье и, взявшись за ликембе, принялся наигрывать собственную мелодию. Я настроил приемник на английские блюзы, потом на французского шансонье. Но всякий раз Фежи принимался заглушать их собственным музицированием.
Мне стало интересно. Я устроил транзистор на коленях у Фежи, переключил на короткие волны и, положив его палец на колесико настройки, показал, как надо обращаться с приемником.
Сначала ему доставляло удовольствие бесцельно вертеть колесико, извлекая из транзистора какофонию рыков и писка. Потом Фежи замедлил темп и, настраивая приемник на музыкальную передачу, стал слушать более внимательно. Современные симфонисты, хабанера Бизе в джазовой обработке, исполненная по-французски песенка из «Человека-амфибии» и «Венгерские танцы» Брамса не привлекли внимания лесного музыканта. А вот псалмы он слушал довольно долго. Когда же они кончились, Фежи вновь принялся за настройку. Остановился он, лишь когда из приемника донеслись звуки хора — стройного, многоголосого. Передавали какую-то ораторию. Она исполнялась минут двадцать, и все это время Фежи сидел не шелохнувшись, широко открыв глаза и крепко прижав к груди сложенные крест-накрест руки. Он не очнулся даже тогда, когда музыка кончилась и заговорил диктор. Передача шла на языке африкаанс. Я понял, что радио Йоханнесбурга транслирует оратории Генделя. Оказывается, мы слушали «Мессию». За ней последовали аккорды из «Иуды Маккавея». Фежи посмотрел на меня, радостно улыбнулся и вновь погрузился в мир звуков.
Что привлекло этого маленького лесного музыканта в ораториях великого немца? Покорила ли его монументальность музыки или, может быть, в генделевском хоре он нашел что-то общее с хорами пигмеев, которые сопровождает разыгрываемые у костра мифы и легенды? Или такова сила подлинного искусства, искусства поистине общечеловеческого?
Когда приезжаешь в деревню к пигмеям на полчаса, чтобы сделать пару мимолетных фотографий, или даже когда незваным гостем проводишь среди них несколько дней, трудно заметить признаки «пигмейской культуры». В глаза бросается бедность, в которой многие, к сожалению, видят «экзотику» бытия этих самых низкорослых людей нашей планеты. Но серьезные исследователи, проведшие в обществе пигмеев не один год, пишут об их неповторимых по своей поэтичности мифах и легендах, о врожденном чувстве ритма и тонком юморе этих лесных жителей. Чем больше этнографических экспедиций посещает последние заповедные уголки пигмейского мира, тем очевиднее становится: в каждом пигмее «живет артист и художник».
И вот теперь уже второй час не шелохнувшись пигмей сидит у меня в машине и слушает Генделя. Причем слушает не потому, что приемник был просто настроен на эту волну, а собственноручно отыскав звуки классической оратории в какофонии звуков в эфире, явно отдав ей предпочтение перед всем прочим…
Глава семнадцатая
Опасности звериной тропы. — Силки и ловушки подстерегают повсюду. — Банту остерегаются углубляться в пигмейские районы совсем не зря. — Первая добыча. — Методы охоты на слона. — В замаскированную яму для крупной дичи может угодить и джип. — Женщины начинают загонять кабанов в сеть. — Узинга получает право угостить соплеменников сердцем своей добычи. — Вот они — хозяева леса!
Из деревни мы вышли, растянувшись длинной цепочкой: впереди Аамили, за ним я, Фежи и женщины. Я пытался отказаться от оружия, которое вручил мне Фежи, ссылаясь на то, что мои руки и плечи и без того увешаны фото- и кинокамерами. Но пигмеи запротестовали. Наверное, мое появление на охотничьей тропе без оружия подрывало не только мой, но и их мужской авторитет в глазах женщин. Фежи вызвался нести часть аппаратов, а мне дал лук, колчан и тяжелое копье, которое почему-то беспрерывно норовило попасть мне между ног.
Женщины — их было больше двадцати — шли на почтительном расстоянии. В охоте разрешается участвовать лишь взрослым женщинам, прошедшим обряд дефлорации[11] и украсившим по этому случаю свое тело татуировкой. Обычно это просто бесцветные полосы на лбу и кресты на щеках и груди. Сегодня же, по случаю охоты, в надрезы была втерта синяя краска. У каждой на плече висела плетеная сумка, в которую по пути женщины собирали ягоды, коренья, насекомых. У двух к спине были привязаны четырех-пятилетние мальчишки. Хоть со спины матери, но они уже приобщаются к великому искусству охоты.
Шли по звериной тропе — об этом говорили и следы, и множество навозных куч. Но вместо того чтобы обойти их стороной, Аамили первым, а за ним и все остальные принялись месить помет. Таков один из способов замести собственные следы, не оставить на тропе своего, человеческого запаха. Зато казавшиеся мне ничем не примечательными места Аамили старательно обходил, сворачивая в лес, а за ним с тропы сходили и все остальные. Вначале я решил, что это случайность, и уверенно пошел прямо, но сильные руки идущего сзади мгновенно оттащили меня в сторону. Фежи недовольно покачал головой и молча указал вверх. На толстой ветви, нависшей метрах в тридцати над тропинкой, было подвешено бревно с копьем. От него вниз спускалась тонкая лиана, ничем не отличавшаяся от других таких же лиан. Она пересекала дорогу и была привязана к дереву, росшему на другой стороне тропы. Стоит задеть за такую лиану, чтобы копье вместе с бревном потеряло равновесие и обрушилось на жертву.
Не всякий раз, когда Аамили сходил с тропы, я мог обнаружить силки и ловушки. Однако по тому, как часто он это делал, можно судить о том, что ходить здесь без провожатого равносильно самоубийству. «Насыщенность» леса смертоносными сооружениями необычайно велика, и в этом, кстати, одна из причин того, что банту боятся леса и редко отваживаются углубляться в пигмейские районы.
Тропа начала спускаться вниз, в долину. Лес сделался светлее, появился подлесок, и вскоре обвешанные мхами исполинские деревья сменились густыми зарослями злаков пеннисетума и андропогона. Иногда из-под ног Аамили вырывались стайки рябых цесарок. Мужчины мгновенно натягивали лук, но всякий раз птицы, беспорядочно хлопая крыльями и кудахча, успевали скрыться в высокой траве. Только однажды стрела настигла жертву. Охотники прошли мимо трепещущей птицы, даже не взглянув на нее. Их дело было сделано. Женщины должны подобрать дичь, на ходу ощипать ее и выпотрошить.
Мы прошли еще с километр, когда Аамили остановился и издал радостный возглас. В яму-ловушку, вырытую прямо на тропе, провалился дикобраз. Несчастное животное насквозь проткнули торчавшие на дне остро заточенные бамбуковые колья. Когда Лугупа спрыгнул в яму, чтобы высвободить тушу, оттуда с недовольным жужжанием вырвался целый рой насекомых. Женщины тут же принялись разделывать добычу, а мужчины, закрыв яму листьями и слегка припорошив их землей, уселись неподалеку и вытащили из колчанов свои длинные трубки. Настоящая охота еще не началась, а мясо уже было. Это хорошее предзнаменование подбодрило пигмеев.
— Ловите ли вы в такие ямы крупных животных — слонов и буйволов? — поинтересовался я у Аамили.
— Когда-то ловили. Но сейчас слоны совсем ушли из этого леса, а буйволы попадаются очень редко. Поэтому, если мы хотим убить большого зверя, мы не ждем, пока он сам провалится в яму, а выслеживаем его в лесу и дожидаемся, когда он уснет. Один из охотников подкрадывается к зверю и всаживает ему в живот копье. Чем глубже ушло копье, тем лучше. Потом охотник убегает, а зверь начинает кричать от боли. Мы больше не трогаем его. Если копье застряло глубоко, животное все равно скоро погибнет и будет найдено по следам крови. А если неглубоко, то к большому зверю подходить нельзя: он может растоптать всю деревню.
Аамили еще несколько раз сходил с тропы, обходя ловушки. Оставалось только дивиться тому, как вчерашняя группа охотников прошла по этому пути ночью и ни разу не задела коварной лианы или не провалилась в яму. Пигмеи довольно добросовестно соблюдают границы своих охотничьих владений. Они не только не заходят на территории, где промышляют соседние племена, но и избегают охотиться в «цивилизованной» полосе — вблизи дорог и селений банту.
На нарушение этого принципа пигмеев иногда провоцируют… те же слоны. Непонятно почему, но эти гиганты, для которых в природе нет никаких препятствий, нагулявшись в чащобах, очень любят выйти на дорогу и, растянувшись цепочкой, всем семейством шествовать вдоль насыпи. Пигмеи отлично знают пристрастие слонов к прогулкам по шоссе и иногда не удерживаются соорудить огромную, искусно замаскированную яму поперек дороги. В колониальные времена в такую слоновую ловушку вблизи Рухенгери угодил вместе с джипом бельгийский офицер. Отделался он ушибами: ехавшие сзади на транспортерах солдаты без особого труда вытащили разгневанного командира. Но на следующий день на «место происшествия» прибыли войска. Не выходя из бронированных машин, они проехались по пигмейским хижинам, потом расстреляли тех, кого не успели раздавить. Так было уничтожено шесть деревень, расположенных вблизи дороги. Сейчас такие происшествия улаживают мирным путем, но полиции вокруг пигмейских районов еще нередко приходится сталкиваться с подобными «специфическими проблемами».
Мы прошли еще часа четыре, миновали болотистый луг и снова углубились в лес. Вдруг Аамили остановился и, сложив руки рупором, издал резкий, напоминающий птичий крик звук. Тотчас же слева, издалека, кто-то отозвался ему точно таким же условным криком. Аамили бросил женщинам несколько отрывистых фраз, и те, сойдя с тропы, свернули вправо. Шли они теперь не цепочкой, а растянувшись по лесу, все дальше отдаляясь одна от другой. Мы же двинулись влево, откуда раздался крик.
Большая часть охотников, проведших ночь в лесу, скрывалась за небольшими кустами, обрамлявшими узкий ручей. Здесь же были два пигмея из тех, которых я подвозил вечером на машине. Остальные, очевидно, дожидались женщин и должны были руководить загоном животных.
Перебросившись с вновь прибывшими парой фраз, охотники сразу же приступили к делу. По обе стороны от ручейка, между стволами, протянули сеть, маскируя ее свисавшими с них лианами. Чтобы не вспугнуть бегущее к ней животное, каждый из пигмеев скрылся за дерево. Старший охотник, пожилой пигмей с длинной узкой бороденкой, вдруг издал гортанный звук, и оттуда, куда ушли женщины, сразу же послышался шум: это они начали загонять животных. Женщины шли на нас, выстроившись дугой так, чтобы охватить как можно больший участок леса и в то же время направить вспугнутых животных прямо в сети.
Я посмотрел на притаившихся за соседними деревьями пигмеев: Фежи и двух молодых парней. Зрачки их были сужены, рот сжат от напряжения, маленькие крепкие руки держали наготове копья. Они стояли неподвижно, как изваяния. Но сколько динамики было в этих наэлектризованных, напружинивших мышцы охотниках, в любой момент готовых броситься на запутавшуюся в сетях жертву — будь то дрожащая от страха безобидная антилопа или страшный в своей смертельной агонии леопард! И как были не похожи эти смелые, деятельные «хозяева леса» на «туристских» пигмеев — жалких, беспомощных, потерявших самих себя людей!
Вдруг затрещали трещотки, и пигмейки закричали: «Юу-юу-юу!» Это было предупреждение о том, что кабан вышел из своего укрытия. Довольный Фежи показал мне два растопыренных пальца. Понял я значение этого жеста лишь тогда, когда увидел пару несшихся прямо на нас бородавочников. Они бежали один за другим — самка за самцом, пригнув и одновременно вытянув морды.
Когда рядом со взрослым бородавочником есть поросята, они бегают забавно подняв свои хвосты: африканцы уверяют, что в густой траве такой торчащий перпендикулярно хвост помогает животным находить друг друга. Но сейчас они бежали с вытянутыми, как бы продолжающими тело хвостами и издали были похожи на игрушечную ракету, пущенную вдоль земли. По мере того как кабаны приближались, я все более отчетливо различал их омерзительные морды с наростами-бородавками и устрашающими, закрученными, словно усы, клыками. Злые глазки излучали бесстрашие и ненависть. Наверное, отвага и этот устрашающий облик и позволяют бородавочникам иногда обращать в бегство своих извечных врагов — леопардов.
Но сейчас судьба животных была предрешена. В последний момент самец, правда, заметил западню и попытался свернуть. Сила инерции, однако, была такова, что он не смог сделать этого и прочно запутался в сети. Самка стукнулась о него мордой и отскочила в сторону. В тот же момент пущенное чьей-то меткой рукой копье пригвоздило ее к земле. Животные были еще в агонии, когда радостные крики мужчин, прыгавших и приплясывающих вокруг залитой кровью земли, известили остальных, что охота окончена.
Особенно радовался молодой Узинга. Он совсем недавно получил право участвовать в «большой охоте», и вот сегодня, да еще на глазах белого гостя, в отрезок сети, который караулил Узинга, попали сразу два кабана. Хотя заслуга его в общей удаче была не больше, чем остальных, все считали, что именно Узинга «поймал двух кабанов». Ему принадлежало право вскрыть жертвы и извлечь теплые, еще подергивающиеся на ладони сердца. Вечером, у костра, их поделят между односельчанами. И все будут считать, что Узинга поделился с ними не только добытым мясом, но и своими мужеством и отвагой.
Пигмеи весело приплясывали, стараясь перекричать один другого, наперебой рассказывали происшествия сегодняшнего дня, спорили и смеялись. Женщины тут же под присмотром Аамили и главного охотника разделали туши и уселись отдохнуть. Кто-то притащил тлевшую головешку и принялся разводить костер. Но на лес вдруг быстро, как и вчера, опустилась предгрозовая темнота; стало ясно, что костру не бывать. Полил ливень, и теперь уже было безразлично: стоять ли под деревом, идти ли в деревню. Воды было полно повсюду.
Пигмеи не спеша покончили со своими делами, взвалили на плечи сеть и мясо и отправились в путь. У деревни дождь неожиданно возобновился с новой силой.
Когда я наконец залез в машину, то понял, насколько наряд пигмеев лучше моего приспособлен к местным условиям. Они быстро обсохли у костра, а я все еще переодевался и снова промокал в лужах, которые образовали на дне машины потоки с моей одежды. Понятие «вымок» здесь не подходит. Я просто пробыл в воде четыре часа.
В деревне было темно, дождь загнал людей в хижины, и я понял, что потерял возможность посмотреть всех ее обитателей в сборе, увидеть танцы, которыми всегда кончается день удачной охоты, и еще раз услышать песни. Деревня притихла, и лишь изредка среди деревьев мелькали маленькие красные огоньки. Это кто-то из пигмеев нес из костра головешку в свою хижину.
Утром надо было уезжать. Пигмеи бежали за мной еще километров пять и, наверное, намеревались сопровождать меня дальше. Но, убедившись, что тропа не угрожает неприятностями, я решил распрощаться. Каждый из пигмеев долго тряс мне руку и, улыбаясь, говорил какие-то бесконечные напутствия.
Дольше всех прощался Фежи. Потом, смущенно улыбаясь, он подошел к машине и постучал по багажнику. Я открыл его, и Фежи указал мне на старую покрышку. Он потрогал покрышку рукой, а затем постучал себя по груди.
Фежи явно хотелось получить ее в подарок. Скорее всего, в деревне банту он видел, как из таких покрышек африканцы вырезают «обувь», и теперь решил пощеголять в ней перед соплеменниками.
Я выполнил просьбу, и Фежи, радостно свистнув, покатил покрышку по тропе. За ним, приплясывая, побежали и другие охотники…
Глава восемнадцатая
Не являются ли бушмены и пигмеи «исключением» из общего правила? — Найроби обескураживает отсутствием африканского начала. — Все ли «большие народы» растеряли свои традиции? — Масаи: первобытность бытия и гордость духа. — Есть и такая «болезнь» — нилотомания. — Средний рост «людей Нила» — 180 сантиметров. — Тяжелая судьба нанди и кипсигис. — «Именно благодаря своим обычаям мы — масаи». — Колониализм создает «закрытые районы». — Даже этнографы не знали, что институт возрастных классов еще жив…
Признаюсь, что когда я поселился в Найроби, то на первых порах был немного обескуражен. Космополитическая и чопорная кенийская столица, в которой было меньше всего африканского, удивила меня. Найробийский центр походил на курорт американского Юга, а его ухоженные европейские пригороды заставляли вспомнить о викторианской Англии.
Я начал искать «настоящую Африку» за пределами столицы. Но первые вылазки в места, не слишком удаленные от асфальтированных шоссе, не удовлетворяли мое любопытство.
Шоссе эти проходили по развитым земледельческим районам, населенным народами банту, по территории так называемых Белых нагорий, недавно бывших центром английской колонизации Кении. Европейцы по достоинству оценили плодородие вулканической земли, издревле обрабатываемой банту, и отобрали ее у местных крестьян, заставив их батрачить за гроши на своих фермах. Все это привело к разрушению традиционных родоплеменных институтов наиболее развитых в социально-экономическом отношении народов банту — кикуйю и миджикенде, камба и меру, балухья и эмбу. Я был удивлен, узнав, что ритуальную маску в Центральной Кении можно увидеть лишь в магазине, где торгуют сувенирами, а танцора в национальном наряде — скорее всего у гостиницы, где «ряженые» развлекают туристов.
Единственно, кто на первых порах удовлетворял мой интерес к образу жизни африканцев, их древней культуре, были масаи. И тут дело совсем не в том, что внешне масаи больше, чем кто-нибудь другой в Восточной Африке, соответствуют стереотипному представлению о «настоящем» африканце. Конечно, экзотический облик масаи — у мужчин перекинутая через плечо красная тога и копье в руке, а у женщин фантастическое количество бисерных ожерелий на шее и металлических браслетов на руках и ногах — делает свое дело. Но главное, что привлекало меня в масаи, — гармонично слитые воедино первобытность их бытия и гордость духа. На память приходили слова, написанные о масаи в конце XIX века А. Булатовичем: «Народ этот поражал первых, открывших его европейцев как своей внешностью, так и достоинством, с которым он себя держал».
Конечно, в тяжелый засушливый год масаи может остановить вашу машину и попросить есть. Но, будь это даже мальчишка, сделает он это так гордо — опершись на копье и презрительно прищурив глаза, что вы забудете, протягивая ему хлеб, кто в ком нуждается. И не вздумайте в оплату за свое деяние попросить у масаи разрешения сфотографировать его. Несмотря на голод, он кинет вам хлеб в лицо и, щегольски сплюнув сквозь зубы, удалится в буш. Иногда, скрываясь в кустах, скажет: «Это собака служит перед человеком, протягивающим ей кусок. Мы же люди, сами имеющие собак».
Один из путешественников как-то писал, что любой иностранец, посетивший Восточную Африку, не может устоять против чар масаи и начинает страдать «масаитом» — влюбленностью в масаев. Я тоже не уберегся от этой «болезни». Однако привлекательные черты, которые так подкупают европейцев в масаи, свойственны отнюдь не только им одним: они присущи целой группе народов, называемых учеными нилотами.
Многие из нилотов живут в засушливых долинах, по берегам безвестных озер или в лесах, растущих по склонам Великих африканских разломов: это туркана, самбуру, итесо, нджемпс, а также племена, объединяемые в группу календжин, — нанди, кипсигис, баринго, покот, черангани, сабаот, туген. Для меня, проведшего значительную часть из шести лет кенийской жизни в засушливых районах, заселенных нилотами, «масаит» стал лишь одним из симптомов куда более серьезной «болезни» — нилотомании. Но я нисколько не жалею, а скорее рад, что заболел ею.
Само название «нилоты» говорит о происхождении этих народов.
Они — «люди Нила». Одни предания гласят, что предки нилотских племен жили некогда в районе нынешней суданской провинции Бахр-эль-Газаль, другие утверждают, что они обитали в стране Миср, то есть в Египте. Во всяком случае, на древних египетских памятниках нередко изображены люди явно нилотского типа.
Ученые считают нилотов представителями негроидной расы. Однако они оговариваются, что среди многочисленных антропологических типов этой расы нилотский тип — самый обособленный и своеобразный. Нилоты — одни из наиболее высоких людей на земле. В Кении, где граница зеленых влажных плато и бесплодных пустынь служит также границей расселения земледельцев-банту и скотоводов-нилотов, индивидуальность нилотского типа бросается в глаза даже непосвященному. Слегка склонные к полноте земледельцы редко бывают выше 165 сантиметров, средний же рост поджарых статных скотоводов — 180 сантиметров.
История любого лишенного письменности народа обычно загадочна, а история нилотов, большинство которых отрезано от более цивилизованных народов труднодоступными пустынями, — загадка вдвойне. Лишь основываясь на богатом фольклоре нилотов, на сказаниях и легендах соседних банту, можно нарисовать схематическую картину их прошлого. Покинув в средние века свою нильскую цитадель, нилоты начали продвигаться с севера на юг, завоевывая территории, ранее заселенные земледельцами-банту. В XVIII–XIX веках огромный ущерб нилотам, их племенному устройству и культуре нанесла работорговля. Красавцы нилоты особенно ценились на рынке «живого товара». В результате численность отдельных племен сократилась в прошлом веке в 3–4 раза. Но были и нилотские народы, которые не только успешно сопротивлялись работорговцам, но и сумели преградить им путь с побережья Индийского океана на запад, избавив от опустошительных набегов торговцев «живым товаром» жителей побережья озера Виктория. Это в первую очередь относится к масаи, нанди и кипсигис. Имея сильную армию копейщиков, они еще до начала эпохи работорговли сделались хозяевами лучших в Африке пастбищ.
Неудивительно поэтому, что позже, во время английской колонизации, среди нилотов эти народы пострадали больше всего. У нанди и кипсигис англичане отобрали огромные площади плодородных земель, конфисковали у них почти весь скот, одновременно ликвидировав институт верховного ритуального лидера — оркайота. Разрушив таким образом традиционную организацию этих племен, лишив их средств к существованию, англичане поставили африканцев перед выбором: или умереть с голоду, или идти работать за гроши на фермы белых. Нечеловечески тяжелые условия жизни в эпоху колониализма сделали свое дело: у нанди и кипсигис, как и у многих банту, растерялись, ушли в прошлое их древние традиции.
Судьба масаи сложилась несколько по-иному, хотя в результате эпидемий холеры и оспы у них уже не было той военной мощи, которой они располагали в начале XIX века. Но они были еще достаточно сильны, чтобы оказать сопротивление экспансии англичан. В период правления лайбона (вождя) Мбатиана отряды масайских воинов неоднократно совершали набеги на фактории и фермы первых поселенцев. Однако после смерти Мбатиана англичане затеяли нечестную игру с его преемником Ленаной, спровоцировав его воинов на конфликт с войсками настроенного против колонизаторов лайбона Легалишу. Ослабив обе стороны, колонизаторы навязали Ленане «договор», в соответствии с которым масаи в обмен на тучные пастбища Центральных плато получили засушливые земли рифтовых долин. Обосновавшись там, масаи внешне остались верны своему образу жизни, своим традициям, которыми они законно гордятся. «Именно благодаря своим обычаям мы — масаи», — говорят они.
Но время делает свое дело. Уже в независимой Кении на моих глазах через земли масаи были проложены лучшие в этой стране дороги. В Масаиленде возникли многочисленные заповедники, привлекающие десятки тысяч туристов, вдоль его границ появились заводы, фабрики, фермы. Все это плюс близость Найроби не могло не оказать влияние на традиционное общество масаи. Они начали очень быстро приобщаться к товарно-денежным отношениям, что породило цепную реакцию: развитие частной собственности — разложение родоплеменных отношений — распад традиционных институтов. В 1967 году, впервые попав в Масаиленд, я еще сталкивался со скотоводами, живущими общиной и ведущими коллективное хозяйство. Но в середине 70-х годов моими собеседниками там все чаще оказывались мелкие собственники. Поездки по Масаиленду давали мне огромный и интересный материал о механизме разложения общины, проникновении в нее капиталистических отношений. Но саму скотоводческую общину в ее первозданном, не затронутом чужеродными влияниями виде в Масаиленде изучать становилось все труднее. Для этого надо было уезжать подальше, и не на юг от Найроби, а на север, в пустыни.
Эти бесплодные районы не интересовали англичан. Там почти не проводили земельных экспроприаций, практически не вербовали батраков на европейские фермы, потому что нилоты кенийского севера, подобно масаи, отказывались быть рабами. В итоге племенная организация этих народов не была разрушена колонизаторами. В какой-то степени англичане даже побаивались этих динамичных и смелых воинов, сохранивших до нашего времени традиции отваги древней Африки.
Вот почему колониальные власти искусственно изолировали нилотов севера от остальной части Кении, отгородили их от современных «опасных» идей и влияний, а заодно наложили вето и на экономическое развитие севера. Свободный въезд на эту территорию, получившую официальное название «закрытых районов», был запрещен.
Единственно, с кем сталкивались нилоты, так это со сборщиками налогов, обдиралами-купцами, колониальными чиновниками и солдатами, отнимавшими у них скот. Это породило у нилотов враждебность ко всем пришельцам, стремление изолироваться в труднодоступных пустынях от чуждого мира, строго сохранять традиционные, давно ставшие архаичными обычаи и порядки, которые долгое время не подвергались здесь влиянию извне.
В Центральной Кении и Масаиленде разрушались традиционные институты нилотов, уходили в прошлое окружавшие их ритуалы и церемонии. И ученые, наблюдая эти сложные и мучительные для африканского обществе процессы, сделали вывод, что такова судьба всех нилотских народов. В работе «Народы Африки», изданной Академией наук СССР еще в 1956 году, я прочитал: «Древний институт возрастных классов еще не так давно существовал и среди нилотов. Над юношей в возрасте 13–16 лет совершалась особая церемония, знаменующая переход подростка в группу мужчин…»
Но, попав в район бассейна озера Рудольф, я убедился, что древний институт возрастных классов среди многих нилотских народов жив и сегодня и что применительно к племенам кенийского севера эту цитату можно привести в настоящем времени. Практически вся социальная и экономическая жизнь нилотов кенийских пустынь до сих пор зиждется на системе возрастных классов. Но сколь сильной должна быть изолированность этих народов, оторванность их от всего мира, если даже этнографы не знают деталей их быта!
Глава девятнадцатая
Снова на труднодоступном озере Рудольф. — Гигантский водоем ждет своих исследователей. — Сирата сабук дует со скоростью 150 километров в час. — Соленая пустыня Чалби. — Без скота жизнь людей здесь невозможна. — История самбуру и туркана — это бесконечные битвы за стада, пастбища и водопои. — Племенное устройство, подчиненное нуждам военного кочевого быта. — Мораны — рядовые армии копейщиков. — Тщетные попытки властей поставить под контроль военную организацию нилотов
За заливом Аллиа нагромождения туфов и изъеденные вековой эрозией холмы оттеснили тропу, идущую на юг, далеко от озера, в глубь вулканических полей. Ни селений, ни кочевников здесь нет, зато невесть чем питающееся зверье, особенно жирафов и пугливых ориксов, мы встречали очень часто. По утрам из-за гор на запад, в направлении озера, тропу перебегали десятки страусов. Завидев нашу машину, пугливые птицы бросались наутек, однако, выбирая наиболее удобный путь для бегства, они предпочитали именно дорогу. Птицы подолгу бежали перед машиной, не желая свернуть с тропы, а мы волей-неволей превращались в их преследователей.
Когда тропа поднималась на вершины холмов, с высоты всякий раз открывалось сказочное зрелище. Справа, за хаотическими нагромождениями туфов, темно-фиолетовых в лучах полуденного солнца, ослепительными бликами искрилось огромное озеро. При малейшем дуновении ветерка его беспредельную гладь покрывала мелкая рябь, и тогда каждая волна, каждая рябинка на воде, поймав солнечный луч, пускала веселые зайчики на черные скалы, нависшие над озером. Если по голубому небу бежали тучи, отбрасывая тень на воду, то ее окраска менялась, переливалась всеми оттенками — от бирюзово-синего до желто-зеленого. Но когда наступал штиль, а небо очищалось, озеро успокаивалось, и его гладь, сливающаяся на горизонте с голубым небом, принимала цвет нефрита. Гигантская полированная пластина нефрита в оправе черных лав. Нефритовое море…
Никто до сих пор толком не может объяснить причины удивительного цвета воды в озере Рудольф, потому что еще никто никогда серьезно не исследовал этот гигантский труднодоступный водоем, занимающий площадь 8500 квадратных километров и вытянувшийся с севера на юг на 220 километров. Ученые лишь предполагают, что его нефритовая окраска связана с высокой концентрацией солей уникального химического состава. Из-за них вода озера уже непригодна для орошения, да и для питья ее можно употреблять лишь за неимением здесь ничего лучшего.
Но местных жителей не удивляет дивный цвет нефрита, которым переливается обласканный солнцем водоем среди пустыни. Они называют озеро Бассо-Нарок — «черная вода», потому что под вечер, когда солнце уходит за цепи лиловых вулканов, воды озера, отражая их, делаются черными. Потом сумерки сгущаются, черная вода сливается с черными берегами. И если смотреть на озеро сверху, с вершин гор, на которых самбуру и туркана пасут свои стада, то Бассо-Нарок кажется огромным черным провалом посреди земли. Светится лишь центр этой дыры, гористый островок Напет: вершины его скал перехватывают последние лучи уже скрывшегося светила. Этот островок у туркана считается священным. На нем живет один из подручных их верховного божества Нк-хайи, которого называют Акудж — «Сила». По утрам, просыпаясь, Акудж начинает дышать. Так поднимается ветер — сирата сабук, который прогоняет ночь и вновь делает озеро светлым и теплым.
Этот ветер действительно с поразительной пунктуальностью почти каждое утро десять месяцев в году поднимает вой в горах, сгоняет ночевавшие на них облака и расчищает небо. Просвистев в лощинах, он обрушивается на озеро, вызывает страшные шквалы и, как мне всегда казалось, пытается разрушить горы, стиснувшие озеро. Люди здесь никогда не отправляются с утра в плавание. Наученные горьким опытом крокодилы еще с ночи уплывают подальше от берега куда-то на острова и возвращаются обратно для приема солнечных ванн лишь тогда, когда ветер совсем стихает. Скорость сирата сабук может достигать полутораста километров в час!
Только к концу третьего дня нашего путешествия, когда за горизонтом исчезло озеро, пропали горы, поредели и помельчали глыбы туфов и машина понеслась по гладкой соленой корке пустыни Чалби, вновь появились признаки присутствия людей. Начали попадаться покрытые шкурами шатры, несколько раз полуобнаженные мужчины с копьями наперевес, подойдя к обочине дороги, жестом просили остановиться. Когда мы притормаживали, они смущенно улыбались и бормотали лишь одно слово: «Маджи, маджи, маджи» (вода, вода, вода).
Всю свою историю люди ведут здесь битвы с соседями за скот, без которого невозможна жизнь в этих суровых пустынях, за лучшие пастбища и водопои. В соответствии с требованиями военного кочевого быта практика подсказала нилотам их племенное устройство. Устройство четкое, стройное, слаженно работающее.
Вся мужская часть племени делится на четыре возрастные группы. В семь-восемь лет, когда наши дети отправляются в школу, нилотские мальчишки тоже занимают свое определенное место в обществе. Они делаются олайони — пастухами и целый день от зари до зари присматривают за скотом, гоняя его по кишащим зверьем пастбищам. Уже в семь лет им выдают лук со стрелами, а у некоторых племен — и копье.
Лет в пятнадцать — шестнадцать пастухи проходят церемонию инициации, завершающуюся обрезанием. С этих пор они пользуются статусом, который обычно обозначается масайским словом «моран», синонимы которого со всех нилотских и кушитских языков переводятся как «воин». Именно мораны ведут войны с соседями, отбивают у них стада и захватывают еще невытоптанные пастбища. Отряды вооруженных копьями моранов — это армия кочевников, а сами мораны — олицетворение их вольности и удали. Все свободное время в перерывах между редкими теперь вооруженными стычками бродят мораны группами от селения к селению, делая что им заблагорассудится. И никто не может отказать им в калабаше холодного молока, крыше над головой. У некоторых племен бывают мораны младшие (от пятнадцати до двадцати пяти лет) и старшие (от двадцати пяти до тридцати, реже до сорока лет). Среди них существует четкая субординация, которой соответствуют специальные знаки отличия, украшения, головные уборы.
Только «пройдя службу», обычно годам к тридцати, мораны могут сделаться «младшими старейшинами», имеющими возможность обзавестись домом, женой, детьми. Все младшие старейшины являются членами «родового парламента» — ол-Киамаа, который вырабатывает политику в отношении использования пастбищ и водопоев, вершит суд при распределении наследства, разводах, обсуждает проступки членов племени. Однако в вопросах «внешней политики» — взаимоотношений с соседними племенами — ол-Киамаа подчиняется совету «старших старейшин» (мужчины от сорока до пятидесяти пяти лет), которые выполняют функции своеобразных контролеров «парламента» и приводят его решения в соответствие с племенными традициями и нормами. Из числа лидеров возрастной группы старших старейшин обычно выходят ритуальные и военные вожди нилотов. Именно они планируют военные операции моранов. Наконец, мужчины после 65 лет считаются старцами — «старейшинами в отставке». Поскольку всем ясно, что дни их сочтены, на этих людей возлагается самая нелегкая задача: «отвечать перед богом» за всех своих соплеменников. «Они уже одной ногой стоят на том свете и поэтому ближе всего находятся к верховному божеству Энк-Аи», — говорят самбуру.
Приспособить динамичную военную организацию кочевников к оседлому образу жизни трудно. Против этого в первую очередь выступают пользующиеся огромным авторитетом военные и ритуальные лидеры, которые не видят своего места в обществе мирных поселенцев. Не хотят расставаться со своей вольницей, полной романтики, приключений, и мораны. Правительство еще не может активно вмешиваться в дела племен недоступного озера Рудольф. Но у живущих вблизи столицы масаев власти еще в 1973 году запретили институт моранов, надеясь тем самым прекратить их вооруженные рейды за скотом соседей и заставить молодых воинов заниматься производительным трудом. Этому решению предшествовала шумная кампания. Члены кенийского правительства, парламентарии и видные общественные деятели ездили по Масаиленду, организовывали собрания моранов: уговаривали их отказаться от прошлого.
Вместе с парламентариями ездил тогда и я. Сидя на траве, раскрашенные юноши снисходительно слушали столичных гостей, поигрывая своими копьями. Но когда, закончив речь, обливающийся потом оратор спрашивал моранов о главном: «Будете жить оседло, мирно, не делая набегов на соседей?» — мораны дружно кричали: «Нет, нет, нет!» — «Будете обрабатывать землю и строить дороги?» — взывал парламентарий. «Ни за что!» — с хохотом отвечали красные юноши. «Что же вы будете делать?» — вопрошал в микрофон оратор. «Оставаться моранами!!!» — дружно скандировали они и поднимали в воздух свои копья, делая вид, будто сейчас запустят их в говорящего.
Когда собрание кончилось, отряды моранов направились в соседнюю деревню земледельцев и отбили у них три сотни коров…
Глава двадцатая
Знахарь Лангичоре становится нашим проводником. — Загадочные рисунки на склонах Кулал — «месте встречи старейшин». — Разве можно ослушаться моранов? — Их пища — молоко, смешанное пополам со свежей кровью. — Маньятта — военный лагерь искателей приключений. — Дабы доказать свою храбрость, надо один на один победить льва. — Свободная любовь, освященная племенными законами. — Я прознал: церемония посвящения состоится в священных горах Олдоиньо-Ленкийо
Когда я попросил порекомендовать мне хорошего проводника по землям самбуру, мне назвали имя Лангичоре. Это был подвижный старец, поджарый и морщинистый. Вскоре я проникся к нему большим уважением, поскольку убедился, что Лангичоре знает в округе каждый камень. Старик принадлежал к племени ндороба, живущему несколько южнее. Но это не мешало ему пользоваться среди самбуру необыкновенным авторитетом.
Питер, мой шофер, наслушавшись, о чем говорит Лангичоре со встречавшимися нам в пути самбуру, объяснил мне тому причину. Старец был влиятельным в этих местах мганга — знахарем, вызывателем дождя и «посредником» при общении с духами. Когда я как-то спросил старика о его «профессии», он и сам не отрицал, что занимается врачеванием и «потусторонними» делами.
Почти каждое утро, как только стихал ветер сирата сабук, мы покидали Лоиенгалани и принимались колесить по вулканическим полям.
Вблизи гор Кулал, единственного лесного оазиса этих мест, часто попадались одиночные скалы. Лангичоре посоветовал мне залезть на одну из них. Оказавшись наверху, я был поражен увиденным. Вершина скалы и крупные камни, рассыпанные вокруг, были покрыты какими-то непонятными значками: рядами кружков, стрелками, расходящимися в разные стороны линиями. Я залез на другую скалу: там были такие же геометрические рисунки, а рядом — что-то вроде изображений людей и животных. Рядом валялась галька розового кварца. Она явно была занесена сюда древними художниками, поскольку нигде больше вокруг такой гальки не было.
За два дня я облазил четырнадцать скал и на восьми из них обнаружил непонятные значки. Такие же рисунки украшали скалу Порр, возвышающуюся среди вод Бассо-Нарок. Полная изоляция этой скалы от внешнего мира и великолепная панорама, открывающаяся с вершины, по-видимому, послужили поводом для ее обожествления.
Но рисунки? Принадлежат ли они местным племенам или были нанесены еще до того, как те здесь поселились, и относятся к тому времени, когда мимо озера Рудольф катились волны номадов? Может быть, они ключ к пониманию ранней истории Африки? Почти все значки на обследованных мной скалах были нанесены так, что рисовавший их художник обязательно должен был смотреть на север, туда, откуда пришла большая часть заселивших Кению нилотских племен.
Мегалиты на северном берегу озера Рудольф, камни со значками — на южном… Свидетельства далекого прошлого бросаются здесь в глаза даже непрофессионалу. Но ни одна археологическая экспедиция еще не побывала в этом районе. А ученым надо спешить. То, что сохранялось тысячелетиями в условиях первобытного мира, в нашу эпоху исчезнет за несколько лет с появлением дорог, строителей и туристов.
Даже всезнающий Лангичоре не мог объяснить происхождение таинственных знаков. Видя мое изумление, он лишь довольно улыбался и без устали повторял: «Замани сана, замани сана» (очень старые). Единственное, что я мог выведать у него, — так это происхождение названия гор Кулал. С языка маа название этого вулкана переводится как «место встречи старейшин». Именно здесь в былые времена «заседали» лидеры нилотов, принимая решения о войнах и переселениях. Быть может, разрисованные скалы — это места, где собирались старейшины. А может быть, значки и галька имели какое-нибудь символическое значение, «помогали» лидерам принимать решения?
Ныне единственные обитатели гор Кулал — скотоводы-самбуру. Их наименее затронутые современной цивилизацией кланы облюбовали себе горные долины, склоны которых поросли густыми мшистыми лесами. Венчающие гряды гор острые голые скалы нависают над извилистыми тропами, по которым самбуру гоняют свои стада с жарких равнин к вершинам. Присматривающие за стадами мальчишки-олайони в горах предпочитают ходить нагишом и лишь зябким утром набрасывают на себя черную накидку.
Иногда навстречу нашей машине попадались группы юношей в ярких красных тогах с копьями наперевес. Это и были мораны. Нисколько не опасаясь попасть под колеса, они преграждали нам дорогу и властным жестом приказывали остановиться. При первой такой встрече Питер, возмущенный подобным отношением к уважаемому повсюду в Африке автомобилю, попытался не подчиниться их воле. Воины презрительно сплюнули в нашу сторону, пропустив машину. Но, как только мы проехали мимо, копья полетели в наши покрышки.
— Ай-ай, — зачмокал Лангичоре. — Разве можно ослушаться моранов? Они только и норовят впутаться в какую-нибудь драку. Ай-ай… Кто же рвется в драку с моранами?
Старик высунулся из машины, прокричав несколько отрывистых фраз. Очевидно, парни узнали Лангичоре и начали сконфуженно объясняться с ним.
— Можете выходить из машины, — бросил Лангичоре, — со мной они вас не тронут. Но впредь, завидев парней в красных тогах и с сотней косичек на головах, останавливайтесь и старайтесь не ссориться с ними. С моранами шутки плохи.
— Что они могут сделать, если мы в машине? — запальчиво возразил Питер. — У них всего лишь четыре копья, которые даже не смогли проколоть нашу резину.
— Но когда бы мы поехали обратно, мораны собрали бы пару сотен своих сверстников где-нибудь в узком месте среди гор и забросали нас камнями и копьями. Одно из двухсот копий обязательно повредит колесо, а один из двухсот камней разобьет стекло. И тогда уже мораны будут хозяевами положения.
Бродя вдоль троп, мораны искали приключений, чтобы доказать старшим свою воинственность, а девушкам — мужество. Поскольку юноши, не имеющие определенного постоянного занятия, проводят большую часть времени в подобных скитаниях и потому повсюду попадаются на глаза, нередко создается впечатление, что у самбуру только и есть, что воины в красных одеждах. Занимающихся же хозяйством женщин или проводящих все время за разговорами старейшин самбуру не так-то легко увидеть.
Моранам нельзя заниматься физической работой, не связанной с военными упражнениями, или, тем более, помогать по дому женщинам. Даже пища у них особая — молоко, смешанное пополам с кровью домашних животных, или слегка поджаренное мясо. Брать в рот растительную пищу или хмельные напитки им запрещено.
Мораны не живут в родовых стойбищах, а строят себе отдельные коллективные жилища, своеобразные военные лагеря — маньятты. Этот термин произошел от масайского названия одной из разновидностей акации — маньяры, из колючих веток которой мораны делают изгородь вокруг своих лагерей. В отличие от маньятт традиционные поселения нилотов, где в кизяковых эллипсоидной формы хижинах живут старейшины, женщины и дети, называются «енканга».
Посторонних в своих маньяттах мораны не жалуют. Это их цитадель, где они могут делать все, что им вздумается. Лишь по ночам в эти затерявшиеся среди гор или буша военные лагеря к моранам приходят их возлюбленные. Моран не может жениться, но свободная любовь освящена у нилотов племенными законами. Ритуальные лидеры самбуру — старцы ойибуны и их жены йиэйэ-ойибуны — иногда тоже добираются до маньятт, чтобы рассказать молодежи о законах, по которым живет их племя.
Определенные стадии полового и духовного воспитания моранов окружены магией, связаны с ритуальными плясками и заклинаниями. Мерилом храбрости морана, доказывающим его способность стать в будущем настоящим мужчиной, сумеющим защитить стадо, женщин и детей, является поединок со львом, когда вооруженный лишь копьем и легким щитом юноша один на один вступает в схватку со зверем и побеждает его.
Обычай этот родился давно, в наши дни он соблюдается все реже и реже. Сейчас львов осталось слишком мало, чтобы удовлетворить честолюбие моранов; к тому же правительство Кении запретило убивать львов. Но здесь, в недоступных горах Кулал, где нет полиции и еще сохранились львы, такие поединки до сих пор не редкость. Когти львов, надетые в виде ожерелья на выкрашенные красной краской шеи красавцев юношей, и сегодня должны говорить о храбрости самбуру. Те, кому не удается заполучить льва, украшают себя ожерельями из покупного бисера и перламутровых пуговиц.
Когда наступает засуха и пастбища по склонам Кулал выгорают, самбуру покидают горы и, повесив на шеи своих коров звонкие колокольчики, гонят скот вниз, к озеру. Колокольчики вытачивают из лосиоло — только здесь растущей разновидности мимозы. Если когда-нибудь о ней узнают музыкальных дел мастера, из лосиоло начнут резать скрипки. Дерево поет на разные голоса, оглашая и мрачный лес, и темные долины чистым, певучим перезвоном.
Спустившись к озеру, пастухи снимают с коров колокольчики. Огромный резервуар воды, спасающий в этих краях все живое от смерти, считается у самбуру священным, и поэтому грешно ходить по его берегам, оглашая девственную тишину природы посторонними звуками. Днем самбуру пасут свои стада прямо в воде, где коровы выискивают осоку и ряску. Но к вечеру, перед закатом солнца, они гонят скот подальше от берега, на черные вулканические равнины. «Озеро должно отдохнуть», — объяснил мне Лангичоре.
Днем за скотом присматривают мальчишки-олайони, но по вечерам откуда-то из-за нагромождений туфов, где прячется маньятта, появляются мораны и берут охрану коров, верблюдов и коз на себя. Рейды за скотом совершаются обычно по ночам, и поэтому с наступлением темноты животные находятся под защитой копья.
Лангичоре ввел меня в общество моранов, и вскоре они привыкли к тому, что с восходом луны я появлялся у костра и вместе с ними проводил бессонную ночь.
В ночи, когда полная луна выходит из-за священных скал Кулал, мораны устраивают у костров танцы-состязания. Войдя в транс, они часами, пока солнце не прогонит луну, подпрыгивают на одном месте у костра, соревнуясь в выносливости и, как объясняют ойибуны, «вытряхивая из себя дух детства». Аккомпанементом к этим пляскам служит отрывистое уханье, издаваемое самими юношами. В узких ущельях многоголосое эхо подхватывает эти звуки, и самбуру верят, что это их боги подбадривают молодежь, призывая моранов быть смелыми и выносливыми.
Подозреваю, что терпели они меня на первых порах лишь потому, что я, не скупясь, снабжал их куревом, а еще за то, что в машине у меня был радиоприемник. Парни были в восторге, что могут прыгать не под монотонное пение своих подруг, а под аккомпанемент джаза. Нередко ко мне присоединялся Лангичоре, и его рассказы у костра пробуждали во мне все больший и больший интерес к моранам, их нравам и обычаям.
Как-то среди ночи из темноты появились два величественных старца в желтых одеяниях. Они властным голосом приказали моранам прекратить прыгать, а затем, усевшись у огня, начали что-то обсуждать с Лангичоре. По тому, как прислушивались к беседе мораны, можно было понять, что речь идет о чем-то важном, а пришедшие старцы — персоны незаурядные.
— Что это за люди? — спросил я у Питера.
— Это ойибуны, религиозные лидеры самбуру, — ответил он. — Они договариваются о проведении важного праздника — церемонии эмурата татенье — посвящения мальчиков в мораны. Они просят Лангичоре принять в ней участие и условливаются о дате.
— А где будет проводиться эмурата татенье? — насторожился я.
— Они называют какое-то место со странным названием: Олдоиньо-Ленкийо.
И тут я подпрыгнул как ужаленный. На языке маа это название означает «горы ребенка». Они находятся к юго-востоку от озера Туркана и слывут священными среди масаи, самбуру, ндоробо и рендилле. Именно здесь, как гласят масайские легенды, верховный бог Энкаи (Нгаи) впервые явился мальчику-пастуху и поведал, «как быть мужчиной». Именно здесь, в «Горах ребенка», этот безвестный пастушок, первопредок всех масаи и самбуру, оставил свой «детский дух», был обрезан самим Энкаи и стал первым мораном.
Раз в восемь — десять лет со всех концов жарких солнечных равнин собираются в прохладные сумрачные горные ущелья кандидаты в мораны, чтобы принять посвящение. Знатоки говорят, что нигде церемония посвящения в воины не проходит так пышно и торжественно, нигде старейшины так скрупулезно не следуют традиции, как в Олдоиньо-Ленкийо.
Примерно два года шли разговоры о том, что церемония вот-вот состоится, и все два года я старался не упустить этого дня. «Слежка» была трудным делом, потому что власти в Найроби обычно стараются не вмешиваться в ритуальную жизнь нилотских племен и имеют весьма слабое представление о такого рода событиях в их жизни. Что же касается старейшин и религиозных лидеров самбуру, то они очень неохотно открывают свои тайны и еще неохотнее разрешают присутствовать на своих церемониях белым людям. К тому же старейшины и сами не всегда точно знают, когда начнется церемония, проведение которой зависит от положения луны на небе, количества безоблачных ночей, предшествовавших новой фазе луны, и от степени созревания семян какой-то травы, необходимых для приготовления кровоостанавливающего раствора. Четыре раза я окольными путями узнавал, что церемония состоится, и четыре раза то облака, то семена вынуждали старейшин отложить ее. А тут вдруг по чистой случайности переговоры о проведении эмурата татенье проходят на моих глазах, и не кто-нибудь, а мой знакомец Лангичоре играет в ней не последнюю роль.
Я знал, что по старой традиции именно знахари-ндоробо, а не старейшины масаев и самбуру проводят саму операцию обрезания. Этот обычай «приглашения хирурга» из чужого племени, очевидно, связан с тем, что в антисанитарных условиях, в которых делается операция, среди подвергнувшихся ей юношей нередки смертельные случаи. Поэтому ойибуны и старейшины, чтобы не подрывать свой собственный авторитет среди соплеменников и не иметь неприятностей, избегают брать ножи в руки и предпочитают поручать операцию мганге из чужого племени, а заодно и перевалить на него все возможные последствия. Аборигены этих мест, ндоробо, сразу же после появления нилотов в Кении сделались их «наемными хирургами», Лангичоре был одним из них.
Когда ойибуны ушли, я стал расспрашивать старика о том, когда будет проводиться эмурата татенье, но он утверждал, что ничего не знает об этом событии. Однако, поняв, что мы с Питером уже многое разузнали сами, он сдался. Тем не менее вести меня на церемонию посвящения в мораны Лангичоре категорически отказался. Разумом я сознавал, что старик прав: будучи ндоробо, он не мог приглашать посторонних на ритуальную церемонию самбуру. Ему не хотелось обострять отношения с моранами — вспыльчивыми, гордыми, кичащимися своей независимостью и зачастую во многих вопросах не подчиняющимися даже своим ойибунам.
И тем не менее я твердо решил во что бы то ни стало посмотреть церемонию, которая бывает всего лишь раз в восемь — десять лет. Было хорошо известно, что в Найроби уже давно подумывают о том, как бы вообще положить конец лихорадящим все нилотские районы рейдам моранов за скотом и приобщить тысячи этих воинственных, но в, сущности, праздно живущих красавцев к производительному труду. «Быть может, предстоящая эмурата татенье в горах Олдоиньо-Ленкийо — последняя в истории церемония посвящения в мораны», — подумал я.
Глава двадцать первая
Как же попасть на эмурата татенье? — Мне на помощь приходят даманы. — Старый Лангичоре впервые смотрит в бинокль. — Величайшая редкость — белая жирафа. — Старейшины проникаются уважением к «зорким трубам». — Альтернатива отказу вамзее: «Если меня не допустят на церемонию посвящения, я увижу все с помощью «зорких труб»
Однажды я попросил Лангичоре пойти со мной к скалам, где я надеялся сфотографировать горных даманов. Это очень своеобразные, величиной с кролика животные, однако зоологи считают, что по своему анатомическому строению даманы ближе всего стоят к… слонам. По вечерам и в лунные ночи, выходя на кормежку, даманы забирались на самые вершины скал или на торчащие из расщелин деревья и устраивали там фантастические концерты. Сила голоса у дамана отнюдь не пропорциональна его небольшим размерам. Их резкий протяжный крик, напоминающий воронье карканье, вдруг резко переходит в фальцет и заканчивается визгливым хохотом. Эхо в узких ущельях подхватывало голоса этих зверьков, и казалось, что сами горы, скалы, каждый их камень поют на разные лады.
Днем же даманы дремлют, греясь на солнце. Однако они совсем не такая уж легкая добыча для фотографа, обвешанного телеобъективами. Мы шли медленно, тихо, часто останавливались, и тем не менее даманы всякий раз обнаруживали нас и не желали подпускать ближе чем на сто метров. Стоило кому-нибудь из зверьков приоткрыть глаза и заметить людей, как раздавался пронзительный визг и вся колония разбегалась кто куда. Природа снабдила подошвы даманов особыми железами, выделяющими клейкий секрет. Это липкое вещество позволяет даманам бегать по вертикальным склонам скал и стволам деревьев. Испуганный даман не задумываясь бежит в любом, самом неожиданном направлении, повсюду находя себе укрытие.
Вскоре мы распугали всех даманов вокруг скал, не сделав ни одного толкового снимка.
— Где еще живут даманы? — спросил я Лангичоре.
— Вон под тем утесом, — показал мне старик. — Но попасть туда можно лишь перебравшись через теснину.
Чтобы не ходить зря, я достал сильный бинокль и осмотрел утес. Но ничего живого там не было видно.
— Нет там даманов, — сказал я Лангичоре.
— Кто знает, есть или нет, — спокойно ответил он. — Мои глаза еще никогда не подводили, но даже они не могут разглядеть маленьких зверьков на таком расстоянии. Я хоть и не много понимаю во всех твоих трубах, но знаю: нет трубы зорче, чем глаза хорошего охотника.
Я снова посмотрел в бинокль и снова убедился, что ни на утесе, ни под ним никого нет.
— Нет там даманов, — уверенно повторил я.
— Кто знает, — обиженно ответил старик. — А если нет, зачем же ты снимаешь голые камни?
Старик, оказывается, не понимал, в чем разница между биноклем и фотоаппаратом.
Я вновь посмотрел в бинокль на утес, потом скользнул взглядом вниз, на равнину. Далеко-далеко среди зонтиков зеленых акаций грациозно шествовало стадо жирафов, и среди них я заметил величайшую редкость — жирафу-альбиноса!
— Видел ли ты когда-нибудь белую жирафу, мзее Лангичоре?
— Видел два раза.
— А хочешь посмотреть третий?
— А почему не посмотреть? Но где найдешь ее?
— Я уже нашел белую жирафу. Она пасется сейчас у источника Галлан.
— Ты знаешь, какая дичь пасется сейчас вокруг источника Галлан? — иронически промолвил старик.
— Конечно знаю, — сказал я и навел бинокль на вытоптанную животными площадку у источника. — Шесть ориксов, с десяток зебр стоят неподалеку от водопоя. Здесь же бегают друг за другом восемь страусов. А вот к воде направляется грациозная карликовая антилопа с тремя детенышами…
— С тремя детенышами, — передразнил меня Лангичоре. — А сколько клещей впилось в спину каждого из них? — издевательским тоном спросил он.
— Клещей могут заметить лишь зоркие глаза охотника. Моя труба видит лишь трех маленьких дик-диков. И ты, если хочешь, можешь посмотреть на них.
Не меньше получаса ушло у меня на то, чтобы отфокусировать сильнейший бинокль по глазам не умеющего смотреть в него старика и затем поймать в него кусочек оазиса. Сначала в поле зрения Лангичоре попали зонтики акаций и жирафы. Затем антилопа дик-дик с детенышами и страусы. Старик щелкал языком, восхищенно вскрикивал и даже приплясывал. После каждого па, однако, он терял из виду оазис и злился. Потом Лангичоре начал осматривать окрестные равнины, считать зебр и прикидывать, как далеко, «ох, ох, как далеко-далеко» они от нас находились. Долго не хотел старик расставаться с биноклем. Потом как-то сразу сник, расстроился и заторопился домой. Очевидно, он вспомнил наш разговор и понял, что, споря со мной о возможностях моей «трубы» и своих глаз, выглядел не совсем хорошо.
Ближе к вечеру к Лангичоре вновь пожаловали в гости два величественных старца в желтых тогах. Они начали обсуждать какие-то дела, очевидно связанные с предстоящей церемонией. Потом Лангичоре пришел ко мне и попросил показать бинокль старейшинам. Никаких далеких перспектив с плоского берега озера не было видно, и поэтому я решил поразить высокопоставленных самбуру созерцанием в бинокль… мух. Я навел бинокль на связку рыбы, сушившейся у самой дальней хижины, отрегулировал фокус и дал «трубу» в руки одному из старейшин. Тот сидел как зачарованный, потом начал хохотать и рассказывать, что делают облепившие рыбу мухи, которых без трубы «совсем-совсем не видно». Потом хохотал и чмокал языком другой старейшина.
И тут мне в голову пришла блестящая идея.
— Мзее Лангичоре, ты говорил уважаемым старейшинам, что я прошу разрешения присутствовать на церемонии в Олдоиньо-Ленкийо?
— Да, говорил, но старики и слышать об этом не хотят.
— А почему же?
— Они говорят, что никто из посторонних не должен видеть, как дети самбуру становятся моранами, и тем более брать себе их изображения.
— Но ведь вамзее[12] могли уже убедиться в том, что у меня есть трубы, которые и без того позволят видеть мне все, что происходит в Олдоиньо-Ленкийо, и «забрать с собой» изображения моранов. Ведь моран не муха. К тому же у меня есть еще более сильные трубы, — и я кивнул в сторону огромного телеобъектива, — которые помогут мне увидеть эмурата татенье.
Пока Лангичоре, путаясь от волнения, переводил мои слова, а старейшины по мере перевода что-то оживленно обсуждали, я судорожно разрабатывал дальнейшую стратегию.
— Я прошу вашего разрешения присутствовать в Олдоиньо-Ленкийо не потому, что боюсь не увидеть, что там будет происходить. Я все равно все увижу, — перебил я наконец стариков. — Дело в том, что мне просто удобнее сидеть рядом с вами и смотреть на вас своими глазами, чем, пристроившись, подобно даману на скале, наблюдать за вами в эти трубы. К тому же я хотел подарить отцам новых моранов два ящика пива. Но если они не оказывают мне гостеприимства, разве могу я делать им подарки? — спокойно произнес я и скрылся в бунгало.
Больше часа говорили старики. По тону их разговора я чувствовал, что Лангичоре определенно занимает мою сторону: он отлично понимал, что я хорошо отблагодарю его за помощь. Старейшины, которые по традиции должны были угощать отцов новоиспеченных моранов пивом из своих собственных запасов, также были заинтересованы в моем подарке. Однако опасение, что мораны будут недовольны моим появлением на церемонии, явно останавливало их сказать «да».
Наконец спор стих, и величественная фигура в желтой тоге выросла у входа в мое бунгало.
— Мы решили, что глупо запрещать идти к нам человеку, имеющему такие зоркие трубы. Все равно ты сможешь увидеть, что делается в Олдоиньо-Ленкийо, и без нашего разрешения. Поэтому мы не против, чтобы ты был среди нас в день праздника. Но наше решение — это еще не голос моранов. Если они скажут «нет», тебе придется уйти.
— Но можете ли вы заверить меня, что если мораны не захотят видеть меня, то они сначала скажут «нет», а потом уже поднимут копья? — спросил я.
— Мораны сначала скажут «нет», — уверенно ответил старец. — Только тогда уж не задерживайся.
Старики скрылись в темноте, и почти тут же даманы начали свой ночной концерт. И тогда мне вдруг пришла в голову мысль, что, не будь даманов, мне, быть может, и не удалось бы посмотреть, как нилотские парни делаются моранами.
Глава двадцать вторая
На ослах к вершине Олдоиньо-Ленкийо. — Мораны сказали «да». — Мзее Лангидо посвящает меня в таинства организации моранов. — Энгибата — сезон вербовки. — Эмболосет — праздник начала периода посвящения. — Мораны «подлинные» и «фиктивные». — Эндунгорре — день проклятия ножа. — Почему женщины радуются поражению своих возлюбленных? — Эното: младшие мораны делаются старшими моранами, а старшие мораны — младшими старейшинами. — «Так что не так-то все просто у самбуру»
Через несколько дней, навьючив багаж на ослов, мы отправились с Лангичоре по едва заметной тропе к плоской вершине Олдоиньо-Ленкийо. К концу следующего дня мы были уже там.
Полторы сотни моранов, уже успевших разрисовать свои тела, встретили нас громкими криками, в которых, правда, я не различил ни вражды, ни дружелюбия. От старейшин, очевидно, они уже знали, что мне разрешено подняться на священные горы из-за «зорких труб», и тотчас же начали изучать бинокль. Я терпеливо объяснял, как им пользоваться, с удовлетворением отмечая, что мораны проникаются все большим уважением к оптике. Они пришли в особый восторг, когда увидели километрах в восьми на равнине группу из пяти своих сверстников, спешивших, очевидно, на церемонию в горы. «Труба видит не только зверей, но и людей», — говорили парни, передавая бинокль друг другу.
Когда все насмотрелись в бинокль, предводитель моранов — юноша в огромном венке из страусовых перьев — подал всем сигнал замолчать и обратился ко мне:
— А если мы скажем тебе «нет», что будет тогда?
— Тогда я заберусь на какое-нибудь дерево или скалу, где ваши глаза не найдут меня, но откуда мои трубы отлично будут видеть вас, и стану наблюдать за всем происходящим оттуда, — без обиняков признался я.
Нилоты любят правду, особенно тогда, когда в интересах говорящего ее лучше было бы утаить. По толпе прокатился гул одобрения тому, что я не скрыл своих намерений.
— Покажи нам хоть одно место, где бы ты мог спрятаться и наблюдать за нами, — властно потребовал юноша в венке.
Я указал на плоский, поросший кустами останец, возвышавшийся километрах в трех от нас. Конечно, в бинокль я бы мог кое-что разглядеть оттуда, но о том, чтобы на таком расстоянии сделать приличные снимки, и думать было нечего.
— Если твои трубы увидят с этого утеса нас, значит, отсюда ты так же хорошо можешь рассмотреть и что делается на утесе, — посовещавшись с товарищами, произнес юноша.
— Конечно, — ответил я и навел бинокль на утес. — Там среди кустов на двух больших камнях сидят два дамана размером чуть меньше своих товарищей, — улыбаясь, сказал я и протянул ему бинокль.
— Верно, там сидят два дамана, — подтвердил он и передал бинокль по кругу.
Не меньше часа разглядывали юноши даманов, о чем-то оживленно спорили, кричали и смеялись. А я сидел рядом с ослами и слушал, как стучит мое сердце: да — нет, да — нет, да — нет…
Потом юноша в страусовом венке пошел в хижину одного из старейшин — мзее Лангидо. Вскоре тот появился в дверях своего жилища и направился ко мне.
— Мораны сказали «да», — улыбнулся Лангидо и протянул мне руку.
Потом все мораны тоже подходили ко мне, приветливо улыбались, хлопали по плечу и пожимали мою руку.
Когда процедура приветствия закончилась и я начал сгружать с ослов багаж, Лангидо вновь подошел ко мне.
— Тебе повезло, мхашимиува[13], — проговорил он. — Еще сегодня утром, когда я предупредил моранов о твоем приезде, большинство из них не хотели принять тебя. Но ты был прям и честен с ними. «Этот человек ведет себя как моран, и поэтому он может быть с нами и узнать, как появляются новые мораны», — решили они, поговорив с тобой.
— А что, мзее, воины, которые разрешили мне остаться, после церемонии посвящения мальчиков на следующий же день перестанут быть моранами и сделаются старейшинами?
— Нет, мхашимиува, так, как ты говоришь, быть не может, — усмехнулся он. — Когда я был молод, я служил в колониальных войсках и понял, что армия у англичан устроена так же, как наше войско. Разве могут в один день из армии уволить всех опытных солдат и заменить их новобранцами? Кто же будет их учить? Кто же возьмется за копья, если надо будет защищать стада и женщин? Те мораны, что разговаривали с тобой, будут оставаться моранами еще три-четыре года.
— Разве вскоре за церемонией посвящения мальчиков в мораны у самбуру не следует церемония посвящения воинов в старейшины? — удивился я.
— Следует. Но ведь моран морану рознь. Одни делаются старейшинами, другие остаются воинами.
— Я не знал об этом, — сознался я. — Расскажи подробнее, мзее.
Лангидо раскурил протянутую мной сигарету, пару раз затянулся и принялся просвещать меня в делах моранов.
— Все начинается с энгибаты. Это не праздник и не церемония. Энгибата — это несколько лет, во время которых выявляют мальчиков, достойных сделаться моранами. Мальчишки ждут не дождутся того дня, когда они смогут скинуть с себя детские одежды и надеть тоги воинов. Я вспоминаю свое детство. Как только у меня появились волосы в тех местах, где раньше никогда не росли, я начал молить своего отца помочь мне сделаться мораном. Мои сверстники добивались того же. И тогда мой отец и их отцы пошли к старейшинам в отставке и сказали, что подрастают новые мораны. Старейшины согласились объявить энгибату — сезон вербовки кандидатов в мораны. Вместе со своими двумя сверстниками, которые тоже почувствовали, что их руки достаточно сильны, чтобы бросать настоящее копье, я начал ходить от енканги к енканге, выясняя, кто среди соседей может стать мораном. Мы ходили долго, около года, посещая каждую енкангу по три-четыре раза.
Тем же самым занимались и мальчишки, которые завтра должны сделаться моранами. Кроме этого они собирали подарки от своих друзей и родственников, которые затем вручили влиятельным старейшинам, могущим ускорить начало церемонии посвящения. В мое время старейшины не требовали подарка, нашей главной задачей было собрать как можно больше мальчиков, стремящихся стать воинами.
— Сколько же человек должно быть в такой группе?
— Обычно бывает 150–200 мальчиков. Когда их наберут, совет старейшин объявляет о проведении эмболосета — праздника, возвещающего начало периода посвящения. Это в основном праздник для родителей посвящаемых, радующихся тому, что у них подросли сильные и здоровые дети, которые со дня на день должны сделаться взрослыми. Несколько недель длится эмболосет, и каждую ночь мы танцуем и пьем пиво, радуясь за своих детей.
— Сами мальчишки, наверное, тоже с радостью отмечают это событие?
— Нет, мальчишкам в эти дни бывает не до веселья. В тот самый день, когда объявляется о начале эмболосета, из числа старейшин, а иногда и старших моранов, ол-Киамаа назначает наставников, воспитателей посвящаемых. Этих наставников называют «ил-пирони».
Те, кто завтра сделаются моранами, еще три месяца назад ушли со своими наставниками в буш, — продолжал старик. — Там ил-пирони рассказывали им, чем мальчик отличается от взрослого мужчины. Под руководством ил-пирони мальчишки соревновались в стрельбе из лука и метании копья, боролись друг с другом, совершали долгие переходы через пустыню в дневной зной и ночную тьму. Затем они поднялись в горы Олдоиньо-Ленкийо, чтобы оставить там «дух детства» и стать взрослыми.
— А как им удается оставить «дух детства»? — ухватился я за фразу Лангидо.
— Если ты решил стать мораном, мы научим тебя. А непосвященным это знать ни к чему. Но те мальчишки, которые поднялись в горы, уже узнали все, что им нужно. Они получили также новое имя. После этого ил-пирони сообщили нам, что пора делать их моранами. Вот почему завтра мы и проводим джандо[14].
— А как называется эта церемония?
— Не спеши, мхашимиува. Чем задавать вопросы, лучше дай мне доброго табаку и слушай. То, что будет завтра, это тоже событие не одного дня. Завтра начинается эмурата татенье — посвящение в подлинные мораны. Я же тебе сказал, что энгибата длится несколько лет. Сегодня группа кандидатов в мораны подобралась в одном месте на землях самбуру, через месяц она появится в другом, через полгода — в третьем. Ведь не все юноши самбуру посвящаются в «Горах ребенка» и не все в один день. Поэтому эмурата татенье — это целый период, три-четыре года, во время которого повсюду на землях самбуру может совершаться джандо. Завтра — лишь первая церемония этого сезона, обрезание первой группы юношей, набранных в текущей энгибате.
— Теперь я понял все, кроме одного: почему воины, которые пройдут посвящение завтра, называются «под-лин-ны-ми моранами»? Разве бывают еще и «ненастоящие мораны»?
— Не понял потому, что спешишь со своими вопросами, мхашимиува. В течение ближайших четырех лет, начиная с завтрашнего дня, юноши будут посвящаться в воины. Все они считаются воинами одного поколения. Но через четыре года истечет срок начинающегося завтра эмурата татенье. Все юноши, сделавшиеся воинами за эти четыре года, соберутся на праздник закрытия сезона эмурата татенье. Праздник называется эндунгорре — «день проклятия ножа». В этот день мораны предают проклятию нож, символизирующий инструмент, которым было совершено обрезание всем «подлинным моранам» одного поколения. Каждый моран приносит на праздник пойманную в кустах птицу турача и на виду у собравшихся ломает ей ноги и выкалывает глаза. Это предостережение. Любого, кто в следующие четыре года сделает кому-нибудь из мальчиков самбуру операцию обрезания, ждет та же участь, что и турача. Поэтому новых моранов в ближайшие четыре года не появляется. А юноши, уже посвященные в мораны, уходят в буш и поселяются в маньяттах. Ты, наверное, знаешь, мхашимиува, чем занимаются молодые мораны, живущие в маньяттах.
— Знаю, мзее.
— Ты думаешь, мораны только и делают, что таскают за хвост львов, отбивают скот у соседей и соревнуются со своими сверстниками в прыжках в высоту? Это само собой. Но главное — это то, что молодые мораны всеми силами стараются выжить из маньятт старших моранов, представителей предыдущего поколения, и сделаться хозяевами лагерей. Сначала им это не удается. Но по мере того, как молодые мораны мужают, набираются сил и опыта, они в соревнованиях, а иногда и совсем в недружеских схватках берут верх над старшими.
Когда молодые женщины только и говорят о том, что молодые мораны все чаще выходят победителями над засидевшимися в маньяттах «стариками», ол-Киамаа принимает решение о проведении новой церемонии — эното. На ней «подлинные» младшие мораны делаются старшими моранами, а старшие мораны предыдущей марика[15] переходят в группу младших старейшин.
Однако по мере того, как старшие мораны делаются старейшинами, число воинов, особенно младших моранов, все уменьшается, потому что проклятие, произнесенное во время эндунгорре, продолжает действовать. И тогда года через два после того, как прошло эното, ол-Киамаа принимает решение о наступлении нового посвящения в мораны. Но запомни: период посвящения в мораны новый, а энгибата — старый.
— Не понимаю, мзее.
— Сейчас поймешь. И завтра, и примерно через десять лет, когда наступит новый период посвящения в мораны, будет оставаться в силе один и тот же цикл энгибаты. Поэтому и завтрашние мораны, и те, кто сделаются воинами через десять лет, будут считаться моранами одного поколения, одной возрастной группы. Ты помнишь, я говорил, что завтра начинается эмурата татенье и воины, прошедшие ее, будут называться «подлинными моранами»? А вот через десять лет будет проводиться эмурата кенианье. Это второй цикл одного и того же периода энгибаты. После этой церемонии у нас появятся «фиктивные мораны».
— Какая между ними разница? — поинтересовался я.
— Разница та, что срок службы «фиктивных моранов» в два-три раза короче, чем «подлинных моранов». И подлинные мораны, которые появятся завтра, и фиктивные мораны, которые будут посвящены через десять лет, хотя и разного возраста, но принадлежат к одной возрастной группе, к одному циклу энгибаты, к одному поколению. Когда через два года после начала эмурата кенианье будет объявлено новое эното, младшие фиктивные мораны быстро сделаются старшими моранами, а подлинные мораны, хоть и сделавшиеся воинами на три-четыре года раньше, будут продолжать оставаться таковыми еще пару лет. Затем, решив жениться, они будут покидать маньятты, а ряды воинов станут пополнять обрезанные за период эмурата кенианье новые фиктивные мораны. Поэтому у самбуру всегда есть достаточное число и опытных старших моранов, и рвущихся в бой новичков, мечтающих показать свою удаль и отвагу. На всей земле самбуру, в самых далеких маньяттах и енкангах, все мужчины сплочены в единую организацию и знают в ней свое место. То там, то здесь проходят церемонии и праздники, то там, то здесь мальчики делаются воинами, а воины — старейшинами. Но никогда не бывает так, чтобы все мораны одновременно сделались старейшинами. Так что, мхашимиува, не все так просто у самбуру.
— Да, совсем не просто, — согласился я.
Старик потянулся за новой сигаретой, выкурил ее и только потом заключил свой рассказ поучительным тоном:
— Моран — главная фигура у самбуру. Вся жизнь племени связана с ним, все церемонии посвящены ему. Все хотят быть моранами, потому что они в центре жизни и внимания всего племени. Вот почему завтра — большой день. И тебе повезло, что ты попал на эмурата татенье, да еще и в «Горах ребенка».
Глава двадцать третья
Наставники ил-пирони трубят в рог. — Посвящаемые возвращаются из лесных лагерей. — Клятва оружию. — Олайони — мальчишки без детства. — Так уж ли отличается эмурата татенье от инициации древних латинян? — Жертвенный вол истекает кровью. — Лангичоре берется за нож. — «Пересдавать» испытание на право стать мужчиной нельзя. — О-сиполиоли начинают метать любовные стрелы. — И вновь встает вопрос: «Кому же принадлежала первая корова?»
Утро началось торжественно и тихо. Эта тишина, столь необычная для шумных селений самбуру, особенно подчеркивала значимость наступающего дня. Как только взошло солнце, старшие мораны в красных тогах вышли на середину лужайки на дне долины и, став в два ряда друг против друга, скрестили над головами копья. Усевшиеся на почтительном расстоянии взрослые мужчины и женщины молча наблюдали за происходящим.
Как раз в тот момент, когда красный круг солнца целиком выкатился из-за горизонта, со стороны темных, еще неосвещенных ущелий послышались резкие звуки. Это трубили в рога ил-пирони, возвещая всех присутствующих о том, что мальчики могут стать мужчинами. Они трубили долго, и мрачные ущелья, подхватывая надрывные звуки, эхом разносили их по «Горам ребенка». Звуки сгоняли с гор «дух детства», оставленный там прошлой ночью мальчишками, но еще «скрывающийся в лесу» и способный поэтому «вновь вселиться» в своих бывших хозяев.
Потом надрывные звуки оборвались, и из леса появились ил-пирони. Они шли высоко подняв головы, преисполненные чувства той высокой ответственности, которая на них возложена. За ними, выстроившись в три ряда, шли посвящаемые. Мальчишки остались на опушке, а ил-пирони с гордым видом прошли сквозь строй моранов под скрещенными над их головами копьями. Это была «клятва оружию моранов», подтверждающая, что посвящаемые прошли весь положенный курс наук и могут сделаться достойными воинами.
Я подошел поближе к мальчишкам, сгрудившимся на опушке. Всем им было лет по четырнадцать — пятнадцать. Сегодня ночью у них были острижены волосы, которые вместе с «душой ребенка» остались в лесу. Теперь на их бритых головах были намалеваны белые полосы. Это знаки посвящения. Белый цвет символизирует чистоту и указывает на то, что юноша достоин стать мораном. Мальчишеские тела были слегка смазаны жиром и ярко блестели на солнце. Единственное, что на них было надето, — это крошечная набедренная повязка. Она была сделана из кожи жертвенного быка, которого закололи три месяца назад, когда взрослые, празднуя эмболосет, отправили своих сыновей в лес вместе с ил-пирони.
Тесно прижавшись друг к другу, мальчики стояли на опушке, наблюдая за происходящим. В их глазах выражались и страх и радость. Конечно, они побаивались предстоящей таинственной церемонии, сопровождающей мучительную операцию. Но в то же время радовались тому, что с сегодняшнего дня они делаются полноправными членами общества, мужчинами, моранами, которым будут завидовать и мальчишки помоложе, и мужчины постарше.
За исключением собственных родных, они боятся взрослых, потому что неписаные законы нилотской этики обязывают олайони исполнять любое приказание старших. А приказание это может быть каким угодно. Не раз мои взрослые спутники-нилоты отправляли совершенно незнакомых им мальчишек куда-нибудь за десять километров в енкангу среди буша отнести туда подарок своему родственнику или приказывали притащить воды из родника, бьющего где-либо на склоне горы. И олайони безропотно исполняли это распоряжение, потому что присущие обществу многих африканских племен формы эксплуатации детей взрослыми закреплены традицией нилотов. Такая эксплуатация — логическое следствие деления общества на возрастные группы, и не маленьким беззащитным олайони замахиваться на давнюю традицию. Именно поэтому каждый нилотский мальчишка с нетерпением ожидает конца своего детства.
Еще одно испытание, и им больше не надо будет безропотно исполнять причуды и приказы взрослых. Наоборот, во многом старейшины будут прислушиваться к ним — воинам, сжимающим в твердых молодых руках копье и оберегающим род от врага. Отныне они будут чувствовать себя в безопасности в компании своих сильных вооруженных сверстников и даже смогут наводить страх на других. Теперь они наверстают упущенное и познают то, чего не знали в детстве, — свободу, игры и развлечения. Наверное, тяжелое детство и объясняет то озорство, бесшабашность, которые на первый взгляд уже не по возрасту моранам.
Хотя в церемонии превращения мальчика в мужчину у нилотов есть своя специфика, в основе своей она очень мало отличается от того, что еще древние латиняне называли «initiatio» — инициация, посвящение. Как древние римские юноши, мечтавшие скинуть toga pretexta, были готовы на любое испытание, так и нилотские олайони согласны на все, чтобы сбросить мальчишеский наряд. Переход из мира детства в сложный мир взрослых сопровождается торжественными и таинственными церемониями не только у людей древности или первобытных племен современности. Разве приобщение юноши к таинству мессы на первом причастии в любой ультрасовременной католической стране — не завуалированный религиозной обрядностью отголосок той же первобытной церемонии, что разыгрывалась на моих глазах в горах Олдоиньо-Ленкийо?
Вновь затрубил рог, и на уже залитом солнцем склоне долины показалась процессия, состоящая из старейшин и младших моранов в красных накидках. Они гнали перед собой вола, на лбу которого, как и у посвящаемых, была намалевана белая полоса. Такими же полосами был исчерчен его круп. Это было жертвенное животное посвящаемых.
Только вола приносят в жертву духам посвящаемых, оставленным этой ночью в горах. «Поскольку вол никогда не крыл корову, он сродни олайони, не знающим женщин», — объясняют самбуру.
Вола привели на дно долины. Младшие старейшины и младшие мораны окружили его, а предводитель старших моранов, издав громкий клич, вонзил меч в горло животного. Волу не дали упасть на землю. Сгрудившиеся вокруг мужчины поддерживали его, и, когда по могучему телу пробежала последняя конвульсия, предводитель старших моранов поднес к ране, из которой хлестала кровь, церемониальный рог.
Как только красная пена полилась через край, он отпил из рога глоток и передал его предводителю старших старейшин. Вновь откуда-то из горных ущелий послышались трубные звуки. Тогда ил-пирони, окунув в рог свои указательные пальцы, разрисовали себе лбы кровью, а затем направились в сторону опушки, где сгрудились олайони. Минут десять они что-то объясняли мальчишкам. Затем те выстроились в три шеренги и под водительством своих наставников вышли на площадку, где был заколот вол. Предводитель старейшин подошел к ним и, обмакнув в рог указательный и средний пальцы, начал замазывать кровью белые полосы на лбу у посвящаемых. Это была церемония, преисполненная для присутствующих глубокого смысла. Кровь домашнего скота у нилотов — символ жизни, она вселяет в воинов силу и доблесть. Белый цвет детства, замазывавшийся старейшиной, уходил в прошлое. Символом будущих моранов становился красный цвет мужества. Кровь вола, принесенного в жертву «духу детства», отныне будет связывать всех посвященных друг с другом и с их мифическим покровителем.
Замазав белую полосу на лбу у последнего олайони, предводитель старейшин обратился с заключительным напутствием к посвящаемым. Старик говорил о том, какая это честь быть мужчиной, и о том, каким нужно быть отважным и сильным, чтобы оправдать доверие соплеменников.
Когда старший старейшина произнес последнюю фразу и над долиной воцарилось гробовое молчание, из-за туши поверженного вола появилась фигура Лангичоре. На нем была ярко-желтая тога, выделявшая его среди других мужчин в красных одеяниях. Это внезапное картинное появление произвело впечатление даже на меня. Медленным, размеренным шагом он подошел к старейшине, взял у него из рук рог и выпил оставшуюся в нем кровь. Потом молча кивнул в сторону ил-пирони, только и дожидавшихся его сигнала. Один из наставников посвящаемых, стоявших в первом ряду, взял за руку первого олайони и ввел его в центр площадки, которую мораны устлали коровьими шкурами.
Усевшись на одну из шкур, ил-пирони снял с посвящаемого набедренную повязку и, уложив мальчишку на шкуры, обвил его ноги своими ногами. Голову посвящаемого наставник сунул себе под мышку, а второй рукой сжал обе ладони олайони. Вытащив из складок своего одеяния отточенный до блеска кусок ножа, Лангичоре приступил к делу.
Старик действовал нарочито медленно, чтобы и страшная боль, и вид крови, и воцарившаяся вокруг гнетущая тишина навсегда остались в памяти посвящаемого, усилили значимость происходящего. Иногда он останавливался и, наклонившись к олайони, что-то говорил ему, широко раскрыв глаза и жестикулируя окровавленными руками.
Три старших морана стояли рядом, наблюдая за выражением лица оперируемого. Не то что крика — малейшей гримасы от боли было бы достаточно для того, чтобы прослыть недостойным стать воином и быть с позором унесенным с «операционного стола». Но посвящаемые вели себя стойко. Однако, по-моему, осознанно контролировали себя олайони лишь в начале операции. Затем, когда наступала ее самая мучительная часть, юноши попросту теряли сознание. Во всяком случае, после окончания процедуры никто из посвященных не покинул «операционную» самостоятельно. Два-три морана поднимали юношей со шкур и относили в тень.
Весь день до заката солнца не покладая рук орудовал Лангичоре, лишь один раз с уст оперируемого мальчишки сорвался вопль. Стоявшие на страже мораны тут же отобрали несчастного юношу у пытавшегося возразить что-то ил-пирони и отнесли его в хижину. Мальчишку ждала незавидная участь: всю жизнь он будет ходить теперь в одежде олайони, не сможет носить оружие взрослых, иметь семью или право голоса в ол-Киамаа. Экзамен на право быть воином и мужчиной у нилотов сдают лишь один раз. «Пересдача» здесь не допускается.
Зато родители посвящаемых вели себя не столь сдержанно. Матери при виде крови иногда закрывали руками глаза и вскрикивали, отцы разрешали себе давать советы Лангичоре.
Вечером, когда был обрезан последний юноша и в енканге начались торжества по поводу появления молодых моранов, сердобольные родители сделались главным объектом добродушных насмешек и шуток всех собравшихся. Выходя по очереди к костру, соплеменники изображали отцов и матерей со слабыми нервами и требовали, чтобы они сами при всех повторили то, что делали или говорили, наблюдая днем за действиями Лангичоре. Матери олайони обычно отказывались исполнять желание собравшихся, а подвыпившие отцы с удовольствием играли самих себя. Отцы были в добродушном настроении, потому что, в сущности, это был и их праздник. Пока их сыновья были всего лишь олайони, отцы в ол-Киамаа пользовались очень небольшим влиянием. Теперь же, сделавшись отцами моранов, они за один день приобрели немалый авторитет.
Недаром пиршество, устраиваемое после окончания церемонии инициации, называется Ол Гор Огор эл Айон Эмерата — «вечер прыжков через препятствия». Развеселившиеся отцы действительно прыгали через камни и бревна, причем эти препятствия символизировали их сыновей, «мешавших» им до сих пор занять должное место в совете старейшин.
Одни только посвященные не участвовали этим вечером в веселом пиршестве. Придя в себя после операции, они скрылись на несколько дней в материнских хижинах, разукрашенных в честь новоиспеченных моранов зелеными ветвями ююбы. Дней десять юноши, пока совсем не поправятся, будут лежать дома, и никто, кроме матерей, приносящих им парное молоко, не может их видеть.
Затем, окончательно окрепнув, юноши распишут свои лица пеплом и сплетут огромные венки-короны из перьев страусов и турачей. Моранов в таких нарядах называют о-сиполиоли — «недавно посвященные». В первую ночь полнолуния о-сиполиоли соберутся на площадке, где сделались моранами, и услышат от своих ил-пирони последние наставления, необходимые взрослому мужчине. Они узнают, что, поскольку они принадлежат к одной возрастной группе и считаются друг другу «братьями», они не могут жениться на сестре своего друга. Браки между их детьми также противоестественны, так как для детей своих сверстников — все они «отцы». О-сиполиоли узнают так же, как можно любить девушку, не имея от нее детей, и получат от наставников «любовные» лук и стрелы, а также черную тогу «морана, ищущего подругу».
Когда все о-сиполиоли обзаведутся подругами, они вновь собираются в месте своего посвящения, сбривают с головы волосы, успевшие вырасти после инициации, и начинают именоваться илбартони — «бритоголовыми». Это и есть младшие мораны. Отныне они имеют право носить красную тогу — одежду мужественных, щит и длинное копье. Только древко у их копья коричневого цвета, а у старших моранов — черного. Через несколько месяцев их волосы отрастут настолько, что их уже можно будет заплетать в длинные тонкие косички и делать из них замысловатые прически. Такие прически свидетельствуют о том, что младший моран уже имеет определенный стаж и что ему пора доказать свое мужество.
Теперь воины сами ищут случая проявить удаль и отвагу, доказав своей подруге, что она не ошиблась в избраннике, а старшим моранам — что они способны достойно заменить их. Раньше, во времена торговли живым товаром, лучшим способом доказать свою смелость было «смочить» копье кровью работорговца. Потом мораны у самбуру начали довольствоваться поединком со львом. Сейчас для того, чтобы прослыть настоящим мораном, можно никого не убивать, но принять участие в десятке успешных рейдов за скотом. И чтобы прослыть мужчинами, мораны устремляются на земли соседних племен и порой без всякой надобности угоняют у них коров…
Доказать нилотам, что это противозаконно, никто не может. «Когда мы пришли на эти каменистые равнины с севера, у местного населения не было ни коров, ни коз, ни верблюдов. Весь домашний скот в округе произошел от пригнанного нами скота и поэтому принадлежит нам», — заявляют самбуру.
Но ближайшие соседи самбуру — скотоводы-туркана, живущие там, где кончаются зеленые горы Кулал и вновь начинаются черные вулканические пески и туфы, не желают уступать им приоритет в обладании первой коровой. Они тоже пришли с севера, пригнав из своего нильского очага тысячные стада. Как гласят легенды туркана, до их появления немногочисленные аборигены занимались по берегам Бассо-Нарок лишь охотой и собирательством. Поэтому туркана уверены, что коровьи и верблюжьи стада на севере Кении ведут свою родословную именно от скота, принадлежавшего в те далекие времена им.
Так возникают бесконечные конфликты, племенные стычки, во время которых огромные, в тысячи голов стада переходят от одного племени к другому. Неразрешимый ныне вопрос: «Кому принадлежала первая корова на берегу озера Рудольф?», уходящий своими корнями в племенную историю, стал сегодня чуть ли не главным фоном внутриполитического положения на севере Кении и Уганды, на юге Судана. Почти ежемесячно газеты сообщают о «рейдах» нилотов вдоль побережья нефритового озера…
Ремесленники или кудесники?
Глава двадцать четвертая
Тщетные попытки найти современные следы древней культуры железа. — «Саранчовый край» между озерами Мверу-Вантипа и Руква. — Д. Ливингстон свидетельствует: «Страна эта, изобилующая болотными рудами, чрезвычайно богата железом превосходного качества». — Чимпекве — мифический пожиратель бегемотов замбийских топей. — Первая встреча с африканским металлом. — «Кузнецы, делавшие эти мотыги и топоры, живут среди болот Бангвеулу»
Несколько лет я пытался найти нить, которая привела бы меня к современным следам древней железной культуры в Африке. В Мероэ, который нередко называют «Бирмингемом древней Африки», я видел лишь очень старые, десяти метровой высоты груды шлака — свидетельства некогда могучей цивилизации, существовавшей на территории современного Судана в VI–IV веках до н. э. На суахилийском побережье — в деревнях вокруг Момбасы, Малинди, Багамойо, в тех местах, откуда, по словам средневековых географов, поставляли черный металл в Аравию и Индию, сегодня бородатые старцы в чалмах качают головами и сетуют, что заводское железо заставило местных кузнецов забыть свое искусство.
Длиннющие копья, которые в Уганде сбывают доверчивым туристам как «древнее оружие», на самом деле изготовлены в городах из рессор выброшенных на свалку автомобилей. В Заире я набрел на целую лесную деревню, чье население некогда принадлежало к привилегированной «гильдии кузнецов». Теперь же в деревне живут только женщины да дети, все мужчины подались на заработки на медные шахты. Кое-где еще сохранились ямы, где некогда плавили металл. Но человека, который мог бы показать весь процесс древней плавки, так и не нашлось.
Не увенчались успехом поездки к готтентотам Ботсваны, к малавийским ангони, плавание на пироге по Замбези через землю баротсе. Все те, кто раньше жил ремеслом металлургов и кузнецов, теперь считали за счастье найти на дороге гнутый гвоздь.
Я начал склоняться к мысли, что древняя африканская металлургия — лишь достояние истории, что в наши дни уже нельзя увидеть это овеянное легендами и мистикой таинство, в результате которого полуобожествленный «хозяин железа» превращает рыхлую болотную руду в блестящий твердый металл…
Но вот на замбийском берегу озера Танганьика, в Касаба-Бей, где расположено управление недоступного для туристов Национального парка Сумбу, я познакомился с Пэтом — ученым-биологом, который, наверное, полжизни провел летая на своем вертолете над здешними болотами. Он вел наблюдения за саранчой на территории, зажатой между двумя озерами — замбийским Мверу-Вантипа и танзанийским Руква. Прибрежные плавни этих водоемов слывут одним из главных рассадников красной саранчи. В тревожные для Центральной и Южной Африки 1985–1987 годы, когда на смену засухе пришли сильные дожди, прожорливые акриды там настолько размножились, что угрожали уничтожить около половины урожая всего южноафриканского региона.
Поэтому за саранчой здесь постоянно ведется неусыпная слежка. Стоял март. Для Пэта это была самая страдная пора: он следил за местами, где саранча формирует свои грозные войска, подвозил туда ядохимикаты, опрыскивал ими районы главных скоплений насекомых.
Я обрадовался возможности полетать вместе с ним над этим огромным и недоступным большую часть года краем, изолированным от всей Замбии болотами, да еще и на такой высоте, с которой можно разглядеть даже саранчу. Это было тем более интересно потому, что незадолго до своей кончины в этих местах побывал Д. Ливингстон. Во времена великого шотландского путешественника район этот был густо заселен, на протекавшей неподалеку многоводной и бурной реке Луфубе существовали мосты, на пути попадалось множество деревень. Но что самое интересное — во всех окрестных селениях плавили металл. Богатый болотными рудами край — от южного берега Танганьики до топей озера Бангвеулу — еще в середине прошлого века славился своими кузнецами.
Интересно, осталось ли что-нибудь от этой древней культуры до наших дней? — подумал я, с нетерпением дожидаясь, когда Пэт закончит возиться с вертолетом. Он собирался сделать очередной облет озера Мверу-Вантипа, а затем лететь в Мансу, центр провинции Луапула, согласовывать с местным начальством меры по борьбе с саранчой. Все путешествие должно было занять дней пять.
Летели мы низко, но ничего интересного не видели. Между заповедниками Сумбу и Мверу простирается красная однообразная пустошь. Границы «болотного парка» отмечены самой природой: краснозем неожиданно сменяется черным месивом болотных почв, редкие кустарники — зеленью осок и блюдцами темной стоячей воды. Кое-где торчат однобокие корявые деревья, почти лишенные листвы, но сплошь увешанные фестонами лишайников, которые окутывают стволы серо-белым одеялом и свисают с ветвей в виде длинных лохмотьев, развевающихся на ветру. Очень много деревьев повалено. Но животных, если не считать нескольких буйволов, не попадалось.
Я спрашиваю Пэта, что охраняется в этом безжизненном болоте.
— Скорее всего, миф. Когда смотришь на этот хаос воды и осоки, кажется, что здесь самое подходящее место для бегемотов. Кругом их всюду много — и в Танганьике, и в Мверу. Но в Вантипе, где вокруг нет ни людей, ни хищников, так же как и в Бангвеулу, окруженном гигантским поясом болот, бегемоты почему-то не живут. Спросите у любого из местных африканцев, что тому причиной, и они с уверенностью ответят: чимпекве. Это какое-то легендарное существо, которое, как уверяют местные жители, обитает в болотах и поедает бегемотов.
— Но неужели, четыре года летая над этими болотами, вы ни разу не напали на следы такого крупного животного, которое может одолеть бегемота? — спросил я.
— Я не могу утверждать, что видел его, хотя несколько раз у восточного берега Бангвеулу с воздуха преследовал какое-то не вполне понятное существо. Батва, которые живут в топях Бангвеулу, вырезают из дерева примитивные изображения чимпекве, которому поклоняются. Они уверяют, что животное это напоминает молодого носорога, но волосатое, с длинной шеей.
— Всегда ли так безжизненно выглядит этот «болотный заповедник»?
— Нет. В сухой сезон, когда кругом пересыхают реки, здесь собираются огромные стада слонов. Пожалуй, нигде в Замбии их не бывает так много. Увеличиваются и стада буйволов. И буйволы и слоны без страха ходят по топям Вантипы, откармливают здесь свой молодняк. А вот бегемоты не приживаются. Заинтересовавшись слухами о чимпекве, я вскоре после своего приезда на борьбу с саранчой подговорил двух друзей, и мы провернули одно Дело: перевезли из соседнего заповедника Лусенга в Вантипу четырех молодых гиппопотамов. Тогда я как раз все время летал над озером. Бегемоты преспокойно паслись восемь дней вблизи того места, где мы их выпустили. Но на девятый день один из них пропал, а в течение следующей недели я потерял из виду и остальных. Это были два самца и две самки. Так что если они выжили, то должны бы уже начать размножаться.
К вечеру мы долетели до Кавамбвы, одного из районных центров провинции Луапула, а точнее, перекрестка шести дорог-троп, которые сходятся сюда со всех концов этой огромной, только начинающей пробуждаться от первобытного сна провинции Замбии. Попасть сюда из столицы по суше невозможно из-за бездорожья. Города «медного пояса» вроде бы и близко отсюда, но между ними и Луапулой в замбийскую территорию глубоко вдаются земли Заира. Чтобы проехать тут из одного района Замбии в другой, надо иметь заирскую визу. А получить ее опять-таки можно лишь в недосягаемой столице.
Помню, я как-то попал в Лусаку, когда в Замбии проходили выборы. Вся страна три дня ждала итогов голосования в двух избирательных округах Луапулы. Из-за этого на три дня задерживалось подведение итогов выборов во всей республике и формирование правительства. Оказалось, что где-то пирогу, на которой везли в центр урны с бюллетенями, перевернул крокодил. Где-то полицейский джип с документами увяз в трясине, и его не могли найти на протяжении целых суток. Именно Луапулу имели в виду на одной из конференций правящей партии ЮНИП, где говорили, что есть еще в стране отдельные деревни, жители которых «до сих пор не знают, что Замбия добилась ликвидации колониализма».
Но в Кавамбве сходятся шесть троп, и это делает ее не только районным, но и торговым центром. Сюда на рынок стекаются товары со всех окрестных деревень.
Потратив на рынке не так уж много времени, я наконец нашел то, что искал. Степенные старики разложили под деревом мотыги, топоры, копья. Подобные нехитрые орудия земледельцев и охотников не редкость на деревенском базаре. Но то, что мне везде попадалось до сих пор, было либо заводского изготовления, либо сделанное на месте, но из привозного металла. Такое «старое оружие» всегда предательски блестит и качество металла почему-то мало отличается от шведских марок стали.
Но здесь у копий и мотыг цвет был тускло-черный, металл не обработан, весь в кавернах, с изломами.
Я попросил полицейского быть переводчиком. Старики рассказали, что льют металл из руды, которую достают со дна речушек, текущих где-то к югу от Бангвеулу. Руду эту они обозначали словом «мотапо», что сразу же заставило вспомнить о происхождении названия государства Мономотапа. Еще старики рассказывали, что раньше их ремеслом жило много деревень, но сейчас молодежь не хочет учиться такому сложному делу. Да и прибыли оно дает мало. Крестьяне предпочитают покупать мотыги в лавках, там они дороже, но прочнее. На копья тоже спрос мал, потому что охота на крупного зверя почти кругом запрещена, а воевать перестали. Поэтому кузнечным делом по старинке занимаются лишь одиночки, которые время от времени через посредников присылают им, старикам, свои изделия.
Значит, «железный промысел», о котором писал Ливингстон, еще не совсем забыт. Я попросил полицейского спросить, как добраться до деревень, где плавят мотапо. Но старики толком ничего не объяснили. Они говорили, что кузнецы живут среди болот Бангвеулу, где-то между деревнями Калиманкунде и Бвалья-Мпондо.
Уже в самолете, направляясь к озеру Мофве, которое решил по пути исследовать Пэт, я нашел на его картах эти деревни. Они находились в самом центре огромного пятна, заштрихованного голубыми черточками болот. Но я подумал, что, раз оттуда на далекий рынок Кавамбвы попадают копья и мотыги, значит, туда все-таки можно добраться.
Пэт толкает меня и пальцем показывает вниз. Между нами и землей (а вернее, водой) летит гигантское полчище саранчи. Пятно впереди, которое поначалу показалось мне облачком, вскоре тоже оказалось стаей.
— Это пришельцы, — объясняет Пэт. — Красная саранча, что живет на Руква и Вантипа, еще не созрела для больших перелетов. А это так называемая кочующая саранча. Она, очевидно, появилась здесь из Заира. Так что придется менять журналиста на яд: надо заняться этой гостьей. Есть два варианта. Либо ты возвращаешься в Кавамбву, либо остаешься на два дня в Касембе, куда я сейчас полечу за химикатами. По-моему, Касембе — преколоритнейшее место. Там, правда, только одна лавка, но у ее владельца, Хамида, есть машина. Если он никуда не уехал, то с радостью подзаработает, сдав ее напрокат.
Глава двадцать пятая
Касембе — традиционная столица лунда. — Возвышение и закат царства Луба-Лунда. Первыми кузнецами здесь были банту. — Моиз Чомбе в роли тестя Мвато-Ямбо XXIV. — 1867 год: человеческие черепа, украшающие ворота. — Осколки суахилийского мира в центре Африки. — Не за железом ли пробирались сюда купцы с побережья? — Мрачные памятники времен работорговли
Касембе — традиционная столица лунда, народа общительного и красивого. Мелкие черты лица придают их женщинам особую миловидность, а со многих мужчин скульпторы когда-нибудь будут лепить черных Аполлонов.
Но данную природой красоту портят традиции. Женщины, особенно постарше, часто подпиливают себе верхние зубы треугольником, отчего они выглядят как пила. У нескольких стариков, сидевших у колодца, я заметил отрубленные уши. Так еще в начале века местные правители расправлялись с казнокрадами и другими нарушителями закона.
В своих прежних огромных размерах царство Луба-Лунда до наших дней, конечно, не сохранилось. Но его осколок — Катанга (ныне Шаба), расположенная на землях заирских лунда, все еще признающих власть мвато-ямбо, существует и сегодня. Правивший в Катанге в начале 60-х годов Мвато-Ямбо XXIV выдал свою дочь замуж за Моиза Чомбе, небезызвестного катангского сепаратиста, тоже лунда. Именно поддержкой Мвато-Ямбо пользовался Чомбе, когда добивался создания «независимой Катанги». После смерти тестя Чомбе даже пытался унаследовать престол и провозгласить себя «императором лунда». Но вожди и старейшины, слишком хорошо знавшие своего продажного соплеменника, побоялись, что Моиз предаст их, и избрали на трон молодого царька Мушиди.
Тот умер при загадочных обстоятельствах в 1968 году, и клан Чомбе взял реванш. Императором лунда — Мвато-Ямбо XXVI — был провозглашен Давид Чомбе, брат катангского премьера. Недавний выпускник миссионерской школы и преуспевающий бизнесмен, Давид получил из рук старейшин символ власти — медный браслет и занял положение божества. Даже самые близкие из приближенных должны входить в его резиденцию в Мусонго на коленях. Ни жены Мвато-Ямбо XXVI, ни вожди не имеют права сидеть в его присутствии. Так марионеточный император стремится укрепить свою никем не поддерживаемую власть…
Это действительность. А вот легенда. Давно, очень давно мвато-ямбо делались тиранами. Один из них, правивший примерно в 1600 году, желал быть владыкой луны и солнца. Для этого он приказал своим подданным строить в поднебесье башню. Тысячи людей, согнанных со всей страны, пытались создать ее. Но как только башня начинала возвышаться над лесами, она рушилась, погребая под собой строителей. И чтобы спастись от гибели, люди начали покидать Мвато-Ямбо.
Так объясняет легенда причину великого переселения балуба и балунда. Во главе групп беглецов стали казембе, которые не хотели подчиняться самодурству верховного вождя. Одни казембе повели своих людей туда, где «не было земли, и трава и деревья росли прямо из воды». Другие пошли дальше на юг, где «сухая земля и мало воды».
В легенде немало правды. Очень многие замбийские племена родственны заирским, и даже сегодня они называют своей прародиной Конго (Заир). Люди, осевшие там, где «трава и деревья росли прямо из воды», — это племена, населяющие болота Бангвеулу: лунга, батва, мукулу, нгумбо, ауши, кабенде. Все они говорят на диалектах чилуба, языка, который употребляли правители Мвато-Ямбо. И у всех у них один тотем — «Бена-Нгома» — большой барабан, как и у самих балуба.
А люди, ушедшие на юг, в сухие земли, — это бемба, ведущие свою историю от «страны Кола», и сами замбийские лунда. Их привел казембе, провозгласивший себя затем вождем замбийских лунда.
Все вожди этих племен, взойдя на престол, присваивали титул и имя Казембе. В отличие от нумеровавших себя мвато-ямбо все казембе хотели быть только первыми, называться, скажем, Казембе XIII считалось оскорбительным. Поэтому разобраться в хронологии царствующего дома замбийских лунда, по-моему, совершенно невозможно.
Пребывание в Касембе неожиданно облегчилось тем, что и в самом городе, и в округе оказалось много людей, говоривших на суахили. Хамид, предоставивший мне свою машину, рассказывал, что прадед его прибыл в эти места с Занзибара в караване работорговцев. Пришли с побережья и многие другие люди, принесшие сюда язык суахили. Большинство из них брали себе в жены женщин местных племен, поэтому здесь создалась община полукровок, известная в Замбии под названием «бангвана».
Эмигранты из Европы, осваивая Североамериканский континент, давали новым поселениям названия родных городов. Так в прериях появились Эдинбурги, Одессы, Парижи… То же самое было и в Африке. Суахилийские купцы и работорговцы, пробираясь сквозь никем не исследованные районы, создавали в дебрях фактории и крепости, которые нарекали именами тех мест, откуда начинались их экспедиции. Так вдали от побережья, в лесах Итури, возникли географические тезки Момбасы и Дар-эс-Салама, куда я, к собственному удивлению, попал, путешествуя по Заиру. Сюда же, до Луапулы, добирались купцы из Килвы. И на озере Мверу, неподалеку от Касембе, они создали точный, хотя и миниатюрный аналог своего могущественного города: на небольшом острове Килва посреди озера — склады товаров под охраной крепости, а на материке (ныне заирская территория) — город Килва, откуда совершали набеги на окрестные селения.
Работорговцы из Килвы были самыми жестокими, самыми неразборчивыми в средствах среди продавцов «живого товара». Ливингстон путешествовал здесь уже на закате работорговли, но, перелистывая его дневники, то и дело наталкиваешься на упоминания о разрушенных деревнях и дорогах, усеянных трупами в кандалах. Особенно кровопролитными были стычки между племенами, чьи вожди были подкуплены работорговцами и ловили собственных собратьев в кабалу, и теми, кто хотел быть свободным.
В конце прошлого века воины народа ваньямвези, нанятые знаменитым «собирателем сокровищ» Типу-Тибом, разграбили столицу лунда, а голову убитого Казембе накололи на шест. Когда в 1899 году Британская Южно-Африканская компания решила прибрать к рукам земли лунда и послала против Казембе карательную экспедицию, то сражаться, по сути дела, ей было уже не с кем. Государство лунда было разрушено, хозяйство разорено, мужское население истреблено, измельчавшие царьки враждовали между собой. Так работорговля создала прекрасную почву для последующей колонизации внутренних районов Африки империалистическими державами: сопротивляться колонизаторам порою было некому.
В отрогах плато Лусенга, где открыт заповедник, Хамид показывал мне целые пещерные деревни, в которых лунда прятались от работорговцев. Такие же пещеры можно увидеть и среди гор к северу от Мверу. Некоторые из них сегодня даже используются. Но прячутся в них теперь от наводнений, когда в годы сильных дождей воды Луапулы и Мверу поднимаются особенно высоко. Да многочисленные в этих местах леопарды залезают в жаркий день в их подземную прохладу. Поэтому, прежде чем войти в пещеру, местные жители загоняют туда козла.
С Хамидом мы доехали до Кафулве — селения, расположенного почти посреди восточного берега Мверу. Селение прячется в зарослях папирусов, треугольными стеблями которого вымощены болотные тропинки, ведущие от хижин к воде, к лодкам. Неподалеку от Кафулве издавна существует очень интересный промысел. Здесь в горячих соляных источниках, во многих местах выбивающихся на поверхность, варят рыбу. Вареная, вяленая и сушеная рыба — главный предмет экспорта этого края. Ее вывозят в города «медного пояса» соседнего Заира.
Обратно Хамид повез меня другой дорогой, вокруг заповедника Лусенга. В заповеднике обитают одни слоны. Южная, возвышенная часть Лусенги покрыта красивой парковой саванной с масличными пальмами, цветущими акациями. Несколько раз мы останавливались на деревенских базарчиках. Но хотя у Ливингстона в дневниках написано: «В стране Казембе изготовляют много мотыг», никаких следов местной металлургии я не нашел. Хамид сказал мне, что никогда не видел здесь кузнецов.
Глава двадцать шестая
Затопленный мир Луапулы. — Под нами — истоки великой реки Конго. — В комиссариате провинции подтверждают: «Да, в самых труднодоступных уголках Замбии еще не разучились плавить черный металл». — Вертолет летит в сторону озера Бангвеулу. — Рыбаки убегают от тени. — Миссия Санта-Мария, потерявшаяся среди болот Тупембе. — Немного о тотемизме и фетишах. — Мнение археолога Э. Тордаи: «Открытием основы основ современной цивилизации — плавки железа — мы обязаны африканцам»
Вскоре после того как мы вернулись в Касембе, появился и Пэт. Теперь летим на юг, на Мансу. Уже поздно, моросит дождь, и сквозь низкие облака почти ничего не видно. Да и когда видно, смотреть не на что. Пэт ведет вертолет прямо вдоль реки Луапулы. Кругом вода, вода, вода. Невозможно даже определить, где граница между руслом, болотами (называемыми здесь «дэмбо»), старицами и озерами. Если бы не было карты, я был бы уверен, что под нами огромное озеро вроде Виктории, с берегами, потерявшимися где-то за горизонтом. Море воды…
Залитые водой равнины исчезают из виду лишь тогда, когда вертолет поворачивает на Мансу. Город небольшой, имеющий административные функции. Все каменные здания здесь заняты провинциальными учреждениями.
Пока Пэт обсуждал у местного начальства саранчовые проблемы, я вновь занялся поисками хоть каких-то следов изделий кустарей-металлургов. На рынке я не обнаружил ничего, у крестьян тоже. В полиции, где, как я надеялся, могли знать о местных промыслах, меня сначала не поняли и на вопрос, где можно достать местные мотыги, задали встречный: есть ли у меня, приезжего иностранца, разрешение от властей на обработку земли?
Но в штаб-квартире комиссара Луапулы отнеслись ко мне с пониманием, даже с интересом.
— Мы считаем, что с приходом современной цивилизации совсем не обязательно должно исчезать то самобытное, оригинальное, что испокон веков отличало бемба от баротсе, лунда от тонга, — заметил принимавший меня чиновник. — Транзисторы везде одинаковые, а вот такие копья делают только у нас, в Луапуле. — И он положил на стол черный, слегка потрескавшийся наконечник, точно такой, какой я видел в Кавамбве.
Я пересказал чиновнику свой разговор с тамошними стариками на базаре.
— Калиманкунде и Бвалья-Мпондо? — сморщив лоб, вспоминает он. — Да, есть такие деревни. Это в самом центре топей гигантского дэмбо Тупембе, с юга вплотную примыкающих к Бангвеулу. Есть там и другие деревни — Касама, Мутвамина, где еще можно найти кузнецов. Это самый отдаленный, труднодоступный уголок Луапулы, да и всей Замбии.
Когда я поинтересовался, как туда добраться, чиновник полуиронически, полупонимающе посмотрел на меня.
— Бангвеулу открыл Ливингстон, который дошел до него пешком. Ехать туда автомобилем даже в голову еще никому не приходило. Думаю, что имя того, кто проникнет в эти деревни на машине, будет стоять рядом с именем Ливингстона. Но сейчас есть и другая трудность. В обычную пору до Бангвеулу можно доехать по дороге, вплотную подходящей к болотам Тупембе. Ныне и эта дорога безнадежно размыта. Были даже несчастные случаи. Поскольку на въезд в этот район нужно разрешение от штаб-квартиры комиссара, то у вас даже не будет возможности рисковать: я разрешения не дам.
— А если я попробую добраться туда на вертолете?
— Ну если у вас есть вертолет, то другое дело. Я напишу вам рекомендательное письмо к знакомому пастору. На берегу Бангвеулу, в поселке Санта-Мария, есть миссия. Она ближе всего расположена к интересующим вас деревням, а ее служители наверняка знают кое-что о местных кузнецах. Желаю удачи…
Но вертолета у меня не было. Теперь «успех экспедиции» зависел от того, собирается ли Пэт лететь на Бангвеулу, и если да, то согласится ли он высадить меня в Санта-Марии. Судя по карте, служители миссии жили отшельниками. Даже пунктиры тропок проходили на расстоянии двадцати — тридцати километров от их обители.
— Как дела, Пэт? — как ни в чем не бывало спросил я у возвратившегося от начальства борца с саранчой.
— Все о’кей. После обеда полетим.
— А куда?
— Назад, на Мверу.
— А как насчет Бангвеулу?
— Покончу с Мверу, полечу туда. Работы на Бангвеулу много, там придется проторчать дней десять.
Значит, мои дела были не так уж плохи. В принципе Пэту надо было лететь на Бангвеулу. Теперь главное заключалось в том, чтобы уговорить его, прежде чем кончать работу на Мверу, совершить хотя бы рекогносцировочный полет над болотами Бангвеулу. Выслушав меня, Пэт иронически изрек:
— Уж не думаешь ли ты отнять у меня лавры первенства и открыть чимпекве? За все четыре года ни разу не видел человека, который бы по собственной инициативе хотел ехать в эти адские места.
— Чимпекве я оставлю тебе. А мне надо добраться до деревни, где африканцы плавят железо и где стоят домны, которые были построены гораздо раньше, чем возник твой Бирмингем.
Пэт был из тех парней, кто мог понять меня, любил Африку, видел в ней не просто место, где можно делать деньги. Его мечтой был чимпекве, моей — железо. Когда я сказал, что хотел бы попасть в Санта-Марию, Пэт окончательно оживился.
— Тамошние святые отцы делают отличное жаркое из водяного козла, — объяснил он. — Но за бензин будешь платить ты.
Вертолет — неоценимая штука в условиях африканского бездорожья, несудоходных рек и редких аэродромов. В будущем, наверное, вертолет станет таким же обычным предметом нашего быта, как и автомобиль. Вот тогда и начнется новая эпоха великих открытий в Африке.
Дороги на Бангвеулу вряд ли скоро появятся, потому что понять, где здесь кончается вода и начинается суша, невозможно. Мы летим очень низко — от поднимаемого винтом ветра колышутся тростники и папирусы, скрывающие воду. Заслышав нас, рыбаки в утлых лодках-долбленках начинают судорожно работать шестами и прячутся в их заросли.
— Они бегут от тени, — прямо в ухо кричит мне Пэт. — У местных жителей есть поверье: если тень плохого человека или животного упадет на них, случится несчастье. А поскольку наша грохочущая, непонятная им машина вполне может сойти за «плохую птицу» или «вредного духа», то его боятся пуще всего.
Рыбаки действительно направлялись всегда в ту сторону, где не могла промелькнуть «плохая тень».
Чем ближе к восточному берегу, тем больше лодок. Много людей бродят по пояс в воде, копаются в тине. Это батва, аборигены Бангвеулу. Они лишь случайные этнографические «тезки» низкорослых обитателей лесов Рувензори, хотя по укладу жизни батва Бангвеулу можно назвать «бортниками болот». Они не знают ни земледелия, ни скотоводства, живут рыбной ловлей, охотой, сбором кореньев, водяных лилий и слизняков, которые употребляют в пищу.
На берегу залива показываются каменные здания и множество разбросанных вокруг камышовых хижин.
— Вот и Санта-Мария, — говорит Пэт, уверенно снижая вертолет прямо над миссионерским двором.
Вкусы Пэта здесь, очевидно, хорошо известны, потому что, еще не успев с ним поздороваться, один из пасторов подозвал к себе повара и отдал распоряжение готовить жаркое. Меня Пэт представил как «русского коммуниста, интересующегося производством оружия», что вызвало некоторое замешательство. Но когда Пэт объяснил, что речь идет о старых копьях, все успокоились. Настоятель миссии, патер Филипс, пригласил меня к себе в кабинет.
Речь, конечно, сначала заходит о миссионерских делах. Патер Филипс говорит, что при миссии открыты школа, госпиталь, работают кружки, где взрослое население округи может знакомиться с современными методами обработки земли, элементами санитарии, ведением домашнего хозяйства. И в школе, и в кружках обязательно религиозное воспитание. Однако, как честно признает мой собеседник, успехи здесь не велики.
— Африканцы все еще далеки от сути христианского учения, — говорит он. — Они регулярно ходят в церковь, но мы этим не обольщаемся, так как видим, что зачастую их там привлекают чисто внешние атрибуты: торжественность службы, хоровое пение и т. д. Взрослые идут на воскресную службу, поскольку ходят другие, потому что в церкви можно встретиться со знакомыми и показать им свой новый наряд или узнать новости. Многие посылают детей в нашу школу потому, что только там могут дать им образование. Но по своему образу мыслей африканцы вне нашей церкви. Иногда сразу после обедни они поклоняются фетишам, а к заутрене на одну нитку с крестом надевают амулеты. Но это все больше старики. Молодежь вообще не интересуется религией и появляется у нас лишь для того, чтобы узнать что-то новое.
Филипс представляет мне вошедших в кабинет миссионеров: патер Сэмпсон, патер Грэйс, патер Мутенда. Последний — замбиец, из бемба.
Я интересуюсь традиционными религиями местных племен, и Филипс отвечает, что в районе Бангвеулу, как, впрочем, и во всей Замбии, наиболее распространен тотемизм. Шила, чишинга, лунгу и батва верят в какое-то, по его словам, «сверхъестественное кровное родство» между их племенами, с одной стороны, и определенными растениями, животными, явлениями природы — с другой. Так, например, люди одного из кланов племени батва, обитающего в болотах Луканго, считают, что они были слеплены муравьями и появились на свет из муравейника. Поэтому они сделали муравейники и их обитателей своим тотемом, почитают их и ежедневно, перед восходом солнца, приносят в дар муравьям самую большую рыбу, выловленную накануне.
С муравьиным тотемом связаны и почти все табу, окружающие жизнь этого клана. Людям запрещено разрушать муравейники, ходить по тропам, пересекающим пути этих насекомых, вступать в брак с представителями племен, имеющих тот же тотем. В пору посвящения в мужчины юноши организуют целые охотничьи экспедиции против животных, наносящих вред муравьям. У десяти других кланов батва тотемом считается лев, у двух — пчелы. «Батва-пчелы» живут по самой периферии болот, на границе лесной зоны. В их жизни очень большое значение имеет мед — и как пища, и как своеобразный денежный эквивалент, в обмен на который они получают у соседних племен все необходимое.
Беседа оборвалась на самом интересном месте, поскольку поспело долгожданное жаркое. За ужином инициативой завладел Пэт. Он выясняет у патеров тоже довольно интересный вопрос: почему Бог, любя людей, создал саранчу, которая пожирает поля, а его, Пэта, заставляет шляться по болотам?
Потом начинается обсуждение моего путешествия. Филипс говорит, что в миссии найдется несколько учеников из тех мест, где еще не забыли секрет древней плавки железа. Завтра с утра двое из них на лодке повезут меня в Бвалья-Мпондо.
После ужина кто-то из патеров прислал мне из миссионерской библиотеки несколько книг и статей, посвященных древней металлургии в Замбии. Самыми интересными среди них оказались работы видного английского археолога Пола Шинни. Из них замбийская территория рисовалась своего рода «мостом», по которому бантуязычные носители культуры железа из Конго мигрировали через реку Луапула на восток и юг. Одной из самых интересных и богатых находками стала стоянка Каламбо, расположенная совсем неподалеку от миссии, у южного берега озера Танганьика. Радиоактивный анализ дал этим находкам датировку между 345 г. плюс-минус 40 лет и по крайней мере концом первого тысячелетия. При раскопках там обнаружили кучи железного шлака, сосуды с прорезным орнаментом, а также остатки жилищ из жердей и глины. Фрагменты «культуры Каламбо» широко распространены по всей Северной Замбии.
Не менее интересные поселения были обнаружены и изучены в центральной части этой страны. Возраст найденного там шлака определяется VIII–X веками. Обобщая сведения, которыми располагает сегодня наука, П. Шинни делает вывод: «В целом на территории Замбии мы имеем непрерывную последовательность культур раннего железного века, характеризующуюся первым появлением черной металлургии и керамики, которые датируются минимум IV или V веком».
Потом на глаза попалась статья венгра Эмиля Тордаи, работавшего в Южной Африке. Он выводил историю металлургии из кушитского Мероэ, воздавал должное кузнецам бассейна Конго, древней Ганы, нигерийской культуре Нок, а затем заключал: «Именно африканцы первыми изобрели плавку железа».
Читал я до полуночи, а в шесть часов утра ко мне уже постучали.
Глава двадцать седьмая
В лабиринте бесчисленных рек. — Интенсивная экономика в «болотном аду». — Плодородие почв порождает частную собственность. — Ил — главный груз, перевозимый пирогами. — Центр товарного рыболовства. — Легенда о складе бивней «убивает» слонов. — Пешком через болотные «губки» тинга-тинга. — Лучула — река в охристых берегах. — Каждая дернинка травы — лаборатория, где природа создает болотные руды. — Почему Замбия — «страна меди» — из века каменного вступила прямо в век железа?
Едут со мной двое учащихся миссии: Маиз, из бемба, и Бургхардт — батва. Имя это он, конечно, получил в миссии, настоящее имя у него длинное, я его не записал и теперь забыл.
Мы поплыли вверх по течению реки, которую Маиз называет Лусумба, а Бургхардт — Луто. Но похоже на то, что последнее не собственное название, а просто слово, обозначающее понятие «текущая вода», так как почти во всех языках банту Центральной и Восточной Африки корень «то» фигурирует в словах, связанных с реками, ручьями, протоками. «Лу», скорее всего, префикс, которым обозначают грамматический класс, включающий понятие «река». С него начинаются названия бесчисленных рек замбийского севера, в том числе и впадающих в Бангвеулу: Лукуту, Лулингила, Лубалеши, Луитикила, Лукула. Подобное деление всех существительных на именные грамматические классы — людей, деревьев, животных, вещей — одна из характерных черт языков семьи банту. Названия большинства африканских народов начинаются с префикса «ва» или «ба», обозначающего класс людей: вабемба, васуахили, барунди. Языки же, на которых говорят эти народы, обозначает приставка «ки» или «чи»: чибемба, кисвахили, кирунди.
Ближе к озеру Бангвеулу, там, где плавает много рыбачьих лодок, посреди реки есть фарватер с чистой водой, так что можно идти на моторе. Но потом растения почти закрывают реку, и длинные стебли кувшинок, наматываясь на винт, делают его почти бесполезным. Лодка идет очень медленно, через каждые несколько минут приходится выключать мотор, останавливаться и очищать лопасти от путаницы стеблей-веревок. Маиз предлагает отказаться от услуг техники и пользоваться более старым и надежным в этих местах способом — шестом.
Моросит дождь, пасмурно и в то же время довольно жарко. Воздух оранжерейный — вязкий, осязаемый. Растения лезут отовсюду, где есть хоть малейший клочок земли, селятся друг на друге. На берегу поваленные стволы гниющих деревьев лишь угадываются под махровыми подушками эпифитов. На редких живых деревьях, которые здесь называют «мазигиси», кое-где мелькают яркие орхидеи, прячущиеся среди бородатых лишайников.
Чем дальше мы плывем, тем больше становится обработанных земель. Подсечно-огневая система в этом царстве воды и сочной зелени неприменима, да и не к чему, поскольку илистая, удобряемая ежегодными разливами земля очень плодородна. Земледелие носит здесь постоянный характер, каждый участок закреплен за определенным членом племени. Получить новый надел, как рассказывает Маиз, почти невозможно, потому что на щедрые земли болот и богатые рыбой реки тянется много народу, а сухих мест мало. Землю распределяют старейшины. Каждый год, как только сойдет вода, намывающая новые и размывающая старые острова, старейшины соседних селений садятся в лодку и объезжают реки и болота — определяют границы влияния. В последнее время соседи все чаще выходят на совместные работы — главным образом роют осушительные каналы, что позволяет отобрать у болот новые площади. Человек, хотя бы год обрабатывающий участок, не может быть с него согнан.
В местах, где мы пробираемся, много островов, но распознать их очень трудно, поскольку они низкие, поросшие тем же тростником и папирусом, что и вода.
Только вокруг самого большого острова — Неумбу — видна расчищенная протока, по которой плавают пироги.
Многие лодки нагружены тиной. Ее «добывают» со дна реки и перевозят на поля, равномерно распределяя по поверхности в качестве удобрения. У большинства крестьян участки раздроблены, лоскуты полей, разделенные водой, находятся на большом расстоянии друг от друга. Поэтому движение по рекам здесь очень оживленное, а утром и вечером кое-где бывают даже часы пик.
Иногда проплываем мимо глиняных валов, сооруженных вдоль берегов островков. Это плотины, которые предохраняют поля, сдерживая воду в дождливый сезон. Их строят и ремонтируют жители Неумбу. Странно видеть обилие людей в этом «болотном аду» — одном из самых нездоровых, неподатливых для освоения районов Африки, зная, что почти вся остальная огромная территория Замбии безлюдна. Там сказывается недостаток воды, обилие мухи цеце и бедность почв. Бангвеулу — один из немногих районов интенсивного традиционного африканского земледелия.
Недостатки растительной пищи в этом болотном краю восполняет людям рыба. Рыболовство здесь давно приобрело товарный характер, уже сейчас озеро дает более четверти улова рыбы в Замбии. В городах «медного пояса» и даже в самой Лусаке мне попадались торговцы с Бангвеулу, привозившие на рынок груды сушеной, вяленой и жареной рыбы. В болотных селениях они, как правило, самые влиятельные и денежные люди, держащие в своих руках всех местных жителей. Приезжая в город, они занимаются оптовой продажей. В их «штате» — десятки мальчишек, которые продают рыбу у входа в африканские бары, харчевни, гостиницы, у остановок автобусов. В «медном поясе» им дали прозвище «пумбе» — по имени самой распространенной рыбы, привозимой с Бангвеулу.
Рыбы кругом полно. Стоит нашей лодке хоть ненадолго остановиться, как около нее появляются стайки мальков, а за ними важно всплывают жирные крупные рыбины. Обилие пищи, выносимой реками из болот, позволяет рыбе здесь очень быстро прибавлять в весе. Поэтому замбийцы считают Бангвеулу одним из наиболее перспективных районов развития рыболовства.
Маиз свернул на другую реку, очевидно тоже глубокую, потому что зелень на ней почти отсутствует. Через каждые несколько минут новый поворот, новый приток.
Миновав довольно крупную излучину, начинаем плавание по речушке, сплошь заросшей кувшинками. Маиз и Бургхардт о чем-то долго спорят и, наконец выработав общую точку зрения, излагают ее мне.
Впереди эта речушка становится очень мелкой, на протяжении двадцати километров она поросла лилиями, и лодку придется перетаскивать волоком. Они боятся, что до темноты мы не доберемся до Бвалья-Мпондо. Но если протащить лодку километра два на запад, то можно выйти к другой глубокой реке, в верховьях которой и стоит эта деревня.
«Волоком» продвигаться не пришлось: мешали заросли, бесконечные кочки и рытвины. Мы взвалили лодку на плечи и просто несли ее. Идущий впереди Бургхардт часто проваливался в ямы, лодка устремлялась вперед и норовила придавить его. То и дело ноги до середины голени уходили в холодную черную жижу, и вытащить их оттуда нам, придавленным лодкой и грузом, было не так-то легко. Вместе с жижей на теле оставались голодные пиявки. Если ноги не проваливались, а ступали на более или менее твердую почву, то рядом били фонтанчики черной воды.
Мы осторожно идем по тинга-тинга — болотным «губкам» Бангвеулу. Черная пористая почва «губок» покоится на слое белого промытого песка. Эта «подкладка», препятствующая просачиванию влаги вглубь, и определяет специфику гидрорежима всего этого удивительного болотного мира. В дождливый сезон «губки» впитывают в себя фантастическое количество влаги. Но когда дожди кончаются и наступает жара, «губки» всплывают со своего водопроницаемого основания и сквозь расширенные поры начинают источать воду, накопленную ими ранее. Не получая влаги с неба, болота питаются ею из-под земли, а реки разливаются через месяц-другой по окончании дождей.
Несмотря на то что мы двигаемся по водоразделу между двумя реками, никаких признаков его не видно. Местность совсем ровная, без намека на малейшую приподнятость. Мои спутники говорят, что месяца через два, когда тинга-тинга начнут источать воду, реки сольются и превратятся в единый широкий поток. В этих местах нет ни одного селения.
Мы шли еще около часа. Наконец спустили лодку на узкий, но глубокий ручей, который вскоре влился в большую реку Лучула, куда мы и направлялись. Справа, на запад, местность немного повышалась, там тянулись сплошные заросли высокой жесткой серебристо-серой травы. Кое-где были даже незалитые участки. Сперва вода в реке была чистой. Но чем дальше мы продвигались на юг, тем чаще на ее поверхности, особенно у берега, появлялась красноватая охристая пленка. Вокруг кочек медленно извивались струйки вязкой кирпично-оранжевой жидкости. Они впадали в реку и, долго не смешиваясь с водой, текли по течению.
Эти красные ручейки — одна из разгадок тайн африканской металлургии. И охристая пленка на реке, и вязкие струйки между кочками — окись железа. Каждая дернинка жесткой травы — своеобразная лаборатория, где сама природа создает болотные и дерновые руды на корнях растений.
«Страной меди» Замбия сделалась лишь в наши дни. Самородной меди здесь практически нет, а тугоплавкие руды «медного пояса» — Коппербелта, требующие высоких температур и сложной технологии восстановления, были недоступны африканцам. Кроме того, железные руды лежат здесь прямо на поверхности земли или на дне реки, медные же нужно выкапывать. А это — табу для многих племен, населяющих междуречье Конго (Заир) — Замбези. Под землей, по их представлениям, живут духи умерших, которых нельзя тревожить. Парадоксально, но жители одного из самых богатых медью районов земного шара — Замбии — вступили из века каменного прямо в век железа. Как и большинство народов Африки, они «перешагнули» энеолит — медно-каменный век — и бронзу. Первобытная металлургия Африканского континента начиналась прямо с железа.
Глава двадцать восьмая
Белого человека старики видят в третий раз. — В деревне ауши, родственников балуба. — О первопредке Муве, увидавшем железный метеорит Макумба. — Кузнецы-часана — это «дети Макумба». — Прежде чем «взять металл у камня», надо умилостивить кабана. — Цель достигнута: часана плавит железо!
Наше появление всполошило всю деревню. Бургхардт еще раньше говорил мне, что за свои пятнадцать лет не помнит, чтобы в этих местах появлялся белый человек. А здешние старики видели белых всего два раза. «Это были очень важные люди, расшитые золотом», — перевел их слова Бургхардт. Очевидно, речь шла об английских офицерах.
Ночевали мы в одной из хижин, принадлежавшей сыну старейшины, а сам владелец временно переселился к братьям.
Живут в деревне люди племени ауши. Английские этнографы считают, что это шестидесятитысячное племя — ветвь заирских балуба, причем в Заире, вдоль западного берега Луапулы, тоже есть селения ауши. Через Бургхардта я спросил об этом у старейшины. Оказывается, в прошлом ауши Бангвеулу были в вассальном подчинении у обитателей берегов Луапулы, так как вождь замбийских ауши Миламбо считался рангом ниже верховного вождя Чиньяма из Заира.
Старейшина был крепкий мужчина лет пятидесяти в шортах цвета хаки. На ногах у него красовались железные обручи. Как говорит Бургхардт, носить их может только человек, авторитет которого признается всеми жителями. Держался вождь просто, без пафоса. От него я узнал много интересного. Первые ауши пересекли Луапулу в середине XVII века, когда лунда и бемба начали заселять Замбию. Основателем поселений ауши на Бангвеулу считается Муве, который «впервые увидел под большим деревом бога племени, великого Макумбу».
Бургхардт, переводя эти слова, от себя добавил:
— Макумба — это длинный черный метеорит, который на глазах у Муве упал с неба. С тех пор старейшины надевают(?)[16] этот камень в традиционные наряды ауши и почитают как покровителя, спасшего народ от рабства и завоевателей-лунда. И еще одно, — переходя на шепот, говорит он, — когда будем ужинать, обязательно отлепите со своей консервной банки этикетку с изображением свиньи. У старейшин ауши помимо племенного есть свой личный тотем — «нгулубе», болотный кабан. Если кто-нибудь увидит, что вы употребляете в пищу мясо похожего на него животного, вас в лучшем случае выгонят из деревни.
Что же, не знаю, как насчет христианских идей, но критическое отношение к язычеству пасторы Бургхардту привили.
На вопрос о том, как местные племена научились плавить железо, старейшина что-то очень долго отвечал, а Бургхардт путался в переводе. Как я понял, старик говорил о какой-то существующей в представлении ауши связи между Макумбой, «который тоже железный», и часана — его детьми-кузнецами, а главное, о том, что вблизи Бвалья-Мпондо и сейчас еще есть люди, которые умеют плавить металл, и что он, старейшина, не против, чтобы я посмотрел, как работают часана.
— Мне сказали, зачем вы пришли в мою деревню, — говорит он, кивая на Бургхардта. — Мужчины уже пошли на реку собирать камни, в которых прячется железо.
Это еще одна удача в нынешнем путешествии, потому что у большинства народов Центральной Африки работа кузнецов окружена ореолом таинственности. В одной из моих прошлых поездок по Замбии в деревнях лунда со мной никто даже не захотел разговаривать о железе и кузнецах, которые объединены там в нечто вроде тайного общества.
На следующее утро я проснулся очень рано и поспешил выйти из хижины. Легкий туман стелился над дэмбо. Селение раскинулось среди болот, тропинки-улицы между тростниковыми хижинами выложены бревнами. Такие улицы я видел в Игарке, где распространена вечная мерзлота. А здесь — «вечные болота». На другом берегу реки, на невысокой длинной гряде, темнел лес. Деревня уже проснулась и приступила к обыденным делам. Мужчины волокли к воде корзины — ловушки для рыбы. Положив на голову мотыги, плыли к своим огородам женщины. Кое-кто нес с реки воду. Но местное ведро на голову не поставишь: оно мягкое, сделанное из кожи. Тыквы на Бангвеулу не растут, поэтому здесь не делают калабашей; гончарное ремесло неизвестно из-за отсутствия глины, а до изготовления железных сосудов местная металлургия еще не доросла.
На краю деревни я увидел камышовый навес, а чуть поодаль — догорающий костер. Там всю ночь заготавливали древесный уголь для плавки. Под навесом мелькают фигуры старейшины и еще нескольких мужчин. Но без приглашения идти туда я воздерживаюсь. Как-никак кузнец — дитя самого Макумбы, и неизвестно, может ли посторонний присутствовать при ритуалах, совершаемых перед началом таинства получения металла.
Бургхардт появился лишь через час.
— Все готово, часана ожидает вас. Он только просил оставить в хижине все металлические вещи, потому что неизвестно, в каких отношениях покровитель сделавшего их мастера с Макумбой, — смущенно передает он. Так мне пришлось расстаться с фотоаппаратурой.
Часана — сухонький тщедушный старик, руководящий всей процедурой. Зато два его подмастерья, как и положено настоящим кузнецам, мускулистые, кряжистые, уверенные в себе. Старик подозрительно осматривает меня и через Бургхардта говорит, что за всю свою жизнь еще никогда не «брал из камня» металл в присутствии чужих. Он согласился сделать это лишь по просьбе старейшины, но, прежде чем приступить к делу, хочет знать причины моего интереса к его ремеслу.
Ответить на такой вопрос подобной аудитории довольно трудно. Я путано объясняю, что почти везде железо плавят много людей в очень больших печах и что кое-кто не верит, что ауши могут в одиночку добывать металл из камня. Поэтому я пришел сюда просить у часана показать мне, как дети Макумбы умеют расплавлять мотапо и делать из него хорошие металлические вещи.
— Гость слышал о Макумбе? — удивляется он.
— Да, я слышал о Макумбе и знаю, что он похож на изделия, которые делают часана. Теперь я хочу собственными глазами убедиться, что это правда.
Кузнец-старик о чем-то с удивлением спрашивает у старейшины, тот отрицательно качает головой. Потом такой же вопрос задает Бургхардту. Тот тоже отнекивается.
— Если гость знает главную тайну нашего покровителя, то он должен знать и тайны моего искусства, — говорит он и бросает несколько отрывочных фраз подмастерьям. Те приступают к делу.
Близ Дар-эс-Салама, по дороге в Багамойо, есть музей, в котором я видел поразительное глиняное сооружение, прообраз домны, в которой танзанийские племена раньше плавили металл. Здесь из-за отсутствия глины все обстоит гораздо проще. В яму полуметровой глубины, обмазанную илом (это удерживает тепло и мешает загрязнению металла), бросают древесный уголь. Потом с помощью примитивных мехов — кожаного мешка, к которому приделаны две палки, — раздувают огонь и кидают в него несколько клочьев леопардовой шкуры.
Леопард — главный враг кабана нгулубе, тотема старейшины. Раньше старейшины всегда были кузнецами, и поэтому, чтобы умилостивить болотного кабана, перед началом плавки ему в жертву всегда приносили целого леопарда. Теперь старейшина не всегда бывает кузнецом, и плавка металла не такое важное и доходное дело, чтобы сжигать ставшего редкостью леопарда. За одну его шкуру можно получить куда больше, чем за все мотыги, которые здесь делают. Часана говорил, что уже три года не разжигал свою печь.
Пока старики что-то бормотали над потрескивавшей в огне шерстью, подмастерья притащили тростниковые корзины, доверху наполненные черной, тускло поблескивающей в бликах костра породой. Ее побросали в раскаленную яму и начали раздувать огонь мехами.
То была болотная руда, богатая закисью железа. При местной, первобытной сыродутной технологии она, пожалуй, самое подходящее сырье. Содержание металла в такой руде приближается к шестидесяти процентам, железо начинает восстанавливаться при очень низких температурах, а затем превращается в мягкую, легко поддающуюся обработке крицу.
До полудня работали подмастерья, а старый часана ходил вокруг печи, время от времени испуская какие-то гортанные звуки. Потом, подняв валявшийся в луже кол, он подцепил из ямы пылающий жаром розово-огненный осколок, постучал по нему камнем и приказал подмастерьям оттащить меха в сторону. Втроем с помощью палок они извлекли спекшуюся крицу наружу и, когда она вновь потемнела, большим угловатым камнем разбили на несколько частей. Это были комья из восстановленного железа, застывшего шлака и прилипшего к ним угля. Положив кусок крицы на плоский камень, старик несколько раз ударил по ней другим камнем. Но недовольно закачал головой, сплюнул и приказал вновь побросать все в яму.
— В железе осталось слишком много шлака и угля, — переговорив со стариком, объяснил Бургхардт. — Такое железо нельзя ковать. Надо опять прокаливать и удалять шлак.
Вновь загудели мехи и забубнил заклинания часана. Жар был уже не таким сильным, и поэтому, наклонившись над ямой, можно было заглянуть в тайны первобытных мастеров, увидеть в зародыше процесс, в результате развития которого могли появиться автомобиль и искусственный спутник Земли.
Когда крицу вновь извлекли на поверхность, ее уже не оставили на земле, а на кольях сразу же оттащили под навес. Там на большом отполированном камне-наковальне подмастерья завершили таинство превращения куска болотной руды в металлическое орудие. Молот им заменял прямоугольный каменный брусок, перевитый буйволовыми сухожилиями-держаками. Взявшись за них обеими руками, кузнецы ковали тестообразную крицу. При каждом ударе каменного молота шлак из нее выдавливался, а кристаллы железа спрессовывались, сваривались. В древности на Руси, где тоже знали этот способ плавки, такое железо именовали сварочным.
То, что было потом, уже ничем не отличалось от обычной картины, которую можно увидеть в любой африканской кузнице. Подмастерья попеременно ударяли своими молотами по куску металла, потом вновь нагревали его и снова ударяли. Поздно вечером, уже при свете костров, усталый, но довольный часана протянул мне черный наконечник стрелы.
Я поблагодарил старика и сказал:
— Теперь я могу рассказать всем, что мастера-ауши умеют добывать железо из камней.
— Нет, железо дает нам великий Макумба, — убежденно сказал он.
Глава двадцать девятая
Мои друзья маконде. — Мнение ученых: самый малоисследованный бантуязычный народ Восточной Африки. — Плато Муэда — естественная крепость. — Татуировка и губной диск пелеле, спасавшие от работорговцев. — Уроки арифметики. — Матриархат под пологом миамбо. — Деревянная скульптура и истоки рода человеческого. — Взаимоотношение реального и потустороннего. — «Духов можно перехитрить!»
— Я так и знал, что ты вернешься, Сержио, — приветствовал меня Ликаунда, сидевший под раскидистым деревом и с видом философа рассматривавший сучковатый кусок ствола черного дерева мпинго. — Еще недели три назад я вырезал смешного шитани[17] и с тех пор все просил его поведать тебе о том, что надо приехать ко мне. Я спрятал шитани в лесу: среди родных деревьев ему будет лучше. Но теперь, пожалуй, я схожу за ним.
— А, это ты, со[18] Сержио! — протягивая мне для приветствия руки, воскликнул деревенский учитель Мпагуа. — Сколько же это тебя не было видно у нас? Пожалуй, с самого начала чуки[19]. Непременно заходи сегодня вечером ко мне.
Когда же меня завидел 82-летний Нангонга — местный мудрец и заводила всех мальчишеских игр, то издалека помахал мне рукой, словно мы виделись лишь вчера, шикнул на прыгавшую вокруг него ребятню и закричал:
— Вот уже третье полнолуние, как у меня бессонница. Это все потому, что ночью не с кем стало поговорить. Ты опять остановишься у меня в хижине? Тогда я пойду подтяну ремни на иголи[20]. Я очень рад, что вновь вижу тебя.
Был и я рад вернуться к своим друзьям маконде. Всякий раз, когда я оказывался на мозамбикском севере, моя душа и сердце рвались к этим людям, с которыми я познакомился еще тогда, когда Мозамбик был португальским, а их земля уже гордо именовалась «освобожденной зоной». С тех пор я бывал в их деревеньке раз семь или восемь. Иногда гостил в ней неделями и каждый раз уезжал с ощущением, что расстаюсь с прекрасными людьми — простыми, гордыми и честными. Общение с ними всегда обогащало меня, порождая чувство прикосновения к чему-то большому, общечеловеческому.
Лесная деревня «моих» маконде затерялась на полпути между обозначенными на карте селениями Намава и Шиньонго. Они расположены в самом центре плато, носящего название Муэда, — естественной «крепости» маконде.
Плато это не столь труднодоступно, сколь ничем не привлекательно для всякого рода грабителей, захватчиков и колонизаторов. Муэда лишено воды и покрыто скудными, местами каменистыми почвами. В ландшафте плато преобладают труднопроходимые кустарники, у которых колючки порою изогнуты в виде крючка. Нелегко выбраться из этих зарослей, так как колючки не отпускают проникшего в буш путника.
Ограниченное с севера рекой Рувумой, а с юга — Месало, это плато на протяжении нескольких веков вплоть до начала освободительной борьбы ФРЕЛИМО[21] было для мозамбикских маконде своего рода микромиром, за который они не выходили, но и в пределы которого никого не впускали. Подобная «географическая ограниченность» нашла свое отражение даже в языке мозамбикских маконде, для которых Рувума и Месало стали своего рода «началом и концом света», полярными точками мироздания. Так, понятие «север» передается на киконде выражением «кулухума» (там, где Рувума), а юг — «кумвало» (там, где Месало).
К северу от Рувумы, по которой проходит современная мозамбикско-танзанийская граница, лежит столь же неприветливое в природном отношении плато Маконде, на котором живут примерно три четверти этого некогда единого народа, общая численность которого приближается в обеих республиках к миллиону человек. Однако танзанийские маконде в связи с большей активностью английского колониализма и с тем, что Танзания добилась независимости почти на пятнадцать лет раньше, чем Мозамбик, уже вышли за пределы своего плато. Они не чураются тяжелой работы и поэтому слывут лучшими рубщиками на плантациях сизаля. Многочисленные деревни-кооперативы маконде — резчиков по дереву я встречал за сотни километров от их этнотерритории — под Дар-эс-Саламом, Багамойо и даже вблизи кенийской Момбасы.
Что же касается мозамбикских маконде, то они, по единодушному мнению исследователей, до сих пор остаются наиболее изолированным и малоисследованным бантуязычным народом Восточной Африки.
Если труднодоступное плато Муэда было первой естественной «линией обороны» маконде, то их деревни можно было назвать «второй линией», созданной уже руками человека. Английский путешественник О’Нейлли в 1882 году сумел проникнуть в населенную маконде деревню Мауиа, расположенную на самой периферии плато. Он писал: «Селение это окружено стеной из растительности шириной 60–80 футов. Колючие деревья и кустарники посажены настолько густо, что нет никакой возможности проникнуть сквозь них ни человеку, ни даже животному». Португальский этнограф Д. Диаш уже в 30-х годах нашего столетия свидетельствовал, что деревни маконде круглые сутки охраняются вооруженными ружьями мужчинами, а на ночь вдоль тропинок, ведущих к селению, устанавливаются самострелы, обычно используемые при охоте на крупную дичь.
Проходя теперь по деревне маконде, узнавая знакомых и вглядываясь в лица новых для меня людей, я думаю о том, что могло способствовать ложному, но столь распространенному даже сейчас мнению о маконде как о людях с «грозной репутацией». Наверное, их суровые, как и природа каменистого плато, лица, отражающие твердость характера. Во-вторых, «непохожесть» всего облика маконде на соседей.
Лица их юношей, а у мужчин постарше и спина пересечены широкими рубцами — результат сложной и болезненной операции, которой раньше подвергались юные маконде, чтобы иметь право сказать: «Я — мужчина». У каждого второго-третьего мужчины передние зубы заточены так, что создается иллюзия: у них во рту по собственной пиле. У женщин такие подпиленные резцы встречаются еще чаще. Женщины средних лет, а тем более старухи обезображивают свои лица ношением пелеле.
Пелеле, или жажа, — это диск или кольцо, вставляемые в разрезанную нижнюю губу. У жен бедняков он оловянный или деревянный, в семьях побогаче — из слоновой кости. Этот диск играл раньше ту же роль, которую играет у других народов обручальное кольцо. Пелеле изготавливал для своей невесты сам жених, перед свадьбой он собственноручно вдевал его в предварительно прооперированную местным нганга губу своей будущей супруги. На протяжении совместной жизни, по мере того как черты лица стареющей женщины изменялись, а губа отвисала, диск несколько раз заменялся на новый, больший по размеру. В результате диаметр жажи у некоторых женщин достопочтенного возраста мог достигать восьми — десяти сантиметров. Когда обладательница подобного украшения интенсивно артикулирует (а язык киконде требует этого почти всегда) или тем более смеется, губа ее приподнимается, скрывая оба глаза, а в отверстие пелеле просовывается нос, под которым обнаруживаются подпиленные, но никогда не знавшие дантиста зубы.
Многие маконде протыкают себе ноздри, вставляя в них индона — 5—7-сантиметровые узкие палочки из олова, торчащие в обе стороны.
— Нангонга, а не были бы ваши женщины красивее, если бы они украшали себя так, как это делают соседние племена? — спросил я как-то у старика.
— А тебе, как и всем мафуташ[22], не нравятся наши женщины? — захохотал он. — Вот и хорошо: нам, мужчинам, спокойнее. А ты знаешь, что именно пелеле спасли народ маконде?
— Это еще почему? — удивился я.
— Да потому, что, когда на берега Рувумы вторглись завоеватели-нгуни, порастерявшие по пути с юга всех своих женщин, наших они не брали именно из-за пелеле. А когда наши соседи яо снюхались с арабами и мазунгуш[23] и началась торговля рабами, старейшины и вожди маконде, вспомнив прошлое, решили: надо вдевать пелеле не только женам, но и девушкам, тогда за ними не будут охотиться. Так мы и сделали, и пелеле опять уберегли наш народ.
— Не хочешь ли ты сказать, Нангонга, что рубцы на твоем теле и зубы вроде пилы уберегли маконде от проникновения на плато колонизаторов? — подзадорил я старика.
— Хе-хе, со, — довольно усмехнулся он. — Спасли, конечно, не только они, но это тоже сыграло свою роль. Глядя на нас, арабы, а затем мафуташ испытывали страх. Ведь те, кто хотели поработить нас, тоже люди, у них есть свои духи и свои боги, свои предрассудки. Все это помешало им на первых порах сунуться к нам, а нам дало время для того, чтобы поосмотреться и понять: каучук, копал и слоновую кость, которыми мы торговали с арабами, а потом и с англичанами, надо менять не на тряпки, как мы это делали раньше, а на ружья. Так мы и начали делать. И поэтому, когда позже мазунгуш перестали бояться нашей внешности и сунулись к нам, мы встретили их хоть и старыми, но ружьями. Я-то отлично помню те времена! Мы, маконде, единственные в этих местах, кто стрелял в португальцев не из лука, а из ружья. Вот так-то!
Нангонга затянулся сигарой-самокруткой, потом добрая улыбка озарила его морщинистое лицо.
— А теперь партийные комиссары правильно говорят: не нужны больше ни пелеле, ни острые зубы. Под сенью миамбо[24] стало так хорошо и спокойно. Вокруг нас нет врагов, и поэтому посмотри, какие красивые девушки выросли у маконде с тех пор, как мы стали жить в «освобожденной зоне». А какие у нас прекрасные дети! — сказал старик, кивая в сторону большой хижины-школы.
Там вокруг Мпагуа собралась детвора, чтобы заняться устным счетом. И отнюдь не на «дополнительные занятия», а просто так, из любви к работе мысли.
Это старый обычай, распространенный среди маконде и макуа. Он описан португальскими этнографами еще в начале века. Ближе к закату солнца местные старики по очереди выходили на деревенскую площадь и с помощью камешков или пальцев учили совсем маленьких счету. А затем приходили дети повзрослее, и начинался урок арифметических действий.
У нас с Мпагуа уже стало традицией: когда я появляюсь в деревне, то тоже участвую в игре. Своим ученикам он объяснил это так: «Мафуташ как ребенок. Он плохо говорит и оттого медленно соображает. Поэтому он считает еще хуже, чем вы».
Языковых трудностей я, однако, в этой игре не испытывал, поскольку числительные на киконде мало чем отличаются от суахилийских. Проблема для меня состояла в другом, о чем даже и не догадывался сельский учитель Мпагуа.
Дело в том, что математический счет у маконде основывается на сочетании десятичной и пятеричной систем. Выглядит это так: 1 — «иму», 2 — «мбили», 3 — «инату», 4 — «нчече», 5 — «мвану» — все ясно и понятно. Но 6 обозначается как «мвану на иму», то есть 5 + 1; 7 — как «мвану на мбили», и так до 10, переводящегося словом «куми». Образование числительных, кратных 10, идет по тому же принципу: 20 — «макуми мавили», то есть 10 дважды, 30 — «макуми матату» — 10 трижды, но 60 уже «макуми мвану на лимо», что примерно равнозначно: 10 пятерок и единица с нулем, 70 — «макуми мвану на мавили» — 10 пятерок и двойка с нулем, и так далее до 100 — «макуми куми» — 10 десяток. Понятно, что для юных маконде, не знающих десятичной системы, словосочетание «макуми мвану на лимо» было готовой лингвоматематической идиомой, автоматически воспринимаемой ими как 60. У меня же этого автоматизма на языке киконде быть не могло: сама идиома была для меня арифметической задачей: (10x5) + 10.
Когда я оказывался в «отстающих», то есть не решал задачу на сложение или вычитание первым, никто на меня не реагировал.
Но когда я вылезал вперед всех с неправильным ответом, всеобщему восторгу не было границ. Мне казалось, что даже самому Мпагуа импонировало это превосходство его подопечных над заезжим мафуташ, обвешанным фотоаппаратами. Что же касается самих детей, то вскоре их главной целью стало не дать правильный ответ, а получить удовольствие от моей ошибки. Мое присутствие начинало представлять собой угрозу для самого педагогического мероприятия.
Как-то после моей очередной ошибки Мпагуа, дружелюбно подмигнув мне, произнес, слегка ударяя себя ладонью по лбу:
— Мути, мути[25]. Тебе лучше, со, пойти проспаться. Утром голова, равно как и воздух, всегда чище.
Посрамленный, я иду отдохнуть к хижине Нангонги. Но его на месте нет: конечно же непоседливый старик ушел на собрание, где сегодня, как мне поведал Мпагуа, обсуждается «незаезженная», по местным понятиям, тема: «эмансипация женщины». Но про меня добрый старик не забыл: раму кровати перетянул свежим упругим лыком, заменяющим здесь пружины. А рядом, на дощечке, поставил невесть где добытое им, старым холостяком, угощение, явно приготовленное женскими руками: в железной миске большой шарик теста из маниоковой муки, а рядом вырезанная из дерева кружка с подливкой из истолченного в растительном масле арахиса. От большого шарика — кои — руками надо отщипывать кусочки, макать их в подливу — мчовела — и класть в рот. Таков у маконде каждодневный ужин. Обычно он более плотный, чем обед.
Закончив трапезу, я с наслаждением вытягиваюсь на пахнущей свежестью иголи. Сколько интересных легенд и мудрых житейских историй услышал я от Нангонги в его хижине, лежа на этой кровати! Правы те, кто говорят: «Когда в Африке умирает старик, это значит, что погибла целая библиотека никем не прочитанных книг».
С чего начал Нангонга тогда, в нашу первую встречу, когда дождь загнал меня под эту крышу на целых две недели, сделав все вокруг непроезжим и непреодолимым? Ну конечно же я спросил Нангонгу, кто такие маконде, откуда пошел его родной народ. И старик в такт дождю затянул монотонным голосом, как того требует традиция, древнюю легенду.
— Сначала в мире было «кучанья» — небо, «лидува» — солнце, «мведи» — луна и «кундонде» — земля. Между ними, где хотел, жил Мвене Ндунгу — большой дух, или, как говорят мафуташ, бог. Чаще всего он бывал на земле, потому что по ней ходили всякие звери и росли всякие деревья и цветы. А между ними слонялось одно-единственное существо, не имевшее себе подобного. Это потому, что Мвене Ндунгу не создавал его. Существо это было грязным и волосатым, спало в пещерах и среди скал. Оно вставало вместе с солнцем, охотилось и ловило рыбу, ело плоды, ни в чем не чувствуя недостатка. По ночам существо являлось к зверям и птицам: ему было одиноко одному на земле и хотелось помочь хоть кому-нибудь.
— Так, может быть, это был самый-самый первый шитани? — шутливо спросил я.
— Ты тоже так думаешь? — оживился Нангонга. — И мне все время кажется, что то единственное существо, которое творило ночью добро, не кто иной, как первый шитани. Потому-то он и не был сделан Мвене Ндунгу, что был дух, сам себе хозяин. Я как-то даже вырезал этого первого шитани из дерева. Это была большая голова, из которой рос хвост. Скульптура была очень смешная, я ее потом отдал партизанам. — Как будто переносясь в другой мир, старик проговорил это своим иронически-бодрым тоном, а затем вновь забубнил легенду: — А потом дух решил помочь сам себе. Утомленный одиночеством, он взял большой кусок дерева и любовно вырезал из него фигуру прекрасной женщины. Он изваял ее сидящей, поставил у своей холодной пещеры и лег спать, не зажигая костра.
Но ночью дух проснулся оттого, что неожиданно ему стало тепло: это рядом с ним легла женщина, которая ожила из скульптуры. В благодарность за то, что дух создал ее, женщина подарила странному существу любовь, наделила его способностью мыслить и говорить, то есть сделала настоящим мужчиной. Так на земле возникла первая супружеская пара.
Они соединились в любви у реки, но первый ребенок, который у них родился, умер. «Это плохое предзнаменование, — сказала женщина, — Давай перейдем в те места, где растут сухие травы, подальше от реки». Так они и сделали, но их второй ребенок тоже умер.
Тогда женщина опять сказала: «Надо уйти в более высокие и сухие места, где растут густые кусты». Так первые люди появились на плато. Там у них в третий раз родился ребенок. Он выжил. Это был первый маконде. Так начался род человеческий.
Расчищая под поля все новые и новые участки каменистой земли, маконде умудрялись собирать неплохие урожаи кукурузы, сорго, кассавы, тыквенных и бобовых, сезама и арахиса. Зачастую орошались их поля лишь утренней росой. И тем не менее это была сельскохозяйственная страна, производившая даже излишки продовольствия для торговли с соседями. Трудностей было много, но маконде предпочитали мирную и свободную жизнь на своем плато тем притеснениям колонизаторов, которым неизбежно подверглись бы, спустись они в плодородные низины.
Так, хозяйкам нередко приходится вставать в 4–5 часов и отправляться вниз, к реке, преодолевая в оба конца не менее двадцати километров. Однако, подчиняясь матери-прародительнице, повелевшей жить на плато, женщины не поднимают бунт и не требуют строить селения у реки.
В остальном женщина у маконде пользуется куда большими «льготами», чем у соседних народов. Достаточно сказать, что, поскольку, согласно все той же легенде, именно «женщина сделала мужчину разумным человеком», она имеет право выбора. Маконде отвергают идею покупки жен, в отличие от традиций соседей-мусульман либо народов, придерживающихся аналогичного обычая, навязанного зулусами-нгони. Традиционное право маконде не дает родителям девушки юридических оснований выдать ее замуж лишь по их воле. Неверность со стороны мужа наказывается у маконде так же жестоко, как во всей Африке карается только измена жены. Нарушившего брачный союз изгоняют из дома и лишают не только материальных, но зачастую и родительских прав. Родство здесь считается только по материнской линии, а муж после свадьбы поселяется в семье своей жены или в крайнем случае в ее деревне. Все это напоминает матриархат.
И вот сегодня, когда Нангонга вернулся с затянувшегося на пять часов и кончившегося за полночь собрания об «эмансипации», вся его мужская натура кипела от негодования.
— «Воинственный народ»! «Кровожадные маконде»! — ворвавшись в собственную хижину, обрушил он на меня возмущение оскорбленного мужчины. — Сержио, ты только скажи мне, где ты видел воинов, которыми командуют женщины? Если бы хоть один из мафуташ продрался сквозь колючки на плато и, не испугавшись наших зубов и пелеле, повнимательнее пригляделся, что к чему, то он бы понял: мы — самые кроткие люди на земле, потому что нами руководят женщины.
Из дальнейшего сбивчивого рассказа Нангонги я узнал, что произошло на собрании. Приехавший откуда-то с юга молодой парень прочитал подготовленную в «общенациональном масштабе» лекцию, из которой Нангонга и все его односельчане узнали: у многих племен женщина находится в подчиненном положении, ее эксплуатируют, не выдвигают на руководящие посты, оскорбляют многоженством и так далее. Обо всем этом мужчины в деревне и не подозревали, им оставалось лишь пожалеть о своих «упущенных возможностях». Что же касается обычаев маконде, то лектор их даже похвалил, дав повод кое-кому выступить с чем-то вроде «самокритики».
— Ну а как же вы дошли до жизни такой? — подзадорил я Нангонгу.
— Эх, со! Я же тебе еще в ту первую ночь, когда мы познакомились, сказал: нами управляет легенда. И-их, забыл! Я же нашел тебе женщину из той легенды…
— ??? — Я широко открыл глаза.
Нангонга, кряхтя, встал со своей кровати и в чем мать родила вышел из хижины. Вернулся он минут через сорок — явно ходил куда-то далеко в лес.
При свете включенного им электрического фонарика я увидел, что старик стоит передо мною, держа в объятиях довольно большую, выше метра, женскую фигуру, вырезанную из светлого дерева. Я взял ее в руки — меня удивила легкость скульптуры по сравнению с теми неподъемными вещами из мпинго, которые обычно выходят из-под резца маконде. Да и сработана она была грубо и примитивно, в отличие от современных замысловатых шедевров.
— Вот, — сказал он победоносным тоном. — Помнишь, в один из твоих прошлых приездов я говорил тебе о том, как каждый мужчина-маконде уважает свою мать и что после кончины она им обожествляется?
— Помню, — сказал я.
— Но тогда я не сказал тебе, что в прежние времена каждый сын после смерти своей матери шел к прорицателю-ому и просил у него разрешения срубить в лесу священное дерево нжала. Из его ствола он вырезал фигуру своей матери, которая всегда стояла в его хижине. А если сын отправлялся в дальний путь или на охоту, то должен был привязать подобную фигуру к спине, чтобы глаз духа матери видел его и оберегал от порчи.
— А где ты взял эту скульптуру? — спрашиваю я у Нангонги.
— Она всегда живет в лесу, — отвечает он. — Это мать вождя рода, который создал нашу деревню. Такая мать покровительствует всем, кто живет в деревне.
— Интересно, как молодежь относится к таким скульптурам?
— Молодежь, прежде всего те, кто воевал в освободительных отрядах и учился в школе, понимает мир по-своему… — задумчиво отвечает старик.
А как понимают его он и его сверстники? Такой вопрос, конечно, в лоб не задашь. Но из того, что я усвоил из наших предыдущих ночных бесед, следовало: большинство маконде думают, что «жизнь есть везде», что каждое существо и каждый предмет живут по своим законам. Маконде считают, что человек своим поведением, поступками, мыслями может самым существенным образом влиять на окружающую его среду, направляя развитие событий в нужном ему русле. Не в последнюю очередь это относится и к взаимоотношениям с потусторонними силами, и в первую очередь с душами предков, которые, как утверждает Нангонга, «остаются в племени» и «активно вмешиваются в дела живых». Как правило, своим родственникам и близким души усопших являются во сне. Снам придается первостепенное значение: их нередко обсуждают в самом широком кругу соплеменников, с тем чтобы, приняв решение, отвечающее интересам живущих, «повлиять» на души ушедших из жизни.
Подобная вера в единство реального и потустороннего и вытекающее из этой веры стремление «отрегулировать взаимоотношения» между «двумя мирами» очень важны для понимания мироощущения маконде, особенно если учесть, что последнее слово в этом диалоге они оставляют за живущими. «Духов можно задобрить, убедить, переспорить, подкупить и даже перехитрить, — поведал мне как-то Нангонга. — Ведь они как люди».
Признание это очень интересное, потому что если традиционно мыслящие малагасийцы, недоказанные «родственники» маконде, нередко идут на поводу у духов своих предков, соизмеряя свое поведение с трактовкой сна или советом-приказом предсказителя, то маконде постоянно борются с выдуманными ими духами, чтобы в конечном счете навязать им свою волю, В этих же целях маконде считают необходимым всеми доступными способами укреплять свои связи с духами и поддерживать их. Опять процитирую Нангонгу: «Дух как человек. Когда он здоров — у него хорошее настроение и он делает окружающим добро. Когда же его одолевают хворь и неприятности, он думает только о себе и огрызается на других. Поэтому мы должны любить ушедшие от нас души и заботиться о них». Чему же тогда удивляться, что маконде не боятся смерти. Она для них лишь переход в состояние, гарантирующее идеальные отношения со всеми соплеменниками.
Мои размышления прерывает мощный взрыв, раздающийся где-то неподалеку.
— Такого я не слышал с тех пор, как мы избавились от португальцев, — говорит старик. — Похоже на мину. Однако что же это на самом деле?
Пока он одевается, высказывая предположения о случившемся, просыпается вся деревня. Шума, по-моему, гораздо больше, чем от взрыва. Но постепенно голоса затихают: все бегут в сторону происшествия. В наступившей тишине, нарушаемой лишь трескотней цикад, я засыпаю.
Глава тридцатая
Слониха подрывается на мине. — Экология и мифология. — Африканские резные фигуры в роли наглядных пособий. — Учитель Мпагуа о наследии «лесных школ». — В поисках «сосуществования» между традиционным племенным мышлением и современной идеологией. — Истоки «абстракционизма» в скульптуре маконде. — Праздник по поводу мясного изобилия. — Номбе — напиток сильных людей. — Маски мпико выходят из гаража
Однако незадолго до рассвета меня будит нарастающий гул человеческих голосов. Через открытую дверь хижины я вижу, как из тумана, окутавшего миамбо, «проявляется» толпа людей. Идут они почему-то довольно медленно. Но что это за странное существо ростом по пояс человеку движется впереди? От зверюги таких размеров впору бы убежать! Неожиданно по обе стороны от узкой головы «зверюги» возникают два гигантских уха… Слоненок!
Я вскакиваю с кровати и бегу навстречу людям. Вот он, крохотный, еще не совсем уверенно держащийся на ногах будущий великан африканского буша. Женщины гонят его к деревне. Мпагуа объясняет мне:
— Слониха подорвалась на мине. Когда-то мы хотели поставить на том месте деревню. Португальцы пронюхали об этом и зарыли вокруг несколько мин. Две из них давно уже взорвались, и с тех пор туда никто не ходит. А вот слониха напоролась, погибла… Слоненку месяца два, не больше.
На тотчас же состоявшемся собрании началось длительное обсуждение случившегося. Из дебатов я узнал, что слоны на плато поднимаются очень редко, что тридцати-сорокалетние жители деревни их вообще никогда не видели. Было постановлено: бивни слонихи отослать властям в Муэду, а тушу разделать на мясо и сообщить о случившемся во все соседние деревни, пусть их жители приобщатся к неожиданному пиршеству. Слоненку решили дать имя Нембо[26]. Десятка полтора мужчин отправились заготавливать лес, чтобы сделать загон для Нембо. Остальные, вооружившись топорами, пилами и ножами-мачете, пошли разделывать тушу слонихи. В деревне остался лишь Мпагуа со своей ребятней, устроившейся постигать азы знаний в тени деревьев.
Я подошел поближе, стараясь оставаться незамеченным. Явно стремясь не отрывать обучение от жизни, учитель использовал ночное происшествие для того, чтобы поговорить о взаимоотношениях человека с природой, о том, как маконде должны любить лес, защитивший их от завоевателей. Живо и наглядно, используя племенную мифологию и не делая тайны из того, каких верований и ритуалов придерживались их предки еще в недавнем прошлом, Мпагуа призывал любить лес и его обитателей, жить в строгом соответствии с законами природы.
Нет, не подумайте, что учитель призывал фетишизировать деревья или поклоняться лесным духам! Его урок был очень интересной попыткой найти какую-то разумную форму сосуществования, модус вивенди между традиционным образом мышления маконде, обожествлявших миамбо, и современной идеологией. Речь шла не о признании превосходства леса и подчинении ему. Эту традиционную идею Мпагуа отвергал и объяснял своим ученикам причины ее несостоятельности.
Время от времени то один, то другой из учеников подходил к учительскому столу, брал разложенные на нем деревянные резные фигурки, объяснял, что они означают. Наклоняясь к земле, они поднимали резные монолиты из мпинго, что-то показывали и рассказывали по ним. Но говорили ребята тихо, разобрать содержание ответов мне не удавалось.
— Я сразу же заметил, когда вы «подкрадывались» к нам, — протягивая мне руку, сказал Мпагуа, лишь закончился урок и я подошел к нему. — Знаете, многие не согласны с тем, что я привлекаю к занятиям в качестве наглядных пособий эти резные фигурки и скульптуры. Кое-кто даже писал на меня в Мапуту, обвиняя в том, что я «тяну современную школу в прошлое», приучаю ребят верить в шитани и чуть ли не поклоняться идолам. Чушь! Ничего подобного я, конечно, не делаю. Скульптуры эти — элементы нашей культуры, за ними скрываются не только язычество и архаические ритуалы, но и морально-этические ценности, на протяжении веков накапливавшиеся нашим народом. И я не считаю себя вправе лишать их нашу молодежь.
— А чем же тогда закончились ваши отношения с Мапуту? — поинтересовался я.
— Ну съездил туда. С работы хотели выгнать, кое-кто даже в «лагерь по перевоспитанию» предлагал послать. А я, когда отсюда уезжал, перед разговором с начальством почти наизусть выучил то, что говорил о традиционном обучении в Африке товарищ Эдуарде Мондлане. И в самой высшей инстанции, где решалась моя судьба, процитировал эти мысли товарища Мондлане. Меня поддержали, а те, кто кашу заварили, кто говорили, что я «реакционер», — втык получили.
— Какая же цитата из Мондлане спасла вас?
— Есть у основоположника ФРЕЛИМО мысль о том, что в доколониальные времена у многих мозамбикских народов существовала система традиционного образования, которая в условиях сельской общины вполне оправдывала себя, формируя полноценных членов общества, давая им возможность получить знания и приобрести опыт, необходимый для самостоятельной жизни. Товарищ Мондлане писал также, что у некоторых племен такое обучение подрастающего поколения было поставлено очень хорошо. Подростков учили беспрекословно подчиняться общепринятым нормам и законам племени. Молодых готовили к суровым испытаниям жизни: им приходилось недосыпать, выполнять тяжелую работу, совершать длительные переходы, жить без всяких удобств. Цель такого обучения — дать моральную закалку и привить трудовые навыки. У некоторых племен подростки, объединенные в специально созданные «общества для посвященных», изучали также основы традиционного права. Для лучшего усвоения знаний старики инсценировали перед ними судебные разбирательства. Молодежь, объединенную в эти общества, знакомили также с художественными промыслами, ремеслами, сельскохозяйственными навыками, приемами охоты. Товарищ Эдуарде Мондлане, конечно, не идеализировал всю систему подобного традиционного обучения. Но, раздумывая о том, какой должна быть новая, современная школа в революционном Мозамбике, он писал, что при ее создании никак нельзя игнорировать ценностей нашей собственной культуры.
Мпагуа ответил на какие-то вопросы подошедших к нему учеников, отдал им толстую пачку тетрадей, а потом вернулся к прерванному разговору:
— Вот обо всем этом не раз говорил и писал Мондлане. Я спросил тогда в Мапуту: «Разве трудовое и нравственное воспитание молодежи не нужно современному Мозамбику? Разве приобщение наших мальчишек и девчонок к культурным традициям противоречит революции?» Мне ответили, чтобы я возвращался к своим школьникам и спокойно продолжал работу.
— А играла ли какую-нибудь роль скульптура при обучении в традиционных «лесных школах»? — поинтересовался я. — Или ваши попытки использовать ее на уроке — новаторство?
— Да нет, ничего нового я не открыл, — отвечает Мпагуа. — Ведь в нашем обществе, лишенном письменности, такие фигурки из дерева, а иногда и из глины наряду с устным народным творчеством были чуть ли не единственным средством передачи информации, касающейся нашей истории, традиций, культуры. Кроме того, они действительно были наглядными пособиями. Ведь вы знаете, что почти каждое произведение традиционного африканского искусства — это прежде всего символ, за которым порой стоят очень сложные моральные, этические, религиозные или социальные явления. Изобразить их в дереве совсем не просто, и именно поэтому многие скульптуры маконде удивляют своей сложностью, абстрагированностью от реалий. С другой стороны, существуют и такие проявления человеческого бытия, скульптурные изображения которых проще и нагляднее всего выразить в реалистической, а то и в натуралистической манере. Отсюда и два направления в современной скульптуре маконде: обычно уподобляемый на Западе абстракционизму стиль шитани, выражающий духовный мир человека, и сугубо реалистическое течение, отражающее жизнь, практическую деятельность людей.
Неожиданно смирно сидевшие во время всего нашего разговора мальчишки шумно загалдели, возвещая о прибытии «людей от слонихи». Сгибаясь под тяжестью огромных кусков мяса, мужчины победоносно прошествовали на деревенскую площадь, свалили там «общественные куски», а остальное понесли к своим хижинам.
Женщины тотчас же принялись резать мясо на узкие и длинные полосы и развешивать в тех местах, где полог из крон деревьев пробивает солнце. А мужчины, помывшись, принялись готовить на площади большое пиршество. Очень жесткое и постное, мясо слона не располагает к тому, чтобы его поглощать в больших количествах. Однако не избалованные телятиной местные жители поедали его с подлинным упоением, а обильное количество местного пива «номбе» еще больше разжигало их аппетит.
— Ты посмотри, как нас, оказывается, любят женщины, — обнимая меня, проговорил Нафаси, один из лучших резчиков по дереву в деревне. — Ведь по нашим законам все «номбе» в деревне принадлежит женам. А они поставили нам «номбе» еще больше, чем мы принесли им мяса.
«Да, веселая будет ночка», — подумал я, едва успев отскочить от огромной, выдолбленной прямо из цельного ствола бочки с пивом, которую катили к костру две молодухи, уже успевшие приложиться к веселящему напитку. «Номбе» именуется пивом только потому, что миссионер, составлявший в начале этого века киконде-португальский словарь, наверное, никогда «номбе» не пробовал. В действительности этот напиток — с ног сшибающая брага из проса с добавлением дикорастущих плодов и трав, не лишенных наркотического эффекта. «Номбе» — напиток для сильных.
К моему удивлению, не было еще и полуночи, а мясо на площади уже исчезло. Наиболее компанейские мужчины пошли отрезать добавки от «семейных» кусков. Едоков, правда, было гораздо больше, чем жителей деревни, поскольку время от времени из лесу появлялись гости. Женщины начали требовать танцев. Наступление нового дня в миамбо приветствовали десятка полтора тамтамов и редкостная по своей многочисленности толпа пляшущих мужчин в масках-мпико. Весело позвякивая колокольчиками, привязанными к щиколоткам ног, они пританцовывали среди костров, а все присутствующие, чьи руки не были заняты кусками мяса, прихлопывали им в такт. Глядя на этот пестрый хоровод, я невольно вспомнил, каких трудов стоило мне впервые увидеть танцы маконде в их масках-шлемах. Было это в 1975 году, когда жители севера еще помнили и зверства колонизаторов, и гонения миссионеров на их «дьявольские намордники».
Приехав тогда в город Муэда, я обращался к десяткам людей с просьбой показать мне мпико. Одни смотрели на меня с подозрением, вторые — с непониманием, третьи — с открытым осуждением, как на провокатора. Никто не хотел помочь мне. Пришлось обращаться в местное отделение ФРЕЛИМО, где комиссар Муэды внял моим просьбам. Оказалось, что маски свои горожане-маконде прятали совсем не в лесу, а, как и подобает хорошим конспираторам, прямо в логове врага — в гараже португальского гарнизона. Вечером мпико вышли на улицу и впервые за долгие годы пустились в пляс. Их возвращение восторженно приветствовали жители Муэды, большинство которых за всю свою жизнь ни разу не видели удивительного карнавала масок, родившихся под пологом миамбо.
Помимо «светских», танцевальных, у маконде до недавнего времени существовали и так называемые судейские маски. Их надевали во время традиционного решения конфликтов. И тогда маска исполняла ту же функцию, что средневековые парики и мантии в современных английских судах. Эти атрибуты как бы заслоняют судью как индивидуума, поскольку ни один индивидуум не может быть полностью объективен, и выдвигают на первый план символы общества или власти, от имени которых выносится приговор. Точно так же и во время «светских» танцев скрытый под мпико и перьями танцор мог подвергать резкой критике старейшин и отправителей культов. Его слова звучали тогда не как личное, а как общественное мнение. Власть имущие не должны были иметь никаких личных претензий к своему обличителю. И вот теперь я вижу мпико второй раз.
— Вам повезло. — подойдя ко мне, сказал Мпагуа. — Столько мпико редко собирается в одном месте. И то, что это происходит, — явное свидетельство того, что маска потеряла у нас свое сакральное назначение, превратилась в атрибут веселого праздника ряженых.
Глава тридцать первая
Ликаунда дарит мне неподъемное «древо жизни». — Мпинго — дерево, которое тонет в воде и не поддается железу. — Философия жизни лесного мастера. — Что скрывается за фразой: «Теперь я поговорю с деревом»? — Традиционные истоки удивительного искусства. — Добрые шайтаны и злые джинны. — Так рождаются шедевры. — Маконде революционизируют африканскую скульптуру
На следующее утро деревня проснулась поздно, и ее обитатели целый день пребывали в состоянии оцепенения. Даже дети, привыкшие к постоянному вниманию и заботе взрослых, как-то притихли и не играли в шумные подвижные игры. Девчонки вытащили куклы — ванамбеча — и принялись укачивать их, напевая нечто вроде заунывной колыбельной. А мальчишки вставляли свои куклы в натянутую между колышками двойную веревку, закручивали ее и безмолвно наблюдали, как, раскручиваясь, веревка вращает игрушку. Ванамбеча представляет собой два длинных деревянных цилиндра, скрепленные снизу и сверху кожаным пояском. Головы у куклы нет, но свидетельства ее половой принадлежности исполнены мастерски, поэтому мужскую куклу обычно запеленают с ног до пояса в тряпицу.
Лишь ближе к вечеру, когда солнце начало золотить макушки деревьев, в самом дальнем конце деревни послышался стук: заработали резчики.
— Ты что-то совсем забыл обо мне, Сержио, — с напускным недовольством встретил меня Ликаунда. — Или ты уже перестал интересоваться нашими шитани?
Он встал, не заходя в хижину, вытащил лежащую у двери скульптуру и протянул мне. И по ее размерам, и по тому, как напрягся мощный бицепс на руке Ликаунды, я определил, что она весит килограммов сорок, не меньше.
Раньше по неопытности я брал протягиваемую силачами резчиками скульптуру тоже одной рукой, но удержать ее никогда не мог. В зависимости от обстановки я либо ронял тяжеленный резной кусок мпинго, либо, если он был слишком ажурным и хрупким, клал ради его спасения рядом. Неспособность заезжих посетителей соразмерить размер и вес скульптуры с собственными силами всегда приводит маконде в неописуемый восторг. Они с нарочитой небрежностью и легкостью манипулируют своими трехпудовыми творениями, всякий раз надеясь ввести гостей в заблуждение.
Но сегодня подобной радости ни Ликаунде, ни его коллегам, наблюдающим из соседних хижин, я не доставлю. Широко раздвигаю ноги, беру у мастера скульптуру обеими руками и тотчас же ставлю на землю. Так надежнее. Затем сажусь рядом и начинаю рассматривать длинный кусок ствола мпинго, весь украшенный барельефами затейливо сплетенных меж собой человеческих тел. Кверху ствол сужается, изображенные на нем тела тянут руки к небу, и над ними, словно стараясь отделиться от деревянного монолита и подняться, улететь, возвышается забавное лупоглазое существо. Это — шитани. Обилие сюжетов и образов, изображенных на его подставке-пьедестале, как бы подчеркивает значимость всей скульптуры, а он — добрый дух — само изящество и легкомыслие…
— Это я вырезал для тебя, Сержио, — обращается ко мне Ликаунда.
— Спасибо, — говорю я, обнимая его. — Такой прекрасной скульптуры у меня никогда еще не было. И тебе не жалко с ней расставаться?
— Каждая скульптура — это мое дитя, — говорит он. — А каждое дитя мы производим на свет, чтобы с ним расстаться. Я рад, что оно попадет в хорошие руки.
Денег за свои шедевры Ликаунда у меня никогда не берет. Помню, в мой первый приезд, после того как я провел у его хижины целую неделю, фотографируя мастера за работой и вникая во все ее тонкости, он подарил мне одну из резных фигур на память. Мне неловко было брать такой подарок, и я попытался расплатиться с ним. Посмотрев на протянутые бумажки, Ликаунда презрительно сплюнул через плечо и, не сказав ни слова, скрылся у себя в хижине. Два следующих дня он со мной даже не здоровался. Но потом как ни в чем не бывало подозвал к себе, показал начатую без меня работу и сказал: «Вот что я думаю, Сержио. Деньги убивают настоящую скульптуру. Ради денег я вырезаю то, что их достойно. Это тьфу, а не работа! А для себя и для друзей я оживляю дерево. Конечно, за один такой хороший кусок мне могут заплатить большие деньги. Но тогда у меня появится соблазн делать только такие куски. А это значит смерть для работы, смерть для моей головы. Я не смогу больше оживить мпинго; оно живет один раз — в неповторенной, не похожей ни на что работе. Теперь ты понял?»
На этот раз, направляясь в деревню и зная, что Ликаунда вновь одарит меня, я захватил с собой то, в чем жители миамбо всегда испытывают недостаток и от чего никогда не отказываются: коробку батареек для транзистора и карманный фонарик. Кроме того, я привез дюжину стамесок для работы и какие-то полоски из твердой-твердой стали, которые местные жители сами умудряются превратить в резцы и рашпили нужной им формы.
— Вот это хорошо, со! — принимая от меня «городские дары», проговорил довольный Ликаунда. — Вот это прекрасно! Вот теперь мы заживем.
Он уселся вырезать какую-то новую, явно предназначенную для рынка фигуру. Удар — и блестящая, словно кусочек антрацита, стружка отлетает в сторону. Удар — штрих! Удар! Удар! Вскоре вся площадка вокруг Ликаунды покрывается черными, куда тверже, чем уголь, «осколками» мпинго. Но режет он без вдохновения. Не уходит с головой в работу, не отрешается, как обычно, от мира, а смотрит по сторонам, переговаривается с соседями, так и норовя найти повод, чтобы улизнуть от докучающей ему деревяшки. Наконец он бросает инструмент, сплевывает и обращается ко мне:
— Вот я сидел и думал, со: что есть счастье? В городах говорят, что деньги, женщины… А по мне — счастье в добрых отношениях между людьми, в общении друг с другом. Вот эти добрые отношения и способны дать нам и безопасность, и благополучие, и мысли для работы. Я вчера мало съел и еще меньше выпил. А полон я другим: впечатлениями, воспоминаниями о встречах этой ночью с людьми. Одних я давно не видел, а других и вообще раньше не знал. Вот это и интересно!
Он помолчал, пересыпая из одной руки в другую антрацитовую стружку мпинго. Подозвал карапуза-сына, попросив принести ему попить. Потом вновь поиграл стружкой.
— Знаешь, Сержио, что бы я сделал, если бы был большим начальником, как бы я жизнь людям устроил? Деньги по мне — тьфу! Что в городах, в магазинах, продается — не знаю и не хочу знать, как все это называется — мне неинтересно тоже. Мы вот живем в лесу — что имеем? — а счастливее любого горожанина. Я бы все это отменил: и деньги, и что за них покупают, а в освободившееся время резал бы настоящие скульптуры. Без этого нам нельзя. Резчик был ведь до всего, из его-то творений и возник Человек. Значит, и надо работать так, чтобы из-под твоего резца новое чудо вроде Человека родилось. Хочу — месяц, хочу — год, надо непонравившийся кусок бросить — бросил, новый начал. Но чтобы по-настоящему, ни на что не похожее получилось. Как у того нашего предка, что в пещере жил и женщину изваял. И еще знаешь, на что бы я время тратил? Людей узнавал! К соседям ходил бы, в близкие и далекие деревни, разговаривал бы.
Слушая этот неожиданный взрыв откровений Ликаунды, я подумал о том, что живущие в Восточной и Южной Африке европейцы всегда смотрят на маконде как на некий феномен, «ни на кого не похожий народ» потому, что в этой безлесной части континента всегда сравнивают обитателей миамбо с их соседями — обитателями саванн и полупустынь. Однако если посчитать миамбо за лес, а маконде соответственно за лесных жителей, то и по традициям, и по культуре обитатели мозамбикского севера окажутся не феноменом, а своего рода «типичными представителями» лесной зоны. И их жизненная философия, и культ поклонения предкам, и матримониальные традиции, и распыленный характер расселения, затруднивший возникновение традиционной верховной власти, и изолированность от соседей, и многое другое, что так отличает маконде от окружающих их народов саванн, в то же время отлично вписывается в «цивилизацию леса».
В Восточной Африке маска практически вообще неизвестна, а деревянная скульптура возникла лишь в последнее время как порождение коммерции. В Южной Африке резьба по дереву тоже не играет заметной роли в традиционной духовной жизни ее жителей. Но на стыке этих районов появился народ, своим искусством маски и резьбы по дереву бросающий вызов таким центрам деревянной скульптуры, как бассейн Конго и Западная Африка. Как такое могло случиться? Вопрос этот задают не только неискушенные туристы, попадающие в Мапуту или Дар-эс-Салам, но и некоторые литераторы и даже ученые, пишущие о маконде или изучающие их культуру в отрыве от общеафриканских реалий. А между тем если взглянуть на маконде именно как на жителей леса, то все становится на свои места.
Утро в миамбо. По земле еще стелется туман, воздух чист и прохладен, ничто не предвещает жары, которая через несколько часов проникнет и сюда, под полог деревьев. На плоских вершинах брахистегий, которые уже нежатся в лучах восходящего, пока еще ласкового солнца, собираются стайки молодых горлиц, гортанными криками приветствующих зарождающийся день. А под пологом леса еще темно и тихо: женщины уже давно ушли за водой, а остальные обитатели деревни, словно соизмеряя свое поведение с природой, стараются не мешать ее пробуждению.
Но стоило первому снопу солнечного света упасть на землю, заискрить капельки росы, словно лучом прожектора высветить зеленые лужайки, как из хижин тотчас же появились люди и деревня наполнилась звуками их голосов и труда.
«Тук! Тук! Тук!» — доносится стук резца какого-то начавшего работать резчика. «Тук! Тук!» — отвечают ему в другой стороне. И вскоре вся деревня наполняется звуками, подсказывающими: сегодня под пологом миамбо родится не один шедевр.
Я иду к хижине Ликаунды и, как всегда, сажусь в тени куста, что разросся как раз напротив того места, где работает мастер. Сегодня он, отложив в сторону не доделанную на продажу скульптуру, придирчиво разбирает наваленные за его хижиной чурбаки, явно намереваясь приняться за что-то новое.
— Ликаунда, а почему маконде начали резать свои скульптуры из мпинго лишь пятьдесят — шестьдесят лет назад, а раньше отдавали предпочтение мягкому нжале? — спрашиваю я.
Ворочая чурбаки, Ликаунда долго молчит. Потом высвобождает руки и делает характерный для маконде жест: стучит кулаками себе по лбу.
— Мути, мути! — иронически произносит он. — А чем бы мы резали мпинго? Ты знаешь, что это дерево крепче, чем многие из камней? И ведомо ли тебе, что железо, которое давным-давно умели делать макуа и яо или которое продавали нам арабы, даже не оставляет царапины на мпинго.
Ликаунда подходит к своей хижине, берет прислоненное к ней копье и с силой всаживает в белую кору мпинго: наконечник уходит в нее на два-три сантиметра. Затем он вытаскивает копье и с еще большим усилием пытается воткнуть его в черную сердцевину ствола — наконечник мгновенно ломается пополам, а на дереве действительно не остается ни малейшего следа.
— Вот, — говорит он. — Понял? Такое железо, как было у нас раньше, не может осилить это дерево, потому что дерево пересиливает его. Мы взялись за мпинго только тогда, когда мафуташ завезли сюда чума чапуа[27]. Но и нжале мы не забыли, это очень хорошее дерево для масок. А чтобы ты понял, что такое маска из мпинго, я готов для тебя ее вырезать, и попробуй потанцуй в ней всю ночь.
— Это будет редкая маска, Ликаунда. Пожалуй, ради нее мне стоит потренировать свою голову и шею в ношении тяжестей.
— Голова дана мужчине, чтобы думать. Этим-то я и займусь сейчас. А пока не мешай мне, со, — серьезно проговорил он, вытаскивая из груды бревен приглянувшийся ему чурбак. — Теперь я поговорю с деревом, а не с тобой.
Сколько я ни пытался выяснить, в каком смысле — прямом или переносном — употребляется всеми резчиками-маконде фраза «поговорить с деревом», сделать мне это так и не удалось. То ли смысл ее основывается на реальной почве и содержит бесспорное признание того, что форма ствола мпинго, изгибы его ветвей и расположение сучков, удивительное сочетание мягкой белой коры и твердокаменной черной сердцевины, наконец, ее текстура подсказывают настоящему художнику и выбор темы, и отдельные элементы ее решения? То ли фраза эта является отражением миропонимания обитателей миамбо, убежденных в том, что «жизнь есть везде» и что прикосновением своего резца они лишь «будят дерево», которое затем само водит их рукой?.. Или, что скорее всего, материалистический и «потусторонний» подход причудливо уживаются в головах этих лесных философов, которые, веруя в легендарные истоки своего виртуозного владения искусством резьбы, в то же время говорят, что для них работа по дереву так же естественна, как появление растений из семени в хорошо удобренной почве…
Ликаунда долго и придирчиво осматривает свой чурбак, подвергая его подлинному исследованию. Даже дети, глядя на углубившегося в дело отца, притихли и на всякий случай отошли подальше от хижины: побеспокоить Ликаунду в пору творческих исканий — значит заведомо навлечь на себя его гнев. Лицо мастера сосредоточенно, глаза прищурены, на лбу даже появились капельки пота. Именно в этот период «знакомства резчика и дерева» и возникает окончательное решение трактовки задуманного сюжета.
Удар! Ликаунда начал работать. Пока что это еще чисто механический процесс — удаление коры. Но, значит, замысел уже созрел. Уверенно ударяя молотком по широкой стамеске, резчик обнажает благородную матово-черную древесину. Вокруг распространяется приятный, чуть терпкий аромат, исходящий от свежего мпинго. Удар! Удар! Удар!
Некоторые этнографы утверждают, что удивительное искусство маконде возникло «на пустом месте», что по времени его возникновение совпало с зарождением авангардистских течений в искусстве Запада, и на этом зыбком основании делают вывод: «абстракционизм органически присущ» XX веку. А между тем искусство маконде на протяжении веков имело глубокие корни и традиции, а «революцию» в нем, причем прежде всего техническую, произвела стамеска из сверхпрочной стали. Она проникла на плато Муэда вслед за проведенной португальцами шоссейной дорогой. Именно тогда сначала в лавках португальцев в Бейре и Лоренсу-Маркише (ныне Мапуту), затем в антикварных магазинах индийцев Дар-эс-Салама появились первые шитани из черного дерева. Их рождение было подготовлено многовековой традицией создания скульптур праматери, масок-мпико, ритуальных изображений, «учебных» фигурок, резьбой на домашней утвари и, наконец, своеобразием этнопсихологии маконде, которые верят, что «резчик был до всего».
Отоспавшийся Нангонга подходит к нам, отпускает несколько иронических замечаний в адрес Ликаунды, по его словам «уже успевшего испортить такой чудесный кусок мпинго», и усаживается рядом. Шепотом, чтобы не помешать работе, он сетует, что уже не может быть мастером-резчиком: руки дрожат и нет сил бить по дереву-камню.
— А что, Нангонга, неужели каждый мужчина-маконде может быть скульптором? — спрашиваю я.
— Конечно, — уверенно кивает он. — Совсем бесталанных людей у нас нет. Мы рождаемся, чтобы вдохнуть в дерево новую жизнь. Но чтобы стать таким хорошим скульптором, как Ликаунда, надо встретить очень доброго шитани и дружить с ним всю жизнь. Тогда шитани во сне будет подсказывать, что и как делать. Мне же, особенно когда я был молодым, все чаще снились джинни. Они наслали на меня порчу. Поэтому я больше говорю, чем работаю.
Маконде переделали в шитани шайтана из мифологии арабов. Шайтан — это иблис, черт, дьявол, библейский сатана, в общем, персонаж явно отрицательный. Под пологом же миамбо его почему-то превратили в добряка, в этакого ангела, унаследовавшего от шайтана одну-единственную черту — являться во сне к поэтам, с тем чтобы они днем повторили слова, внушенные им ночью. Злые шитани у маконде фигурируют очень редко и в конечном счете всегда оказываются побежденными.
Что же касается джинни, ведущих свое начало от арабских джиннов, иногда, как известно, способных делать добро, то маконде считают их исключительно носителями зла.
У танзанийских маконде излюбленной темой творчества стало изображение добрых деяний шитани и, главное, их любовных проказ, при которых они ведут себя совсем как люди. На плато Муэда к шитани относятся сдержаннее, а их сексуальными приключениями не интересуются вовсе. Здесь они чаще изображаются в виде лесных духов, нередко принимающих обличье зверей, а то и вообще бестелесных существ. В последнем случае резчик характеризует шитани с помощью всего лишь двух-трех произвольно соединенных частей человеческого тела, имеющих, по его мнению, наиболее важную роль для смыслового выражения сюжета. Как-то, например, один из местных резчиков, Мванжема, принес мне изображение шитани-женщины. Оно представляло собой два огромных глаза, вписанные в контур человеческой головы, причем вместо зрачков резчик изобразил две налитые женские груди, из которых капали слезы. «Что это значит?» — спросил я. «Это добрая шитани Андаука, которая смотрит на пораженные засухой поля и печалится, что не у всех детей будет что поесть в этом году», — объяснил он тоном, не допускающим возражений.
Если фигура изображается целиком, то пропорции человеческого тела могут изменяться совершенно произвольно. Игнорируя реалии и на первый взгляд мало заботясь об эстетической стороне дела, резчик выпячивает на первый план главное, подчиняя ему все остальное. Так, «мудрые шитани» обязательно обладают огромными головами, а шитани, покровительствующие воинам, — мощными руками, символизирующими их физическую силу. «Тело — это всего лишь оболочка, которой всегда заправляет либо ум, либо похоть, либо сила, — поведал мне как-то среди ночи Нангонга. — Зачем же мастеру тратить время на изображение того, что все равно ничего не значит?..»
— Нангонга, а ты знаешь, что будет вырезать Ликаунда? — спрашиваю я.
— Из такого длинного бревна можно вырезать только одно — «древо жизни», — уверенно говорит старик. — Примерно такое, как он подарил тебе вчера. Ликаунда, как и я, наверное, съел той ночью много мяса и поэтому был неразговорчив. Он ведь не рассказал тебе об этом «древе».
— Ликаунда, напротив, был очень разговорчив, — возражаю я. — Но о «древе» он действительно не рассказал.
— Значит, я, как всегда, прав, — удовлетворенно заключает старик. Он жестом подзывает проходящего мимо мальчишку и велит принести из его хижины подаренную мне скульптуру.
— Ты, когда начнешь рассказывать, говори громче, — вдруг подает голос Ликаунда. — А то вдруг что перепутаешь.
— Это я-то! — притворно обиженным голосом восклицает старик. — Я даже могу, не подходя к тебе, рассказать, что ты вырезаешь сейчас.
— Уж это все могут, — отмахивается Ликаунда.
— Кроме меня, — вношу я поправку.
— Он вырезает сейчас фигурку матери, — уверенно говорит старик.
— Откуда ты знаешь?
— Так ведь даже Ликаунда признал, что это всем известно. Потому что резчик начинает свою работу над «древом жизни» с изображения матери-прародительницы маконде, которое он помещает в центр всех фигур. Таков закон. А потом уже можно вырезать что в голову придет.
Вернулся мальчишка со скульптурой.
— Видишь, и здесь в самом центре помещено изображение матери, — разглядывая резную колонну, показал мне старик. — Книзу от нее Ликаунда поместил тех, кто жил до него. Смотри: лица всех людей татуированы, у всех женщин во рту пелеле. Кроме людей в нижней части скульптуры много злых джинни — раньше в лесу, говорят, их было больше, чем сейчас. Люди борются с ними для то-го, чтобы выжить. Видишь, как сплетены, соединены друг с другом людские тела. Из одного человека как бы вырастает другой, одно поколение дает начало другому, продолжая род маконде. Вот почему такой резной столб называется «древо жизни». Правильно я говорю, Ликаунда?
— Очень правильно. Ты давай продолжай.
— Вот. А над матерью изображены люди, которые окружают нас сейчас. Видишь, лица у них чистые, в руках у многих мотыги и книги. Они не такие сердитые, как были раньше, перестали воевать, но стали больше думать. От прошлого среди них остался один вот этот татуированный старикашка. Видишь, какой он противный? А главное его занятие — это пустые разговоры. Недаром же Ликаунда приделал ему такой длинный язык. Я думаю, это джинни, который по ночам не дает ему спать своими россказнями. Старый злодей!
— Это ты, Нангонга, — как бы невзначай бросил Ликаунда.
Я посмотрел на старика, потом на физиономию на барельефе и хмыкнул: сходство было разительным.
— Не может быть, — расстроенно пробормотал Нангонга.
— Ты просто давно не видел себя в зеркале, — подзадоривал его резчик. — У меня в хижине где-то валяется осколок, иди посмотри.
— Не пойду, — решительно отверг это предложение старик и вновь принялся рассматривать скульптуру. Потом его лицо озарилось улыбкой. — А эта фигура со злой и каверзной рожицей, что замахивается на всех резцом, наверное, ты, Ликаунда? — спросил он.
— Конечно, Нангонга.
— Ну тогда я не буду на тебя обижаться. Ты — справедливый человек и великий резчик. Я разглядел на этой скульптуре твою жену, старосту Атенси, учителя Мпагуа, твоего главного конкурента Мванжему, но самая неприятная физиономия все равно у тебя. Правильно, так оно и есть!
Оба собеседника весело расхохотались. А я, разглядывая «древо жизни» после этого разговора как бы новыми глазами, с совершенно иных позиций, понял, что за кажущимися многим «фантастическими абстракциями» маконде скрывается сама жизнь, из которой они и черпают бесконечные темы для своих удивляющих разнообразием произведений. Как и любое подлинное искусство, резьба маконде не статична. В новых условиях она приобрела выразительный динамизм форм, столь разительно отличающий современные произведения резчиков миамбо от традиционной африканской скульптуры в целом.
Преемники великих традиций, ведущие начало от легендарных времен, маконде уже сделали один переворот в африканском искусстве: за последние 40–50 лет жителями миамбо создана новая пластика, не имеющая себе равных у других народов. Это мнение не мое, а общепризнанное, разделяемое мировыми авторитетами и знатоками культуры и традиций народов Африки. Исходя из посылки своей мифологии, что «резчик — творец» и поэтому «может все», что его долг и святая обязанность — «создавать такое, что еще никогда не было», подлинные мастера резьбы у маконде никогда не связывали себя рамками канона, столь сковывающего всегда традиционное искусство у других африканских народов.
Что было и остается наиболее характерным для этого канонического искусства? Лобовой, фронтальный взгляд художника на собственные творения. Отсюда любая африканская маска, подавляющее большинство скульптур — это изображение анфас. Маконде смело начали смотреть на своих героев под любым углом, из любой точки и вырезать их в любом ракурсе. Традиционная скульптура всегда была символом, она и создавалась для того, чтобы подчеркнуть наиболее типичное, устоявшееся, незыблемое. В полном соответствии с подобным содержанием образа маска должна была быть статичной. Маконде же внесли элемент сюжета, сиюминутности в содержание своих композиций, что требовало выразительности и динамизма.
Сюжетность привнесла и еще одно новшество. Почти повсеместно африканская скульптура (не говоря уже про маску) — это персонификация индивида, в крайнем случае канонизированное изображение мужчины и женщины.
Маконде же проявили себя как подлинные мастера «массовых сцен» в деревянной скульптуре, где все герои находятся во взаимосвязи друг с другом. На смену традиционной монолитности, зачастую тяжеловесности классических образцов африканского искусства, своей массивностью как бы подчеркивавших собственную значимость, из лесов-миамбо в африканское искусство вместе со стилем шитани неожиданно пришла ажурность и легкость конструкций.
Сегодня, на мой взгляд, на плато Муэда назревает еще один переворот в африканском искусстве. На сей раз он коснется не его формы, а содержания. «Расканонизировав» изображения своих духов, дав возможность каждому резчику изображать шитани на пределе его индивидуальной творческой фантазии, маконде сделали первый шаг в этом направлении. Потом они «осовременили» свое «древо жизни» появлением на некогда ритуальном столбе, традиционно изображавшем обитателей «потустороннего мира», не только реально существующих людей, но и таких атрибутов современности, как книга, винтовка, машина. Теперь, смело вкладывая новый смысл в старые темы и формы, маконде революционизируют свое искусство, зачастую наполняя его абсолютно иным, лишенным мистики содержанием.
Изгнанные из-под куста Ликаундой, полностью ушедшим в работу, мы с Нангонгой идем мимо хижин, в которых работают другие деревенские резчики. Главный вывод, который напрашивался после знакомства с их произведениями, — новая жизнь ввела в национальное искусство и нового героя. О нем, о его испытаниях и страданиях, о его борьбе за свободу и независимость рассказывает большинство создаваемых работ. Этот герой — собирательный образ новой, возрождающейся Африки.
Маститый Мванжема резал огромную деревянную колонну «Прошлое страны моей», своего рода эпос в дереве. На ней снизу вверх, по исторической спирали, сменяли друг друга короли Мономотапы и Васко да Гама, португальские конкистадоры и арабские работорговцы, колонизаторы и предатели-коллаборационисты. «Всех их ждет суд народный, который я изображу на самом верху ствола», — объяснил мне Мванжема. Я посмотрел в центр скульптуры. На месте женской фигуры там был вырезан контур матери-родины — Мозамбика.
В хижине Мпунгу мы долго рассматривали приготовленные для отправки в Мапуту деревянные фигурки женщин-партизанок, на голове у которых вместо традиционного кувшина с водой были снаряды, стариков с ружьями, девушек с книгами, солдат с мотыгами. Его сосед — Мтинду осваивал новый для местных мастеров вид резьбы — барельеф на слегка выпуклой доске, с огромным трудом выпиленной из ствола мпинго. На доске крупным планом были изображены счастливые, улыбающиеся люди — представители народов Мозамбика — в своих национальных одеждах. Пульс жизни, ритмы танца угадывались за этими изображениями.
…Быстро пролетело время, настал день отъезда из деревни. До Муэды вместе со мной попросился доехать Мпагуа: у учителя были какие-то дела в райцентре. Несколько раз останавливаясь по пути в селениях, мы в каждом из них видели поглощенных работой резчиков, дивились обилию скульптур, рождающихся под пологом миамбо.
— Я не думаю, что преувеличу, если скажу: за последние годы искусство скульпторов стало главным и самым ярким проявлением духовной жизни моего народа, — как бы размышляя вслух, сказал Мпагуа. — Да и сам резчик по дереву стал одной из центральных фигур деревни, человеком наиболее уважаемым. И это вовсе не оттого, что его труд приносит общине немалый доход. Главное в том, что его глазами, его руками соплеменники получают возможность выразить свое видение мира, рассказать об этом другим. Социальный авторитет настоящих, творчески работающих мастеров сейчас у маконде необычайно высок. Люди начинают понимать, что именно по их искусству судят о маконде во всем мире.
Мне было интересно выяснить мнение Мпагуа, в чем он, как представитель нарождающейся национальной интеллигенции маконде, видит причины тех очевидных и с каждым годом все усиливающихся различий, которые отличают искусство танзанийских и мозамбикских маконде. Откуда этот взрыв «любовной тематики» резчиков в предместьях Дар-эс-Салама? И почему западные исследователи искусства маконде порою не без внешнего основания находят в их творчестве то «реминисценции Босха», то отголоски влияния современного экспрессионизма и натурализма.
— Знаете, для меня ответ на этот вопрос однозначен, — говорит учитель. — Я уверен, что резчики, которые работают в глубинке танзанийского плато Маконде, режут примерно то же и так же, как на плато Муэда. Здесь, в родной атмосфере, на земле праматери, никто не отваживается создавать те эротические композиции, которые за бешеные деньги продаются в восточноафриканских столицах. Вдали же от родных мест некоторые резчики, освободившись от духовного контроля соплеменников, могут соблазниться заработать на создании скабрезных изображений шитани. Однако ничего общего с традицией маконде, кроме формы, эти скульптуры не имеют. Многие их создатели говорили мне, что «любовная тематика» была подсказана им оптовиками, владельцами крупных магазинов, наживающимися на дискредитации нашего народного искусства. Зачастую резчику подсовывают эскиз, сделанный в Копенгагене или Риме, а его воплощение в мпинго выдают за нечто оригинальное…
Путешествие из прошлого
Я — Африка. Я построил Тамбукту и Карнак, Я построил храмы Изиды и Озириса, Я дал Азбуку и Астрономию, Я смеялся с вершины пирамид Над легионами цезарей. Из ночи моей полуночи Вышли зулусские хижины, Вигвамы и храмы бушменов, Династии Рамзесов и Птолемеев, Дворцы их и храмы. Б. Э. ХоукинсЦивилизации былого: единство в многообразии
Глава тридцать вторая
Познакомьтесь: самая гигантская в мире монолитная стела из известных со времен древности. — Библейские легенды и исторические реалии о «соломонидах» на аксумском троне. — Хабашат и геэз — это не пришлые арийцы, а аборигены Пунта и Айтьопии. — Не правильнее ли «страну опаленных лиц» называть «страной ароматов»? — Дерево босвеллия побуждает сабейцев пересечь Красное море. — Кресты в базальтовой тверди основания стел
— Наши предки умели плавить камень, — без тени сомнения заявил курчавый паренек, напросившийся сопровождать меня по пыльным улочкам древнего Аксума. — Они разливали его в длинные глиняные формы, а когда камень остывал, обтесывали, полировали и превращали в гигантские стелы.
— Эти стелы делали люди-циклопы, которые населяли Эфиопское нагорье задолго до того, как здесь появились наши прародители, — подслушал я через несколько дней объяснения другого «чичероне» солидному господину, обвешанному киноаппаратурой. — Великаны вырубали их из скал неподалеку от города и на плечах переносили на эту площадь.
Что можем мы, просвещенные люди XX века, возразить этим полуграмотным мальчишкам, законно гордящимся великим прошлым своего народа и пытающимся найти объяснение появлению загадочных аксумских стел — хаулти — в легендах и преданиях? Пожалуй, лишь то, что люди-циклопы никогда не жили на Земле, а ее древние обитатели обычного роста не могли уметь плавить камень. Очень многое о прошлом Аксума остается под вопросом для целой отрасли востоковедения — аксумологии.
Один из центральных ее вопросов — происхождение и назначение огромных величественных колонн-обелисков из цельных глыб голубого базальта. Часть из них возвышается на центральной площади Аксума, в Парке стел, другие лежат, поверженные временем, вдоль дороги, уходящей в глубь древней эфиопской земли. Высота самой большой, сохранившейся до наших дней, но уже покоящейся на земле стелы — почти тридцать пять метров. Это — самая гигантская монолитная стела из известных со времен древности. Наибольшая высота стоящих стел — двадцать четыре метра. Более двухсот не похожих друг на друга базальтовых монолитов поражают то своей изысканной стройностью, идеально полированной или украшенной поверхностью, то, наоборот, первозданностью грубых форм. Но в любом случае это — результат поистине титанического труда целого народа. Труда, растянувшегося на многие десятилетия, если учесть уровень развития техники в то время, когда они создавались.
— А в какое время?
Цегай Гебейбеху, самый уважаемый в Аксуме дабтара — носитель традиционной эфиопской образованности, улыбнулся на мой вопрос и зажег свечу. В неестественной тишине каменного подземелья, созданного руками древних строителей у подножия одной из стел, его гулкий бас звучал таинственно и величественно.
— Аксумская устная история относит появление города к библейским временам, ко дням царствования легендарного царя Соломона. В ту пору, гласит предание, в этих краях правил не то дракон, не то змей — деспот, тиран и скряга. Он требовал от своих подданных бесконечных подношений — скотом и девственницами. Среди несчастных девушек, которые должны были сделаться жертвами тирана, оказалась красавица, которую любил Агабоз, отважный юноша, силач и весельчак. Чтобы спасти возлюбленную, он убил восседавшее на троне чудовище, и избавленный народ провозгласил его царем. Ему наследовала его дочь красавица Македа — правительница Сабы, царица Савская. Умная, просвещенная и любознательная правительница, прослышав про мудрость владыки соседних израильско-иудейских земель Соломона, сына Давида, отправилась в Иерусалим. О том же рассказывает и Библия, авторство многих книг которой, кстати, приписывается Соломону. Тот не устоял перед чарами чернокожей владычицы, а Македа была покорена его мудростью и обходительностью. По возвращении в сопровождении многочисленных подданных иудейского царя на землю Эфиопии она родила сына Менелика. Он и стал первым представителем Соломоновой династии в Эфиопии. С Иерусалимом у него были тесные связи, целые иудейские племена, или «колена», переселялись на земли сына их царя.
Еще каких-нибудь полтора десятка лет назад эта легенда, санкционированная императорской властью, воспринималась многими чуть ли не как исторический факт. Двести Двадцать пятый представитель Соломоновой династии, Хайле-Селассие I, присвоил себе пышный титул «Всепобеждающего Льва Иудеи», а в статье 3 главы 1 конституции записал: «В силу закона титул императора навсегда связан с Родом Его Величества… происходящего по прямой линии от сына царя Соломона и эфиопской царицы, известной под именем царицы Савской».
Однако, после того как в 1974 году этот последний «соломонид» был свергнут народной революцией, эфиопские историки смогли во весь голос сказать правду о месте библейской легенды в истории их страны. К возникновению Аксума, во всяком случае, она никакого отношения не имеет. Напротив, сама легенда родилась в Аксуме, причем не в древние времена, а в XIII веке, когда город лежал в развалинах, а правители раздираемых феодальными войнами эфиопских земель оспаривали власть друг у друга. Тогда-то глава наиболее почитаемого во всей стране аксумского собора Цыйон (Сион), поддерживавший правителей народа амхара из Шоа, написал ставшую впоследствии знаменитой книгу «Кыбрэ нэгэст», или «Слава царей». В ней впервые владыки древнего Аксума провозглашались «соломонидами», а в качестве их прямого наследника назывался девятый потомок последнего правителя Аксума шоанец Йикуна-Амлак — «избранник Божий», правитель «избранного народа», ведущего свое начало от царя Иудеи.
— Какого народа? — поинтересовался я у Цегай Гебейбеху.
— Хабашат и геэз, — последовал уверенный ответ. — По имени первого племени наша страна впоследствии была названа Абиссинией. А второе племя принесло язык, который так и называется: геэз. Ныне он мертв. Но письменные документы на нем — главный источник по древнеэфиопской истории.
И подобная версия еще совсем недавно выглядела вполне убедительной. Если идти по пути наипростейшего объяснения или руководствоваться расистскими теориями, то появление Аксума — этого острова цивилизации в Тропической Африке — легче всего объяснить переселением туда более развитых в культурном отношении семитских народов. Это было тем более «удобно» сделать, если учесть, что геэз, как и более десятка других современных языков Эфиопии, включая ныне наиболее распространенный амхарский, — семитские языки, а эфиопы на первый взгляд выглядят «метисами» («хабеш» — по-арабски), происшедшими от смешения пришлых «белых» народов с местными негроидами.
Однако все дело в том, что в богатой письменными источниками азиатской части семитоязычного мира никаких упоминаний о существовании там «племени геэз» нет. Что же касается «хабашат», то немецкий востоковед Э. Глязер уже давно доказал: еще в доаксумские времена так называли всех аборигенов Красноморского побережья — как в районе Африканского Рога, так и в Аравии, которые жили традиционным для этих мест собирательством ароматических смол. «Хабашат» — это «заготовители ладана», скорее не этнографический, а экономический термин.
Утвердилось мнение: нынешнее название Эфиопии произошло от эллинского «Айтьопия», переводимого как «страна людей с обожженными солнцем лицами», хотя проще было бы сказать «страна загорелых». Однако на одной из обнаруженных в Аксуме надписей, сделанных одновременно на двух языках, геэзское «Хабашат» переводится на древнегреческий как «Эфиопия». Надпись заставила кое-кого из ученых увидеть в греческом слове «Айтьопия» семитский корень «атьюб» — аромат. И тогда многое становится на свои места: «страну ароматов» заселяли «заготовители ладана» — хабашат, которые были не выходцами из Иудеи, а аборигенами «страны благовоний» древних египтян — Пунта, куда фараоны снаряжали грандиозные экспедиции за миррой, камедью и ароматическими смолами.
В середине первого тысячелетия до нашей эры на побережье Счастливой Аравии, отождествляемой ныне с Йеменом, пышно расцветают цивилизации южноаравийских городов, тесно связанных с миром цивилизаций Передней Азии, с предысламскими культурами древней Аравии. Трудно, конечно, установить, зачем и почему жители этих городов, среди которых преобладали сабейцы — выходцы из царства Саба, отправились в Африку и создали там свои первые поселения… Но правомочно предположить, что побудил их к этому все тот же древний «ароматный промысел», который испокон веку объединял жителей Красноморского побережья. А может быть, то были торговые люди, купцы или менялы, которые хотели основать свои фактории на довольно бойком караванном пути, вот уже несколько столетий связывавшем Сабу, Хадрамаут, Махру и другие южноаравийские ремесленные центры с процветавшим тогда еще южносуданским царством Куш?..
— Так что если верить легендам и библейским источникам, то история нашего Аксума насчитывает по меньшей мере тридцать веков, — прервал мои размышления Цегай Гебейбеху. — О том же говорят и церковники. Они рассказывают, что, достигнув зрелых лет, Менелик отправился на поклон к своему мудрому отцу. Возвращаясь от Соломона, он похитил из его иерусалимского дворца одну из главных святынь, заветный ковчег. Монахи уверяют, что ковчег этот по сей день хранится в одном из подземных святилищ храма Цыйон. Многие верят, что и могила легендарного Менелика находится в городе. Именно по этой причине Аксум считается «религиозной столицей» Эфиопии, центром нашего христианства.
Чем больше я слушал старого дабтару, тем яснее мне становилось, что он никак не может отрешиться от прежней официальной, библейской версии происхождения Аксума. Говорить с ним о сабейцах было бесполезно. Но последний вопрос, ответ на который мог бы подтвердить мою догадку о том, что даже традиционно образованные эфиопы недоумевают, почему в центре святого города христиан доминируют явно языческие хаулти, я все же задал…
— Можно ли говорить о существовании какой-либо связи между выдающимся значением этого города для верующих и тем, что гигантские стелы появились именно в Аксуме?
— Даже здесь, в этом подземелье, в тверди базальта высечены кресты, — подумав, говорит дабтара, поднося свечу к заплесневелой каменной стене. — Вот один крест, а вот еще — типичные коптские кресты, какие встречаются по всей Эфиопии. Но когда они были выбиты — одновременно ли с возведением стел или, что вероятнее, значительно позже, — неясно. На протяжении веков окруженная со всех сторон иноверцами христианская Эфиопия испытывала очень сильное влияние соседних религий. Вы обратили внимание на форму наверший стел? И их очертания, и изображения луны и солнца, венчающие обелиски, свидетельствуют о связи этих великанов с культами небесных светил. Не исключено, что стелы возводились правителями Аксума для отправления религиозных культов. Во всяком случае, я уверен лишь в одном: в монастырских библиотеках и архивах, в еще неизвестных надписях на стенах храмов, скрытых от глаз ученых более поздними наслоениями, разгадка происхождения хаулти будет найдена. Я слышал, что много нового дали археологические работы, которые ведет вокруг Аксума месье Фрэн. Он сейчас работает где-то в окрестностях Аксума — то ли в Ехе, то ли среди холмов Хаулти-Мелазо.
Глава тридцать третья
Сабейцы в роли «технократов». — Современные будни древнего Аксума. — Барабаны и пляски под сводами христианского храма. — Город на полпути между аравийской и нильской цивилизациями. — О чем рассказывают надписи VII века до н. э. на плато Тигре? — Южноаравийская культура отступает перед кушитской. — Торжество африканского языка геэз. Эфиопский царь на аксумском троне
«Фрэн» — так на американский манер здесь называют француза Фрэнсиса Анфре, долгое время занимающего пост директора Археологического музея в Аддис-Абебе. В отличие от обитателей рифтовых долин, совершенно равнодушных к черепкам и черепам — находкам семейства Лики, эфиопы очень заинтересованно относятся к археологическим свидетельствам своего прошлого. Нередко именно подсказки простых крестьян, «где копать», наводили археологов на нужный след и приводили к интереснейшим открытиям, результаты которых тут же становились всеобщим достоянием и подымали популярность Фрэна. Достаточно спросить встреченного: «Где работает Фрэн?», как вам тут же дадут ответ.
«То, что Анфре сейчас в Аксуме, многому поможет», — подумал я, выходя из подземелья по узкому проходу, слабо освещаемому свечой дабтары.
Если бы не стелы, купола церквей и множество снующих по улицам монахов — из десяти тысяч аксумитов примерно тысяча — служители культа, — то трудно было бы предположить, что Аксум занимает особое место среди городов Эфиопии.
Пыльные, выжженные солнцем улочки, припорошенные красной пылью. Неказистые глинобитные домишки и конусообразные деревенские хижины-тукули в самом центре города. Огромный шумный базар, где изнывающие от жары торговки и торговцы под разноцветными зонтиками, стараясь перекричать друг друга, предлагают огромный ассортимент товаров, начиная от горсти перца и кончая караваном верблюдов или отарой овец в сто голов. Вереница женщин и детей с ведрами и бидонами на голове, вышагивающих к одному из немногих в Аксуме большому колодцу, вернее, кранам с питьевой водой. Около них всегда очереди, крик, гомон, рев ишаков и мычание верблюдов. И как раз наискосок — отполированные веками стелы, уходящие в голубое небо…
Напротив, где под солнцем сверкал огромный купол нового собора Святой Марии, сотни две монахов в белых длинных одеяниях, сопровождаемые служками, державшими над их головами огромные разноцветные зонты-балдахины, совершали какую-то церковную процессию. Потом зонтики закрылись, монахи скрылись в дверях церкви, и оттуда, из христианского храма, послышались звуки барабана и систра, а дабтары пустились в священный танец. Его участников освещали зажженные служками факелы: словно языческий костер проник под своды Цыйона.
«Здесь сумели эфиопизировать даже христианство, всегда и всюду придававшее «свое» лицо культурам целых стран и народов, — подумал я, наблюдая за плясками. — Так неужели могла противостоять этому всепоглощающему влиянию Африки горстка древних сабейцев, переселившихся на эфиопскую землю, оторвавшихся от своей аравийской родины, но со всех сторон окруженных кушитскими народами?»
Конечно, не следует преуменьшать значение того первоначального импульса к развитию, который дали южноаравийские колонисты местным народам. Но в то же время археологические, палеоботанические и историко-лингвистические данные, которыми располагает современная наука, не дают нам права смотреть на кушитов как на неких «дикарей», которые все блага цивилизации тех времен получили исключительно из рук пришельцев.
Действительно, значительная часть кушитов жила примитивным собирательством смол, рядом с ними, судя по свидетельствам античных авторов, обитали «ихтиофаги» — рыбоеды. Однако большая часть кушитских народов пунтийского периода уже была скотоводами и знала земледелие. В первом тысячелетии до н. э. оно было уже довольно сложное, с террасированием горных склонов, искусственным орошением полей и даже применением пахоты на быках. И египетские фараоны, и цари Напаты-Мероэ стремились во что бы то ни стало подчинить кушитов своему влиянию, поставить под свой контроль караванные пути, которые через эфиопский север соединяли Нил с Красным морем. Однако их попытки оказались тщетными.
Эти же пути, очевидно, в первую очередь интересовали и южноаравийцев в Тропической Африке. Во всяком случае, переплыв Красное море, они начали подниматься на плато Тигре, двигаться в направлении Мероэ. Скорее всего, свою главную цель они с самого начала видели в налаживании посреднической торговли между аравийской родиной, с одной стороны, и нильскими цивилизациями — с другой. Именно в этом направлении — с северо-востока на юго-запад шли в глубь территорий, населенных кушитскими племенами, сабейцы, оставляя на эфиопской земле свои надписи, памятники, сооружения.
По ним мы можем судить о том, что южноаравийские переселенцы принесли в Эфиопию. Это — семитский язык и письменность, формы государственной жизни, монументальная храмовая архитектура, навыки караванной торговли.
Когда это произошло? Самые древние сабейские надписи датируются в Эфиопии VII — началом V века до н. э. А из надписей, найденных в Аббу-Панталевон и Хавила-Ассерау — крайних западном и восточном пунктах территории, на которую распространялось сабейское влияние, следует, что в Северной Эфиопии в конце этого же века существовало сильное государство… Смогли бы его столь быстро создать немногочисленные сабейцы, которые к тому же вели себя в Африке, судя по всему, не как завоеватели, а как мирные переселенцы? Или это государство существовало уже давно, но стало известно нам с V века лишь потому, что на его территорию впервые проникли носители письменности?.. Недаром имена его правителей эфиопские, а не сабейские.
Как бы то ни было, но сабейцы, по достоинству оценив преимущества жизни на плодородном, почти с субтропическим климатом плато, перенесли в Тигре центр своей деятельности. Знакомые с городской цивилизацией Аравии, они создали на эфиопской земле первые города — хотя и небольшие, но с регулярной планировкой, водоснабжением, ремесленными и торговыми центрами. Сердцем каждого такого населенного пункта был храм монументальной постройки — средоточие не только религиозной, но и культурной жизни, в которую все активнее вовлекались аборигены Тигре. Они постигали семитский язык, а вслед за ним и письменность, осваивали навыки резьбы по камню, изготовления расписной керамики и многого другого. Судя по скульптурам V–IV веков, найденным в Асби-Дера, его жители отнюдь не ограничивались набедренными повязками. Женщина, запечатленная на найденном там изображении, облачена в длинную, почти до пят, рубаху с рукавами.
Не надо, однако, и преувеличивать масштабы проникновения сабейцев на плато, а значит, их влияния на население Эфиопии в целом. Самая южная сабейская надпись, которую ученые считают и самой «приближенной» к экватору древней надписью в Африке, расположена всего лишь в каких-нибудь 150–180 километрах от Красноморского побережья. «Чисто сабейский» характер архитектурные и скульптурные памятники Тигре имели лишь в V–IV веках. Чем ближе к нашему времени и чем дальше от побережья, тем меньше в них южноаравийских черт и тем больше местных, африканских. Затем сабейские надписи постепенно вытесняются архаичными эфиопскими на языке геэз, который хотя и находится в родстве с сабейским, но сформировался уже на африканской земле.
Совершенно неожиданные выводы позволили сделать находки местных археологов, раскапывающих древние поселения, расположенные в десяти — двенадцати километрах к юго-востоку от Аксума, среди холмов Хаул-ти-Мелазо. Среди многочисленных стел, которым холмы и обязаны своим названием, эфиопский ученый Гезау Хайле-Марьям и его коллеги обнаружили руины двух храмов, а между ними белоснежный мраморный трон, украшенный барельефами тончайшей работы. Ученых, однако, озадачило не виртуозное мастерство творцов этого шедевра, созданного 2,4 тысячи лет назад, а то, что изображено на стенах трона. Там были вырезаны две фигуры — мужская и женская, но не аравийцев, а эфиопов. Об этом говорят их курчавые волосы и характерные лица, бородка клинышком у мужчины, телосложение женщины. Потом обратили внимание на ножки трона. По форме они напоминают копыта барана. Изображения этих же животных, которых многие африканские племена приносят в жертву своим богам, украшали и основание трона.
И тут же появилась мысль: не кушитский ли царь, эфиоп, африканец, сидел на этом троне? Не свидетельствует ли эта находка о том, что сабейцы играли в Тигре роль «технократов», а не правителей? Для того чтобы дать точные ответы на эти вопросы, мы еще не располагаем достаточными сведениями.
Многое, таким образом, говорит о том, что малочисленные южноаравийские переселенцы очень скоро были поглощены численно преобладавшим африканским населением, а принесенная ими более высокая цивилизация смешалась с культурой кушитских народов. На смену «сабейской» приходит «раннеэфиопская» культура Аксума. Сабейцы как бы вросли в африканскую почву и перестали быть сабеями. Культуру Аксума уже творили эфиопы. В начале I века н. э. на плато Тигре происходит обособление новой этнической группы, которая, получив полную самостоятельность, начинает играть доминирующую роль в жизни Северо-Западной Эфиопии.
О преемственности сабейской и аксумской культуры сейчас пишут и говорят в научных кругах очень много; один из главных «генераторов идей» в этом вопросе — Фрэнсис Анфре. Поэтому, прежде чем пускаться в путешествие по Аксуму, я занялся его поисками.
— Фрэн? — переспросили меня в «Тоуринг-отеле», где, как знает каждый аксумец, обычно останавливается ученый. — Если вам повезет, то застанете его в Ехе.
Глава тридцать четвертая
Аксум — одна из великих держав мира. — Португалец Ф. Алвариш восхищается красотой местной архитектуры. — Еха сегодня: руины на пьедесталах. — Встреча с Ф. Анфре. — Его мнение: «Здесь прослеживается преемственность сабейской и аксумской цивилизаций». — Новые находки археологов в Матаре. — Косма Индикоплов переписывает надпись о шести великих походах. — Великий Куш у ног царя Эзаны. — Гигантизм архитектуры как отражение великодержавия
На следующее утро, когда древний город еще спал, а солнце лишь начинало золотить макушки обелисков, я выехал из Аксума на восток. «Это даже хорошо, что встречу Фрэна именно в Ехе, — крутя баранку «Лендровера» вслед за капризными изгибами горной дороги, думал я. — Там находится один из самых старых аксумских храмов, место наиболее ранних находок следов древнейших эфиопских цивилизаций, изучая которые ученые создавали этапные работы в области аксумологии».
Первым из европейцев в начале XVI века в этих местах побывал португалец Ф. Алвариш, которому после 800-летнего забвения Аксума в мировой литературе пришлось «открывать» город заново. Шесть лет прожив в Эфиопии в составе посольства Мануэля I Великого, он составил первое достоверное описание этой страны (1540 год). Однако в аксумской истории он мало что понял. Аксум Ф. Алвариш принял за главную резиденцию мероитской царицы, упомянутой в Новом Завете. А в Ехе капеллану посланцев португальского короля запомнилась «большая красивая башня, изумительная по высоте и изяществу. Она окружена обширными домами с террасами, похожими на замки больших сеньоров».
Сегодня эти «дома-замки» лежат в руинах. А стоящая на круглом красном холме «башня», гордо возвышающаяся над равниной, как выясняется при ближайшем рассмотрении, представляет собой не что иное, как поражающий своей лапидарной архитектурой храм: гладкие, сложенные из тесаного известняка стены, которые некогда венчал двойной ряд блоков, с простым геометрическим узором в виде зубцов. Последние и придают башнеобразный характер руинам знаменитого сабейского памятника Еха, сооруженного в V веке до н. э. Как и все южноаравийские постройки, храм поднят на высокий ступенчатый пьедестал-стилобат, что придает всему сооружению монументальность.
Именно под этим пьедесталом, сходным, по мнению многих исследователей, с подпорными стенами ирригационных плотин, что южноаравийцы повсюду строили у себя на родине, я и обнаружил Фрэна. Согнувшись в подземелье в три погибели, он мягкой кисточкой расчищал от песка какой-то керамический предмет, обещавший стать амфорой.
— Зачем было ехать в такую даль из Москвы для разговоров на древнеэфиопские темы, если там у вас есть возможность обсудить все с Юрием Кобищановым, — после обмена рукопожатиями с лукавой улыбкой проговорил Ф. Анфре. — Из-за его работ центр аксумологии скоро переместится отсюда далеко на север…
— Но, наверное, кое-что из того, что вам удалось здесь обнаружить, месье Юрий еще не знает?
— Последние сезоны не очень богаты находками, тем более сенсационными. Условия для археологических работ на плато Тигре сейчас не самые лучшие. Но если сложить воедино все то, что мне, Гезау Хайле-Марьяму, Гебре-Селассие-Кедану и другим коллегам удалось найти в Хаулти-Мелазо, Матаре, да и здесь, в Ехе, то, подытоживая все сделанное, я бы сказал: в аксумологии совершается подлинная революция. Прослеживается преемственность сабейской и аксумской цивилизаций. Когда-то мы спорили, насколько далеко зашла «африканизация» южноаравийского начала в Аксуме. В последнее время мне становятся все более очевидны самобытные кушитские корни культуры аксумитов.
— Здесь, в Ехе, это тоже прослеживается? — поинтересовался я.
— Раньше здесь были три церкви разных периодов, дававшие возможность наглядно видеть, как эволюционировала эфиопская архитектура. Одну из них, самую большую и, наверное, самую древнюю, разрушило время. От нее вон на том пригорке, видном отсюда, сохранились лишь остатки портика. Смотрите, вон за оливой — одна колонна, левее, подряд — еще три… Их создатели в качестве образца для подражания избрали не стволы деревьев, как это делали древнеегипетские и античные архитекторы. Они складывали свои колонны из плит, создавая каменные столбы, столь характерные для аравийской традиции.
Рядом, неподалеку от нее, стояла другая церковь, построенная уже в средние века, в классической аксумской традиции. Подобное соседство давало благодатную возможность сравнивать и сопоставлять… Однако в годы итальянской оккупации Эфиопии церковь была взорвана. Так что теперь мы можем судить о ней лишь по описаниям и зарисовкам, которые оставили нам классики аксумологии.
И вот, наконец, этот храм, где мы сейчас находимся, — продолжает Ф. Анфре. — Аксумитам была свойственна удивительная религиозная терпимость. В основе ее, как мне представляется, лежала преемственность между той религией, которую исповедовали создатели древнеэфиопской культуры, и христианством в том виде, каким его приняли аксумиты. Вам это может показаться неправдоподобным? Но я глубоко убежден, что христианами жители Аксума в значительной степени стали потому, что библейское учение мало в чем противоречило их традиционным культам. По этой причине, наверное, они никогда не рушили древние языческие храмы, а с помощью элементарных, минимальных переделок превращали их в христианские.
Именно это, как и повсюду на плато Тигре, и произошло с древним храмом в Ехе. Его стены сохранились практически такими, какими их выложили сабейцы. Аксумиты лишь пробили наверху, в восточной части храма, окно в виде креста. А под ним соорудили каменный алтарь, диаконник и бассейн для крещения.
— А теперь о религии, месье Анфре, — попросил я. — Вы затронули очень интересный вопрос о том, что преемственность сабейской и аксумской цивилизаций прослеживается даже в религии, что христианство аксумитов как бы вытекало из их ранних языческих культов.
— «Вытекало» — это очень удачный термин, — утвердительно кивая, заметил ученый. — Впервые на эту мысль меня натолкнули данные, полученные во время работы в Матаре. Это — один из шести известных нам аксумских городов. Он возник в III веке до н. э. и просуществовал целое тысячелетие. Городок небольшой, компактный, и поэтому его археологические слои читаются словно роман с многотомным продолжением. К первым годам возникновения Матары относится обнаруженный там архаический каменный обелиск с изображением астральных символов сабейцев: луны и солнца. Но надпись на обелиске — уже не южноаравийская, а древнеэфиопская. Затем был построен матарский храм — типично аксумской архитектуры. Но под плитами его залов похоронены то ли христианские священники, то ли языческие жрецы. Рядом с ними — черепки керамики, на многих из них уже есть кресты. Несколькими веками позже появляются и захоронения христианских монахов. Одновременно с ними были погребены какие-то светские лица, в могилах которых лежали черепки с языческими символами. И тут же — бронзовые бусы, осколки стеклянной вазы, редкостный для аксумских находок фрагмент скульптуры из слоновой кости. В общем — захоронение явно не рядового, а богатого человека. Но христианства он, если судить по черепкам, не принял.
О чем все это говорит, особенно если сопоставлять находки в Матаре с итогами работ археологов в других аксумских городах, с данными надписей на стелах, со свидетельствами античных и аравийских авторов? — как бы сам себе задает вопрос Ф. Анфре и тут же отвечает: — Да о том, что христианство в Аксум пришло не в одночасье, что народ крестили не в приказном порядке и что традиционные верования аксумитов долго и мирно сосуществовали с пришлой, лишь начинавшей набирать силу религией. Что это были за верования?
Узнать об этом мне, однако, в тот день не пришлось. К Ф. Анфре приехали представители местных властей — он давно ждал их, чтобы договориться о месте проведения новых раскопок. Поблагодарив ученого за интересный рассказ об Ехе и условившись о новой встрече, я вернулся в Аксум. Оставил машину неподалеку от Парка стел и пошел бродить по городу.
Если бы его улицы умели говорить, а каждый пожелавший того мог читать летопись древних камней, то прогулку по Аксуму можно было бы уподобить путешествию в мир исторической фантастики. Кто из современников, кроме нескольких десятков историков, знает, что полторы тысячи лет назад Аксумское царство считалось одной из четырех великих держав мира? Вряд ли многие ведают, что правители этой державы на равных разговаривали с Персией и Индией, а императоры Византии сами набивались им в союзники? Каждый ли поверит, что город Аксум своей роскошью и богатством поражал повидавших на своем веку путешественников, а аксумский порт Адулис, позже исчезнувший с лица земли, слыл крупнейшим торговым центром Востока? И кто не усомнится, прослышав, что некогда власть чернокожих ныгусэ этой африканской империи простиралась по обе стороны Красного моря, в том, что им была подвластна Южная Аравия?
А ведь все было именно так!..
Вскоре после того, как в «море» кушитских народов, населявших плато Тигре, исчезли сабейцы и на этнографической карте древней Африки начало появляться название молодого динамичного народа — аксумиты, неожиданно стремительно возвышается их государство. Отличительной чертой его внешней политики была напористая экспансия и в глубь Африки, и в соседние цивилизованные страны — Мероэ и Южную Аравию. Если считать Аксум преемником не только культурного, но и политико-государственного наследия Тигре, то масштабы завоеваний ныгусэ кажутся поразительными. Трудно точно установить дату, когда они начались, но доподлинно известно что было подвластно Аксуму к середине IV века н. э.
Благодарить за это следует Косму Индикоплова — жившего в VI веке византийского купца и путешественника. В мировой географии он много напутал, а саму географическую науку от античных достижений системы Птолемея, поднявшегося до осознания шарообразности земли, низверг до представлений о нашей планете как о продолговатом прямоугольнике, окруженном океаном и стенами с небесной твердью в форме арки. Однако, попав примерно в 525 году в Эфиопию, он сделал большое дело: скопировал знаменитую Адулисскую надпись. Не потрудись тогда Косма над переписыванием довольно пространного текста на греческом языке, она наверняка была бы утеряна для нас. Теперь же мы знаем: приказавший выбить эту надпись безымянный для нас аксумский царь, живший то ли в конце III, то ли в начале IV века, предпринял семь походов и стал «первым и единственным из царей, кто подчинил все соседние народы», стал их властелином.
Удовлетворился ли этим владыка Аксума, сумевший за 27 лет своего правления создать огромную, самую большую в Тропической Африке империю? Оказывается, нет! Его воинство переправляется через Красное море, и африканцы меняются ролями с южноаравийцами: ахсумиты завоевывают Сабейское царство. Под их контроль попадают оба берега Баб-эль-Мандебского пролива, а следовательно, и вся торговля, которую через него вели Запад и Восток.
Со временем на стелах ныгусэ Аксума начинают величать и «царем хымьяритов», а с хымьяритами отождествляется все южноаравийское население. Проходит еще несколько веков, и из лоций исчезают названия практически всех сомалийских гаваней. Хиреют многие южноаравийские порты. Их затмевает один-единственный — Адулис, «знаменитый город эфиопов», как характеризовал его Косма. Остальные, не выдерживая его конкуренции, сдают свои позиции. Именно в Адулис направляются поддерживавшие связи с внутренними районами Африки купцы из Римской империи, которая и в Египте, и на севере Аравии была тогда ближайшей соседкой аксумитов.
Столь же важным, но внутриконтинентальным центром торговли становится город Аксум — перекресток караванных путей, причем ведущих не только в Египет и Мероэ, но со временем и все дальше на юг, вдоль рифтовых долин и нагорий. Примерно в 270–280 годах в Аксуме впервые в Тропической Африке начинают чеканить собственные золотые монеты. Достаточно сказать, что разрешить себе подобное в те времена могли лишь «самые сильные мира сего» — римский, персидский и кушанский императоры. Золотые деньги имели хождение во всех странах тогдашнего цивилизованного мира, и поэтому появление аксумских монет из желтого металла было расценено повсюду однозначно: в Тропической Африке возвысилась империя мирового значения.
Именно в это время перс Мани, основатель манихейской религии, умерший в 176 году, писал: «Суть четыре великих царства на свете: персидско-вавилонское, римское, аксумское, китайское». А крупнейший отечественный востоковед Б. А. Тураев оценивал Аксум в иерархии великих империй еще выше, называя его «третьей в тогдашнем мире державой наряду с Римской и Парфянской». Аксумские владыки, преисполненные сознанием своего величия, не отказываясь от традиционного титула «ныгусэ», в самом конце III века начинают именовать себя «ныгусэ нэгэст» — «царь царей». Тем самым они не только подчеркивали свою власть над многочисленными правителями покоренных Аксумом земель, не только демонстрировали свое превосходство над «простыми» царями, еще не подпавшими под их власть. Таким образом аксумские цари провозглашали свое право быть равными с великими правителями, имевшими подобные титулы: шахиншахом Ирана, шахиншахом махараджей Кушанского царства, а также римским императором. И никто не оспаривал у африканских «ныгусэ нэгэст» это право!
Скорее всего, подобная психология великодержавия утвердилась у аксумитов после того, как в конце III века к их ногам пало Мероитское царство — «божественная империя» Куш. Несколько раз эфиопские воины пытались подчинить себе Мероэ, но превосходство железного оружия всякий раз заставляло их отступать к границам нагорья. Однако из многочисленных неудач был извлечен опыт: на вооружении у аксумского войска появились стрелы и копья с металлическими наконечниками. Это в значительной степени решило судьбу Куша, переживавшего пору династических междоусобиц. Последняя надпись, оставленная мероитами на дошедшей до нас каменной стеле, говорит о том, как их страна была начисто разграблена, а ее население признало власть завоевателей. Зато к многочисленным титулам «ныгусэ нэгэст» прибавился новый, быть может, самый желанный для правителя африканской империи: царь Куша…
Эзана — так звали наиболее известного и просвещенного правителя аксумитов, взошедшего на престол в те годы, когда империя находилась в зените своего расцвета. Скорее всего, совет старейшин, состоявший из двенадцати «законоведов» — представителей наиболее влиятельных аксумских родов, провозгласил его «царем царей» около 325 года. Именно Эзана завершает завоевания Куша, север которого к тому времени заселили пришедшие из Кордофана нубийцы.
На первых порах, не желая признать власть Аксума, они ведут себя дерзко и непокорно, уповая на то, что естественной защитой их земель станет очень полноводная река Атбара. Однако молодой царь решается на невиданный в те времена по своим масштабам и дерзости маневр: войска под его предводительством переходят реку, 23 дня преследуют нубийцев, настигают их у слияния Атбара с Нилом и дают там решающий бой. Эзана выходит победителем. Его воинство, воодушевленное успехом, совершает несколько экспедиций вверх и вниз по Нилу, грабит кушитские «кирпичные города», предает огню «соломенные» деревни, разрушает храмы и низвергает статуи богов… С огромной добычей они возвращаются домой.
Именно в тот период возвышения и расцвета Аксума и появляются в его столице величайшие из монолитных сооружений, поражающие воображение наших современников. Этот город застраивается грандиозными дворцами и храмами, тогда же в великой африканской столице появляются и наиболее внушительные стелы. Подобная «гигантомания» была не слепым подражанием фараонам или вавилонским царям. Увлечение гигантизмом отражало суть осознавшей свое величие аксумской державы. Она возводила памятники собственному могуществу.
Глава тридцать пятая
Эфиопия — родина небоскребов? Стелы — коллективные памятники во славу военных побед. — Удивительные открытия в основании «холма» Бетэ-Гиоргис. — Архитектурный ансамбль, не имеющий себе равных в мире. — Советский ученый утверждает: в Аксуме были 14-этажные дома. — Как древним удавалось решать технические проблемы, с которыми не смогла справиться армия Муссолини? — Аксумские плотины сдерживают воду и по сей день!
Если говорить о стелах, которые стали своего рода символами Аксума, то они отнюдь не изобретение древних эфиопов. Это обычная форма надгробий, издревле очень широко распространенная среди семитских народов Южной Аравии, которые еще до появления сабейцев в Африке сооружали плоские обелиски из грубо отесанного камня над могилами своих воинов. Но только в Эфиопии эти надгробные обелиски переросли в колоссы. Кому могли сооружаться подобные памятники? Подмечено, что по очертаниям отдельных деталей крупнейшие стелы удивительно напоминают аксумские Дворцы. Нет ли в этом символа, указывающего, что хаулти — «дом мертвых»? И не были ли устремленные в небо гигантские стелы Аксума коллективными памятниками воинам, принесшим великие богатства ныгусэ нэгэст и всей его державе? В пользу предположения о том, что стелы сооружались царями во славу своих побед, говорят и надписи на многих древних монументах.
Однако находились и противники отождествления хаулти с «домом мертвых». Их довод таков: коли формы стел подсказаны аксумскими зданиями, то где же типичные для аксумских архитекторов ступенчатые основания? И действительно, ответить, казалось бы, было нечего, потому что почти все известные аксумские дворцы, храмы и жилые дома возводились на каменных плитах уже знакомых нам по стилобату Ехи. Стелы же, насколько позволял судить их вид, попросту торчат из земли, удерживаясь зарытыми в нее утолщенными основаниями.
И вдруг — потрясающее открытие! В конце 1955 года участники совместной французско-эфиопской археологической экспедиции, проводившей раскопки в центре Парка стел, обнаружили интереснейшую находку у подножия самого большого поверженного обелиска. Снимая слой за слоем землю и извлекая из нее древние монеты, гончарные изделия и домашнюю утварь, они постепенно, сами того не зная, раскопали поистине фантастических размеров сооружение.
Все думали, что стелы своими основаниями уходят в естественное возвышение, известное под названием «холм Бетэ-Гиоргис». Холм как холм, заросший травой и исчерченный тропинками пешеходов, снующих вдоль его подножия за водой или на рынок. Никому и в голову не приходило, что вековые напластования скрыли в этом холме плоды титанического труда древних аксумитов.
Археологи же открыли, что Бетэ-Гиоргис представляет собой огромную, длиной 115 метров платформу, сложенную из обтесанных базальтовых плит. На склонах холма были устроены три террасы, которые создавали иллюзию ступенчатого основания, столь типичного для аксумской архитектуры. Стало ясно, что стелы лишь самая верхняя часть колоссального сооружения, скрытого под землей и еще ждущего исследователей.
Сам же этот холм со стелами был частью не имеющего в мире аналогов архитектурного ансамбля, выросшего в западной, самой древней части Аксума. Если по склонам подступающих к городу гор, все еще укрытых хвойными лесами, подняться наверх и окинуть оттуда взглядом этот заповедный квартал, то без труда можно представить себе, как выглядела столица аксумитов в пору своего расцвета.
У подножия Бетэ-Гиоргис, облицованного тогда полированным известняком, раскинулась священная площадь Дэбтэра, в центре которой, сверкая огромным золотым куполом, возвышался величественный храм — сначала бывший языческим, а в христианские времена — посвященный Марии Сионской.
Далее на запад, отделенные от сутолоки священных мест водоемами с проточной водой и парками, в которых содержалось множество диковинных животных, стояли два прекрасных дворца — Ында-Сымйон и Ында-Микаэль. Они являли собой необыкновенно изысканные простые квадратные здания с ризалитами, внутри которых каменные колонны отделяли анфилады парадных залов и жилых комнат. Их фундаменты и сегодня манят к себе туристов и археологов.
Судьба третьего, самого большого дворца — Та’ака Марьям — сложилась по-иному: уже в наше время было безвозвратно потеряно то, что выстояло долгие века. В 1938 году, в разгар фашистской агрессии против Эфиопии, итальянские оккупанты провели через Аксум стратегически важную для них автостраду. Не считая нужным отклонить ее хотя бы на несколько десятков метров в сторону, они проложили трассу прямо по фундаменту Та’ака Марьям.
Сегодня нам приходится довольствоваться лишь сохранившимися описаниями дворца. Но и по ним можно судить, что Та’ака Марьям, стоявший неподалеку от Парка стел, был еще более величественным сооружением, чем те, что возвышались над холмом Бетэ-Гиоргис.
Это была пышная и роскошная резиденция царей, со временем ставшая святилищем в глазах народа. Сто двадцать метров в длину и восемьдесят в ширину — таковы размеры платформы Та’ака Марьям. В огромном здании, по углам которого стояли представляющие единое целое с ним массивные квадратные башни, насчитывалось более тысячи залов и опочивален с выходами в три внутренних двора-сада, располагавшихся на разных уровнях. В центре ансамбля, соединенный с остальными постройками перекидными лестницами и крытыми переходами, возвышался «бетэ ныгусэ» — собственно царский замок.
Полы в залах Та’ака Марьям были покрыты то зелеными и белыми мраморными плитами, то редкостными породами красного и розового дерева, а стены облицованы полированным эбеном, на котором выделялись фризы и инкрустации из позолоченной бронзы. Деревянные резные потолки украшали орнаменты и рельефы зверей, в том числе единорогов. Над окнами и дверьми можно было видеть барельефы, вышедшие из-под резцов непревзойденных мастеров. Бронзовая скульптура и покрытая глазурью, расписанная замысловатыми орнаментами керамическая посуда завершали интерьер дворца, который по богатству убранства не имел равных в Тропической Африке. Любопытно отметить, что, судя по остаткам фундаментов, обнаруженных недавно в Аксуме, Та’ака Марьям был отнюдь не самым грандиозным сооружением этого удивительного города. И наверное, не самым богатым.
Ни Косма Индикоплов, оставивший восторженные описания резиденции ныгусэ, ни другие путешественники, видевшие дворцы Аксума во всем их блеске и великолепии, ни словом не обмолвились об очень интересной детали: сколько же этажей имели эти грандиозные сооружения? Казалось, ответить на этот вопрос в наше время, когда от дворцов сохранились лишь одни полуразрушенные фундаменты, вряд ли удастся. Но открытия археологов, позволившие предположить, что стелы повторяют формы аксумских зданий, подтолкнули аксумологов и на другое предположение: не повторяет ли хотя бы приближенно высота стел высоту царских дворцов? Советский африканист Ю. М. Кобищанов, очень много сделавший для знакомства широкого читателя с великим прошлым Аксума, убедительно доказывает, что там существовали дворцы в четыре, шесть и даже четырнадцать этажей! «Бета ныгусэ» в комплексе Та’ака Марьям реконструируется как восьмиэтажный.
Я взял книгу Ю. Кобищанова и, пользуясь ею, словно ключом, способным открыть аксумские тайны, подошел к самой большой из стел, лежащей у основания Бетэ-Гиоргис. Ученый утверждает, что стела передает в уменьшенном масштабе, при высоте этажа два метра, все подробности жилища. И действительно! Вот входная дверь со скобой, вход с дверной рамой. Нижний этаж — без окон, он нежилой. Во втором этаже — окна маленькие, там, скорее всего, обитала царская челядь. Далее окна нормальной величины, а на трех верхних этажах они снабжены оконными решетками. Уж не для безопасности ли царской особы и его семьи? Ныгусэ нэгэст жил, скорее всего, именно там. Но не потому, конечно, что в III веке ему докучали экологические проблемы и он хотел дышать воздухом почище. А потому, что жить наверху значило «жить над всеми», находиться «поближе к богу».
Можно разглядеть на 33,5-метровом «макете» и многие другие детали древней архитектуры. Вот, например, равномерно высеченные по периметру стел полусферы, с гениальной простотой смягчающие прямолинейную жесткость базальтового монумента. Что это? «Ключ к стелам» объясняет: «обезьяньи головы». Так архитекторы называют округленные, выходящие на фасад торцами деревянные поперечные связи между этажами, характерные для бытовых и культовых зданий аксумитов. Высота их реального этажа была, вероятно, 2,8 метра. Следовательно, высота 14-этажного дома составляла около 40 метров…
Небоскребы в Африке, воздвигнутые в начале нашей эры! Как и кто их строил? На каком уровне развития должно было находиться древнее африканское государство, чтобы организовать огромные массы людей на подобное строительство? Какой техникой обладали аксумиты? Так, решив один комплекс вопросов и проблем, мы сразу же столкнулись с новым и, кажется, еще более сложным.
Обратимся опять к стертым временем надписям на камнях, обнаруженным в Эфиопии, к папирусам и манускриптам, хранящимся в библиотеках и музеях.
В Анза, безвестной эфиопской деревушке, был найден как-то обелиск. Когда высеченное на нем удалось прочитать, выяснилось, что речь идет о крупных строительных работах. Они длились 15 дней, и работавшим в оплату за их труд было выделено 20 620 хлебов. Конечно, небоскреб за полмесяца в те времена построить было нельзя. Но то, что аксумиты имели опыт массового строительства, из надписи на обелиске совершенно ясно.
Есть указания, что к сооружению наиболее крупных и важных объектов привлекались царские войска. Нередко случалось, что первый камень в фундамент храма или стелы клал сам ныгусэ. И тогда от участия в работе, носившей характер коллективной трудовой повинности, не мог уклониться никто, вплоть до высших сановников.
Еще Джеймс Бент обнаружил в шести километрах к северо-западу от Аксума, в местечке Годебра, остатки огромной каменоломни. Древние каменотесы разрабатывали монолитный гранитный массив, пользуясь неизвестной нам техникой. На полпути от каменоломни к Аксуму Бент нашел также гигантскую гранитную глыбу, местами обтесанную, но по непонятным причинам так и не попавшую в фундамент храма. Какой техникой пользовались аксумиты при транспортировке многотонных глыб или целых обелисков из каменоломен в Аксум? Вопрос этот совсем не праздный, поскольку и в наше время решить подобную проблему оказалось бы делом невозможным. Приказ Муссолини перевезти в Вечный город самую большую из аксумских стел итальянская армия в 1938 году выполнить не смогла. Дуче пришлось довольствоваться лишь стелой средних размеров. Она и сегодня красуется на римской площади Порта Капена, напоминая о бесславных операциях оккупантов в Эфиопии.
Записки Дж. Бента подсказали мне маршрут одной интересной экскурсии. Если выехать из Аксума по «дороге древних» — так здесь называют шоссе, которое ведет к побережью, то неподалеку от Асмэры на смену лесистым горам приходит покрытое чахлой растительностью плато Кохайто. Еще совсем недавно не составляло труда найти здесь проводника, который бы указал тропку к развалинам города Колоэ. Близ него сохранилась грандиозная плотина, подпруживавшая водохранилище, щедро поившее в этих засушливых местах не только горожан, но и поля окрестных крестьян.
Плотина имеет длину более 60 метров. Она сооружена уступами, в виде этакой лестницы для великанов, что придает всей системе максимальную устойчивость против напора воды. Одним концом плотина упирается в скалу, другим — в некогда массивное, кубической формы сооружение, скорее всего — храм. Плотина — не насыпная, а сложена из полуметровых каменных кубической формы глыб, настолько мастерски пригнанных друг к другу, что, не скрепленные раствором, они не пропускают воду.
Существовали ли дороги для транспортировки гранитных и базальтовых глыб, использовавшихся при строительстве столь величественных архитектурных сооружений? В 1831 году в Аксум проник австриец фон Калло. В своем дневнике он записал: «Я проехал мимо монастыря под названием Абба Панталеон (он находится в окрестностях города. — С. К.) и мимо обелиска, одиноко возвышающегося на скале над ним, и попал на высеченную в скале древнюю дорогу, теперь уже сильно разрушенную. Взглянув на двухметровый парапет, легко убедиться, что дорога сооружена в очень отдаленном прошлом. На парапете на равных расстояниях друг от друга изваяны цоколи, на которых когда-то стояли гигантские скульптуры богов. Вокруг лежат обломки статуй, в частности два огромных, но почти совсем разрушенных изображения Сириуса».
Дорога имеет ширину 15 метров, что вполне достаточно даже для слонов. Вслед крестьянам, и поныне пользующимся этой древней аксумской дорогой на пути из деревень к городскому рынку и обратно, я проехал по ней на «Лендровере». Обломков статуй Сириуса я не заметил, но следы титанического труда, ценой которого была прорублена в скале широченная колея, были налицо.
Глава тридцать шестая
Путь от язычества к христианству. — Небесные светила «заигрывают» со стелами. — Луна у тигре пользуется особым почтением и сегодня. — Почему ненавистный Зевсу бог войны Арес отождествлялся с племенным богом аксумитов? — Царь царей Эзана провозглашается сыном Махрема. — Начало собственного пути, к единобожию. — Скульпторам раннего Ренессанса такое было бы не по плечу! — Первыми крестоносцами были аксумиты
Ближе к вечеру я возвратился в Аксум. Все так же перекликались женщины, набиравшие воду у колодцев, и все так же стучали барабаны под сводами нового храма Марии Сионской. Солнечные лучи коснулись вдруг голубого базальта стел, и он заиграл, заискрился загадочным светом. Легкие облака плыли по небу, то закрывая, то открывая солнце. И стелы, как бы перехватывая его лучи, то сверкали, то растворялись на фоне синего неба. Было что-то загадочное и торжественное в этой игре переживших века монументов со светилом. Случайна ли эта игра? Или она тоже имела смысл для древних аксумитов, которые, прежде чем склониться перед крестом, поклонялись утренней звезде, солнцу и луне.
Еще в начале XX века Э. Литтман, изучая мифологию отдельных племен тигре и тиграи, живших в окрестностях Ехи, отмечал, что особым почтением среди них пользовалась луна. Да и сегодня в некоторых наиболее труднодоступных и уединенных селениях на плато старейшины не разрешают соплеменникам начинать посев или жатву до наступления полнолуния. Время, соответствующее последней фазе ночного светила, они считают «недобрым», а лунное затмение — «плохим предзнаменованием». Окончание затмения трактуют как «выздоровление луны», которое отмечается ночными бодрствованиями и плясками. Напротив, новолуние «приносит счастье». В это время на плато Тигре предпочитают играть свадьбы, а дети, рожденные «под узким серпом», считаются «избранными» среди своих братьев и сестер.
У аксумитов III–IV веков, отчетливо осознававших свое государство составной частью современного им цивилизованного мира, существовал сослуживший нам добрую службу обычай: наиболее важные надписи выбивать на камнях не только на геэз, но и на древнегреческом языке. В одной такой билингве, высеченной при Эзане, бог Махрем эфиопского текста в переводе назван Аресом. А это сразу же открывает нам глаза на то, в каких ипостасях на земле почиталось аксумитами их небесное божество. Оно было богом войны.
Конечно, на Олимпе можно было бы отыскать и кого-нибудь посимпатичнее. Арес — это своего рода «отрицательный герой» греческой мифологии, бог коварных, вероломных, разбойничьих, а выражаясь современным языком, несправедливых и захватнических войн. Он является антиподом мудрой Афины Паллады — богини справедливой войны, прообразом римского Марса. Ареса недолюбливали не только сами греки, но и его отец, Зевс, называвший своего сына самым ненавистным из богов и помышлявший отправить его в Тартар. Спутницами Ареса были богиня раздора Эрида и кровожадная Энио, среди его многочисленных детей фигурируют Деймос (ужас) и Фобос (страх). Софокл именует Ареса «презренным богом».
И тут довольно трудно сказать, что предрешило выбор аксумитов. То ли они недостаточно разбирались во всех нюансах мифологии эллинов, то ли, напротив, знали ее настолько хорошо, что при составлении билингвы отдали предпочтение Аресу именно для того, чтобы подчеркнуть наступательный, захватнический характер своей политики, устрашить соседей.
Однако, как бы то ни было, языческий Арес-Махрем, выделенный из астральных культов семитов, со временем персонифицируется и превращается в верховное божество аксумитов. Упоминание Махрема все чаще начинает появляться на стелах и в царских надписях, где раньше о религиозных верованиях аксумитов напоминали лишь солнечно-лунные символы. В адулисской надписи ныгусэ называет его «своим величайшим богом», а в билингве, высеченной в связи с победами в Нубии, уже утверждается: «Эзана, царь Аксума, царь царей, сын бога Махрема, никогда врагами не побежденный». Так, по мере усиления власти ныгусэ нэгэст, когда, очевидно, начали образовываться классы раннефеодального Аксума, племенной бог Махрем превращается в бога династического, бога — прародителя царей, а сам царь, следовательно, предстает в глазах его подданных-язычников земным воплощением небесных светил-богов. Иными словами, царь царей становится живым богом. Такому царю не нужны, не выгодны многочисленные божества языческого пантеона, конкурирующие с его авторитетом. Так Эзана начинает свой собственный путь к единобожию.
Пора было возобновлять прерванный разговор с Ф. Анфре. В условленное время я позвонил ученому в «Тоуринг-отель», и он любезно согласился провести со мной часть следующего дня в Парке стел.
— Мне кажется довольно обоснованной гипотеза о том, что древние эфиопы пришли к монотеизму, облегчившему им принятие христианства своим собственным путем, — говорит он. — Это был долгий и сложный путь. Но для того, чтобы проследить его здесь, на холме Бетэ-Гиоргис, нам с вами далеко ходить не придется.
Начнем хотя бы с главной, стоящей стелы, — продолжает ученый, подведя меня к основанию обелиска. — Вот углубления в виде круглодонных чаш с двумя ручками. Сейчас туристам, чтобы не портить им настроения, чаши обычно не показывают. Они — мрачная деталь аксумской истории. В чаши стекала кровь жертв, приносимых на алтарях — пьедесталах стел. Не исключено, что эти камни помнят и человеческие жертвоприношения.
Точных указаний на этот счет об Аксуме нет. Но общеизвестно, что цари Каффы, очень многое унаследовавшие от религиозных ритуалов аксумитов, приносили луне, солнцу, Венере и человеческие жертвы. Символы ночного и дневного светил повсюду выбиты в навершиях стел.
А теперь сделаем всего лишь несколько сот шагов — и перенесемся с вами в тот Аксум, который, став одним из просвещеннейших городов древнего мира, начинал поклоняться единому богу, — продолжает свой рассказ Ф. Анфре.
Он проводит меня среди поверженных стел, показывает проход меж гигантских каменных плит, назначение которых так и не выяснено учеными, и останавливается около двух больших продолговатых вмятин на базальтовом пьедестале. Если бы мы находились в долине Летоли, а рядом со мной стояла Мэри Лики, то я бы сказал ей, что это — след ноги какого-то гиганта, неосторожно ступившего на еще не успевшую застыть лаву. А тут?
— Углубления для ноги некогда стоявшей здесь статуи, — объясняет ученый. — Длина ступни — девяносто два сантиметра. Если соблюдать элементарные пропорции, то высота всей фигуры превышала шесть-семь метров.
— Она была высечена из камня? — поинтересовался я.
— Это было бы слишком просто. А Эзана хотел войти в историю как царь, оставивший после себя нечто неповторимое. Поэтому, как гласит его билингва, он повелел отлить и воздвигнуть в честь своего бога-отца Махрема пять таких гигантских статуй: золотую, серебряную и три бронзовые. Эти две ступни — все, что от них осталось. Но и по ним можно сделать вывод: аксумские литейщики взялись за работу, которая была бы не по плечу даже мастерам раннего Ренессанса! Скорее всего, под этими скульптурами, символизировавшими уже ставший государственным культ Махрема, проходили коронации правителей Аксума. Отсюда, присягнув богу войны, они уходили в свои победоносные походы.
Обернитесь налево — и перед старой церковью Цыйон вы увидите так называемый «трон Давида» — большую, вытесанную из камня квадратную платформу, установленную на стройных колоннах. К западу от нее, под сенью гигантских фиговых деревьев — двенадцать каменных, декорированных скамеек. Согласно самому раннему преданию, на них сидели наиболее уважаемые старейшины подвластных Аксуму племен, к мнению которых прислушивался ныгусэ. В легендах средневековья старейшины были отождествлены с судьями-спутниками Менелика, сына царя Соломона. А по разумению средневековых европейских путешественников, эти кресла предназначались для «двенадцати судей первосвященника Иоанна».
— Вы чувствуете, как близко здесь проходит граница между собственно эфиопской религией, ко времени правления Эзаны уже создавшей на основе языческой триады луна — солнце — Венера своего собственного универсального бога, и занесенными извне догмами христиан о триедином боге, учение которых именно в это время начало проникать в Аксум? — обратился ко мне Анфре. — И вы понимаете, почему именно здесь для перехода от одной единой религии к другой двенадцать скамеек африканских старейшин было достаточно переименовать в двенадцать кресел библейских судей? Упрощая этот процесс, суть его можно сформулировать так: идеи христианского монотеизма были очень созвучны эфиопскому неопределенному монотеизму времен Эзаны[28].
В начале своего очень длительного пребывания на троне Эзана чеканил монеты с изображением солнечнолунных символов, в середине этого периода — воздвигал гигантские памятники «собственному богу» Махрему, а в конце его — допустил появление на аксумских деньгах знака креста. Надпись Эзаны о походе в Мероэ сохранилась в эфиопском и греческом вариантах. Первый из них, предназначенный для аксумитов, употребляет неопределенно-монотеистическую терминологию, а греческий, адресованный иностранным читателям, — христианскую.
Когда и как произошло крещение Эфиопии? Сегодня мы привыкли смотреть на Северную Африку как на твердыню ислама. Но в те далекие годы, когда Аксум был одной из мировых столиц, африканский север и Красноморское побережье от Египта до Туниса были оплотом христианства. Именно в Африке в III–V веках возникли или получили распространение многие христианские направления и толки, впоследствии осужденные православной и католической церковью и объявленные еретическими. Среди них особое место занимает монофизитство — учение о единой божественной природе Христа, бросавшее вызов догмату о двух его сущностях — божественной и человеческой. Особенно сильным это движение было в Египте, что привело к появлению коптской церкви, имеющей с 536 года своего монофизитского патриарха.
Аксум, находившийся в центре политической и экономической жизни Северной и красноморской Африки, связанный с Египтом многовековыми традициями, не мог оставаться в стороне от этих событий. Первые христиане в Аксуме появились в IV веке, когда тирский философ-христианин Меропий, возвращаясь из Индии, попал во владения Аксума. О том, что произошло дальше, рассказывается в так называемом Синаксаре — эфиопском жизнеописании святых:
«Меропию сопутствовали два ученика — его родственники Фрументий и Эдезий… Корабль пристал к берегам страны (Эфиопии); и Меропий увидел все чудеса, о которых прежде лелеял мечты в своем сердце, а когда уже собирался возвратиться на родину, то напали на него враги. Они убили его и его спутников. Остались в живых только два мальчика. Туземцы взяли их в неволю, обучили воинскому искусству и преподнесли в дар царю Аксума — Элла-Аладе. Царь назначил Эдезия хранителем казны, а Фрументия — блюстителем закона и писцом Аксума. Вскоре царь умер, оставив вдову с малолетним сыном. На троне воцарился Элла-Асгуагуа. А Эдезий и Фрументий воспитали ребенка, прививая ему веру Христову. Они построили для него часовню, куда водили и других детей, обучая их.
Когда же наследник престола вырос, они обратились к нему с просьбой позволить им вернуться на родину. Эдезий отправился в Тир навестить семью, а Фрументий — в Александрию, к только что ставшему патриархом Афанасию. Он рассказал ему обо всем, что с ними произошло, и поведал о том, что в стране (Эфиопии) верят в Христа, но нет в той стране ни священников, ни епископов. Услышав все это, Афанасий назначил его епископом Эфиопии и отправил с большими почестями…»
Все упомянутые в этом отрывке из Синаксара — реально существовавшие, известные в истории личности. Так, царь Элла-Асгуагуа — это уже известный нам Эзана. Что же касается даты распространения христианства, то с точностью до года ее назвать трудно. Декретов на этот счет не принималось. Можно, наверное, поэтому согласиться с мнением занимавшегося историей церкви русского ученого В. В. Болотова, полагавшего, что в V веке Эфиопия еще была по преимуществу языческой страной. Все грандиозные памятники Аксума, возраст которых удалось установить, были созданы до конца IV века. Они — достижение и наследие дохристианского Аксума.
Официальной, поддерживаемой властью, а быть может, иногда даже насаждаемой сверху религией христианство стало в Аксуме лишь в VI веке. Толчком к этому послужила религиозная борьба в южноаравийских владениях Аксума, где власть временно захватил один из членов царского дома хамьяритов, Зу-Нувас, принявший иудейство. Его мятеж был подавлен. Но дабы сплотить страну под единым знаменем, предотвратить новые смуты и застраховать себя от козней византийской дипломатии, «царь царей» Калеб Элла-Ацбыха провозгласил христианство государственной религией. При этом предпочтение отдавалось не православию, что могло бы излишне усилить влияние Византии в красноморском регионе, а монофизитству. Это была дань давним связям Аксума с Египтом, признание приоритета «африканского начала» в идеологии и политике Калеба.
С помощью креста и копья богател Аксум, расширялись его границы, укреплялся его авторитет в глазах всего мира. Государство и религия, цари и патриархи отныне поровну делили славу и богатство. Аксум застраивался не только дворцами и храмами, но и каменными особняками знати, торговцев. Появились кварталы глинобитных строений, в которых работали ткачи, красильщики, кузнецы, ювелиры, создававшие ценные предметы для двора и храмов.
Именно в это время, в годы правления Элла-Ацбыха, во дворце Та’ака Марьям и побывал Косма Индикоплов. Судя по его описаниям, «царь царей» был просвещенным и любознательным правителем, коллекционировал памятники старины и произведения искусства, пытался создать во дворце нечто вроде зоологического музея. Осколки посуды тех времен, особенно керамической, с характерной красной и черной глазурью, аксумские мальчишки до сих пор находят среди руин дворцов и продают туристам.
Кто знает, может быть, это осколки тех кубков и чаш, из которых пили участники роскошного приема в «бетэ ныгусэ», описанного Нонносом? «Царь царей» блистал на этом приеме золотом. Не только корона, но и покрывавшие его руки браслеты, щит и два копья были отлиты из драгоценного металла.
Попытаться увезти из Аксума монолиты дохристианского периода мог додуматься разве что Муссолини. Но после утверждения христианства эра языческого гигантизма завершилась, а драгоценные произведения искусства, создававшиеся при Калебе и его преемниках, расхищали на протяжении веков все, кто только мог. Лишь кое-что удалось сберечь за стенами Цыйона. Все остальное, что уцелело и было найдено учеными, можно теперь увидеть не в Аксуме, а в столице Эфиопии.
Глава тридцать седьмая
Сокровища Археологического музея. — Адулис — гавань купеческая. — Древнейшие в Тропической Африке монеты раскрывают секреты географии торговли. — Следы аксумитов в Крыму и во Вьетнаме. — Византия предлагает «царю царей» перехватить у персов шелковую торговлю с Китаем. — Помышляли ли аксумиты запрячь носорога в плуг? — Плато Тигре — колыбель возделывания пшеницы и сорго. — Бухгалтерские книги содержались в порядке. — Первый законодательный акт об охране животного мира. — Караваны уходят в глубь Африки
Я не раз бывал в Археологическом музее Аддис-Абебы, но расскажу лишь об одном посещении этой сокровищницы эфиопской культуры. В тот день я подгадал так, чтобы встретиться в музее с Юрием Михайловичем Кобищановым.
— Трудно даже сообразить, с чего начать осмотр, что выделить, — так много здесь собрано интересного, — говорит ученый. — Но поскольку вы задали мне вопрос о «малых формах» аксумского искусства, то обратите внимание вот на эти изящные аппликации из позолоченной бронзы и бронзовые фигурки животных. Особенно хорош лев — динамичный, как бы изготовившийся к прыжку. Поражает обилие и разнообразие керамической посуды. А вот находки, над происхождением которых, я уверен, еще долго будут ломать головы искусствоведы. Я имею в виду выставленные в следующем зале красные терракотовые скульптуры. Как они изысканны и своеобразны — подлинные произведения искусства! Но где их предтеча в аксумском искусстве?
Мы подошли к занимающим целый угол музейного зала красноватым гончарным изделиям, среди которых преобладали изображения женских голов. Внутри они были полые, на макушке зияли большие отверстия.
— Посмотрите, скульптор как бы и нас с вами заставляет любоваться красотой этих молодых женщин с холеными, немного капризными лицами. И это при всем том, что назначение у этих скульптур было самое прозаическое. Скорее всего, они использовались как сосуды для хранения масла или вина. Одна из таких голов, обнаруженная недавно неподалеку от Адулиса, служила ее владельцу копилкой. В ней хранилось множество монет.
Вообще, экспонируемые в музее монеты — это, образно выражаясь, широченное окно в мир аксумского прошлого, — замечает Ю. М. Кобищанов, когда мы входим в нумизматический зал. — Обычно, как только речь заходит об Аксуме, все начинают говорить о стелах, они как бы заслоняют от нас обыденную жизнь аксумитов. А ведь эти люди не столько вырубали из горной тверди и полировали базальтовые монолиты, сколько обрабатывали землю, ухаживали за скотом, занимались ремеслом и торговлей. Монеты — интересный и правдивый рассказчик об экономической жизни тех далеких от нас веков.
Особенно много нового может поведать нам земля Адулиса. К сожалению, остатки этого главного порта аксумитов, погребенные под слоем песка и мусора неподалеку от современного красноморского поселка Зула, лишь в малой мере изучены археологами, хотя здесь работало несколько экспедиций. Но я уверен: если бы удалось найти средства, чтобы очистить от земли всю территорию Адулиса, там были бы найдены сокровища, научное значение которых даже трудно предсказать. Пока же этот, по выражению Плиния, «величайший рынок эфиопов» дарит нам по преимуществу монеты.
Но и за то спасибо, потому что по этим монетам легко прослеживается география торговли Аксума. Если же данные нумизматики дополнить информацией древних письменных источников, то картина получается поистине фантастической. Парусники, капитаны которых еще в I веке до н. э. научились, выйдя из Баб-эль-Мандебского пролива, пользоваться муссонами, на юге добирались до Занзибара, а на востоке — до Вьетнама. На севере аксумские товары засвидетельствованы в Крыму, на западе — в Испании.
Но, судя по монетам, которые преобладают на стендах этого зала, наиболее широкие торговые связи поддерживались Аксумом с равными ему великими державами, — продолжает рассказ Юрий Михайлович. — Римские, а затем византийские купцы считали путешествие в Адулис обыденным делом. В условиях римско-персидских войн, когда путь на Восток по сирийским дорогам и Евфрату был закрыт, особое значение для торговли Римской империи приобрел красноморский маршрут, на котором главенствовал Адулис. Однако вопреки всем стараниям византийской дипломатии добиться прекращения торговли аксумитов с Персией ей не удалось. А насколько высоко в Византии котировались возможности аксумских купцов, свидетельствует такой пример. В 531 году Юстиниан направил к Элла-Ацбыхе специальное посольство, с тем чтобы уговорить эфиопов лишить шахиншаха важного источника доходов: перехватить у персов инициативу в торговле китайским шелком через Индию и Цейлон. Аксумские корабли в портах этих стран упоминаются в документах того времени.
— Структура экспорта и импорта никак не характеризует Аксум как экономически развитое по тем временам государство, — заметил я. — Аксумиты выглядят, скорее всего, охотниками, собирателями, старателями.
— По моему убеждению, торговля Аксумского царства развивалась не на основе собственного производства. Купцы ныгусэ нэгэст вывозили то, что награбливали во время военных походов дружинники и что получал сам царь, когда, ежегодно объезжая свою державу, собирал дань. Кроме того, купцы вывозили на продажу ту «продукцию», которую они получали в глубинных районах у отсталых племен путем обмена. Поэтому в экспорте Аксума совершенно отсутствуют как ремесленные изделия (кроме монет), так и продукция сельского хозяйства — основного занятия жителей аксумской Эфиопии.
Как ни об одном другом древнем государстве Тропической Африки, об Аксуме мы располагаем достаточным археологическим и литературным материалом, позволяющим утверждать: уже в первые столетия нашей эры аксумиты находились на уровне развития наиболее цивилизованных народов Востока. Вы же были в Колоэ и видели те чудеса строительного дела — плотины, водохранилища, каналы и террасы, которые были поставлены ими на службу сельскому хозяйству! А ведь аналогичные сооружения создавались не только на плато Кохайто, но и в других местах — вокруг Аксума, в Руда-Кудо, к югу от Ади-Кайе и т. д. Большая часть Африки и сегодня пользуется первобытной мотыгой. А вот взгляните на этот музейный экспонат, попавший сюда в результате раскопок в Парке стел. Видите? Глиняная фигурка быка, а рядом — даже пара быков под ярмом. Созданы эти фигурки были до наступления третьего столетия. Ненамного позже на скалах Амба-Фокада появились изображения быков, запряженных в плуг. И явно намного раньше в языке геэз появилось название носорога, которое еще Косма Индикоплов перевел как «зверь пахоты». Очевидно, длинный рог этого животного напоминал древним земледельцам эфиопских плато тот примитивный плуг, которым они пахали землю. Или, быть может, это отголосок фантазии древних, помышлявших о том, что неплохо было бы одомашнить носорога, «приспособив» его рог для крестьянских нужд…
Мы уже видели, что на Эзановых монетах фигурировали то астральные знаки, то крест. Нетрудно понять, какое место в жизни древних эфиопов играло земледелие, если знать: наряду с этими символами веры и власти на монетах Аксума изображались и колосья длинноостой пшеницы. Академиком Н. И. Вавиловым было доказано, что именно Абиссинское нагорье было одним из двух мировых очагов культивирования этого злака. А коли так, то плато Тигре, где возник древнейший ареал развитого земледелия, являлось центром этого очага. Поблизости, скорее всего, находилась «колыбель» культуры сорго и дагуссы, зерно которой идет для приготовления пива. Аксумиты возделывали также ячмень, просо, разнообразные бобовые, лен для приготовления масла, виноград и, разумеется, теф — главный хлеб Эфиопии.
Животноводство было традиционным и повсеместным занятием. Уже тогда, как и ныне во многих скотоводческих странах Африки, скот был одним из главных атрибутов богатства и власти. Я сужу об этом по тому, что во владении самого царя находились огромные стада. Наряду с сокровищами они составляли его главное богатство. Поголовье скота тщательнейшим образом учитывалось и контролировалось. При дворе Эзаны была влиятельная должность «цахафе-лахм» — «писаря коров». Дошедшие до нас записи, касающиеся численности царских стад, поражают скрупулезностью. Каждое число написано двумя способами — сначала прописью, потом цифрами — совсем как в денежных документах современных хозяйственников. Только профессионально подготовленные люди могли вести в IV веке подобную запись. Числа везде сложены правильно, по нескольку раз подведен итог. Все это свидетельствует о строгом учете и постоянной отчетности, существовавшей в хозяйстве «царя царей».
И вообще, это отнюдь не единственный факт, на основе которого мы вправе сделать вывод, что в экономике Аксума, во всяком случае в том ее секторе, который был непосредственно подконтролен царю, был строгий порядок, — продолжает ученый. — В книге Нонноса о его посольстве в Эфиопию, например, содержится упоминание о том, что неподалеку от Аксума он видел стадо из примерно пяти тысяч слонов. И никто из туземцев не мог ни приблизиться к ним, ни согнать их с пастбищ. Как могло получиться, что подобное гигантское количество животных — а спрос и цены на слоновую кость в то время были достаточно высоки — безбоязненно разгуливало вдоль дороги, связывавшей одну из мировых столиц с одним из крупнейших портов Востока — Адулисом? Произойти это могло лишь потому, что слоны находились под царской охраной. Еще за 300 лет до Нонноса ныгусэ запретил убивать этих животных. С тех пор, как явствует из записок византийского посла, никто не осмеливался нарушить царский приказ. Это был, пожалуй, первый законодательный акт в области охраны фауны в Тропической Африке. Только так и могло сохраниться пятитысячное слоновое стадо под Аксумом. Бивни, которые вывозились из Аксумского царства, заготавливались вне его — на землях данников, преимущественно «за Нилом». Туда, в Нубию, за драгоценной слоновой костью снаряжались целые экспедиции.
— А что, Юрий Михайлович, современной науке вообще известно о связях Аксума с окружавшими его африканскими территориями?
— Известно немало. Если говорить о землях, непосредственно подвластных аксумитам, то в пустыне Данакиль они добывали соль, на отмелях Красного моря — жемчуг, перламутр и кораллы, от народа беджа, на границе нынешних Египта и Судана, получали изумруды и золото, которое здесь добывалось с древнейших времен. Что же касается торговли, то первостепенное значение конечно же имел караванный путь, который начинался в Адулисе и через Аксум шел к берегам Нила. Переход от Красноморского побережья до столицы «царя царей» занимал восемь дней, от нее до Элефантины — около месяца. К самому началу V века относится первое известное нам упоминание об аксумитах, живших в одном из оазисов Восточной Сахары.
Активные торговые связи поддерживались и на широтных путях, ведущих к Мероэ. Как ни странно, но, судя по источникам, вплоть до III–IV веков аксумиты не имели собственного железа; мы не знаем, когда они начали разрабатывать залежи железных руд. Можно поэтому предположить, что расположенный по соседству Мероэ, игравший тогда роль «африканского Бирмингема», был одним из главных поставщиков черного металла аксумитам, среди которых имелись умелые кузнецы. О таких мастерах упоминают многие путешественники. Скорее всего, железо обрабатывали в крицах, поставлявшихся мероитами.
Глава тридцать восьмая
«Цари царей» в роли первопроходцев и первооткрывателей Африки. — Аксумский двор — главный источник географической информации о Черном континенте для цивилизованного мира. — Не от аксумитов ли Птолемей узнал, что нильские истоки лежат в заснеженных горах? — Популяризаторы дописывают миф о Диогене. — Путешествие в золотоносную страну Сасу и легенда о «копях царя Соломона». — Ныне мертвый город Энгарука мог быть форпостом аксумитов. — Добирались ли подданные ныгусэ нэгэст до Зимбабве?
— К сожалению, мы не знаем имен действовавших на внутриафриканских путях аксумских купцов — они могли бы украсить историю географических открытий, — продолжает Ю. Кобищанов. — Ведь множество иностранцев, посещавших Аксум и Адулис, не проникали далее, в глубь континента. Все торговые связи с племенами, окружавшими владения ныгусэ, а также с Мероэ были монополизированы аксумитами. Поэтому их без преувеличения можно назвать первопроходцами и первооткрывателями огромной части Тропической Африки. Ну а крупнейшими путешественниками и поэтому географами тех времен я бы назвал, как это ни неожиданно звучит, самих… аксумских ныгусэ.
Это были постоянно странствующие цари. Им не сиделось на месте даже в мирные времена, после того как они возвращались в Аксум из завоевательных походов. Отпраздновав победу и повелев выбить в ее честь очередную надпись на стеле, они отправлялись объезжать свою державу полюдьем.
Как говорится в одной исторической легенде, царь «управлял Эфиопией… обходя ее из конца в конец». Данничество было главной экономической связью, объединявшей подвластные Аксуму народы и страны, экономической основой государства. Это немаловажное обстоятельство, а также государственная организация торговли приводили к тому, что у ныгусэ и близких к нему лиц накапливалась обширная географическая информация. Ее «просачивание» через послов и знатных путешественников, имевших доступ ко двору, и было тем главным источником, который питал античную и византийскую географию сведениями о Черном континенте.
— Не знаю, Юрий Михайлович, согласитесь ли вы, но мне кажется, что именно подобное «просачивание» аксумской информации дало античным авторам повод утверждать, что Нил берет начало среди неких заснеженных «Лунных гор» и огромных озер. Когда путешественники XIX века, распутывая тайны нильских источников, наконец связали их с системой Великих африканских озер и удостоверились, что неподалеку от них, укрытая вечными снегами, блестит под экватором вершина Рувензори, они удивились: неужели древние греки проникали в это труднодоступное сердце Африки? Но с позиций сегодняшних знаний следует, по-моему, удивляться другому: почему в Европе XIX века было напрочь забыто все, что там знали об Аксуме раньше. Во всяком случае, если бы Бертон, Спик, Бейкер и другие исследователи истоков Нила были знакомы с Адулисской надписью, они не помещали бы на своих картах и в своей информации заснеженные Птолемеевы «Лунные горы» на экваторе…
— Вы имеете в виду скопированные Космой Индикопловом слова о стране Сымьен, которая характеризуется как край неприступных гор с туманами, холодом и снегом, лежащий по ту сторону Нила? — уточнил ученый. — Об этом за четырнадцать веков, прошедших после путешествия византийца, в Европе действительно основательно забыли.
— Но не логично ли допустить, что в эллинском мире, учитывая его широкие торговые связи с Аксумом, о ней знали и помнили. Впервые о том, что Нил питается снежными водами и вытекает из озер, упоминает греческий географ и картограф Клавдий Птолемей. Он жил в первой половине II века нашей эры в Александрии. Там-то он и записал рассказ о путешествии к нильским истокам, предпринятом неким купцом Диогеном.
— Так-то это так. Но события, зафиксированные Адулисской надписью, датируются кое-кем из аксумологов несколько более поздним периодом, чем даты жизни Птолемея. В таком случае знать он о них не мог.
— А если допустить, что ныгусэ повел свои войска через заснеженные горы не с места в карьер, а на основании ранее имевшейся у него информации? И что этой информацией обеспечили его, скажем, все те же купцы, долгое время поддерживавшие отношения с народом самэнэ и убедившиеся в том, что завоевание «страны снежных гор» принесет выгоды Аксуму?
— Допустим…
— А теперь вернемся к Диогену, — продолжил я. — Этот предприимчивый и непоседливый купец как-то на обратном пути из Индии огибал на корабле в непогоду самый восточный край Африки — мыс Аромат, ныне Гвардафуй. Там он был подхвачен северными ветрами и унесен на юг, после чего, «имея по правую сторону от себя Троглодитику, прибыл к озерам, из которых вытекает Нил».
Вот тут-то, на мой взгляд, и нужно критически оценить ситуацию, Троглодитикой, как известно, древние называли Сомалийский полуостров. Сколько бы дней ни плыл отважный грек, добраться на корабле до озер, «из которых вытекает Нил», он не мог. Следовательно, купеческое судно пристало к восточноафриканскому побережью, а оттуда Диоген совершил пешее путешествие в глубь материка. Где же пристал корабль? Многие популяризаторы африканской истории склонны считать, что северовосточные муссоны, спутавшие карты Диогену, отнесли его далеко на юг, в район современного Занзибара. И там, встретив неких купцов, он примкнул к их каравану и за двадцать пять дней добрался, как пишет Птолемей, до «Лунных гор, снежные массы которых питают озера Нила». Можете ли вы в это поверить, Юрий Михайлович?
— С трудом… Да и совершать путешествие было незачем, поскольку, как известно пока науке, значительная часть районов Восточной Африки, через которые якобы пролегал маршрут Диогена, была заселена очень слабо. Следовательно, аравийским купцам не с кем было торговать у подножия «Лунных гор». А само путешествие к ним даже в XIX веке, когда арабы создали в Восточной Африке разветвленную сеть караванных путей и опорных пунктов и когда они располагали поддержкой уже обживших внутриматериковые районы местных племен — камба, ньямвези, яо, — занимало около восьми недель, а не двадцать пять дней.
— Примерно так рассуждал и я. И потому, когда незадолго до поездки в Аксум попал в горы Сымьен, над которыми возвышается снегоголовый пик Рас-Дашэн, то подумал: «А не об этом ли «нильском начале» упоминал Птолемей?» Ведь об истинных размерах Нила древние не знали. Поэтому сбегающие по склонам гор Сымьен многочисленные реки, питающие нильский приток Тэкэзе, они вполне могли принять за «начало» великой реки. Озера? Так ведь совсем рядом, у южных отрогов Сымьен, лежит самое большое эфиопское озеро — Тана. В это озеро тоже текут сымьенские реки, а вытекает из него Аббай — так эфиопы называют Голубой Нил.
Так, может быть, не к далекому суахилийскому берегу понесли муссоны Диогена и не оттуда начал пытливый купец свой путь в глубь Африки? Скорее всего, ветры прибили его корабль к побережью все той же Троглодитики, чуть южнее мыса Ароматов. И здесь Диоген, пока чинился его корабль, повстречал людей, показавших ему путь в глубь материка. Только в Аксуме с его высокоразвитым государственным устройством, караванными тропами и городами мог грек за три с небольшим недели дойти от побережья до «Лунных гор». То были заснеженные пики не Рувензори, а Рас-Дашэн, по склонам которого и сегодня ютятся селения народа самэнэ, упоминаемого в Адулисской надписи. Мог побывать Диоген и на озере Тана. А если он и не побывал там, то услыхал от купцов рассказ о крае, где на горах лежат снега и где рождается Нил.
— Ну что же, как аксумолог я буду только рад, если подобная версия окажется верной. Не следует забывать, однако, что в Аксуме начинались меридиональные пути, по которым купцы проникали далеко на юг континента, — напомнил Юрий Михайлович. — Один из них вел через эфиопскую провинцию Шоа в рифтовую долину — эту своеобразную естественную дорогу, по которой, минуя горы, можно добраться вплоть до Замбези. Второй путь шел в золотоносную страну Сасу. С этими маршрутами связаны загадочные, порою выглядящие фантастическими страницы аксумской истории.
— Меня очень увлекает мысль о том, что аксумиты проникали далеко на юг, — подхватил я. — Особенно распаляет воображение Лики-старший. Незадолго до своей кончины, как бы прощаясь со всем, что было им открыто и исследовано, он объезжал свои «археологические владения». В маршрут поездки по Северной Танзании была включена Энгарука, съездить куда старый ученый пригласил и меня.
— Это, наверное, была интересная поездка. Туда из-за бездорожья редко кто добирается.
— Энгарука потрясает воображение. Колоссальный покинутый город среди скал и пыльных, уходящих из-под ног осыпей. Его строителям приходилось иметь дело с твердыми породами. И тем не менее по склонам холмов вырублены террасы, на которых стоят каменные дома, пирамиды и обелиски. Когда Лики открыл город, он насчитал там около семи тысяч домов. Следовательно, в Энгаруке жили по меньшей мере сорок тысяч человек. А неподалеку, по берегам рифтового озера Натрон, он обнаружил еще один город. Лики любил всем своим находкам давать неофициальные прозвища и потому назвал его «Троглодитвилль» — его жители обитали в пещерах, вырубленных в мягком розовом туфе. Многие пещеры располагали несколькими помещениями. Такие своеобразные постройки вытянулись вдоль террас, которые когда-то служили улицами. Кое-где в конце террас стояли туфовые стелы. На первых порах Лики оценил возраст Энгаруки в триста лет.
— Эти данные устарели, — уточнил Ю. Кобищанов. — Последние радиоуглеродные анализы дают итоги 720 ± 120 и 330 ± 90 годы нашей эры. Поселения в искусственных пещерах, пещерные церкви и монастыри есть и на плато Тигре. А энгарукские террасы — платформы для домов — очень напоминают те, что и сегодня повсеместно распространены в южной половине Эфиопии. Создатели этих городов умели плавить железо.
— Лики в тот свой последний приезд в Энгаруку уже знал об анализах. В первые годы своих раскопов он был склонен предполагать, что Энгарука — один из тех внутриматериковых городов, с которыми торговали купцы великих городов суахилийского побережья. Но данные радиоуглеродного анализа вдохновили ученого на более смелый вывод. «Триста тридцать плюс-минус девяносто — это время расцвета Аксума, — несколько раз за день повторял он. — Энгарука была главным промежуточным пунктом на пути из Аксума в Зимбабве — крайнюю точку проникновения протоэфиопов на юг».
Несмотря на то что из-за сильного артрита Л. Лики было тяжело передвигаться, он все же обошел найденный им мертвый город. Миновав стены, сложенные из серых, едва обтесанных каменных глыб, построенные без применения скрепляющего раствора, мы спустились в долину ручья, некогда, наверное, и предопределившего выбор места для поселения в этом безводном районе. Поля, с которых когда-то снимали урожай жители загадочного города, засыпал песок и скрыла растительность. Но до сих пор видны выложенные камнем межи и неширокие полоски оросительных каналов, которые берут начало у подножия холмов, пересекают заброшенные поля и теряются в красной пыли масайской степи. Лики уверял, что вся эта грандиозная оросительная система была создана для того, чтобы обеспечивать продовольствием караваны, двигавшиеся по маршруту Аксум — Зимбабве.
— Для меня новость, что на склоне своих дней Лики начал исповедовать идею аксумских связей с Зимбабве, — заметил Юрий Михайлович. — Но сама эта идея ведь не нова. А родилась она, кстати, тоже как дитя «утечки» реальной географической информации из Аксума и ее превратной интерпретации европейцами в более поздние времена. Древним было доподлинно известно, что ежегодно ныгусэ отправляют в глубь Африки огромный караван с товарами, которые обменивают на золото в загадочной стране Сасу. Много интересных деталей об этой торговле сообщил Косма Индикоплов. Но потом, когда возвысился ислам, пал Аксум, а Эфиопия почти на восемьсот лет оказалась изолированной от Европы, про нее забыли. А то немногое, что не забылось, обросло таким количеством библейских легенд и небылиц, что продраться сквозь них оказывалось не под силу даже тем, чей авторитет во всем остальном не вызывает у нас сомнений.
— У сооружений, оставленных нам создателями Зимбабве и Аксума, есть и другие общие черты, кроме загадочности и гигантизма. Есть много общего и в памятниках культуры, встречающихся на территории их разделяющей. Так, на крайнем юге Эфиопии, на диком плато Джилбаба, что простирается к северо-востоку от озера Рудольф, я видел пятиметровые, грубо отесанные, но отдаленно похожие на аксумские, растрескавшиеся стелы, — вспомнил я. — Кое-где, в горах Райя и Хури, они заходят и на кенийскую территорию. На них изображены то ли сабли, то ли серпы, то ли луна. Чуть к северо-западу, в Сидамо, на землях консо, среди искусно возделанных террас и оросительных каналов возвышаются гигантские камни-останцы, на которых, словно на постаментах, стоят скопления мегалитов, обработанных в виде фаллосов. Местные крестьяне до сих пор настолько почитают их, что даже не разрешили мне приблизиться к останцам с фотоаппаратом. На фаллосах высечены изображения солнца. Доктор Анфре рассказывал об очень интересных находках монументальной скульптуры в провинции Уолло, своей массивностью напомнивших памятники Аксума. Разве все это не доказательства того, что аксумиты упорно продвигались на юг?..
— Давайте прежде всего не завязывать в один узел два больших, сложных и вполне самостоятельных вопроса: экспедиции за золотом на юг и распространение аксумского культурного влияния в экваториальные районы, — предложил мой собеседник. — В наше время принято искать развязки проблем. С какой начнем?
— Скорее уж покончим… с экспедициями за золотом…
— Достоверные факты разрешают нам говорить лишь о том, что золотоносная Сасу аксумитов находилась на расстоянии пятидесятидневных переходов от их столицы. Скорее всего, ее нужно искать в нынешней эфиопской провинции Уоллега, где и сейчас добывают золото.
А теперь мы можем начать «развязывать» вопрос о распространении культурного влияния Аксума на соседние территории, — продолжал Ю. Кобищанов. — Мне представляется, что низкий уровень социального развития раннесредневековых кушитов, нилотов, банту и других народов, обитавших южнее аксумского очага цивилизации, делали их слабовосприимчивыми к информации, распространявшейся с севера. Однако некоторые идеи все же находили для себя благоприятную почву. До сих пор нет обоснованной датировки тех южноэфиопских мегалитов, в которых вам видятся следы прямого проникновения аксумитов на юг. Однако если они действительно были созданы в подражание гигантским стелам Аксума, то следует скорее говорить о некотором идеологическом влиянии дохристианской Северной Эфиопии на кушитские племена глубинных районов. Именно в силу крайне слабого экономического и культурного развития большинства народов Северо-Восточной Африки аксумская держава не смогла создать на континенте устойчивой и обширной феодальной империи. Ныгусэ понимали, что им легче победить и установить свой контроль над развитыми народами Аравии, чем над аморфными родоплеменными слаборазвитыми образованиями Тропической Африки. По той же причине от экспансии в глубь Африки даже в более поздние времена, вплоть до XVI века, отказывались могущественные империи арабского мира.
Что же касается собственно Аксума, то в VI–VII веках его культура находилась на вершине расцвета и быстро догоняла передовые по тому времени цивилизации Ближнего Востока. Выросшая на африканской почве, эта культура уходит в нее своими корнями, и, чем больше мы узнаем об этих корнях, тем меньше у расиствующих исследователей остается оснований для того, чтобы называть ее «эпигоном» достижений древних южноаравийцев. В лучшие свои времена Аксумское царство наряду с Мероэ представляло наиболее яркий и значительный образец африканской государственности. В этот период изо всех стран Тропической Африки держава аксумитов (а прежде нее — царство Мероэ) внесла наибольший вклад в историю человечества. Выполнив свою историческую роль, аксумская цивилизация не исчезла бесследно. Ее традиции сохранялись и приумножались в последующий период, они живы в культуре Эфиопии до сих пор.
Глава тридцать девятая
Храмы, которые не строили, а ваяли. — Деревня, знаменитая на весь мир. — Времена, когда аксумиты угрожали захватить Мекку, делаются достоянием прошлого. — Ислам вынуждает христиан уйти в подполье. — Царь Лалибэла создает свое «чудо света». — Аксумские истоки «вырезания» храмов-монолитов. — Имя великого архитектора — Сиди-Мэскэль. — Ваятели не поддаются соблазнам мягкого туфа
По склонам красных, словно кровоточащих сквозь зелень, холмов, среди нагромождений огромных валунов вьются вверх, к вершине горы Абуна-Йосиф, пыльные тропы. Островерхие хижины-тукули, построенные, словно аксумские дворцы, на каменных основаниях-пьедесталах, кажутся не делом человеческих рук, а творением ветра — отточенными эоловой эрозией пиками скал. Под развесистыми многовековыми смоковницами ведут неторопливые беседы бородатые старцы с библейскими профилями. Женщины в белоснежных накидках-шаммах гонят по улице мулов, нагруженных глиняными кувшинами с водой. На перекрестках красных улиц, там, где проходит побольше народу, сидят мужчины-ткачи; работая на первобытных станках, они превращают пряжу в воздушную ткань. Время от времени, сплюнув табак, мужчины издают громкий гортанный клич: «Скоро отрез будет готов! Кому новую шамму?»
Такова сегодняшняя Лалибэла — тихая, отгороженная от всего мира горами и бездорожьем эфиопская деревня. Место, где остановилось время… В дождливый сезон, когда раскисает красное естественное покрытие взлетно-посадочной полосы лалибэльского аэродрома, туристские справочники рекомендуют добираться сюда на осле. «Подобное, полное захватывающих впечатлений путешествие из Дебре-Табор, которое позволит вам прочувствовать жизнь эфиопской глубинки, занимает всего лишь четыре дня, — соблазняет справочник. — Из всех чудес, которые древняя Эфиопия может предложить миру, самые интересные и захватывающие, бесспорно, находятся в Лалибэле».
Огромные древние эфиопские книги, написанные на телячьей коже загадочными буквами мертвого языка геэз, доступного ныне лишь посвященным, рассказывают, что с незапамятных времен, со дня своего основания, эта деревня называлась Рох. Собирая дань, в нее как-то заехал Царь Лалибэла, правивший с 1190-го по 1228 год. Живописные окрестности, раскинувшиеся у подножия Абуна-Йосифа, так приглянулись ныгусэ, что он решил превратить Рох в свою постоянную (по понятиям вечно странствующего царя) резиденцию.
Лалибэла был просвещенным, но очень набожным владыкой, в христианстве он видел главную опору своей как внутренней, так и внешней политики. Наслышанный о пирамидах египетских фараонов и дворцах иерусалимских царей, не без зависти долго взиравший на аксумские стелы, он решил тоже прославить себя в истории и приказал соорудить в новой столице 11 величественных храмов. Храмы сохранились и по сей день. Благодаря им имя Лалибэлы связано с одним из «чудес света», к каковым уже давно относят эти творения рук человеческих. А благодарные монахи в своих летописях XIII века Рох окрестили Лалибэлой.
Храмов, равных или подобных лалибэльским, действительно нигде в мире больше не увидишь. Средневековые эфиопские зодчие и строители сооружали их не как обычно, закладывая фундамент, а затем воздвигая на нем стену — камень за камнем, плиту за плитой. Они сначала сняли слой красной почвы, обнажив лежавшие под ней красные вулканические туфы. Затем, врубаясь в скалы, они постепенно окапывали их траншеями и вытачивали контуры будущих святилищ, уходя все глубже и глубже под землю, как бы вырезая в каменных глыбах внутренние арки, своды, колонны, комнаты, залы. Это была архитектура, в которой гениальный проект зодчего материализовался не столько строителями, сколько скульпторами. Храмы не строили, а ваяли, словно статую, полую изнутри.
Храмы Лалибэлы не красуются над поверхностью, не доминируют, как это обычно бывает, над жилыми кварталами. Многих из них попросту не видно, поскольку крыши церквей находятся на уровне земли, а к их входам ведут подземные траншеи и рвы, зачастую берущие начало где-нибудь в соседнем лесу и уходящие в глубь туфов на 10–12 метров. Вокруг некоторых подземных или скальных церквей в красных вулканических породах вырублены просторные дворы-ямы.
Безусловно, набожный Лалибэла прятал свои чудо-храмы не ради того, чтобы быть оригинальным. Ему, как и всем владыкам мира, хотелось бы, чтобы символизирующие его правление памятники громоздились над землей, тянулись, подобно аксумским обелискам, к солнцу. Но времена были не те. Хотя христианство и продолжало оставаться государственной религией Эфиопии, извне и саму христианскую империю, и ее религию теснил могущественный противник — ислам. Лалибэле пришлось взойти на трон в годы, когда христианство, дабы выжить и остаться опорой власти, должно было как бы уйти в подполье. Так что не от хорошей жизни приказал ныгусэ своим архитекторам ваять лалибэльские шедевры так, чтобы они не бросались в глаза непосвященным, не привлекали внимания врага.
На первых порах взаимоотношения между Эфиопией и набиравшим силу мусульманством складывались настолько благополучно, что пророк Мухаммед советовал своим последователям, подвергшимся преследованиям: «Бегите в Аксум, дружественную страну, царь которой никого не угнетает». Знали бы тогда аксумиты, во что обойдется им подобное гостеприимство и религиозная терпимость! Сразу же после «победы побед» — вступления пророка в 630 году в Мекку — становится ясным, что ислам — это не только религиозное, но и политическое движение, лидеры которого претендуют на создание мировой империи и нетерпимы к любой силе, мешающей в достижении этой цели.
Вскоре арабы принялись за восстановление канала, соединяющего Нил с Красным морем, которое в середине VII века, по мнению многих историков, все еще оставалось в полной власти эфиопов. Пользуясь этим своим еще сохранившимся, но быстро ускользающим из рук преимуществом, аксумиты, дабы помочь нубийцам и остановить экспансию мусульман у своих границ, неоднократно пересекают Красное море и атакуют соперников в Аравии. Еще в 702 году — в пору расцвета мусульманства — ныгусэ нэгэст чувствовал себя настолько сильным, что приказал напасть на Джидду, а захватив ее, угрожал Мекке. В «святом городе» царила паника, проповедники призывали правоверных преградить дорогу к Каабе нашествию «черных, бесчисленных, как муравьи».
Однако это был последний симптом величия и могущества Аксума. Отразив угрозу Мекке, халиф приказал захватить Адулис и уничтожить находившийся там флот аксумитов. Приказ был выполнен, город разрушен, а Аксум лишился выходов к морю. Штурмовать труднодоступное плато Тигре с его горными дорогами и коварными ущельями, где несколько метких стрелков могли уничтожить сотни воинов, арабы не решились. Однако они и без того предрешили судьбу Аксума, отрезав его от моря, от доходных торговых путей и лишив связи с цивилизованным миром. Великая африканская держава вскоре становится достоянием истории. Проходит всего лишь столетие с небольшим, и в обстоятельном географическом сочинении «Худуд аль-Алам», принадлежащем перу персидского ученого, среди множества эфиопских городов Аксум даже не упоминается…
Что же происходило на плато Тигре и окружающих его землях в этот «темный», согласно терминологии эфиопских летописей, период истории страны? Аксум постепенно хиреет и, оставаясь религиозным центром эфиопских христиан, теряет свою блестящую роль центра политического. То ли 896-й, то ли 890 год считается датой прекращения существования аксумской династии. Но не аксумской цивилизации! Оттесняемые от побережья, подданные ныгусэ нэгэст начинают перемещаться на юг, неся с собой высокую культуру. Центром деятельности аксумитов делается территория Шоа, заселенная этнически близким им эфиопским народом амхара.
Что же касается собственно аксумских земель, то, чем слабее становилась власть в бэта-ныгусэ, тем сильнее давали о себе знать территориальные претензии соседей и центробежные силы внутри царства. С севера на его территорию начинается переселение народа беджа, бывших подданных Аксума. К югу собственное государство создали кушиты-агау. Именно на их земли, к подножию труднодоступных гор Ласта, и переместился центр политической жизни эфиопских земель, выдвинувших правящую династию Загуйе. К ней-то и принадлежал царь Лалибэла.
Нам приходится довольствоваться лишь легендами о том, как Загуйе на время удалось оттеснить «соломонидов» от трона. Одна из них утверждает, что, как только у Дыль-Нэада, последнего правителя аксумитов, родилась дочь Мэсобэ-Уорк, прорицатели-агау предсказали: из-за внука, рожденного ею, Дыль-Нэад лишится трона. Напуганный царь поселил девочку на труднодоступную плоскую гору, взобраться на которую можно было лишь по веревочной лестнице, спускаемой верными ныгусэ слугами. Однако, когда Мэсобэ-Уорк выросла в писаную красавицу, ее увидел и полюбил военачальник Тэкле-Хайманот, правивший в соседнем округе Ласта. Он полюбил принцессу и, перехитрив слуг, похитил ее. Взбешенный подобной дерзостью Дыль-Нэад, возглавив войско, двинулся на Ласту. Но на помощь любимому военачальнику и его красавице невесте выступило все окрестное население. Сообща они разбили царскую армию, убили ныгусэ и возвели на его трон Тэкле-Хайманота. Он-то и стал основоположником ластинской династии Загуйе, опиравшейся на поддержку народа агау.
Хотя в эфиопской традиции существует устойчивая версия о том, что Тэкле-Хайманот пользовался особой симпатией фалаша — религиозной общины иудеев-агау, все наследовавшие ему представители династии Загуйе были праведными христианами. А самым праведным среди них был, бесспорно, царь Лалибэла, причисленный эфиопской церковью к лику святых. Как и все представители «узурпаторской» ластинской династии, титулом «ныгусэ нэгэст» он не пользовался. Всех Загуйе в хрониках тех времен именовали «хадани» — защитник, воспитатель.
Хадани Лалибэла правил в тревожное время, когда могущественный халифат, со всех сторон сомкнув свои владения вокруг православной Эфиопии, простер влияние от Атлантического побережья до предгорий Тянь-Шаня. Однако даже в то время Лалибэла через головы мусульманских наместников поддерживал связи с единоверцами в Иерусалиме, отстаивая интересы христиан в Нубии, Сирии, Египте. Арабские источники упоминают об угрозах хадани отвести воды Нила с помощью строительства плотины и тем самым «ниспослать вечную засуху» в районы, слывшие житницами мусульманского мира. Вряд ли эта идея была технически осуществима в то время. Но уже сам факт ее использования в дипломатической игре XI–XII веков говорит о смелости внешней политики Лалибэлы.
Многие исследователи называют Загуйе продолжателями аксумской государственности и культуры. Есть, правда, и другое мнение: у лалибэльских памятников в Эфиопии нет-де предшественников, их появление ничем не объяснить и уж во всяком случае к аксумскому стилю они не имеют никакого отношения.
Утверждать подобное могут лишь только те, кто никогда не был в Аксуме и не видел в его предместьях тех «нерожденных» стел, которые аксумиты по каким-то причинам не успели отделить от горной тверди. В основе их работы и «вырезания» цельных монолитных храмов в вулканических туфах лежит один и тот же принцип, та же поражающая воображение масштабность. Как и обелиски Аксума, храмы Лалибэлы принадлежат к числу величайших сооружений подобного рода. Еще в начале XVI века это сразу же понял Ф. Алвариш, первым из европейцев добравшийся до всеми тогда уже заброшенной и забытой столицы хадани. Посвятив Лалибэле несколько восторженных страниц в своем многотомном описании Эфиопии, иезуит заключил: «Никто не поверит мне, если я напишу более, да и за то, что я уже написал, меня будут корить как лжеца!»
В хрониках сохранилась запись о том, что Лалибэла велел выписать для сооружения своего «чуда» пятьсот строителей и художников из Египта и Иерусалима. Кое-кому на этом основании хочется сразу же приписать все лавры создателей церквей-монолитов иностранцам. У меня же, когда я бродил по лабиринтам подземных переходов Лалибэлы, на уме была совсем иная мысль: все эти пятьсот заморских мастеров так и не смогли заставить эфиопов создать на своей земле хоть нечто похожее на уже существовавшие храмы Северной Африки и Палестины. Но зато эфиопы сумели сделать так, чтобы в Лалибэле победил их национальный, аксумский стиль.
Да и кто сказал, что иностранцы имели статус руководителей и располагали решающим словом при сооружении храмов? Даже инструмент для их возведения, как известно, собирали по всей стране. В самой большой из всех церквей-монолитов, Мэдхане-Алем, ваянием которой закончилась 24-летняя эпопея их строительства, недавно найдена надпись над могилой. Из нее следует, что в могиле похоронен архитектор ансамбля — зодчий Сиди-Мэскэль. Имя явно эфиопское. Вряд ли кто-нибудь из облеченных властью архитекторов-иностранцев упустил бы возможность увековечить себя в подобной роли.
Каждая из одиннадцати церквей ансамбля уникальна, не повторяет другие; однако на всех лежит печать аксумской архитектурной традиции, которая отличается строгостью и лаконичностью форм. Создатели стел-обелисков, имея дело с одним из самых твердых природных материалов — голубоватым базальтом, не могли позволить себе никаких архитектурных излишеств. Лалибэльские мастера, обрабатывая мягкий, податливый туф, имели возможность ваять из него все, что им заблагорассудится. Верность аксумской простоте в этом случае могла бы быть воспринята современниками как проявление примитивизма, а то и просто нежелание зодчего браться за сложную работу.
И тем не менее Сиди-Мэскэль и его соратники не пошли на поводу у податливого туфа! Творчески развивая и переосмысливая наследие аксумитов, они сделали ровно столько шагов вперед на пути создания лалибэльского стиля, сколько было необходимо для сохранения и приумножения эфиопской национальной традиции. В плане большинство скальных церквей сохранили форму базилики, столь свойственной всем аксумским храмам и дворцам. Эфиопские исследователи последнего времени отмечают «замечательный аксумский стиль» порталов скальных монолитов, преемственность аксумской традиции в скульптурных фризах лалибэльских окон, подражание деревянным конструкциям «обезьяньих голов» и многое другое.
А что же нового внесли эти строители-ваятели в эфиопскую архитектуру?
Глава сороковая
Одиннадцать храмов — не похожих один на другой. — Сокровища живописного искусства XIII века. — Шедевр, вырезанный за одну ночь. — Горный рельеф подсказывает: главное внимание декораторы должны обратить на крышу. — Бетэ Марьям — «заморская красавица», которую не жалуют искусствоведы. — Еще одна загадка средневековых строителей. — Подземная святыня за семью замками. — Главное «чудо» — «церковь-крест», одно из величайших архитектурных творений прошлого
Обычно лалибэльские храмы принято делить на две группы, расположенные по разным берегам реки Иордан. Наиболее ранней считается восточная «пятерка» церквей, окруженная глубоким округлым рвом. Его северная и южная точки соединены между собой подземным переходом, по которому некогда можно было обойти все церкви. Но сейчас кое-где кровля перехода обвалилась, часть его отрезков объявлены священными. Поэтому сегодня церкви связаны между собой лишь открытыми ходами-траншеями.
Самая большая среди церквей-монолитов восточной «пятерки»— церковь Ымануэл (Иммануила). Это вырезанный на глубину до 11 метров блок, имеющий 18 метров в длину и 12 метров в ширину. Выходящий в подземный двор фасад храма украшают прямоугольные столбы, прорезанная между ними дверь ведет в просторный внутренний зал с четырьмя колоннами. Стенная роспись в храме отсутствует, но его внутреннее убранство отнюдь не кажется бедным благодаря многочисленным элементам декора из красного туфа. Появляются формы сводчатой архитектуры и арочные окошки.
Взяв за руку, черный монах в кромешной темноте провел меня по изгибающемуся под землей туннелю, выходящему к платформе, на которой стоит церковь Меркуриос. К сожалению, она уже частично обрушилась, широкая трещина пересекла фасад, упали на землю несколько колонн внутреннего зала. Однако на стенах еще сохранились три огромные, выполненные на ткани картины.
— Самая большая из них имеет размеры семь метров на три, — не без гордости объяснил монах. — В центре изображены святая Мария с младенцем, по бокам — два всадника на белом и черном конях, символизирующие свет и мрак. Эти священные картины — одно из главных сокровищ искусства Эфиопии. Они висят в нашей церкви с XIII века. Быть может, они попали к нам из подземной кельи вон за той дверью, где размещалась сокровищница царя Лалибэлы. Но посторонних мы туда не пускаем.
Глубоко вовнутрь холма конической формы врезана церковь Святого Ливаноса. В сущности, рука строителей коснулась лишь ее фасада, поскольку даже крыша храма не отделена от нависающей над ним глыбы туфа. Предание гласит, что причиной тому — поспешность, с которой сооружалась церковь. Желая сделать приятное мужу, жена Лалибэлы якобы создала ее за одну ночь. В работе ей помогали ангелы. Ночь была темная, поэтому они «заставили камни освещать мрак». И действительно, одна из стен храма, у которой размещен алтарь, излучает слабый серебристый свет. Очевидно, к туфам здесь природа подмешала фосфоресцирующие породы.
Узкий мостик, висящий над широким рвом, соединяет стоящие по обе его стороны церкви-близнецы — Святого Гавриила и Святого Рафаила. Единая крыша, перекрывающая этот уникальный подземный ансамбль, имеет довольно внушительные размеры: 25 метров на 12. Высота поддерживающих ее колонн — 16 метров. Одна из стен внутреннего двора и фасады церквей расчленены элегантными пилястрами, окаймляющими семь массивных, глубоких и высоких стрельчатых арок. Обе церкви напоминают крепости, в облике которых едва улавливается влияние раннемусульманской архитектуры.
Для того чтобы попасть в западную «пятерку» церквей, надо пересечь уже знакомые нам шумные деревенские улочки и по шаткому мосту перейти Иордан, пенящийся розовой водой. Почти у самого берега реки, в глубокой выемке, стоит на скальном теменосе самый большой (34 метра на 30), но в то же время, пожалуй, и самый изящный из лалибэльских храмов — Медхане Алем.
Если смотреть на него с соседних холмов, то храм обещает быть помпезным. На эту мысль наводит вычурность украшений каменной крыши, оба ската которой декорированы непрерывной чередою высоких аркад. «Уж коли резчики затратили столько сил и выдумки на крышу, обычно остающуюся без всяких украшений, то каков же сам храм?» — мелькает в голове.
Однако гениальность строителей Медхане Алем в том и заключалась, что, прекрасно понимая специфику расположения своего творения в тесной выемке, они создавали в первую очередь привлекательный, видный отовсюду «верхний фасад». По бокам в монолите храма вырезаны лишь нарочито узкие, можно даже сказать тонкие, столбы. Они как бы облегчают массивность этой гигантской «скульптуры» и зрительно увеличивают высоту храма, подчеркивая его устремленность вверх, к земной поверхности, к солнцу. Венец этих десятиметровых столбов да скромный, украшенный простым орнаментом из полукругов портик над главным входом — вот и все внешнее убранство описываемого храма, который выделяется среди лалибэльских чудес своей изысканной аскетичностью. Столь же строг и внутренний декор Медхане Алем. Врезаясь в туфовую толщу, его ваятели высекли в монолите 28 колонн с арками, разделяющими храм на 5 нефов. В прорезанных высоко под крышей окнах с решетками из колец кое-где еще можно разглядеть осколки цветного стекла…
Полной противоположностью этому аскету выглядит щедро украшенная Бетэ Марьям — церковь Марии. Когда с залитой солнцем жаркой улицы попадаешь в ее прохладу и глаза, постепенно привыкая к полумраку, начинают различать окружающее, сразу же испытываешь удивление: неужели Бетэ Марьям с ее богатым декором была создана в то же время и принадлежит той же культуре, что и Медхане Алем?
По времени они одногодки. Что же касается принадлежности Бетэ Марьям эфиопской культуре, то здесь сразу же надо оговориться. Пожелтевший свиток, который показывали мне монахи, повествует о том, что для сооружения их церкви и были приглашены в Лалибэлу не то четыреста, не то пятьсот иерусалимских и александрийских мастеров. Очевидно, не вмешиваясь в дела строителей других храмов, остававшихся верными сдержанному канону национальной эфиопской архитектуры, иностранцы и создали в Бетэ Марьям нечто эклектическое и не вполне соответствующее требованиям хорошего вкуса.
Из того, что обычно не показывают туристам, стоит упомянуть покоящийся на резных колоннах кусок скальной породы, на котором высечены два текста. Камень, укрытый бархатным покрывалом с вышитыми золотом коптскими крестами замысловатого рисунка, всегда стерегут священнослужители. Сопровождавший меня монах утверждал, что один из текстов повествует о прошлых днях мира, второй — о его будущем.
— И что же нас ждет? — поинтересовался я.
— Поживем — увидим, — уклончиво ответил монах.
Бетэ Марьям задает загадку, которую тщетно пытается решить почти каждый, кто попадает в его просторный двор, расположенный почти на десять метров ниже поверхности. Из этого двора в западном, северном и южном направлениях проложены узкие подземные галереи. Согнувшись в три погибели, по ним можно добраться до трех других церквей западной «пятерки». Все они скрыты внутри холма и не имеют иных входов-выходов. Как лалибэльские строители извлекали наружу каменные блоки в процессе вырезания церквей? Или они проделывали еще одну трудоемкую операцию: размельчали туф?
Спрятанная внутри холма двойная церковь Голгофы и Михаила известна своими рельефами со скачущими всадниками и уникальными каменными скульптурами святых, не встречающимися больше нигде в Эфиопии. Из часовни Святого Михаила маленькая, едва заметная дверь, которую монах открывал семью ключами, ведет в чрево холма, приютившего в своей тверди главную лалибэльскую святыню — церковь Гроба Господнего. Даже ее существование предпочитают не разглашать. Не то что туристам, но даже простым церковникам заказан туда вход; лишь благодаря привезенному из Аддис-Абебы разрешению монах показал мне скрываемые за семью замками три древних каменных алтаря и барельефы святых. Там же хранится деревянная мебель, украшенная изысканным резным орнаментом, трон Лалибэлы и серебряный крест, которым пользовался хадани. Редкостная возможность увидеть их стала своего рода «вознаграждением» за трудности перехода по «тайной галерее», которая вывела нас на поверхность земли.
И наконец, главное из всех лалибэльских чудес — Бетэ Гиоргис — церковь Святого Георгия. Она стоит на окраине деревни, особняком от обеих групп. Знакомиться с церковью следует с расстояния, взобравшись утром на какой-нибудь из окрестных холмов. В лучах восходящего солнца, среди яркой зелени эвкалиптов выделяется красная площадка. В центре ее — черный провал, из которого вверх, словно из преисподней, восстает огромный крест. Это и есть знаменитая церковь Георгия — храм-крест.
При ее сооружении строители применяли уже известные нам принципы. Только в колодце размерами 23 на 22 метра они ваяли монолит, основание которого имело в плане не прямоугольник, а крест. Как и в Медхане Алем, его зодчие и ваятели позаботились о том, чтобы в первую очередь выделить «верхний фасад» своего утопленного в землю творения. На верхней каменной кровле монолита рельефные изображения вписанных друг в друга крестов повторены трижды. Декорирование крыши, таким образом, превратилось в традицию национальной архитектуры. Она была подсказана самой природой Эфиопии, где благодаря горному рельефу, обилию узких ущелий и долин любой архитектурный памятник лучше всего смотрелся сверху.
Спустившись к храму, можно, находясь на одном уровне с его крышей, заглянуть вниз, а затем по наклонной траншее спуститься к основанию креста. Высота монолита от основания до уровня земли — 12 метров, однако благодаря башнеобразным выступам, членящим его массу, храм кажется куда более высоким и, главное, неожиданно изящным. Это впечатление еще более усиливается благодаря высокому, явно ведущему свое начало от аксумских пьедесталу, на трех уровнях повторяющему крестовидную форму плана.
Изваяв столь оригинальное сооружение, его создатели решили не перегружать храм украшениями. Строгие своды с крестами и ребристый купол — вот и все, что вырезали изнутри строители, когда делали монолит полым. Разгуляться своему виртуозному мастерству они дали лишь при декорировании стрельчатых окон, украшенных резными виньетками с непременным крестом в центре. «Безупречное соблюдение пропорций, скромный и в то же время изысканный орнамент, четкие строгие линии — все это ставит Бетэ Гиоргис в число величайших архитектурных творений прошлого», — писал Дж. Бент. Оставив потомкам этот замечательный храм, мастера Лалибэлы возвели вечный памятник не столько богу, сколько самим себе…
Воздали должное средневековым эфиопским строителям-ваятелям и более поздние исследователи. «Церкви Лалибэлы самые замечательные в Эфиопии, — писал в конце прошлого века Э. Реклю. — Подобно Риму и Константинополю, этот священный город построен на семи холмах, подобно Иерусалиму, имеет свою Элеонскую гору, а его замечательные памятники по праву разрешают Лалибэле претендовать на роль одного из интереснейших своей архитектурой мест христианского мира». Наши современники поляки А. Бартницкий и И. Мантель-Нечко называют храмы Лалибэлы «забытым чудом света». Они же приходят к немаловажному для нас выводу: «Архитектура и декор храмов Лалибэлы свидетельствуют о бесспорном продолжении аксумского стиля. Итак, новое государство, хоть и отодвинутое от Аксума на юг, управлявшееся представителями другой, не аксумской народности, стало наследником традиций первоначального государства, и, следовательно, период господства ластинской династии Загуйе можно признать историческим продолжением прежней аксумской государственности и культуры».
Глава сорок первая
Зэра-Яыкоб и расцвет эфиопского Возрождения. — Лалибэла — общеэфиопский центр культуры. — У истоков историографии и литературы в Тропической Африке. — Первые ноты на континенте. — «Шум-шир» — механизм борьбы с семейственностью и казнокрадством. — «Царствующий бог» между крестом и тотемом. — Шоанцы — эфиопские опричники. — Главное наследство: объединенная страна с централизованной властью
Говорят, что хадани Лалибэла был последним могущественным царем из династии Загуйе. На склоне лет он настолько увлекся храмовым строительством и богоискательством, что безнадежно запустил дела мирские, в том числе державные. Его наследники столкнулись не только со смутой, посеянной феодалами, чутко реагировавшими на ослабление центральной власти. В конечном итоге дело кончилось тем, что в 1268-м или 1270 году хадани из Ласты были вынуждены уступить свой трон ныгусэ Йикуно-Амлаку, девятому потомку Дыль-Нэада, правившему на севере Шоа среди народа амхара.
Крупных городов и культурных центров у амхара тогда не было. Поэтому Лалибэла долгое время по традиции оставалась религиозным и духовным центром Эфиопии. Эта ее новая роль особенно усилилась после того, как в стране начался период внутренней стабилизации, экономического развития и расцвета культуры.
Именно в это время в Аксуме создают, а в Лалибэле переписывают уже известную нам книгу «Кыбрэ нэгэст», связавшую происхождение правящей династии с царями Аксума и библейскими персонажами. Почти одновременно появился не менее знаменитый памятник африканской литературы «Сырыатэ Мэнгыст» — «Правила царства», отразивший объективную историческую потребность создания в Эфиопии единого государства.
Легче стало разбираться в лабиринтах эфиопской истории после того, как при дворе была учреждена должность цыхафе тыызаза — официального летописца. Несколько высокообразованных амхара, назначенных на эту должность, постоянно находились при дворе императора, другие по его распоряжению обосновались в Лалибэле, где по горячим следам подготавливали жизнеописания правителей Загуйе, память о которых еще жила в народе. Так впервые в Тропической Африке было положено начало национальной историографии.
В XIV веке было создано «Сказание о походе ныгусэ Амдэ-Цыйона», в котором описываются исторические события эпохи «собирания эфиопских земель». Хотя в композиции и стиле этого произведения еще многое напоминает народные сказания, это уже произведение исторической литературы.
Появились первые переводы или эфиопские версии изданных в Европе книг, в том числе известного христианского романа «История Александра Великого». Эфиопской «латынью» все еще оставался язык геэз. Написанные им книги свозились в монастыри, где пользоваться ими мог каждый владевший грамотой. Это были предтечи первых публичных библиотек в тропической части континента. Первая из них возникла в Лалибэле под сводами Бетэ Ливанос.
Однако не только меценатом и покровителем «золотого периода» эфиопского средневековья вошел в историю Зэра-Яыкоб. За 34 года правления он проявил себя в первую очередь как великий реформатор. Император был первым правителем, который руководствовался интересами Эфиопии и не оглядывался на свои аксумские корни и шоанское родство. Он впервые в средневековой Африке создал централизованную государственную систему правления, вновь «прорубил окно» в восточный мир через Красноморское побережье и начал подумывать о том, чтобы создать антимусульманскую коалицию Эфиопии с Европой, получить оттуда огнестрельное оружие и специалистов.
Записи, оставленные цыхафе тыызаза, позволяют нам познакомиться с интересным механизмом управления, созданным Зэра-Яыкобом для того, чтобы искоренять местничество, бороться с неповиновением феодалов, предотвращать появление новых «царьков» из числа назначенных в провинции сановников. Механизм этот назывался «шум-шир», что переводится «назначен — разжалован». Систематически и настойчиво Зэра-Яыкоб проводил перераспределение должностей, лишая власти и своего расположения интриганов, казнокрадов, лихоимцев или вероотступников, готовых переметнуться на сторону мусульманского врага, со всех сторон подступавшего к границам империи. Иногда устраивался большой «шум-шир». За измену государству и вере, за переход в язычество император жестоко карал даже своих ближайших родных, включая принцев крови.
Однако при всем этом трудно не согласиться с мнением польских эфиопистов А. Бартницкого и И. Мантель-Нечко, которые пишут, что этот крупный правитель, сумевший диктовать свою волю всей стране и державший всех в железных оковах страха, искоренявший все древние местные верования, сам был одержим паническим страхом перед земными и магическими силами, которым он объявил войну. Стоит ли удивляться этому? На мой взгляд — нет. Даже в наше время я знаю многих африканцев, которые на «мерседесе» приезжают в церковь к воскресной заутрене, целуют крест, а затем отправляются к ведуну с просьбой помочь одержать победу на предстоящих парламентских выборах. Что же ожидать от жившего в XV веке Зэра-Яыкоба?! Христианизация Средней Эфиопии лишь начиналась, причем процесс этот, в отличие от Аксума, совсем не был предопределен объективным ходом развития общества амхара.
Можно даже допустить, что за те десять веков, что отделяли Зэра-Яыкоба от Эзаны, языческие боги подросли и обросли целым сонмом реальных оккультных деятелей, а следовательно, стали на плато Шоа куда сильнее тех, которым некогда поклонялись аксумиты с плато Тигре. Боги эти были рядом, перед ними трепетали многие подданные императора, их призывали себе в покровители те, кто плел заговоры против короны и сильной власти. Этих богов можно было бояться.
Чтобы запугать и отогнать их, император приказал воздвигнуть над своей резиденцией в Дэбрэ-Бырхане (что километрах в полутораста к северу от нынешней Аддис-Абебы) огромный, видный за километры золотой крест. Днем он блестел на солнце и, как подсказывали советники, определенно отпугивал злую силу. Но ночью?.. Спасет ли этот крест от могущественных божеств Десак и Дино, которым поклоняются даже его дети? От многочисленных духов лесов и гор, в существование которых верят почти все его подданные? От черного колдовства вождей-жрецов, ведунов, прорицателей и предсказателей, недовольных усилением монахов? От сглаза, наговоров, заговоров?.. Червь сомнения все время глодал Зэра-Яыкоба, который, понимая всю пользу для государства сильной и единой, поддерживающей его власть религии, не мог разделаться с местными божествами.
Во всяком случае, так вырисовываются состояние души и мыслей великого реформатора Эфиопии, когда читаешь описания нравов и обычаев, бытовавших за частоколом императорской резиденции в Дэбрэ-Бырхане. Они удивительно напоминают те, что были описаны А. Булатовичем в Каффе, но уже в конце XIX века…
Белый цвет считался у средневековых амхара присущим цивилизации, христианству, аристократии. Поэтому высокий частокол вокруг увенчанного крестом дворца император приказал сделать таким, чтобы он издали сверкал белизной. Придворные и слуги, находившиеся за частоколом, обязаны были облачаться лишь в белоснежные одеяния.
Тем, кто наиболее близко и часто общался с Зэра-Яыкобом, строжайше возбранялось стричь волосы. Как и многие в сегодняшней Африке, император верил: отрезанные лохмы и космы, попадая в руки колдунов, дают им возможность оказывать влияние на судьбу и разум того, с чьей головы они упали. Днем и ночью, пишут упомянутые польские ученые, дабы отогнать злых духов, по дворцу, его дворам и парку кружили монахи, окропляя все вокруг святой водой.
Эту воду черпали из выкопанного по приказу Зэра-Яыкоба глубокого и широкого рва вокруг дворца, который служил еще одной линией обороны от «нечисти». Вода в него попадала по бамбуковым трубам с окрестных гор, где били горячие целебные источники, объявленные церковниками священными. Источники постоянно охранялись монахами, которые от сумерек до рассвета и от рассвета до сумерек били в барабаны и распевали псалмы, отгоняя злых духов. Нередко до обитателей Дэбрэ-Бырхана доносились и звуки гимна «Бог царствует», сочиненного самим императором.
Внутри дворцового комплекса, вокруг опочивальни Зэра-Яыкоба и его личной церкви Троицы со временем возник еще один белый частокол из тонких стволов священных олив. Скрываясь за ним, «Бог царствующий» направлялся на обедню. Никто не должен был видеть в это время царя, ибо его душа и мысли, «открывшиеся Богу», считались тогда особенно уязвимыми для влияния извне. «Языческие духи могут сидеть и на деревьях», — подсказал кто-то из придворных. Тогда опочивальня была соединена с церковью крытой галереей.
Рядом с царскими покоями разрешалось жить лишь высшему духовенству. Чуть поодаль находились казармы «гвардии Шоа» — своего рода царских опричников, набиравшихся, правда, из представителей наиболее знатных семей. Они получали во владение вновь завоеванные округа и пользовались особым расположением Зэра-Яыкоба. Поэтому они верой и правдой служили императору и его политике войны. Шоанцы круглосуточно несли караул у внешней стороны белой изгороди. Они же следили за группой царских факельщиков, которые от захода до восхода солнца освещали всю территорию вокруг дворца. Любого, кто приближался ко дворцу после того, как факелы были зажжены, шоанцы убивали без предупреждения.
В отдельном особняке, скорее напоминающем комфортабельную тюрьму, обитал ликэ-мэкуас — так называемый царский двойник. Это был внешне похожий на правителя человек, который во время военных действий, облачившись в императорские доспехи, должен был вводить в заблуждение врага, отвлекая его внимание от местонахождения царствующей особы. В мирные же дни, во время становившихся все более и более редкостными появлений Зэра-Яыкоба на народе, «двойник» должен был находиться рядом с ним, отводя от императора злые чары. Когда же ликэ-мэкуас был не занят, он пребывал под бдительной охраной шоанцев: кто знает, не взбредет ли ему в голову взять на себя роль императора в делах более серьезных?..
За шоанским лагерем располагались царские конюшни, также обнесенные непроницаемым для дурного глаза частоколом. Чуть поодаль — служебные помещения, склады и кухни. Безраздельно хозяйничал там вельможа с титулом лалибэльских царей — хадани. Одной из его главных обязанностей было «вкладывание пищи в рот царя». Как и многие священные правители Африки, эфиопские императоры не должны были касаться еды своими руками, особенно на глазах у подданных. Лишь в последние годы правления Зэра-Яыкоба, после того как один из хадани был уличен в попытке подсунуть императору в пищу крохотный изумрудик, ассоциирующийся у амхара с божеством Десак, влиятельная должность хадани была упразднена. Функцию кормилицы взяла на себя одна из царских жен, Фыре-Марьям. Следить за нею было поручено другой, самой любимой жене царя — Ылени (Елене). Она же рассаживала гостей на званых обедах, заботясь о том, чтобы один и тот же человек постоянно не сидел на одном и том же кресле и, следовательно, «не мог с него оказывать длительного влияния на царя». У многих африканских народов существует мнение: гипнотическое воздействие тем сильнее, чем дольше оно оказывается с одного места, под одним и тем же углом зрения, в одном направлении. Попытка навязать с помощью гипноза свои волю и мысли во многом теряет смысл, если она не будет повторена в тех же условиях, как и в первом случае.
Когда в 1468 году Зэра-Яыкоб умер с книгой в руках, по Шоа, а затем по всей Эфиопии поползли слухи: великий император усидел на своем троне, как никто, долго (целых 34 года) потому, что не закрывал дорогу африканской обрядности в христианскую церковь. То ли из-за боязни выходить за пределы дворца, то ли потому, что в Эфиопии действительно наступила пора стабильности, но Зэра-Яыкоб стал первым в истории страны правителем, кто порвал с традицией «странствующих царей» и целых 14 лет почти безвыездно провел в Дэбрэ-Бырхане. Он оставил своим наследникам объединенную страну с централизованной властью. И кто знает, как сложилась бы судьба Эфиопии в следующие для нее тяжелейшие годы, не будь этого наследства?..
Глава сорок вторая
Ислам наступает. — Горный рельеф на страже независимости. — Деревни-крепости на вершине «амба». — Политика изоляционизма ведет к отсталости. — «В Европу прорубить окно» поручено армянину Матвею. — Первые португальцы воздают должное организации и богатству «страны ныгусэ». — Мусульмане в харэрском «предбрюшье» христианской империи. — Султан Ахмед по прозвищу Левша начинает Тридцатилетнюю войну. — Культурные ценности в огне. — Легенда о том, как всего лишь одна женщина изгнала Левшу из Лалибэлы
Со всех сторон горное царство продолжали теснить мусульмане. Лишь используя выгоды особенностей рельефа Эфиопии, превращающих каждое расположенное на горе селение в неприступную крепость, царским копейщикам и лучникам все еще удавалось сдерживать экспансию соседних султанатов, постепенно обзаводившихся огнестрельным оружием.
Эфиопские хроники сохранили подробности сражений тех лет. В одной из них рассказывается, как 30 лучников, завидев вражеское войско, решили пропустить его на узкую, извивающуюся над отвесным обрывом тропинку, поднимающуюся вверх. Прекрасно зная местность, эфиопские солдаты точно рассчитали, где и когда неприятельские солдаты, преодолевая крутизну, вытянутся цепочкой. Пять лучников засели на самом верху, за скалами, десять спрятались в лесу над обрывом посреди подъема, пятнадцать — прикрывали путь вниз, к отступлению. Когда стрелы эфиопов обрушились на головные отряды кавалерии мусульман, среди них началась паника. Бросившись обратно, вниз, они начали на узкой тропе сбивать с ног, сталкивать в обрыв сзади идущих пеших. «Стрелы не убивали, люди губили сами себя», — пишет летописец. Мало кому удалось прорваться вниз. Но и там шквальный поток стрел лучников, на помощь которым подоспели крестьяне из соседней деревни, не дал спастись почти никому. Около двух тысяч солдат потерял в тот день неприятель.
В другой хронике рассказывается, как мусульманское войско решило осадой взять большую деревню на вершине амба — одной из столовых гор, очень характерных для рельефа Эфиопии. Неприятель перекрыл все спуски и подъемы на гору, надеясь, что голод и жажда заставят крестьян сдаться. Не учтено было одно: вершины амба, как и повсюду в Эфиопии, обрабатывались под поля зерновых, запасов дождевой воды хватало от сезона до сезона, и поэтому деревня эта, как и большинство других, представляла собой естественную крепость. Более трех месяцев длилась осада, затем подоспевший отряд царской армии отогнал противника. Отступая, предводитель мусульман узнал от взятого в плен языка, что в несдавшейся деревне находились лишь женщины и дети. Вся мужская часть ее населения еще задолго до начала осады ушла воевать. «Женщины победили меня», — заключил предводитель и, не снеся подобного, оскорбительного для мусульманина поражения, покончил с собой.
Так горы сторожили, оберегали Эфиопию, помогали ей выжить. Враг всякий раз оставался, по образному выражению цыхафе тыызаза, «собачьим хвостом, который поднялся против головы льва».
Однако время работало не на Эфиопию, отрезанную исламом от внешнего мира, от передовых идей, техники и прогресса. Каждый год независимости в подобных условиях окупался дорогой ценой: усиливалась отсталость. Не все в Дэбрэ-Бырхане, где преобладали сторонники изоляционизма, понимали это. Однако старая императрица Ылени начала подумывать о том, не попытаться ли ее стране поискать союзника в Индии. Для консультации она вызвала к себе купца и дипломата, который в эфиопских летописях фигурирует как «армянин Матвей».
Нет ничего удивительного в появлении выходца из Закавказья в средневековой Эфиопии. Если не считать египетских коптов, сирийских якобитов и христиан Нубии, то эфиопские монофизиты всегда считали армян своими наиболее близкими единоверцами. Эфиопское и армянское духовенство имело постоянные контакты в Каире и Иерусалиме; купцы с Кавказа, торговавшие с Египтом и Сирией, нередко устанавливали деловые связи с Красноморским побережьем, откуда они проникали и в близлежащую Эфиопию.
Вряд ли нам когда-нибудь удастся восстановить детали полной приключений жизни армянина Матвея. Бесспорно, однако, что личность эта была выдающаяся. Он возглавлял эфиопские посольства в Иерусалим, Каир и другие столицы Востока. И каждый раз его дипломатическое искусство получало высокую оценку при дворе.
— В Индию? — удивленно переспросил Матвей, склонив голову перед Ылени. — Джан хой[29], смею заверить, что там сейчас не до судеб эфиопов. В гаванях индусов появились корабли короля Португалии. Его христианская держава сейчас самая сильная на море. И поэтому только она заинтересована в том, чтобы сломить могущество мусульман, препятствующих ей вести дела в Южных морях.
Императрица, и раньше слышавшая о христианах-католиках, ведущих борьбу с исламом, не стала спорить. Она снабдила Матвея письмом, в котором предлагала Португалии создать антимусульманскую коалицию, а также установить династические связи с Эфиопией. Устно послу был дан наказ: добиться получения от Лиссабона огнестрельного оружия, оговорить условия, на которых заморские специалисты могут приехать обучать эфиопов современным ремеслам.
Понадобилось десять лет для того, чтобы в Эфиопию прибыло первое португальское посольство. Его главный результат — появление принадлежащего перу Ф. Алвариша уже упоминавшегося мною первого достоверного описания Эфиопии.
В Лиссабоне не собирались способствовать развитию Эфиопии, укреплению ее армии, или тем более, установлению кровных семейных связей с черными «соломонидами». Если бы придворные советники потрудились ознакомиться с описаниями Эфиопии, сделанными в ближайшие годы их соотечественниками, то мнение двора о ней как о «стране дикарей», возможно бы, и изменилось. Так, например, из записок Педру ди Ковильяна, долгое время находившегося при дворе Ылени, Эфиопия вырисовывается государством с хорошо организованной властью, богатым и культурным, хотя и не лишенным африканского колорита.
А между тем мусульманские соседи, не без зависти алчно взиравшие на это богатое и культурное государство, как бы оказавшееся в их капкане, становились все более и более агрессивными. Положение усугублялось тем, что если раньше под знаменем Мухаммеда против Эфиопии выступали преимущественно кочевые племена равнин, не знавшие и боявшиеся гор, то в 20-х годах XVI века у юго-восточных границ империи возник имамат, объединивший многие исламизированные народы горных районов. Как бы желая продемонстрировать, что горы отныне перестают быть союзником эфиопов, имам в 1520 году перенес свою столицу в Харэр — труднодоступный по тем временам возвышенный городок на склонах хребта Ахмар, в самое «подбрюшье» империи. Лишь легко преодолимая рифтовая долина шириной в сотню километров отделяла теперь мусульманское воинство от Шоа.
Агрессивность Харэра особенно усилилась после того, как власть там перешла в руки Ахмед ибн Ибрахима аль-Гази, прозванного эфиопскими хронистами Грань — Левша. Сначала его отряды занимались мелким разбоем вдоль эфиопских границ и грабили караваны, направлявшиеся к Красному морю. Однако со временем, разбогатев на этом деле и получив деньги на покупку огнестрельного оружия у турок и арабов, Грань, подкупая старейшин мусульманских племен, сумел объединить вокруг себя на «священную войну» против Эфиопии население огромных районов. Под его знаменами в большую войну и большую политику впервые были вовлечены многие народы Сомали, побережья Индийского океана и бассейна Великих озер.
Так в 1529 году началась Тридцатилетняя война. Уже в одном из первых сражений, при Шунбыра-Куре, на поле боя остался лежать цвет эфиопского командования и верных императору феодалов. В 1531 году Грань впервые в истории военных действий между африканцами в тропической части континента применил артиллерию. Она уничтожила наиболее докучавших солдатам Левши отборных лучников из племени майя, которые стреляли отравленными стрелами, вызывавшими мучительную смерть.
Император Либнэ-Дынгыль все еще уповал на горы. Заманивая захватчиков в глубь страны, он надеялся, что они остановят нашествие. Однако, всего лишь за полгода пройдя Шоа, Грань не побоялся вступить в горную, наиболее труднодоступную часть Эфиопии. Холод и сырость несколько поубавили темпы его наступления. Иначе, пройдя всю Эфиопию с юга на север, в Аксуме он был бы раньше чем к середине 1534 года.
В старой книжке, доставшейся мне в «наследство» от Сенигова, об этом периоде эфиопской истории сказано: «Амхара и Тигре были покорены совершенно. Аксум разорен дотла, причем погибло большинство памятников абиссинской древности. Войска ныгусэ были истреблены».
За этой лаконичной констатацией фактов скрывается трагедия эфиопского народа и его культуры. Страна была полностью разорена. В обозе армии Граня на многие километры тянулись тысячи ослов и мулов, груженных награбленными трофеями. В огне «священной войны» были преднамеренно сожжены, разрушены, уничтожены все находившиеся на пути Граня монастыри, храмы и церкви. Вместе с ними погибли собираемые на протяжении веков и бережно хранимые редчайшие рукописи и книги, драгоценные произведения древнего искусства.
Да и не только на пути! Используя проводников из числа эфиопов-предателей, харэрцы и сомали специально отряжали экспедиции в глубинные районы для разграбления святынь. Так погиб построенный Зэра-Яыкобом монастырь Дэбрэ Ныгодгуад. В ущельях Мэнзи и Уосиль по камням были разобраны первые христианские церкви, возникшие на земле амхара. На озере Хайк, выиграв свой первый бой с эфиопскими войсками на воде, Грань лично участвовал в разграблении знаменитого островного монастыря Дэбрэ Ыгзиабхер, а также пустыни Дэбрэ Ыстифанос. Их монахам по традиции принадлежала привилегия выдвигать из своей среды «хранителя времени» — акабе сэата — самого влиятельного представителя религиозных кругов при императорском дворе, главного авторитета в вопросах монофизитской теологии. Именно акабе сэат подвергал своеобразному экзамену абунэ — митрополита эфиопской церкви, назначавшегося вплоть до 1959 года александрийским патриархом. Он же поддерживал контакты с зарубежными церквами. Понятно поэтому, что за долгие годы существования в этих островных сокровищницах были накоплены огромные ценности. После того как перегруженные награбленным добром тростниковые лодки Левши трижды совершили челночные переезды по озеру, вывозя награбленное, на месте Дэбрэ Ыгзиабхер и Дэбрэ Ыстифанос остались лишь пепелища. Обитатели современной пустыни на озере Хайк рассказали мне, что среди украденного были перевезенные из Аксума уникальные папирусные свитки времен Эзаны, переписка Калеба с аравийскими правителями, драгоценные книги с золотыми страницами.
Лишь Лалибэле каким-то чудом удалось уцелеть как целостному ансамблю. Кое-что, конечно, было вывезено Гранем и отсюда. Но разрушить подземные каменные монолиты он даже и не помышлял. Да и спускаться в подземелье «идолопоклонников» его солдатам показалось страшно.
Изустное предание, которое пересказал мне абба[30] Мэкэле, настоятель церкви Ымануэла, утверждает, что за день до того, как войти в Лалибэлу, заболевшему лихорадкой имаму Ахмеду приснился сон. Смысл его был таков: если завоеватель Эфиопии не спасет женщину, он погибнет.
Весь следующий день имам искал, кого бы ему спасти, но женщин не попадалось — всех их монахи спрятали в подземелья. Обуреваемый недобрыми предчувствиями, Грань отправился осматривать Лалибэлу, о чудесах которой он издавна был наслышан. Однако то, что знаменитые храмы «идолопоклонников» не блестели на солнце позолотой своих куполов, а заманивали куда-то в преисподнюю, совсем вывело имама из состояния равновесия.
Войдя в Бетэ Ымануэл, он был одержим одной мыслью: уничтожить ненавистных для него черных монахов в черных рясах.
— Разведите посреди этого святилища нечистых костер, — приказал он сопровождающим. — Сгоните в эту сырую ловушку всех монахов.
Пока огонь разгорался, имама начал трясти озноб. Потом отсветы пламени заплясали по стенам, и Ахмед, подняв глаза, увидел, как со всех сторон, кто смеясь, кто подмигивая, кто угрожая, на него смотрят лики святых. Костер осветил потолок, и оттуда на грозного имама ничего не боящимся взором устремились двенадцать апостолов.
Грань зажмурился и попытался справиться с собою. Но озноб усиливался. Согнанные в церковь монахи затянули заунывные псалмы. Их песнопения, разносясь по пещерам, отзывались где-то вдалеке гулким эхом. «Зов шайтана», — мелькнуло в голове у имама.
— В огонь! — истерически закричал обычно суровый и сдержанный Ахмед. — Всех монахов в огонь!
Мусульманские воины бросились исполнять волю повелителя. Но неожиданно в стене, совсем рядом с Ахмедом, раскрылась крохотная потайная дверь, скрывавшая келью. Из нее выбежала женщина в белоснежном одеянии и сама прыгнула в костер.
— Назад! — прокричал Ахмед. Но голос его был настолько неузнаваем, что никто из приближенных так и не понял намерения имама спасти женщину.
— Назад! — хрипло повторил он, в ужасе наблюдая, как языки пламени набросились на ее белую шамму. — Назад!
— Я не сгорю в огне, если ты, собака, поклянешься не губить Лалибэлу, — раздался спокойный голос из костра.
— Клянусь! — последовал ответ. И в тот же момент Ахмед ибн Ибрахим аль-Гази сам бросился в огонь за женщиной.
Сопровождавшим его визирям и шейхам пришлось последовать в костер, дабы спасти Граня. У него обгорела лишь одежда, женщина получила сильные ожоги и тут же была отдана на попечение монахам.
— Мы не будем задерживаться в этой обители шайтана! — приказал имам приближенным. — По коням!
Пока имама тряс озноб под сводами Бетэ Ымануэл, его воины уже успели прихватить немало ценного из других храмов. Но как только Грань вышел на солнечный свет, он приказал прекратить грабежи.
Наверное, эта красивая легенда о мужестве безвестной для нас эфиопской женщины имеет под собой реальную основу. Арабский летописец тех времен, который взялся за перо ради того, чтобы прославить подвиги Ахмеда, признает между строк: «Женщина сделала так, чтобы войска имама не разрушили Лалибэлу».
Так было спасено и дошло до наших дней одно из двух эфиопских «чудес света»…
Глава сорок третья
Бесславная кончина пятого сына Васко да Гамы, предводителя мушкетеров. — Тридцатилетняя война заканчивается победой эфиопского оружия. — 1555 год: в Риме изучают эфиопские языки. — Народ восстает против иезуитов. — Новая столица «страны черных христиан», ставшая недоступной для католиков. — Тондэр делается самым большим городом Тропической Африки. — «За» и «против» европейского влияния на архитектуру
Имя Криштована да Гамы, пятого сына знаменитого первооткрывателя морского пути в Индию, наверно, никогда не осталось бы в анналах истории, если бы не описываемые нами события в далекой от Лиссабона Эфиопии.
Все отступая и отступая в глубь страны, теряя свои лучшие войска и земли, Либнэ-Дынгыль хоть и поздно, но понял, что горы на сей раз не смогут сыграть роль спасителя его империи. Искать союзников среди окружающих Эфиопию со всех сторон халифатов, султанатов и имаматов было тщетно. Поэтому в 1535 году взоры эфиопов вновь обратились к Португалии. Советники императора, даже в условиях, когда двор годами укрывался в горных ущельях или на вершинах амба, умудрялись держать руку на пульсе политической жизни мира. Им было доподлинно известно, что не только Эфиопия нуждается в антимусульманском союзе с Португалией. Последователи пророка уже перекрыли Лиссабону традиционный сухопутный путь в Индию и блокировали средиземноморский участок маршрутов купцов в Красное море. Правда, в самом конце XV века Васко да Гама разведал дорогу в Индию по океану. Но если Грань захватит Эфиопию и мусульмане сделаются полными хозяевами Африканского Рога, под ударом окажутся и новые владения Лиссабона на Черном континенте, стерегущие эту океанскую дорогу, да и сама эта дорога.
Ставки в дипломатической игре, начатой Эфиопией, оказались верными. Владения «всехристианского короля» Португалии недавно появились в непосредственной близости от эфиопских земель: вдоль всего восточноафриканского побережья, в Сомали, на острове Сокотра. В Лиссабоне с беспокойством следили за военными успехами Граня. И поэтому в ответ на предложение эфиопов в 1541 году на аксумское побережье высадился полк португальских мушкетеров, усиленный пушками. Возглавлявший его дон Криштован получил строгий королевский наказ, из которого следовало: одна из его главных целей — помощь Эфиопии при условии обращения ее в католичество и признания португальских интересов в Северо-Восточной Африке. Так что пятый сын Васко да Гамы должен был не столько спасать Эфиопию, сколько продолжать колониальную экспансию Лиссабона в бассейне Индийского океана, начатую его отцом.
Западная, прежде всего, конечно, португальская, литература утверждает, что перелома в войне эфиопам удалось добиться исключительно благодаря мушкетерам и привезенному Криштованом да Гамой огнестрельному оружию. «Нет», — возражают этим утверждениям факты. Пушки и ружья, купленные в красноморских портах, появились у императорской армии за два-три года до прибытия португальцев. Тогда же эфиопы начали одерживать свои первые победы. По времени они совпали со смертью Либнэ-Дынгыля и воцарением на троне его сына Глаудеуоса.
Рожденный одной из тигрейских принцесс, этот молодой царь сразу же получил поддержку могущественных феодалов севера, которые отказывали в помощи его отцу. Сконцентрировав свои силы в Сымьене, Глаудеуос начал отвоевывать страну у мусульман. Милуя перешедших на их сторону феодалов, император уверенно восстанавливал свое влияние в южном направлении. Его успехам способствовало и то, что Харэрский имамат лишился поддержки Османской империи.
В 1559 году война закончилась, лежавшая в руинах Эфиопия начинала лишь залечивать свои раны. Но в Лиссабоне, требуя вознаграждения за пушки, мушкетеров и пулю, которая сразила Граня, к ней уже предъявляли счет. Страна была включена в сферу интересов не только португальского, но и папского двора. В Риме открылась специальная школа для иезуитов. Там эфиопские языки изучали те, кому со временем будет поручено попытаться навязать католицизм империи черных христиан. Еще в 1554 году Ватикан, не спрашивая на то согласия Эфиопии, впервые назначил в эту страну своего наместника.
Как всегда и всюду, иезуиты действовали оперативно и эффективно. В самом начале XVII века они уже оказывали столь сильное влияние на императора Зэдынгыля и играли столь видные роли при дворе, что его политическим противникам, опасавшимся смелых антифеодальных реформ царя, без особого труда удалось распустить слух: Зэдынгыль вместе с главнокомандующим армией предали эфиопскую веру, перешли в европейскую. Оба они были отлучены от церкви. Затем религиозный конфликт перерос в военный. Играя на умонастроениях эфиопов, значительная часть которых за годы антимусульманской борьбы под христианскими лозунгами повернулась лицом к монофизитской церкви, феодалам удалось поднять против императора крестьянское ополчение. В одном из сражений Зэдынгыль был убит. Его тело было брошено под копыта лошадей, а абунэ запретил предать останки земле, объявив императора «неверным».
Еще более обострилась ситуация в стране при императоре Сусныйосе, который в обмен на обещания иезуита Паиша прислать европейских специалистов и оружие вместе со своими ближайшими сановниками был тайно крещен по римскому образцу. Окрыленные удачей, миссионеры начали повсеместно вводить в Эфиопии католические обряды. Верховодивший ими иезуит-фанатик Мендиш, пользуясь своей близостью ко двору, вел себя, как записано в одной из эфиопских летописей, «не как христианин, но хуже мусульманина». Полностью игнорируя многовековые традиции и обычаи страны, начавшей осознавать все значение и величие своей победы в Тридцатилетней войне, он даже к высшим представителям эфиопского духовенства и знати относился как к язычникам и дикарям.
Народ роптал, а Сусныйос, все больше и больше теряя точку опоры на родной земле, подпадал под влияние Мендиша. Наконец, в 1628 году, когда стало известно, что император принял католицизм в качестве официальной религии, страна отреклась от Сусныйоса, получившего презрительное прозвище Алауи-Ныгусэ — Царь-Еретик. «Возмущенное действиями монарха, духовенство объявило народ свободным от присяги ему, — пишут русские дореволюционные исследователи Эфиопии В. Бучинский и С. Бахланов. — Последствием этого было поголовное восстание провинций. Страна обратилась в арену кровавых смут».
Знаменем борьбы против Царя-Еретика стал его сын, блестяще образованный Фасилидэс. После того как осознавший всю безнадежность своего положения Сусныйос отрекся в 1632 году от трона в пользу сына, молодой император созвал большой собор духовенства. Местом его проведения был избран Гондэр — раньше мало кому известное селение неподалеку от северного побережья озера Тана. Гондэрский собор объявил о возвращении страны к прежней вере и выслал за пределы империи всех миссионеров-католиков. Те, кто не пожелал подчиниться, были убиты.
Одним из первых внешнеполитических шагов Фасилидэса стало заключение союза с племенами, контролировавшими Красноморское побережье. Они обещали убивать любого европейца, который будет пытаться проникнуть в Эфиопию с востока, а царь обязался платить им большую меру золота за каждую доставленную к нему голову. После этих бурных событий идея эфиопско-европейского сближения вплоть до середины XIX века не могла даже в голову прийти никому из местных политиков, если только они не желали поставить крест на своей карьере. «Страна черных христиан» вновь стала «закрытой страной» для католической Европы.
Постепенно Гондэр, где сформировался новый изоляционистский курс империи, начал превращаться в центр ее политической жизни. Появились даже термины: «гондэрская империя», «гондэрская династия», «гондэрский период». Вплоть до 1860 года этому городу будет суждено быть столицей всей Эфиопии.
Уже в 70-х годах XVII столетия население Гондэра составляло 80 тысяч жителей. Следовательно, это был самый большой город Тропической Африки. Он раскинулся у подножия невысокого холма, где на протяжении двух веков рос гигантский дворцовый комплекс.
Перипетии религиозной жизни Эфиопии XVI–XVII веков, о которых мы рассказали, помогут читателю понять многие вопросы, возникающие при знакомстве с архитектурными памятниками бывшей столицы. А вопросов много. Мог ли Фасилидэс, человек, вся биография которого демонстрирует его доходившую до фанатизма ненависть к португальцам, создать свой гондэрский дворец, символизирующий новую власть и ее идеологию, в подражание португальским образцам? Разрешили ли бы представители высшего духовенства, объявившие католицизм ересью и требовавшие на гондэрском соборе крови Мендиша и других иезуитов, строить в новой столице храмы и церкви, копирующие римские или лиссабонские? Стал бы сменивший Фасилидэса на престоле император Иоханныс I (а он потребовал от своих подданных отречения от «папской веры», а неподчинявшихся высылал в присуданские пустыни) выписывать для сооружения своих новых замков архитекторов из Западной Европы? Ведь он еще более, чем отец, ужесточил политику закрытых дверей в отношении католического мира. Да и вряд ли архитекторы-католики поехали в Эфиопию, зная, что за их головы уже обещано по большой мере золота.
А между тем, затесавшись в Гондэре в группу англосаксонских туристов, которых сопровождал экскурсовод из Мюнхена, я услышал, что весь дворцовый комплекс бывшей столицы появился благодаря европейскому влиянию. Да и в португальской литературе его создание безоговорочно, хотя и бездоказательно, приписывают выходцам с берегов Тежу.
— Я могу понять тех, кто отказывает Гондэру в его «африканском происхождении», и даже не обвиняю их в расизме, — говорил замечательный эфиопский художник Афеворк Текле, пригласивший меня осмотреть этот город. — В условиях закрытой для европейцев империи те немногие путешественники с Запада, которые приезжали к нам в XVII–XIX веках, не могли видеть ни Аксума, ни, тем более, Лалибэлы: доступ иноверцам туда был строго запрещен. На остальной же территории страны практически все крупные архитектурные памятники после Тридцатилетней войны лежали в руинах. В деревнях и даже городах иностранцы видели лишь тукули под соломенными крышами. И вдруг Гондэр? Откуда? Как? Почему? Ясен ход рассуждений европейцев: незадолго до начала строительства самого большого гондэрского дворца, возведенного Фасилидэсом, в Эфиопии побывали иезуиты, значит, от них все и пошло…
Глава сорок четвертая
Гимп — «царский холм» сегодня. — Дворцы, которые составят честь любой мировой столице. — Мнение А. Текле: «Это — торжество эфиопского начала». — Первая в эфиопской истории светская столица первых некочующих царей. — Куарийцы и блестящий период «гондэрской культуры». — Интеллектуалы под сводами Дэбрэ Бырхан Сылассе. — Великий просветитель Кыфле-Йоханнес. — Оромо приобщаются к государственной политике. — Красавица Мынтыуаб и ее сын Иясу Справедливый
Мы стояли на запруженной мулами, лошадьми и машинами главной площади Гондэра, над которой громоздился «царский холм» — гимп. За высокой, кое-где еще неразрушенной каменной стеной, на голубом небе отчетливо выделялись причудливые силуэты засвеченных полуденным солнцем дворцов, замков и соборов. Можно было представить себе, какое впечатление этот грандиозный и загадочный ансамбль производил на тех, кто видел его в былом великолепии.
— Хотя гондэрские архитектурные шедевры сравнительно молоды, они трижды переживали разрушения, — объясняет Афеворк. — В 1888 году город был сожжен суданскими махдистами. А в годы Второй мировой войны дворцы разграбили итальянские фашисты, затем разбомбили — причем совершенно неоправданно с точки зрения военных целей — английские самолеты. Мне, как художнику, эти развалины кажутся необычайно романтичными. Но как эфиопский патриот я бы, конечно, предпочел, чтобы все здесь оставалось, как прежде.
Мы пересекли площадь, миновали сквер, разбитый у подножия холма, и по узкой тропке начали подниматься вверх. Двенадцать железных ворот — все они до сегодняшнего дня сохранили свои названия — некогда пропускали именитых посетителей за каменную стену, внутрь «царского двора», разбитого на плоской вершине холма. В наше время туда можно попасть лишь через одни ворота. Старый привратник, узнав А. Текле, торопливо отворил створку, украшенную строгим кованым орнаментом. Прямо напротив нас во всем своем великолепии предстал Большой дворец Фасилидэса. По высоким, словно построенным для гигантов, ступеням мы поднялись на верх его самой высокой башни. Говорят, что здесь любил проводить время Фасилидэс, по ночам изучавший небо, а днем, в хорошую солнечную погоду любовавшийся расположенным километрах в сорока к югу озером Тана.
Ни озера, ни спускающихся к нему амфитеатром гор в тот день не было видно. Но зато весь дворцовый ансамбль с башни Фасилидэса просматривался прекрасно. Десять замков и церквей за каменной стеной, столько же — по склонам окрестных гор…
— Как видите, кое-что в Гондэре еще осталось, — не без гордости говорит художник. — Все это — архитектурные шедевры, которые бы составили честь любой мировой столице. Но нигде в другом месте они появиться не могли, потому что Гондэр продолжает традиции эфиопской национальной архитектуры. Если отвлечься от второстепенных деталей, обусловленных временем, то этот самый большой из гондэрских замков копирует уже известный вам аксумский Ында-Микаэль. Я реконструировал аксонометрию этого аксумского дворца и сравнил ее с гондэрским замком. В основу их плана положена одна и та же идея. Главная разница лишь в том, что в V веке царям нравилось, чтобы со всех сторон их обитель окружали квадратные башни, а в XVII веке — круглые. Но наиболее характерный элемент декора аксумских башен — зубчатые стены — здесь не только сохранен, но приумножен. Посмотрите: зубцы вдоль каменной ограды, зубцы над замками. Повсюду они обыгрываются как главное украшение. Зубцы, зубцы, зубцы… Древние традиции угадываются здесь в выступающих пилястрах, в монолитных пьедесталах-основаниях многих зданий, а более поздние, лалибэльские — в квадратных колоннах и стрельчатых арках.
В общем, не буду перегружать вас информацией из области архитектуры, скажу лишь одно, — продолжал А. Текле. — По гондэрским бытовым и культовым сооружениям, которые хотя и разрушены, но доносят до нас свой былой облик, мы смело можем реконструировать те аксумские памятники, что мы знаем лишь по фундаментам. Я могу допустить, что зодчие, проектировавшие замки и церкви Гондэра, находились под влиянием индийской архитектуры. Но, как и повсюду в моей стране, включая Аксум и Лалибэлу, здесь преобладает лаконичный и строгий эфиопский стиль. Известно, что среди первых гондэрских архитекторов были фалашиагау. Чуть позже появляется имя зодчего из амхара — Уольдэ Гиоргиса.
Любуясь с высоты башни Фасилидэса панорамой дворцового комплекса, я подумал, что Гондэр воспринимался многими как «неэфиопский город» еще и потому, что возник он не как религиозный, а как светский центр. Впервые в истории Эфиопии в его силуэте доминировали не соборы, а замки, впервые страна, всегда имевшая «кочующих царей» и возникающую лишь на период «больших дождей» временную столицу вокруг императорского шатра, обрела «оседлых» правителей с постоянной резиденцией. А это не могло не привести — тоже впервые в истории Эфиопии — к превращению Гондэра в центр светской культуры, средоточие обслуживавших двор и знать ремесленников, танцоров и сказителей, из среды которых со временем вышли большие художники, музыканты и литераторы. По мере того как Эфиопия возвращалась к былому порядку в условиях относительной внутриполитической стабильности и мира в приграничной зоне, расцветал блестящий период «гондэрской культуры».
— Каждый из правителей Гондэра оставил на этом холме или в городе памятник, свидетельствующий о том огромном значении, какое уже тогда придавали в Эфиопии просвещению и искусству, — продолжил свой рассказ Афеворк, когда мы вышли из дворца. — От Йоханныса, например, осталось расположенное прямо перед нами изящное двухэтажное здание библиотеки. Книг, к сожалению, там не сохранилось. Но предания донесли до нас аромат тех времен, когда под ее крышей проводились состязания поэтов, диспуты по эфиопской грамматике.
Мы вошли в библиотечное фойе, осмотрели все залы, выкрашенные в желтый цвет. Художник объяснил, что эфиопская традиция считает этот цвет цветом мудрости, настраивающим на раздумье и творчество.
— Подлинный расцвет Гондэра начался после того, как на этом холме воцарился Иясу I, — говорит художник. — Он сумел установить мир с воинственными кочевниками-галла, которые еще во времена Тридцатилетней войны начали заселять юго-восточные земли Эфиопии, а также проводил политику сосуществования с исламским миром. Огромное значение для страны имели также его экономические реформы, и в частности введение единой торговой пошлины в пользу казны и государственной монополии на торговлю солью. В вопросах экономики главным советником Иясу I, прозванного в народе Великим, был, кстати, армянин по имени Мурад. Если немалые средства, которые получала казна от этих мероприятий, не пожирали оборонительные войны, то Иясу тратил их на нужды культуры.
Забегая вперед, скажу, что ближе к вечеру, показав все достопримечательности холма, Афеворк отвел меня к главному памятнику времен Иясу I — церкви Дэбрэ Бырхан Сылассе. Она стоит в северной части города, за невысокими горами, с которых открывается сказочной красоты вид на гондэрскую цитадель. Высокие деревья, многие из которых уже давно переросли церковь, посажены самим Иясу Великим. Под его же личным руководством, нередко по его эскизам, была осуществлена роспись церкви. Скромное с фасада, ее прямоугольное здание хранит на своих внутренних стенах прекрасные фрески, писанные по дереву и ткани картины. А. Текле считает, что здесь собрана одна из лучших коллекций эфиопской живописи.
Знаменита Дэбрэ Бырхан Сылассе еще тем, что долгое время была одним из главных интеллектуальных центров Гондэрской империи. Под благодатной сенью оливковой рощи, сохранившейся с тех времен, вел свои проповеди абба Кыфле-Йоаннес — блестящий поэт гондэрской плеяды, философ, просветитель и, по условиям той эпохи, большой демократ. Целью его жизни было приобщить к знаниям, культуре народные массы. Аббу знали все в округе, и поэтому, как только всходило солнце, толпы народа собирались в тени олив послушать его рассказы о прошлом, назидательные истории, полные народного юмора стихи, которые поэт тут же слагал на заданную тему.
Но вернемся на дворцовый холм. Замок Иясу I, масштабами и великолепием некогда соперничающий со своим соседом-гигантом, возведенным Фасилидэсом, лежит сегодня в руинах. Сохранились лишь соединяющая оба замка площадка с огромным бассейном для воды, две выгоревшие изнутри боковые башни, да стена главного строения.
Если по диагонали пересечь плоскую вершину холма, то на его северном венце можно познакомиться с дворцом императора Бэкаффы. Скромные размеры и архитектура этого строения отражают пережитую Гондэрской империей недолгую пору междоусобных войн.
Император вновь превратился в кочевника-воина. И поэтому наиболее внушительным памятником его времени стали конюшни. От них на холме осталась серия сводчатых галерей, сложенных из необтесанных красных плит.
Зато соседствующий с ним дворец жены Бэкаффы — ытеге (императрицы) Мынтыауб, соединенный с церковью Кыддус-Микаэль, — вновь образец великолепия и изысканного вкуса, проявленного этой самой выдающейся женщиной на эфиопском престоле, под чьим руководством возродилась церковь.
— Помнится, Мынтыуаб была родом из какого-то небольшого племени, неожиданно выдвинувшегося в годы правления ытеге на руководящую роль во всей Эфиопии? — уточнил я у Афеворка.
— Она происходила из знатного рода народа куара. Знаменитый эфиопский летописец — цэхафе тыызаз Синода со свойственным его перу талантом записал в одной из своих хроник удивительно красивую и поэтичную историю знакомства Бэкаффы с Мынтыуаб.
Смертельно раненного императора еле вынесли с поля боя, а затем три дня и три ночи везли верхом на лошади через горы. Когда почти бездыханное тело Бэкаффы доставили в дом вождя куара, никто не надеялся, что он останется жив. Выхаживать императора поручили Мынтыуаб. Через неделю он впервые открыл глаза и тут увидел склонившуюся над ним прекрасную девушку. «Он сразу же влюбился в нее и захотел жить», — пишет Синода. Как только Мынтыуаб выходила из комнаты, Бэкаффа терял сознание. Как только она брала его за руку, боль утихала и царь открывал глаза, моля бога даровать ему жизнь. Чуть начав говорить, он тут же вызвал аббу и велел обвенчать себя с Мынтыуаб. Едва встав на ноги, он приказал короновать свою спасительницу императрицей.
При жизни мужа мудрая ытеге не стремилась играть какую-нибудь роль в государственных делах, довольствуясь покровительством литературе и искусству. Но, став вдовой, регентствующей при своем несовершеннолетнем сыне Иясу II Куарийце, она быстро взяла бразды правления в свои руки. Опору своей власти она видела в союзе с оромо (галла).
Влияние оромо при куарийцах было столь велико, что порою их язык становился господствующим в столице. Утверждению этнической коалиции куара — оромо предшествовало ожесточенное сопротивление «горной знати». Гондэр был сильно разорен. Шоа отказалась платить дань, вышел из повиновения север.
Конфликт с амхарской знатью был урегулирован мирным путем, а на плато Тигре молодой Иясу II предпринял единственный за 25 лет своего правления военный поход. Императорская армия и войска феодалов тигре встретились неподалеку от Аксума. Однако в последний момент Иясу, войска которого имели огромное численное превосходство, удалось предотвратить кровопролитие заключением мира. Предводитель тигре рас Микаэль-Сыуль, привязав себе на шею камень в знак раскаяния, с повинной явился в императорский шатер. Север остался в составе империи. Микаэль-Сыуль был прощен, а Иясу добавил ко всем своим многочисленным титулам прозвище Справедливого.
Со временем рас настолько возвысился над всеми сановниками империи, что построил в Гондэре собственный замок. Сегодня это наиболее хорошо сохранившееся дворцовое сооружение цитадели. В нем собрано то немногое, что удалось спасти с царского холма от пожаров и грабителей. Недостающее восстановлено по описаниям. Так что замок раса Микаэля-Сыуля — единственное гондэрское здание, полностью воссоздающее атмосферу блестящего периода куарийцев.
Блестят, но никак не вписываются в изысканный интерьер, свидетельствующий о строгом вкусе первого владельца замка, и золотые ванная, раковины и унитазы, которые обязательно показывают тем немногим, кто попадает сегодня во дворец. Это — память о последнем эфиопском императоре Хайле-Селассие I, который превратил замок раса в свою гондэрскую резиденцию.
Глава сорок пятая
Великая жатва мирных лет. — Зарождение светской живописи. — Хайлу — «африканский Рафаэль». — Яред, который пел, не ведая о боли. — Народный лубок украшает дворцы. — Паркеты из слоновой кости и зеркальные стены. — Ытеге участвует в поэтических турнирах. — «Возделывать землю, дабы книгочеи были сыты». — Рукописные сокровища озера Тана. — Попытки поднять культуру и эстетику африканского быта. — Тайное становится явным. — Дж. Брюс: «Гондэр уподобился сплошному склепу». — Цветы к памятнику…
— Четверть века мирного правления куарийцев лишний раз доказывает, сколь многого может достичь народ, не растрачивающий свои лучшие силы на войны, — говорит Афеворк. — Их не знавшая кровопролитий и бессмысленных разрушений эпоха вошла в эфиопскую историю как одна из наиболее ярких и, я бы даже сказал, красивых страниц. Как художнику этот период эфиопской культуры мне кажется наиболее интересным расцветом нашей национальной живописи. Привлеченные в столицу мастера создали свою, неповторимую по колориту гондэрскую школу живописи, подняли на новую ступень те открытия и достижения, которые были сделаны великими мастерами «золотого периода» эфиопского средневековья.
На мою просьбу подробнее рассказать о гондэрской школе А. Текле говорит:
— Как и в Лалибэле, местные художники отдавали предпочтение искусству настенной фрески и книжной иллюстрации-миниатюры. Однако это было не застывшее в своем развитии искусство. Гондэрские мастера смело отходили от средневекового канона. Просвещенная, вольная атмосфера, которая царила в те годы, позволила им выйти за рамки религиозной тематики. Именно здесь, в Гондэре, родилась светская эфиопская живопись, да и светское национальное искусство вообще. Появились новые жанры: художники начали изображать на портретах современников, обратились к историческим, в первую очередь батальным, сюжетам.
К сожалению, сохранилась лишь небольшая часть того, что некогда украшало замок Иясу. Однако и этого достаточно, чтобы понять: эфиопская живопись во второй половине XVIII века была на взлете, — воодушевленно рассказывает Афеворк. — «Африканским Рафаэлем» называли европейские визитеры аббу Хайлу, имевшего в Гондэре многочисленных учеников и последователей. Посмотрите, как смело расцветили они свою палитру. Если лалибэльские фрески отличает колористический аскетизм, одноцветие фигур, однообразие лишенного декора фона, то гондэрцы смело начали использовать всю цветовую гамму, обыгрывать световые контрасты, украшать задние планы.
Это особенно хорошо видно на уже известном нам полотне, запечатлевшем казнь Криштована да Гамы мусульманами. Сочные, яркие краски этой картины сближают ее с народным лубком.
К сожалению, не дошло до нас имя гондэрского мастера, создавшего фреску о легендарном Яреде — музыканте из народа, еще в аксумские времена, при Калебе, разработавшем каноны церковной музыки. На огромном настенном изображении Яред запечатлен в тот момент, когда он пел ныгусэ нэгэст. Калеб был так заворожен и пленен его дивным исполнением, что не заметил, как облокотился на царский жезл, острый наконечник которого случайно вонзился в ногу Яреду. Великий музыкант был настолько увлечен, что даже не чувствовал боли, в то время как алая струйка крови стекала на землю.
— А как выглядело убранство дворца при куарийцах? — спросил я у Афеворка.
— Видите, кое-где на голых каменных стенах белеют небольшие бумажки. Это — подсказки вашему воображению. На них надписи: «Здесь висел украшенный драгоценными камнями щит Иясу Второго»; «На этом месте стояла фигура эфиопского воина в полный рост, вырезанная из черного дерева». А эта бумажка даже рассказывает нам о паркете дома. Он был из розового палисандра, богато инкрустированного слоновой костью.
Многое, конечно, приходится домысливать. В архитектуре замков куарийцев нет былого средневекового аскетизма, и это наводит на мысль, что их внутреннее убранство носило, если хотите, даже легкомысленный характер. Именно применительно ко дворцу Иясу II, когда речь заходит о гондэрских сооружениях, можно говорить об очевидном иностранном влиянии. Известно, что куарийцы дали приют в Эфиопии грекам — беженцам из Смирны, подвергавшимся дома гонениям на религиозной почве. Среди них было немало ремесленников — они-то и создали пышный, явно нарушающий эфиопскую традицию декор дворца. Появился даже зал, верхняя половина стен которого была сплошь облицована венецианскими зеркалами. Другая комната полностью, включая полы, была облицована слоновой костью. Кремовые паласы и бархатные шторы для нее доставили из Фландрии.
Да и сама жизнь стала более светской, страна как бы избавилась от мрака религиозного фанатизма. В значительной степени, наверное, это можно объяснить тем, что куарийцы в отличие от амхарских и тигрейских феодалов традиционно не были связаны с церковью.
При этом Мынтыуаб и Иясу отнюдь не были атеистами, они отлично понимали все выгоды, которые дает их собственной власти союз с церковниками. И поэтому всячески укрепляли и поддерживали их авторитет. Однако делали они это не путем усиления церковного мракобесия времен Зэра-Яыкоба, а путем активизации культурного, просветительского начала в деятельности церкви. Известно обращение Иясу II к монахам, в котором он просит «сделать так, чтобы внешним видом своим не походить на диких деревенских колдунов» и «одеваться подобающе роли духовных наставников» его подданных, дабы «одной внешностью внушать уважение к себе, а следовательно, к Богу». В этих целях были введены торжественные, соответствующие духовному сану одеяния, позолоченная обувь. Более красочными и внешне привлекательными стали церковные обряды.
Многозначительным штрихом к картине той духовной атмосферы, в которой жил Гондэр, стало нововведение Мынтыуаб. Еженедельно, после воскресной службы, красавица ытеге устраивала в своем дворце приемы, на которые приглашала представителей высшего духовенства, теологов, поэтов, музыкантов. Воздав должное искусству царских поваров, гости выходили на «террасу споров», где при активном участии императрицы разгорались жаркие диспуты на богословские темы. Их прерывал лишь ужин, после чего собравшиеся состязались в поэтическом мастерстве. В соответствии с канонами эфиопского стиха в стиле «кыне» они сочиняли импровизации, полные многозначительных иносказаний. Нередко к гостям присоединялся и молодой Иясу II.
Тут же, на «террасе споров», ученые и грамотеи получали императорские заказы на переводы арабских, греческих и византийских книг на геэз. Иясу составил длинные списки наиболее выдающихся произведений христианских авторов, с которыми надлежало ознакомиться его придворным. Переведенные книги затем переписывались в нескольких экземплярах дворцовыми писцами, после чего передавались на вечное пользование в монастыри. Самая большая коллекция рукописей была собрана в ныне знаменитом монастыре Святого Гэбрыэля на озере Тана.
По преданию, посетив как-то монастырь, Иясу настолько проникся «мудростью времяпрепровождения над книгой в тиши острова», что решил создать там богатейшую библиотеку. Он приказал свозить на остров все ценные книги, сохранившиеся в других монастырях и соборах. По всей стране распространилась слава о богатом книгохранилище, куда приезжали ученые со всех концов империи. Чтобы помочь им, император приказал построить на берегу озера деревню, послал туда своих крепостных и велел «возделывать землю, дабы книгочеи всегда были сыты». Каждый, кто отправлялся в библиотеку, мог запастись в этой деревне продовольствием за счет казны, погрузить его в лодку-танкуа и на ней добраться до монастыря.
На такой же лодке-танкуа, сплетенной из папируса, путешествовал и я от одного острова озера Тана к другому. Приветливые монахи в черных рясах из монастыря святого Гэбрыэля рассказывали, что в былые времена на харчах Иясу некоторые читатели проводили в библиотеках год, а то и два. Собранные под монастырскими сводами книжные богатства настолько велики, что над ними можно просидеть всю жизнь, и то прочитаешь лишь их малую толику. Раскрывая передо мной замки старых кожаных фолиантов, украшенных драгоценными камнями, перелистывая золоченые страницы, показывая дивные по колориту древние миниатюры, монахи сетовали на то, что к большей части этих книг уже никто не прикасался лет сто. А это значит, что богатейший пласт источников по истории Эфиопии все еще остается неизученным. Немалые богатства хранятся и в других островных монастырях и пустынях озера Тана.
Щедро поощрялись и те, кто хотел учиться. Рассылаемые из Гондэра во все концы страны глашатаи систематически оповещали население: каждый, кто хочет познать грамоту в столице, будет получать там бесплатный обед. Преуспевших в обучении переводили на лучшее довольствие, отстающим еду урезали. Мысля современными категориями, можно сказать, что, переходя из класса в класс, ученики имели перспективу значительно улучшить свой рацион.
Тот, кто проявлял способности в стихосложении, получал из императорского дворца душистый тэдж. Серьезно засевшим за изучение книг оттуда присылали даже виноградное вино.
Обычай пить вино, кстати, возродился в послеаксумской Эфиопии тоже при куарийцах. Разбивая вокруг Гондэра парки, Иясу приказал свезти в его окрестности множество экзотических растений из Египта, Йемена, Индии. Была среди них и виноградная лоза. Через несколько лет после того, как ее посадили, кто-то из местных армян приготовил из первого гондэрского винограда красное вино и угостил им Иясу. Напиток так понравился императору, что тот приказал разбить виноградники повсюду, где способна расти «диковинная ягода».
Со временем лоза настолько прижилась в Эфиопии, что с заброшенных виноградников переселилась в горные леса, образовав там непроходимые заросли. Привился и обычай пить вино, причем в таких количествах, что сто лет спустя ныгусэ Теодорос II приказал уничтожить виноградники по всей стране, поскольку «слабый дух человека не может без вреда для себя воспользоваться опьяняющей влагою винограда». Сохранение лозы каралось отсечением пальца на правой руке.
По инициативе ытеге на границе Адисс-Алема и Гондэра была сооружена мастерская, в которой каждый направляющийся в столицу крестьянин мог заказать себе сандалии. Оплачивалась лишь работа, кожу в мастерскую доставляли бесплатно из царской скотобойни. Мынтыуаб запретила также есть руками во всех общественных местах, особенно на рынках. Незадолго до смерти она поняла все те опасности, которые в условиях тропиков таит в себе питье сырой воды. Монахов она неоднократно просила объяснять населению смысл и значение кипячения.
В северных окрестностях Гондэра ытеге построила женский монастырь, в названии которого — Кускуам — слышится что-то индейское. Сейчас от него остались одни руины, окруженные колючим кустарником и клочками кукурузных полей. Но по замыслу ытеге, Кускуам должен был соперничать с детищем ее сына — монастырем на озере Тана. Когда золота на строительство бытовых помещений не хватило, Мынтыуаб пожертвовала Кускуаму свои украшения, подаренные ей вождями оромо и сидамо. При монастыре было создано нечто вроде того, что сегодня бы назвали «курсами молодой домохозяйки». Ытеге просила окрестных монахов, чтобы после свадьбы они направляли на эти «курсы» всех молодых женщин.
Неподалеку от Кускуама сохранились развалины большой круглой церкви Дэбрэ Цехай, дальше — руины загородной резиденции Мынтыуаб, состоящей из аудиенц-зала и спальных покоев. Как-то, неожиданно прискакав сюда на лошади, чтобы обсудить с матерью неотложные дела, Иясу II застал ее в объятиях своего двоюродного дяди. Так царь выяснил то, что было известно многим придворным, но что никто не решался ему сказать: вскоре после смерти Бэкаффы мать вступила в связь с его двоюродным братом, получившим прозвище Мыльмыль — Избранник. У них было несколько дочерей, в одну из которых — свою сестру — ничего не подозревавший Иясу был влюблен.
Потрясенный этим открытием, Иясу Справедливый решился на свой единственный известный нам преступный шаг. Он пригласил Мыльмыля на прогулку, предварительно приказав верным людям, спрятавшимся за кустами, утопить Избранника в водах пруда.
Однако, когда люди Иясу в присутствии императора набросились на Мыльмыля, неподалеку от пруда, среди деревьев, прогуливалась его сестра. Решив отомстить за гибель брата, она подсыпала ныгусэ яд в бокал любимого им вина.
Этот эпизод из жизни двора куарийцев не может, однако, помешать нам сделать вывод: первая половина XVIII века вошла в историю Эфиопии как период просвещенных правителей. Одну из главных задач своей власти они видели в том, чтобы покровительствовать образованию и культуре, поощрять развитие науки и литературы. Они осуществили множество мероприятий, с трудом укладывающихся в стереотипное представление о жизни Тропической Африки двести с лишним лет назад.
Культурный «бум» гондэрской эпохи, однако, не выходил за пределы столицы, не был органически связан с развитием страны и оттого мало что изменил в нравах и умонастроениях могущественных феодалов Шоа и Тигре. Поэтому, как только в 1755 году погиб Иясу, а затем отошла от активной политической жизни и ытеге, Эфиопию вновь охватили междоусобицы.
Сначала конфликт возник в самом Гондэре, где власть делили куарийцы и оромо, которых поддерживала Уолетэ-Берсабах, вдова Иясу II и мать наследника престола Ийоаса. Когда оромо добились перевеса, усилились центробежные тенденции среди амхара и тигре, не желавших признавать власти «вчерашних мусульман».
Было время, когда центр политической жизни в Гондэре переместился с гимпа во дворец Микаэля-Сыуля. Опытный и тонкий политик, старый рас захватил пост гондэрского наместника и вскоре сосредоточил в своих руках все нити власти, способной удержать разваливающуюся империю и противостоять оромо. Грузинский путешественник Манучар Качкачишвили в своем докладе князю Потемкину называет его даже «царем над всеми абиссинцами». Джеймс Брюс, тогда же посетивший Эфиопию, характеризует раса как «правителя над королями».
И действительно, все три царя, сменявшиеся на гондэрском престоле во времена возвышения раса, выглядят не более чем его марионетками. Ийоас по приказу Микаэля-Сауля был задушен муслиновой шалью. Возведенный по настоянию раса на престол против своей воли семидесятилетний калека Йоханныс II, сын Иясу I, демонстративно проводил все время за чтением книг и требовал одного: отпустить его изучать рукописи на озеро Тана. Старика книгочея, не желавшего своим участием в политике поддержать гондэрского наместника, отравили. Ему наследовал пятнадцатилетний Текле-Хайманот II, при котором рас стал регентом.
Оба они активно подавляли бунты, вспыхивавшие в провинциях. Но жестокость, к которой стал прибегать Микаэль, порождала новые волнения. В крови тонул Гондэр. Дж. Брюс, описывая город глазами очевидца после одной из карательных операций Микаэля, уподобляет его «сплошному склепу», в котором «тысячи трупов гнили на улицах, а тысячи гиен и других плотоядных зверей бесстрашно поедали их средь бела дня». В конечном итоге в 1770 году армия изгнала раса из столицы в его родной Аксум. Началась новая чехарда безвестных подставных личностей на троне. Она продолжалась до 1784 года, когда Текле-Гиоргис, которого эфиопские историки называют «последним гондэрским императором», отрекся от трона.
В 1789 году в Эфиопии уже было пять царей, причем каждый из них считал остальных узурпаторами. Феодальная анархия и раздробленность усиливались. Через несколько десятилетий страна вступила в эпоху удельных князей-мэсафынтов.
Конец этому страшному периоду в истории Эфиопии положил уже знакомый нам Менелик II, завершивший процесс создания централизованного государства.
К его памятнику в центре Аддис-Абебы кладут цветы и в революционной Эфиопии…
Глава сорок шестая
Ветер с Индийского океана. — Там, через пролив — Ламу. — Город-феникс, донесший до наших времен аромат времен суахилийской цивилизации. — Улицы, не знающие автомобиля. — Ослы с лампами на шее. — Захолустье, где куда оживленнее, чем в иной столице. — Магазины открываются ближе к полуночи. — Кофе, хама и крик муэдзина. — Арабы? Нет, африканцы! — Ночь на борту парусника-доу. — Взлет и падение островных государств-городов. — Уникум восточно-африканского побережья
К востоку от южноэфиопских плоскогорий и вулканических плато Туркана, занимая всю сомалийскую и добрую половину кенийской территории, лежат опаленные солнцем песчаные равнины. Лишь в последний день мучительно долгого и тяжелого пути подернутая пеленой серой пыли пустыня нехотя уступает место желто-красной в сухой сезон саванне, среди которой, ближе к вечеру, появляются первые пальмы. Сначала низкие, льнущие к земле, потом все выше, все стройнее и царственнее, они дают знать, что Индийский океан недалеко. Сидевшие под пальмами вдоль дороги нагловатые обезьяны-бабуины при нашем приближении поднимали неописуемый гвалт, забирались на макушки пальм и кидались оттуда их красноватыми плодами.
Иногда пальмы улавливали набегавший с океана ветер, принимались раскачиваться и шелестеть. Тогда сухой и пыльный воздух вдруг делался парным и солоноватым. Но как только пальмы затихали, вновь чувствовалось дыхание пустыни.
Какая-то невзрачная птаха упорно летела перед машиной, пикировала у самых колес и невредимой взлетала вверх. Только приглядевшись, я понял, что она делает: охотится за оранжевыми, незаметными в дорожной пыли кузнечиками, которых вспугивала наша машина. Покончив с насекомым, птаха запрокидывала голову и издавала звук, какой точь-в-точь доносится из громкоговорителя, предлагающего проверить часы. Рефлекс срабатывал — на часы я смотрел гораздо чаще, чем обычно.
Потом дорога побежала по ослепительно белому коралловому песку и внезапно оборвалась у переправы.
— Да, там, через пролив, Ламу, — подтвердил дремавший под пальмой лодочник. — Вас подвезу, а авто на острова перевозить нельзя. Да и ездить там на нем негде.
Оставив машину на «материке» под присмотром смышленого на вид паренька — сына лодочника, я пересел на фелюгу, обеспечивающую связь Кении с ее островной частью — архипелагом Ламу, или, как его теперь все чаще называют, Баджун.
Плавание недолгое — маневры в узком заливчике, словно шипами, утыканном корнями и ростками мангров, переход под парусом по проливу, и вновь лабиринты окружающих остров мангровых зарослей, склонившихся к воде пальм, изъеденных океанской водой камней — остатков то ли ушедших под воду крепостей, то ли древних причалов.
Через полчаса зелень расступилась, и под покровом высоченных пальм, над бирюзой океана, внезапно появился белый, из коралла, город, тоже именуемый Ламу. Город-феникс. Единственный из великих и некогда могущественных суахилийских городов, который пережил все невзгоды, выжил и сохранил до нас облик прежних времен.
У причалов качались на волнах десятки доу. В дырах их треугольных парусов просвечивала набережная. Я посмотрел на нее и подумал, что когда-нибудь эту набережную всю, целиком, объявят историческим заповедником.
Со стороны океана Ламу сразу предстает городом с богатым прошлым. Древние постройки, зубчатые башни старых крепостей, суахилийские, индийские, арабские дома. И дула пушек — сто, двести, триста метров вдоль набережной, уставленных пушками. Они смотрят в сторону океана, откуда редко приходили друзья и часто — враги.
Лодочник уговаривал плыть дальше. Где-то в четырех километрах от старого города, как он обещал, можно найти отличный пляж, тень пальм, а рядом и отель «Пепони» — «Райское место», если переводить с суахили. Там обычно останавливаются европейцы, добирающиеся до Ламу на частных авиетках.
Но я был уверен, что для меня раем будет именно сутолока этой набережной, едва заметные щели улиц между ветхими домишками и шум портового базара.
— Есть ли свободные места в отеле здесь, в старом Ламу? — спросил я у лодочника.
— Есть, в «Махарусе». Это вот в той улице.
«В улице» — это любопытное отражение в языке местных условий. Так говорят в Ламу и на суахили, и на арабском, потому что предлог «на» совершенно неприменим к улицам Ламу. Дом, стоящий «на улице», предполагает какой-то простор. А здесь дома именно втискиваются «в улицу».
Окна моего номера в «Махарусе» как раз смотрели на такую улицу. В доме напротив, у окна, сидел курчавый, лет трех карапуз, привязанный мохнатой веревкой за ноги к раме без стекла. Завидев меня, он почему-то обрадовался и протянул пухлые, на перевязочках, ручонки. Я высунулся из окна и протянул над улицей черному карапузу конфету. Он без труда достал ее и засмеялся.
Поскольку на архипелаге я был не впервые и уже имел представление о местных порядках, свой первый визит, несмотря на поздний час, я решил нанести комиссару полиции: согласно здешнему этикету, иностранцы отмечаются у него по прибытии. Однако за три года, что прошли после моей последней встречи с комиссаром, его офис переместился из окруженного пушками и кружевами перистых ветвей казуарин лучшего дома на набережной в новое здание.
— Вот оно, на самой вершине холма Хедабу, — объяснил мне полицейский. — Но комиссара сегодня нет в городе. А у нас здесь теперь открыли музей.
Где-то недалеко, с соседнего минарета, пронзительно и заунывно кричал муэдзин, созывая правоверных в мечеть. Распрощавшись с полицейским, предусмотрительно проверившим мои документы, я пошел на его голос и вскоре очутился в лабиринте темных улочек, заполненных суетливыми огоньками карманных фонарей. Фонари носят с собой прохожие, чтобы не разбить друг другу лбы в предмолитвенной кутерьме уже по-ночному темного города. Электричество пришло сюда лишь в 1969 году и еще не успело проникнуть во все улочки и закоулки древнего Ламу.
Расталкивая толпу, проехал какой-то местный богатей на осле, на шее которого болталась лампа. Из одной двери в другую привидениями проскользнули две женщины в черных атласных покрывалах — буибуи. Нежным звоном колокольчиков известил о своем приближении разносчик воды. «Кофе! Кофе! Свежая халва!» — кричал уличный продавец, мелодично, словно кастаньетами, ударяя одну о другую кофейными чашечками.
У входа в мечеть стояло еще несколько ослов с лампами: видно, такой транспорт в безавтомобильном Ламу довольно обычен. Мужчины заходили во двор, снимали обувь, расстилали принесенные с собой циновки, падали на колени и принимались бить поклоны Аллаху. Почти все — в длинных до пят рубахах-канзах, белых тюбетейках-кофиях, реже — в фесках или тюрбанах, почти все — с окладистыми бородами. Арабы? Нет, черные как смоль, с отнюдь не «классическими» чертами лица, обыкновенные африканцы. Африканцы-мусульмане из тех, кого обычно называют суахили, что в переводе означает «прибрежные люди», «жители побережья».
Кончилась молитва — еще больше народу появилось в темных улочках. В девять вечера открылись магазины, и женщины отправились выбирать себе наряды, торговаться и просто глазеть. Не продуваемую морскими ветрами Харамбе-авеню заполнил чад шипящего над мангалами мяса. Из каждого окна доносилась своя мелодия — суахилийская, арабская, индийская. Жизнь в этом, казалось бы, захолустном городке была куда оживленнее, чем в иной африканской столице.
Я наелся «кебабов» из козлятины, отведал печеных бататов, кофе с корицей, кокосового вина и вернулся в «Махарус». Но вскоре убедился, что заснуть в «моем раю» — дело немыслимое. Уличных торговцев становилось все больше, а музыка звучала все громче.
Какое-то нервное возбуждение охватило меня. Хотелось вновь смешаться с этой толпой, ходить по этим улицам, смотреть, впитывать, узнавать. В голове вертелась назойливая фраза: «Ламу… Ведь это Ламу…» За этим названием для меня скрывалась близость самых древних из известных нам в приэкваториальной Африке городов, редкая для Черного континента возможность проследить богатую интереснейшими событиями средневековую историю огромного региона, перипетии времен Великих географических открытий и на фоне их — становление самобытной суахилийской цивилизации, цитаделью которой и были острова архипелага Ламу.
К полуночи я забрел в по-деревенски тихий квартал глинобитных домов, крадучись пробрался мимо остервенело лаявших собак, лягавшихся ослов и вышел к океану. Шустрые белые крабики, едва заметив мою тень, бросились зарываться в песок.
Под пальмами на берегу, куда не добирается прилив, стояли огромные доу с разрисованной кормой. Я ухватился за свисавший с борта канат и забрался в одну из лодок. Она называлась «Хадрамаут» и пришла из Мукаллы, некогда пиратского города и центра контрабанды на аравийском побережье. Пришла, подгоняемая благодатными муссонами — ветрами, которые, дуя строго по расписанию, составленному самой природой, на протяжении тысячелетий наполняли паруса судов, совершавших челночные плавания из Аравии и Индии в Восточную Африку и обратно.
Я сидел в старой лодке, подставив лицо свежему ночному бризу, и думал о том, что когда-то, давным-давно, такой муссон пригнал к африканскому берегу такую же доу, дав возможность людям далеких восточных стран впервые завязать обмен с местными африканскими племенами. Так возникла торговля, давшая толчок развитию суахилийских городов-государств.
Городов было много, столетиями они возникали и умирали вдоль восточноафриканского побережья, на ослепительно белом песке коралловых пляжей, под покровом шелестящих пальм. У них была разная судьба, но почти всех объединяло одно: они создавались на островах. Узкий пролив, отделявший остров-государство от материка, не был помехой для мореходов и купцов, пересекавших Индийский океан. Но до поры до времени он служил надежной защитой от набегов воинственных и диких племен, наведывавшихся из внутренних районов на побережье.
Однако никакому из этих городов, несмотря на величие и могущество, не суждено было сыграть в истории суахилийского мира той выдающейся роли, которая досталась Ламу. Когда связи с Востоком еще только устанавливались и мореходы древних морей предпринимали лишь робкие попытки выйти в Индийский океан, острова архипелага, как самые северные и, следовательно, наиболее близко расположенные к Аравии, оказались для них и наиболее доступными. Вот почему первые торговые контакты, впоследствии создавшие стимулы для появления и развития первых известных нам городов с преобладающим негроидным населением, возникли именно здесь. Затем, когда в XV–XVII веках восточно-африканское побережье было разорено португальцами, географическое положение вновь спасло Ламу. Теперь самая северная часть суахилийского мира оказалась в наибольшем отдалении от южного, находившегося в Мозамбике центра европейской колонизации, от больше всего интересовавших Лиссабон путей в Индию. Португальцы наведывались на острова Ламу, грабили и разоряли их города, но своего постоянного политического и экономического присутствия установить им там так и не удалось.
Затем португальцев изгнали, и верховодить на всем побережье стали оманские султаны. Главное их внимание было приковано к не желавшей покориться арабам Момбасе. Жители Ламу были союзниками оманитов в этой борьбе и больше выигрывали, чем теряли в ней. Потом Кения сделалась колонией Англии, и острова Ламу оказались «крайним севером британской Восточной Африки», как раз напротив неспокойной границы с Сомали. Полное бездорожье в материковой части этого района не допускало к Ламу с суши, а статус «закрытого района», введенный администрацией по политическим причинам во всей Северной Кении, надолго затруднил проникновение туда с моря. Закрытый для всех, архипелаг Ламу вскоре был забыт всем миром.
Такой дорогой ценой на острове были созданы уникальные условия для беспрерывного поступательного развития суахилийской культуры. Это был своеобразный замкнутый микрокосм, в чем-то повторявший историю развития всего побережья, но отличавшийся от него единой судьбой островов и преемственностью традиций, передававшихся в пределах архипелага от одного города к другому, а затем «экспортировавшихся» отсюда в остальные части суахилийского мира. Именно здесь зародился язык суахили, который его первые европейские исследователи середины XIX века включали «в число двенадцати великих языков мира, более всего употребляемых при сношениях людей различных национальностей». Ныне этот язык — наиболее распространенный в Африке, его знают примерно 60 миллионов человек, то есть каждый восьмой африканец. Подобное растущее влияние суахили на континенте, а также богатство его лексики служит, по справедливому замечанию Б. Дэвидсона, «еще одним подтверждением древности и прочности фундамента этого языка», изобилующего сочными идиомами и бытовыми словечками, дающими говорящим на нем возможность передавать самые тонкие переживания. Именно здесь, на побережье, на протяжении веков формировалась столь несвойственная этому аграрному континенту земледельцев и скотоводов уникальная городская культура суахили — единственная в своем роде в Тропической Африке. Она породила столь же уникальную каменную архитектуру, прикладные искусства, соответствующие высоким критериям развитого общества нравы, мораль, традиции.
Глава сорок седьмая
Познакомьтесь: архипелаг Баджун. — Древние называли эти места «берегом зинджей». — «Хроника Пате» ведет историю городов с VII века. — 600 лет спустя: зинджи поклоняются камням, а не Аллаху. — Фаллос шагает на крышу мечетей. — Культ «кайя» жив и сегодня. — Африканские корни зинджского языка протосуахили. — «Савахил» означает «береговая страна». — Прибрежные зинджи «превращаются» в васуахили. — Земледельцы, купцы и мореплаватели Восточной Африки. — Главным товаром становится железо. — Выгоды торговли влекут в Савахил переселенцев-мусульман. — Португальские пушки превращают цветущие города в руины
Что мы знаем об этом удивительном, чудом сохранившемся реликте великого прошлого Африки, имеющем законное место в мировой цивилизации?
Десять островов входят в архипелаг Баджун. Из них семь построены кораллами, а три, самые крупные, имеют материковое происхождение. Самый большой, Пате, занимающий площадь 80 квадратных километров, скрывает в роще своих кокосовых пальм три города — Пате, Сийю и Фазу. На острове Манда (62 квадратных километра) остались два поселения— Манда и Таква. Самый известный из островов — Ламу — не превышает 50 квадратных километров.
Роясь как-то в книгохранилище Академии наук суахили в Момбасе, я наткнулся на выцветший список «Хроники Пате». В нем рассказывалось, как еще в 696 году группа арабов из Сирии достигла Восточной Африки и создала там 35 городов. О том же повествует и «Хроника Ламу». Ее авторы ведут историю города с VII века и называют основателем Ламу и ряда других городов предводителя сирийцев халифа Абд аль-Малик ибн Марвана, основоположника правящей династии. Если эти даты верны, а сомневаться в них пока нет оснований, то Пате и Ламу — самые древние города в приэкваториальной Африке!
Примерно в 60 году н. э. появился «Перипл моря Эритерийского» — одна из самых ранних из дошедших до нас лоций. Происхождение автора лоции — он был грек из Александрии — породило определенные трудности, поскольку многие географические названия приводятся в «Перипле» в древнегреческом варианте. Как-то в Кампале я беседовал с Мэриком Познанским, профессором археологии, директором африканских исследований университета Макерере, крупным авторитетом в области древней истории Африки. Он доказывал мне, что упоминаемые в лоции острова Пиралаон и есть архипелаг Ламу.
— Конечно, на первый взгляд может показаться, что это греческое название, переводимое как «Люди огня», не имеет ничего общего с идиллической обстановкой Ламу: ведь там неоткуда было взяться огнепоклонникам и не могло быть огнедышащих вулканов, среди которых бы обитали люди, — говорил он. — Однако, зная Африку, нетрудно предположить, что автор «Перипла» добрался до Ламу перед наступлением сезона дождей. Как и на материке, где господствует подсечно-огневое земледелие, островитяне в эту пору сводили огнем растительность, расчищая поля под посевы. Объятый пожаром остров посреди океана и работающие у кромки огня крестьяне вызвали у грека понятные ассоциации.
По мнению ученого, остров Меноутиас, которого моряки из «Перипла», покинув Пиралаон, достигли через три дня, — это современный Занзибар, а Рапта — один из городов, чьи развалины находятся неподалеку от Дар-эс-Салама. Археологи нашли там бусины и керамику, свидетельствующие о связях Рапты с Римом.
Однако у средневековых арабских авторов, которые впервые начали составлять описательную географию Восточной Африки, подробностей и деталей становится больше. Кое-что мы узнаем из «Китаб фахр ас-судан ала-лбидан» — «Книги о превосходстве черных над белыми», написанной аль-Джахизом (умер в 869 году). Сам потомок африканского раба, крупный ученый и литератор, он посвятил свое сочинение описанию чернокожего населения планеты. «Китаб фахр» интересна как основополагающая работа для обоснования черного расизма. Однако для нас она в первую очередь ценна тем, что впервые применительно к восточноафриканскому населению в ней используется термин «зинджи» — черные. Это же название (в форме «занг», что значит «черный») мы встречаем в одной из персидских надписей конца античности, а в «Христианской топографии» Космы Индикоплова (VI век) нынешнее суахилийское побережье названо на греческий лад — «Зингион».
Постепенно содержание этого термина у арабских географов расширяется. Наш основной информатор о Восточной Африке — аль-Масуди (умер в 956 году), один из немногих средневековых авторов, лично побывавших на ее побережье, уже указывает на этническое деление среди зинджей, а также упоминает о существовании у них самостоятельных «царств». В середине X века аль-Истахри полагал, что на севере «страна Зиндж простирается до государства аль-хабаша», то есть до Эфиопии и Сомали, другие авторы южным пределом ее называли «золотую Софалу», что в нынешнем Мозамбике. Далее на юг находилась земля Вак-Вак. Судя по фразе: «Речь местных жителей представляет род свиста», оброненной знаменитым географом аль-Идриси (1100–1165 годы), арабы уже были знакомы со своеобразным языком койсанских племен, населяющих Южную Африку.
В каких взаимоотношениях это разноплеменное и разноязычное население побережья было с потомками тех арабов, которые создали там 35 городов? Служили ли эти города активными центрами распространения ислама в Восточной Африке? Ответ на эти вопросы очень важен для понимания происхождения суахилийской цивилизации, поскольку мнение, что она всего лишь эпигон мусульманской, еще отнюдь не развеяно.
Очень интересным поэтому представляется свидетельство аль-Масуди, сделанное 250 лет спустя после легендарного переселения сирийских арабов. Описывая верования зинджей, он констатирует: «Кому из них понравится что-либо из растений, зверей или минералов, тому они и поклоняются». Упоминает арабский путешественник также город на острове, скорее всего Манда, где живут «мусульмане вперемешку с неверующими из числа зинджей». Еще 150 лет спустя у аль-Идриси читаем о городе Брава, расположенном к северу от Ламу, на сомалийском побережье, буквально под боком у религиозных центров ислама: «Это город неверных… Они берут большие камни, мажут их рыбьим жиром и им поклоняются. Они поклоняются подобным и иным в этом роде нелепым вещам, и, несмотря на то, что верование их гадко, они стойко его придерживаются». Наконец, умерший то ли в 1274-м, то ли в 1286 году Ибн Саид аль-Магриби, современник Лалибэлы, прятавшего под землю христианские церкви, оставил нам такое свидетельство об обитателях крайнего юга суахилийского мира: «Жители Софалы и другие зинджи поклоняются идолам и камням, которые поливают жиром больших рыб».
Пройдет, таким образом, почти шесть веков после создания на суахилийском побережье поселений сирийцев, а арабы так и не смогут навязать ислам зинджам, продолжавшим в массе своей придерживаться анимистических верований. Пройдет еще полтора столетия, и лишь в начале XV века в Малинди появится самая древняя из дошедших до нас мечетей, а рядом с ней — огромный каменный фаллос, своими очертаниями удивительно напоминающий те «священные камни», которым поклонялись жители эфиопского юга.
Затем фаллос шагнет на крышу мусульманских мечетей — форму мужского детородного органа примут минареты, повсеместно сооружавшиеся в Ламу, Пате, Момбасе, то есть в северной части суахилийского мира, которая в силу своего географического положения была открыта влияниям эфиопских народов. Эти фаллические минареты над мечетями, как бы утверждающие торжество африканских анимистических культов над исламом, и сегодня привлекают внимание туристов, впервые попадающих на кенийское побережье.
Из-за колониальных и расистских наветов нам сегодня приходится доказывать то, что средневековым арабским авторам было совершенно очевидно. Они описывали города восточноафриканского побережья как «зинджские», их правителей называли в массе своей «чернокожими». Язык зинджей тогда не напоминал арабам их собственный. Просвещенные носители мусульманской цивилизации обычно с пренебрежением относились ко всему тому, что касалось культурных ценностей «неверных». Тем весомее их лестные отзывы, сделанные в адрес «зинджского языка». Аль-Джахиз характеризует его как язык развитый, а зинджей неоднократно называет красноречивыми. Средневековый космограф ад-Димашки также подчеркивал «искусство риторики и красноречия, присущее северным зинджам».
Что же это за язык? Аль-Масуди, который лично побывал на Занзибаре, или «Берегу зинджей», собственной рукой записал наиболее употребляемые его жителями слова. Они — бантуского происхождения; их корни и сегодня живы во многих языках континента, например слово «мганга» — колдун, лекарь — распространено повсеместно. Что же касается более поздних времен, то гадать и привлекать косвенные источники для доказательства того, говорили ли тогда жители восточноафриканского побережья на языке группы банту, вообще излишне. Уже в XI веке у этого языка появилась письменность! Она была создана на основе арабской графики. Джеймс Аллен — молодой, но авторитетный исследователь культуры восточноафриканского побережья, обосновавшийся в Ламу, называет этот язык протосуахили. Он сильно отличается от современного суахили, значительно позже, уже после становления суахилийской цивилизации, многое заимствовавшего из арабской лексики.
В более поздних литературных памятниках, в частности «Хрониках» Пате и Ламу, появляется заимствованный у арабов топоним «Савахил», или по-русски «Суахилия» — «береговая страна», «прибрежная полоса». В сопоставлении с арабскими источниками ее границы находились между Ламу и Малинди. Даже Момбаса на первых порах оказалась вне этой цитадели суахилийской культуры, поскольку, как свидетельствует Ибн Баттута, зерно туда «привозят из Савахила». Судя по высказываниям знаменитого лоцмана Ахмеда ибн Маджида, в тех же границах «Суахилия» оставалась и к началу XVI века. Язык населения этой прибрежной полосы получает название «кисвахили», переводимое как «так говорят в савахилях». А носителей этого языка, в массе своей чернокожих жителей портовых городов, прибрежных районов и прилегающих к ним деревень — рыбаков и земледельцев, все чаще именуют «васвахили», «васуахили», то есть «жители побережья». По мере экономического развития и усиления политического влияния северных суахилийских центров их язык и культура распространялись все дальше и дальше на юг. Так прибрежные зинджи постепенно «превращаются» в суахили.
Как и чем жили «северяне» суахилийского мира? В массе своей это было конечно же земледельческое население. Уровень его был достаточно высок, поскольку зинджи-суахили выращивали такие трудоемкие культуры, как рис и сахарный тростник. Они знали пять сортов бананов, имели столь обширные кокосовые плантации, что экспортировали их продукцию. Их хлебом была дурра, картофель заменял ямс, дающий огромные, весом 60 килограммов, клубни. Деревни, находившиеся на границе с саванной, в изобилии поставляли мед, а также мясо диких животных. Сохранились интересные описания способа охоты на слонов, заманиваемых к водоему, заранее отравленному листьями ядовитых растений. Скотоводство, по всей вероятности, было развито слабо, что косвенно указывает на распространение в прибрежных лесах мухи цеце. Однако нехватка мяса с лихвой окупалась обилием рыбы и других «даров океана», многие общины почти целиком жили за счет морского промысла. Активное рыболовство, а затем и торговля обусловливали развитие мореходства.
Торговали восточноафриканские купцы многим — слоновой костью, рогом носорога, шкурами леопардов, черепаховым панцирем, ценной древесиной, растительным сырьем для красителей, горным хрусталем, амброй. Большинство этих товаров не могло быть продукцией собственно побережья. А это значит, что суахилийские купцы уже в те времена активно вовлекали в торговлю племена континентальной глубинки, превращая их в своих поставщиков, а сами становились посредниками между ними и восточными покупателями.
Однако самым важным в списке экспортных товаров побережья, бесспорно, было железо! Его получали из весьма бедных руд, встречающихся на материке, но плавили в очень больших количествах.
Скорее всего, бурное развитие выплавки металла в Суахилии где-то в конце XII века и пробудило более пристальный интерес Востока к африканскому побережью, привело к бурному росту его городов, посредничавших в торговле между внутренними районами континента, с одной стороны, и Индией, Аравией, Китаем, Индонезией — с другой. Так Восточная Африка стала составной частью огромного и богатого средневекового торгового восточного мира.
Этот бурный рост стимулировался еще и новой волной миграции из мусульманского мира. Если сподвижники Ибн Марвана прибыли в Зиндж, спасаясь от династических войн периода возвышения ислама, то новые переселенцы попали в Савахил в роли беженцев из стран, оккупированных татаро-монголами. Среди них было множество выходцев из Ирана — ширазцев. Пришельцы селились на африканском побережье, брали себе в жены африканок, обращали местных жителей в ислам, приобщали их к новшествам мореходного искусства и знакомили с известными им более прогрессивными навыками торговли, обогащали их язык словами, связанными с наукой, техникой, коммерцией тех времен.
Даже став мусульманской, цивилизация суахили осталась африканской. Она возникла на земле Черного континента и была создана руками африканцев — наследниками зинджей. Залогом богатства городов побережья была торговля с внутренними районами материка, куда арабы тогда еще даже не проникли. Самые северные из этих городов-государств распространяли сферу своего влияния на довольно большую территорию: вплоть до среднего течения Таны и севера Эфиопии. В основе этих торговых связей лежала торговля железом, самобытные секреты плавки которого были открыты самими африканцами. Да и главными партнерами суахилийских городов были не аравийские султанаты, а далекая Индия, покупавшая львиную долю металла.
Похоже на то, что обитатели архипелага Ламу были первыми среди тех, кто возвысился в период «железного бума» и притока на побережье мигрантов, обладавших передовыми по тем временам знаниями и навыками. В Пате, например, в 1204 году утвердилась династия Набхани, правившая там до 1866 г. Как можно понять из «Хроник», возвышение этих выходцев из Омана произошло самым мирным образом в соответствии с существовавшим на острове традиционным правом. Сулейман ибн Сулейман, основоположник новой династии, женился на дочери престарелого правителя острова, а тот в качестве свадебного подарка передал ему свой титул фумомари. Набхани, сочтя выгодным не арабизировать его, никогда не называли себя шейхами или султанами.
Территориальная экспансия Пате, разбогатевшего на торговле, достигла своего апогея при фумомари Умари, праправнуке Сулеймана, правившем в середине XIV века. Кто бы мог подумать, но крохотный Пате контролировал тогда восточноафриканское побережье от Могадишо на севере до Великой Килвы на юге! «И получил он силу великую и завоевал много савахильских городов, — повествует о нем «Хроника Пате». — Он владел всеми этими городами… в каждый город послал он своего человека, чтобы управлять там от его имени».
В другом документе тех лет рассказывается о том, что султан Умари «был падок до денег и поэтому поощрял торговлю, вынуждая людей совершать далекие путешествия в Индию. Таким образом он очень успешно приумножал свои богатства». Китайские авторы говорят о визитах восточноафриканских моряков в Кантон. В обратном направлении из этих же стран в подвластные Пате города шли доу и джонки, груженные коврами, бархатом, шелками, пряностями, фарфором.
Муссоны наполняли паруса мирных кораблей. Средневековые купцы Востока не стремились к захватам, не бряцали оружием. Они довольствовались тем, что в наше время принято называть «взаимовыгодной торговлей».
И торговля приносила свои плоды. Города богатели, застраивались каменными домами. Были, конечно, в городах и ремесленники, и голытьба. Но они жили в просторных глинобитных постройках, одевались в привезенные из Индии пестрые ткани и не знали, что такое голод. Десятки, сотни кораблей под флагами самых разных стран Востока собирались у причалов восточноафриканских городов-портов — свободных, мирных, процветающих.
Это поразило, обескуражило посланцев христианского короля, но не остановило их руку, державшую меч, занесенный над суахилийскими городами.
Но Ламу, один из древнейших среди них, чудом уцелел…
Глава сорок восьмая
Суахилийские часы ведут отсчет времени от восхода солнца. — Удивительные приключения музыкального рога сива. — Напоминание о временах, когда закавказцы правили Египтом. — Всемогущий Ибрагим-бей был кахетинцем Абрамом Шинджикашвили. — Грузинский купец скупает у суахили слоновую кость. — Турецкая армада у восточноафриканского побережья. — Быть может, грузином был и бывший мамлюк Амир Али-бей, освобождавший города Савахила от португальцев? — Загадочный Ираклий с острова Фаза. — Ламу, Пате и Момбаса приветствуют Али-бея. — Кровавая месть Лиссабона
…Солнце выкатилось из-за океана, спрятались крабы, и появились чайки, с криком принявшиеся за рыбную ловлю. Из прибрежных хижин вышли бородатые, в ярких клетчатых юбках мужчины. Пересекли пляж, забрались на борт доу, увидев меня, удивленно подняли брови, спросили по-арабски: «Ты что, белый, бездомный?» Я объяснился, как мог. Бородачи заулыбались и, дружески помахав мне на прощанье рукой, принялись чинить паруса.
Когда я добрался до города, он уже проснулся, хотя часы на набережной показывали начало первого. Часы были солнечные, сооруженные еще в старые добрые времена. Это единственные часы во всем городе. По ним до сих пор живет Ламу. А показывают они суахилийское время, отсчет которому ведется с восхода солнца, «просыпающегося» в этих широтах ровно в шесть. На моих наручных часах было четверть седьмого.
— Бвана Кулики, — неожиданно донеслось мне в спину из открытой двери музея. — Бвана комиссар увидел мою запись о вашем визите и просит зайти к нему, — сообщил мне вчерашний знакомец, полицейский. — Он сейчас здесь, в музее.
Комиссар помнил меня не столько как лицо официальное, сколько как «жертва» ночной автомобильной катастрофы, в которую он как-то попал на шоссе, соединяющем побережье с Найроби. Случилось так, что я проезжал мимо его разбитой машины первым, предложил свою помощь и подвез до столицы.
— Что, тянет под старую крышу? — поздоровавшись, осведомился я.
— Дела есть под старой крышей — передача имущества. Вы же помните, что последние годы хотя дом этот и именовался комиссариатом, но больше походил на музей. Многие экспонаты, что его украшают сейчас, находились на тех же местах под надзором полиции. Кое-что еще меня просили одолжить для выставки в Западной Европе. Теперь возвращают мне, а я — музею. Вот сегодня, с утра пораньше, хочу водворить на законное место сиву.
С сивой я был «знаком» еще до ее европейского путешествия. Это — музыкальный рог, традиционный духовой инструмент многих прибрежных племен, со временем приобретший на архипелаге ритуальное значение и ставший символом правителей Пате и Ламу.
— За обладание этой сивой, вырезанной из двухметрового бивня слона, украшенного затейливой резьбой и бронзовыми аппликациями, шла непрекращающаяся борьба между Пате и Ламу, — рассказывал комиссар. — На первых порах сива оказалась в руках у Набхани. Но предание гласило: править архипелагом и подвластными ему землями могут только те, кто владеет сивой.
— Таким образом, древние предания провоцировали войны? — вслух подумал я, вертя в руках тяжелый резной бивень.
— История с сивой — одно из объяснений того, почему португальцам удалось покорить суахилийские города. Между ними не было единства. Редко жили в мире и Пате с Ламу. Со временем получилось так, что политической властью располагал Пате, а экономическая сила, деньги и доу были здесь, в Ламу, активно торговавшем с материком.
Комиссар протягивает мне другой, не менее тяжелый и выглядевший не менее древним рог. Тоже резной, богато украшенный бронзой с вязью арабских букв.
— Это рог буфалло, который в Ламу провозгласили священным. Его использовали для обнародования приказов правителей. Надпись на нем переводится так: «Владыка идет встретить вас. Власть над народом принадлежит ему». Эксперты из Британского музея, изучавшие надпись, пришли к выводу, что это цитата из одного высказывания мамлюкского правителя Египта. Чем глубже ученые занимаются историей архипелага и подвластных ему земель Савахила, тем больше они убеждаются в том, что мировой столицей, на которую в XIV–XV веках ориентировались суахилийские города, были не Багдад, Дамаск, Оман или Маскат, а Каир. Говорят, тогда в Египте правили ваши соотечественники? — лукаво улыбнувшись, спросил комиссар, придав нашему разговору неожиданный поворот.
— Ну это некоторая натяжка, — засмеялся я. — Хотя… Ведь до конца фатимидского периода, то есть до конца XII века, в мусульманском Египте численно преобладали христиане, и это заставляло каирских халифов для соблюдения «баланса религий и сил» править страной с помощью армянских визирей и полководцев. В начале же XIII века, уже при Айюбидах, султаны стали широко использовать в своей армии рабов-мамлюков из Восточной Европы и Закавказья. Другим источником пополнения солдатских рядов были рабы из Тропической Африки. Так что кто знает, быть может, русские и суахили установили свои первые контакты уже тогда…
— Вот видите, я кое-что смыслю в истории, — довольно кивнул комиссар. — Живя в Ламу, трудно ею не заинтересоваться. Продолжайте, продолжайте.
— Но вскоре мамлюки вышли из повиновения, восстали и в самой середине того же XIII века захватили власть. С тех пор египетских султанов начали выдвигать из числа тех, кто свою родословную вел от половцев и жителей Кавказа. В конце XIV века среди них выдвинулись черкесы, правившие Египтом полтора столетия. Под их властью находились огромные территории, включая красноморское побережье Судана, а их купцы, правда не без помощи оружия, установили торговлю с Восточной Африкой.
— А потом, насколько мне известно, Египет подпал под влияние Турции. В Каире тогда с комфортом обосновался турецкий паша? — как мне показалось, не без задней мысли уточнил комиссар.
— Да, это произошло в первой четверти XVI века, — припомнил я. — Но мамлюки неплохо ладили с янычарами, и вскоре их влияние вновь пошло по нарастающей. Бей и эмиры из числа черкесов, абхазов, мегрелов, лазов, других кавказских народов, а также выходцев из украинских и южнорусских степей, принявших ислам, от имени Порты правили многими прибрежными городами и целыми провинциями в Африке и на Ближнем Востоке, которые могли посещать суахилийские купцы. Со временем, в XVIII веке, особую власть в военной верхушке мамлюков получили грузины.
— Грузины меня особенно и интересуют, — удовлетворенно кивнул головой комиссар. — Что вам о них известно?
— Помнится, что грузины организовали затем восстание против паши. Ими руководил абхаз шейх Али-бей, к концу своей жизни ставший каирским самодержцем.
— Али-бей? — встрепенулся комиссар. — Когда же он жил?
— Я помню лишь, что в начале 70-х годов XVIII столетия, несмотря на поддержку русского флота и палестинцев, он потерял власть.
— Тогда это не наш Али-бей, — разочарованно промолвил мой собеседник. — И на этом влияние грузин иссякло?
— Нет, скорее усилилось. Мамлюки, известные своей доблестью и смелостью, сумели не только отразить попытки Турции восстановить свое влияние в Египте, но и расчистить себе путь к власти в Ираке. В Багдаде в конце XVIII века правил грузин Сулейман-паша, в Каире — грузины Мурад-бей и Ибрагим-бей.
Я не стал докучать комиссару деталями, вряд ли для него интересными. Но грузинский артиллерийский офицер Манучар Качкачишвили, отправившийся в 1786 году в Каир навестить своего умирающего дядю, признал во всемогущем Ибрагим-бее кахетинца Абрама Шинджикашвили, уроженца деревни Марткоби. Он вершил судьбами Египта, опираясь на «союз побратимов» — правящую мамлюкскую верхушку, состоявшую из 18 беев. Среди них было 13 грузин, два чеченца, черкес, молдаванин и казак из украинского Бахмута[31]…
— Лихие были ребята, — прищелкнул языком комиссар. — Кое-кто, как мне представляется, и у нас успел побывать.
— Не может быть?!
— Может, может, — смеясь, проговорил комиссар. — Для меня приобщение к «грузинской теме» началось вот с этой надписи на сиве. «Почему мамлюки, почему Каир?» — спросил я себя, познакомившись с письмом из Британского музея. Ведь всегда считали, что города нашего архипелага ориентировались на мусульманские центры Аравии, а не на Каир. Я начал перебирать старые бумаги. Благо, все было под рукой — вы же видели, что до создания музея в моем офисе хранились и антиквариат, и архивы, и книги. Как-то в руки мне попала бумажка, чудом уцелевшая от времен появления здесь португальцев. В ней речь шла о том, что правитель селения Ходжа — это в самом устье реки Тана, к северу от Малинди, — в 1506 году категорически отказался признать власть португальцев. Он мотивировал свой отказ тем, что «находится под протекторатом халифа, великого правителя Египта», и поэтому не желает «иметь какое бы то ни было дело с людьми, которые препятствуют каирским купцам путешествовать в Индию». К документу, написанному по-португальски и представлявшему, очевидно, нечто вроде рапорта командира действовавшего в этих местах португальского отряда своему начальству, была приложена бумажка. Цифры на ней были обычные, а буквы — ни на что не похожие. На этой же бумажке, тоже по-португальски, было написано: «Конфисковано у купца Захира, торговавшего в стране Малинди».
Я послал документ с бумажкой в Лондон. Больше я их не видел. Но через несколько месяцев оттуда пришло письмо. Меня благодарили за «интересную находку» и сообщали, что удивившие меня буквы — грузинские. Запись содержала перечень купленных вдоль реки Тана слоновых бивней и их стоимость.
— Получается, значит, что грузинский купец заготавливал здесь для Египта слоновую кость, — подытожил я.
— Получается… Признаюсь, что до того, как получить это письмо, я понятия не имел о существовании Грузии. Найдя ее затем на географической карте, я так удивился появлению в XVI веке выходцев из этой далекой страны в Савахиле, что вновь написал в Лондон. Я предложил вернуть в Ламу мою «интересную находку», а заодно попросил сообщить: что известно о грузинах в Восточной Африке.
— Ну и что же?..
— На вторую часть моего письма — скорее всего, чтобы компенсировать бездействие по поводу первой его части — ответ пришел довольно быстро. В нем речь шла тоже о мамлюках, и выражалось мнение, что один из них, Амир Али-бей, вошедший в историю суахилийского побережья, был грузин. В письме упоминался также «ставленник Али-бея в Фазе, которого звали очень распространенным в Грузии именем — Ираклий». Сначала Амир Али-бей был египетским мамлюком, но потом каким-то образом оказался на службе у Турции. В суахилийской традиции он, однако, известен не как предводитель турецкой армады, громившей корабли португальцев, а как вольный корсар, освобождавший города Савахила и помогавший их населению залечить раны войны.
Чтобы читателю было легче разобраться в сложных перипетиях суахилийского прошлого, я сделаю небольшое отступление и коротко расскажу о событиях, которые предшествовали выходу на арену истории новоявленного для нас мамлюка Амир Али-бея, или, как его иногда называют, Мирале-бея.
Когда в 1505 году португальские парусники впервые появились напротив той самой набережной, где мы вели разговор с комиссаром, правитель Ламу, наслышанный о мощи их пушек, решил не вступать в бой, а откупиться. Признав протекторат Лиссабона, султан согласился платить пришельцам ежегодную дань в 600 метикалов, причем первый взнос оплатил немедленно венецианскими монетами. Так Ламу избежал разрушений. Пате сопротивлялся, но вскоре сдался на милость победителя. Легенда гласит, что, прежде чем принять это тяжелое решение, фумомари выслушал купцов, накануне вернувшихся с юга. Они рассказали ему, что все островные суахилийские города, не подчинившиеся христианскому королю, лежат в руинах.
Покорив подобным образом все восточноафриканское побережье, португальцы тем не менее не смогли извлечь выгод из этого впервые достигнутого объединения. Захват Индии и стремление во что бы то ни стало прибрать к своим рукам дело местных купцов привели к закату торговли. Не зная рынка, не имея никакого представления о внутриматериковых партнерах Момбасы, Ламу и Пате, португальцы запретили местным купцам продолжать их деятельность, а потом ввели монополию торговли для своих купцов, которой так и не смогли воспользоваться. Нарушив экономические связи побережья с внутренними районами, они лишили источников богатства не только суахили, но и самих себя. Власть немногочисленных португальских гарнизонов распространилась лишь на очень узкую приморскую полосу. Отношения с ее обитателями, особенно на религиозной почве, были весьма натянутыми. И если в южной части побережья португальцам длительное время все же удавалось поддерживать свое влияние, то в северной захватчикам нередко приходилось занимать оборонительную позицию.
В 1528 году в Момбасе, успевшей вновь отстроиться, поднялось первое восстание против португальцев. В 1569 году произошли антипортугальские выступления в Пате. Они были инспирированы Турцией, которая, закрепившись в Египте, на Аравийском побережье и получив выход в Красное море, пыталась поднять мусульманское население Восточной Африки против португальских соперников. Тогда-то вдоль Савахила и начал свои рейды Амир Али-бей.
— В английской литературе мне приходилось читать, что Амир Али-бей был послан для того, чтобы поднять местное население на джихад — священную войну против католиков, — продолжает комиссар. — Однако хотя я сам и мусульманин, но уверен: даже сейчас, а не то что четыреста лет назад побудить жителей побережья взяться за оружие из религиозных соображений нельзя. Суахили тогда боролись за свободу, а не за право бить поклоны Аллаху. Еще до того, как Амир Али-бей прибыл в Ламу, местные жители захватили в плен Року де Бриту — гостившего в городе наместника Лиссабона в Восточной Африке. Когда Али-бей высадился в Фазе, население города провозгласило одного из его солдат своим правителем. Это, очевидно, и был грузин Ираклий, или Акли-бей исторических легенд, сохранившихся на этом острове до наших дней.
В Пате Али-бей получил заверения в том, что жители города восстанут против португальцев, в случае если на их стороне выступит турецкий флот. Султан Момбасы попросил оставить в его городе турецкий гарнизон. Повсюду население прибрежных городов начало нападать на португальские крепости, передавая захваченную добычу Али-бею. Его корабль покинул Восточную Африку, нагруженный ценностями, в оплату которых турки обещали вернуться с оружием в руках для борьбы против португальцев.
Лиссабон не преминул отомстить. Прибывшие из Гоа каратели вновь разграбили Момбасу и сровняли с землей Фазу, с беспрецедентной жестокостью вырезав все ее население. Акли-бей пытался в бочке для соли переплыть пролив и добраться до Ламу, с тем чтобы предупредить его жителей о приближающейся опасности. Однако бочку заметили с португальской лодки, настигли и утопили… Затем португальцы приказали вырубить все рощи кокосовых пальм, окружавшие Фазу, а город разрешили разграбить жителям Пате.
В 1588 году Али-бей возвращается на суахилийское побережье во главе эскадры из пяти кораблей. И снова все разыгрывается по прежнему сценарию. Местные жители устраивают ему восторженные встречи и поднимаются на борьбу против португальцев. Затем подоспевшие из Гоа конкистадоры вешают его сторонников и разрушают то, что не успели уничтожить раньше. На Манда португальцы не нашли ни одного жителя — все предусмотрительно бежали с острова на материк. Вокруг Пате была уничтожена окружавшая город каменная стена, воздвигнутая из гигантских блоков известняка еще в X веке. Карательные меры затронули на сей раз и Ламу. Его правителя, Бвану Башира, четвертовали на глазах у султанов Пате, Сийю и Фазы, а останки запретили предать земле. В Ламу был заложен форт и оставлен сильный гарнизон…
Глава сорок девятая
Полицейский комиссар применяет исторические познания на практике. — Введение в мир суахилийских дверей. — Дверь — это кредо хозяина дома. — Орнаменты, полные многозначительной символики. — Древние доски под охраной закона. — «Баджун» и «занзибарский стиль». — Мог ли такой народный промысел родиться в безлесной Аравии? — Вспомним о ритуальных столбах «кайя». — Искусство, передающее существо африканской натуры. — В мастерской резчика Шканды
Комиссар говорил скорее как ученый-эрудит, чем офицер полиции. На мой вопрос, не историк ли он, комиссар усмехнулся:
— Разве у полицейского нет других интересов, кроме как ловить карманников и домушников? С этим делом у нас давно тихо. Поэтому я стараюсь охранять древности Ламу. А чтобы понимать, что нужно охранять, надо знать прошлое. Не так ли?
Я согласился, поинтересовавшись, как конкретно полиция применяет свои исторические познания. И тогда комиссар рассказал мне еще об одном интересном факте, проливающем свет на суахилийскую историю и культуру.
— Вы слышали когда-нибудь об искусстве орнаментации древних дверей на побережье? — спросил комиссар.
— Не только слышал, но давно интересуюсь этим ремеслом. На Занзибаре и в Момбасе перефотографировал чуть ли не все старинные двери.
— Тогда нам будет легче разговаривать, — оживился он. — Потому что многие приезжие, когда речь заходит о дверях, недоумевают. Ну что, дверь? Простой кусок дерева, сбитые доски. А ведь на побережье дверь — это настоящее произведение искусства, исторический памятник. И кроме того, кредо владельца дома, вход в который она открывает или закрывает.
Я недоуменно поднял бровь…
— Да, да, кредо, — настойчиво повторил он. — Я не знаю, как определяется слово «дверь» в Толковом словаре русского языка. Но согласно Оксфордскому словарю английского языка, дверь — это всего лишь прикрепленный петлями или выдвижной барьер, обычно из дерева или металла. Дверь используется для закрывания входа в дом, комнату, сейф и т. д. А из Толкового словаря языка суахили вы еще узнаете: «Дверь может быть только деревянной и непременно украшенной орнаментом — растительным или абстрактным. Дверь служит для того, чтобы дать входящему представление об индивидуальности и экономических возможностях ее владельца. Она также используется, чтобы закрывать вход в здание, комнату и т. д.». Чувствуете разницу, — довольно усмехнулся комиссар, возвращая на полку толстый словарь. — У европейцев дверь — всего лишь элемент строительной конструкции, у нас, у суахили, — это визитная карточка того, в чей дом вы входите. Быть может, в Момбасе и на Занзибаре этого понять уже и нельзя. Но у нас с помощью двери как бы устанавливается первый контакт между посетителями дома и его владельцем. Украшения дверей дают жителям архипелага возможность проявить свою индивидуальность на обезличенных, повсюду одинаковых фасадах домов традиционной застройки. Уверен, что мало где в мире дверям придается такое большое значение, как на архипелаге. Орнаментация дверей — это целая философия.
Нас прервал телефонный звонок. Из отрывочных распоряжений я понял, что на Манда задержана группа западно-германских юнцов. Они проникли на почти ненаселенный остров под видом нудистов, а на самом деле занялись перекупкой «бханга» — наркотической травы, переправляемой через остров на Восток сомалийскими рыбаками.
— Вот так-то, — положив трубку, почесал затылок комиссар. — Есть, конечно, иностранцы, знающие цену суахилийским дверям. На Занзибаре и в Момбасе настоящих старых дверей осталось очень мало. Но здесь, в редко посещаемом Ламу, их еще можно найти. И, прослышав про это, любители древностей одно время повадились к нам: кто как турист, кто как нудист. Походит день-другой по городу, найдет хорошую дверь, сторгуется с хозяином дома и увезет ее. Вот мы и занялись их спасением. Пока правительство подготавливало и принимало закон, запрещающий иностранцам приобретать старые двери, мы облазили весь остров, пронумеровали, описали их.
— Но ведь правительство все же приняло «Закон о дверях». Так что теперь они спасены?
— Как сказать. Закон запрещает вывозить с Ламу лишь старые двери. А что такое «старая дверь»? Не обманывает ли нас какой-нибудь антиквар, вымазав лаком и отполировав древность? Вот этим-то мы и занимаемся.
Прощаясь, комиссар дал мне адреса «самых интересных» дверей в Ламу, посоветовал зайти в мастерскую Абдаллы Шканды, единственного, по его словам, во всей Восточной Африке человека, кто еще помнит секреты настоящих дверей, напомнил о том, что в Ламу сейчас работают два крупнейших знатока суахилийской истории — Джеймс Аллен и Нэвилл Читик. «Где первый — не знаю, а Нэвилла скорее всего найдете на Манда. Он ведет там какие-то раскопки», — напутствовал меня комиссар.
Я решил начать с дверей. Первая значившаяся в комиссарском списке красовалась у парадного входа в музей. Огромная, двустворчатая, из полированного эбена, с пятьюдесятью надраенными до ослепительного блеска медными шипами. Такие шипы, по мнению домовладельцев, должны были отпугивать злых духов и недоброжелателей. Чем больше блестящих шипов, тем безопаснее чувствовали себя обитатели дома.
Музейная дверь была чересчур парадной, ухоженной, поэтому даже не выглядела старой. Но другие двери — на невзрачных, покосившихся известняковых домиках внушали уважение. Кто знает, сколько провисели они на позеленевших бронзовых петлях: двести, триста или пятьсот лет? Дождь смыл с них краску и лак, ветер отполировал, солнце осветлило. И в результате еще лучше заиграло то, что обыгрывали, подчеркивали, старались выделить старые мастера, — текстура, игра света и теней. Затейливый орнамент вдруг обрывается, сохраняя природный рисунок древесины, или изгибается, делая своей частью сучок.
Орнамент и на раме и на створках — удивительно сложный. Как будто на дерево наклеили кружева. Рисунок никогда не повторяется. Мотивы его, как правило, еще доисламские. Они были полны значения для жителей Ламу. Вплетенные в орнамент изображения финиковой пальмы сулили изобилие, ветвистые стволы пальмы дум обеспечивали успех, листья лотоса уберегали женщин от бесплодия, извивающиеся цепи гарантировали безопасность.
В самом дальнем конце Ламу я набрел на очень старую, изъеденную червями, выбеленную морскими ветрами дверь с позеленевшими от времени редкими шипами. Главным элементом орнамента на ней были волнообразные линии, символизирующие океан, и рыбы — около шестидесяти различных изображений рыб, перевитых в сложный рисунок.
Кто-то придумал, что двери в «занзибарском» стиле — это копии южноаравийских дверей, только на том основании, что их можно видеть в городах юга Аравийского полуострова. Но можно ли допустить, чтобы на безлесной аравийской земле родился такой удивительный народный промысел, да еще в масштабах, когда чуть ли не каждый второй дом имеет оригинальную резную деревянную дверь? Достаточно в пору северо-восточных муссонов, когда в Ламу прибывают аравийские доу, встать пораньше и прийти в порт, чтобы увидеть: на дно парусников укладываются сотни дверей.
На протяжении веков суахилийские мастера украшают дома южноаравийских городов своими резными изделиями. Это изумительное искусство родилось на архипелаге Ламу, оно вспоено африканской традицией обработки дерева. Нетрудно представить себе, как те, кто резали ритуальные маски и фетиши, приняв ислам, решили попробовать выразить себя в этом новом жанре…
Казалось бы, что может передать орнамент — определенное, закономерное повторение рисунка? Как правило, ничего. Но здесь орнамент передает существо африканской натуры. Он, как и все африканское искусство, полон неожиданностей.
Вот, например, дверь в узкой улочке напротив школы-медресе. Мастер методично повторяет ритм ромбов и завитушек. Одна линия ромбов, две, три, четыре… Нет, в каком-то совершенно необъяснимом месте резец мастера восстает против однообразия и вместо завитушек вписывает в ромб занятного человечка. Африканский орнамент протестует против канонов.
Абдалла Шканда, довольный, рассмеялся, когда я сказал ему об этом своем открытии.
— Те, кто делали старые двери, были настоящими мастерами, — подняв палец, назидательно проговорил он. — А резец настоящего мастера не может не проявить себя, когда того хочет сердце.
В тесной мастерской Шканды, приютившейся в конце набережной, пахло свежей стружкой, дымом и какими-то ароматными маслами. А сам Шканда в этом дымном благовонии — худой благородный старик в серебристой кофии — почему-то напомнил мне средневекового алхимика. Он разогрел на спиртовке красноватую жидкость и начал втирать ее в дерево.
— Джековое дерево, — ответил он на мой вопрос. — Самый лучший материал для таких дверей. Морской воздух не дает здесь вещам жить подолгу. А джековые стоят сотни лет. Эту дверь, конечно, можно было бы сделать и из другого материала. Ее повесят не на улице, а внутри дома, во дворце какого-то богатея.
Пока Шканда возился с пропиткой, я обошел мастерскую. Кроме дверей здесь делали модели доу (их продают туристам в Момбасе) и ремонтировали огромные сундуки, обитые медными гвоздями и чеканным орнаментом. Они — современники древних дверей. Поговаривают, что и их тоже вскоре запретят вывозить из Кении.
Шканда застучал долотом. В руках старого мастера чувствовалась сила, каждый удар точно следовал линии рисунка. Очертив рамку, он принялся выбивать в ней вязь арабских букв. Композиционно слитая с орнаментом цитата из Корана — еще один обязательный атрибут оформления дверей. Входя в дом, каждый человек волей-неволей читал надпись, воздавая хвалу Аллаху.
— А что, над дверьми помещают лишь цитаты из Корана и обязательно по-арабски? — поинтересовался я.
— Нет, в давние времена их иногда заменяли самыми мудрыми изречениями популярных местных поэтов, — не прерывая работы, ответил Шканда.
Значит, и в этом местная культура не посчиталась с догмами ислама. Эти надписи над дверьми еще ждут своих исследователей. Быть может, они окажутся самыми древними из дошедших до нас письменных памятников на кисвахили…
Глава пятидесятая
Плавание на остров Пате. — Хитрости лодочника Чуй. — Как преодолеть коварный мыс Мтангаванда? — Путешествия «как у Моравиа» не получилось. — В плену у мангров. — Вслед за вырубкой лесов прибойной зоны наступает абразия. — Периофтальмусы — рыбы, которые задыхаются в воде и вертят головой. — Поймать — дело нешуточное. — Из зарослей появляются Сайид и Абу
Несколько лет назад на архипелаге побывал итальянский писатель Альберто Моравиа: дорогостоящие поездки «туда, где остановилось время», стали модными среди знаменитостей. «Предрассветное утро. Во тьме, ощупью, выходим из пансионата и по берегу добираемся до мола. Там ждет моторная лодка, которая доставит нас из Ламу в Пате… Нам пришлось встать затемно, потому что до Пате можно добраться в часы прилива. Сейчас как раз прилив, море затопило берег, и мы шлепаем прямо по воде. В темноте виден красный огонек фонаря — там мол…
Но вот наконец и лодка — уже наступил день. Лодка арабская, изящная, архаичная по очертаниям, с высокой круглой кормой и клювообразным носом. У нее есть мотор и мачта, на которой можно закрепить прямой парус. Но мне кажется — быть может, потому, что скамьи у бортов подвижные, — будто это рабовладельческая галера. Я живо представил себе, как усталые рабы тяжело гребут, а на шелковых подушках лениво расселись два-три рабовладельца…
…Приятно смотреть на уплывающий вдаль город Ламу, там, у низкого берега. Дома Ламу словно заснули в сквозной тени изогнутых пальм, растущих пучками».
Все у знаменитого писателя описано с фотографической точностью. Да и дальнейшее мое путешествие в Пате, расположенный на одноименном острове, наверное, ничем бы не отличалось от того, что совершили итальянцы, если бы я не нарушил веками отработанный маршрут сообщения между островами. А маршрут был таким: из Ламу через пролив Мканда, отделяющий остров Манда от материка, доу идет на север, а затем, уже в открытом океане, поворачивает на восток, в гавань Пате. Меня этот путь не устраивал потому, что для осмотра города он оставляет не больше часа: потом начинается отлив. Если замешкаться, на обратном пути лодка, войдя в Мканда, обязательно сядет на мель.
Местный лодочник, бвана Чуй, занимающийся перевозкой любознательных иностранцев, придумал, ко всеобщему удовольствию, одну хитрость. Работающие на него «моряки» доставляют туристов в ближайшую прибрежную деревню на острове Пате, вокруг которой сохранились две-три развалины, и, ни слова не говоря о том, что в нескольких километрах от нее, за кокосовой рощей, прячется великий суахилийский город, заявляют: «Больше здесь смотреть нечего. Скоро начинается отлив, и, если вы не хотите остаться ночевать среди этих руин, пора поспешить». Доверчивые туристы фотографируются на фоне средневековых стен и, довольные тем, что им больше никуда не надо идти в банном пекле острова, покидают его. Довольны, естественно, и лодочники.
Должен признаться, что, попав на архипелаг в первый раз, я «купился» на хитрость бваны Чуй. Глаза на его проделки мне открыл Нэвилл Читик, который из разговора со мной понял, что, побывав на острове Пате, я ничего там не увидел.
Поэтому перед тем, как снова отправиться туда, я зашел к Чуй, чтобы договориться о путешествии без обмана. В своей конторе, заставленной моделями лодок и парусников, он выглядел настоящим капитаном дальних плаваний.
— «Без обмана» — тогда надо ночевать в Пате. А там нет приличной гостиницы, — сразу же начал отговаривать меня Чуй.
— Зато там есть приличные люди, которые не откажут в ночлеге, — парировал я.
— Целые сутки продержать замбуку[32] в Пате, — значит потерять много клиентов, — недовольно зачмокал языком Чуй. — Лодок у меня сейчас мало, люди будут недовольны.
— Я заплачу. К тому же я слышал, что возвращаться из Пате в Ламу можно и из гавани городка Фаза, обогнув остров с востока. Там ведь даже в отлив остается высокая вода. Найробийские газеты уже не раз обсуждали вопрос о создании напротив этого города, на материке, второго по значению после Момбасы глубоководного порта Кении.
— Газеты, газеты, — недовольно пробурчал Чуй. — А добираться из Пате в Фазу, через весь остров, чтобы вовремя попасть к приливу, ты будешь на осле?
— А почему бы и нет?
— Осла долго искать будешь — опоздаешь на замбуку. Тогда сразу и плыви на лодке в Фазу.
— Согласен.
— А там всегда неспокойное море. Да и идти в два раза дольше, чем в Пате. Пока замбука достигнет мыса Мтангаванда, где надо повернуть в твою Фазу, начнется тот же самый отлив, что прогоняет всех из Пате. На подходе к Фазе кругом мангры. Можно застрять среди них.
— Но можно и не застрять, — возразил я. — Ведь это вы, бвана Чуй, первым упомянули о Фазе.
— В общем, предвижу с тобой одни неприятности. Лодку сдаю в аренду на два дня. Это как минимум. Утонуть не утонешь, но без приключений у мыса Мтангаванда не обойдешься — это как пить дать. Деньги вперед.
Я рассчитался и на следующее утро начал плавание на остров Пате в полном соответствии с описанием А. Моравиа. Миновали мы даже мыс, который внушал опасения бване Чуй. Однако вода действительно начинала стремительно убывать, а сильный северный ветер стал прибивать нас к берегу. Рашиди, мой лодочник, героически пытался предотвратить столкновение с торчавшими из воды корнями мангров. Вооружившись шестом, помогал ему и я. Но в итоге наша замбука села на верхушки пружинистых мангровых корней и ростков. Мы столкнули ее раз, другой, третий. Наконец поняли, что стихию не одолеть. «Да и нужно ли? — подумал я. — Когда еще выберешь время провести минимум шесть часов в мангровом лесу и познакомиться с жизнью его удивительных обитателей».
Долго ли просуществуют эти купающиеся в волне прибоя леса при огромном спросе на мангровую жердь со стороны год от года численно растущего прибрежного населения? Уже сегодня спрос этот значительно превышает возможности природы. Некогда защищавшие от прибоя все суахилийское побережье мангры сейчас сведены вплоть до Килвы. Они сохранились лишь на далеком Мадагаскаре и чудом — здесь, на находящемся рядом с Аравией архипелаге Баджун. Произошло это исключительно благодаря высокой организации традиционной социальной жизни на архипелаге. Поняв, чем грозит островам исчезновение мангров, старейшины решили прекратить заготовку жерди на экспорт там, где леса особенно оскудели. Вырубка же для собственных нужд строго регламентируется и осуществляется с разрешения совета общины. Любой местный житель, заметивший чужака, замахивающегося топором на мангры, обязательно постарается остановить его. Конечно, кое-где мудрое решение старейшин нарушается. Тех островитян, которые уличены в этом, подвергают всеобщему презрению. А судовладельцев и купцов, скупающих древесину, называют «мангровыми пиратами».
Если приглядеться и задуматься, то мангры начинают вызывать симпатии. Во-первых, многие мангровые растения — прекрасные родители. В отличие от большинства остальных деревьев, семена которых прорастают в земле, у мангров они развиваются на материнском растении и, только превратившись в небольшое деревце, отделяются от него, падают в ил, где укореняются и начинают самостоятельную жизнь. Во-вторых, мангры играют роль возведенного самой природой «зеленого забора» между сушей и вечно стремящимся ее разрушить океаном. Они укрепляют и расширяют берег, скрепляя своими корнями ил и плавающие растения. Переплетения гибких корней и стволов мангров оказывают сопротивление действию прибоя и превращают в твердую почву ил, наносимый реками. Стоит нарушить естественное воспроизводство мангров, как хозяином побережья делается абразия — разрушительное действие прибоя. Оно катастрофическим образом уже дало о себе знать вокруг Момбасы, где ради мнимого благоустройства пляжей была полностью уничтожена растительность.
А жаль, потому что во время прилива мангры могли бы доставить немало удовольствия туристам, ради которых и ведется это благоустройство. Вновь вспомнился А. Моравиа: «…растения приобретают загадочный, странно привлекательный вид. Над самой водой безлистные змеевидные ветви переплетаются самым причудливым образом, и рисунок сплетения каждый раз новый и гармоничный. Чем-то он напоминает изящные, словно бы сплетенные каменные своды готических соборов. Сплетения веток отражаются в воде, и бесконечный лес кажется затонувшим. При каждом приливе и отливе живые узоры вздрагивают, покачиваются и, чудится, вот-вот исчезнут».
Главные обитатели этих приокеанских лесов — периофтальмусы, или рыбы-прыгуны, — препотешные создания. Здесь, у берега Пате, лес перенаселен птицами, а в каждой оставленной отливом лужице кишит своя жизнь. Но все мое внимание тем не менее поглотили эти способные задохнуться в воде рыбы.
Было очень интересно «обмениваться взглядами» с периофтальмусами, сидевшими на ветвях мангров, почти на уровне кормы нашей замбуки. Забавно приподнимая свои бульдожьи «морды», прыгуны пристально вглядывались своими выпученными красными глазами прямо в мое лицо. Когда же я вышел из лодки, сидевшие поблизости рыбы с перепугу плюхались в воду, а те, что находились подальше, поворачивали шею и с любопытством наблюдали за каждым моим шагом.
Иногда, правда, наблюдение за мной поручалось лишь одному глазу, в то время как другой, уставившись в противоположную сторону, принимался выслеживать добычу. И способность рассматривать обоими глазами, и умение вертеть головой, столь несвойственное рыбам, не говоря уже о пристрастии к отдыху на ветке, опершись на нее цепкими плавниками и опустив вниз длинный хвост, заставляли принимать прыгуна скорее за птицу.
Забираясь на ветку или копаясь в иле, рыбы казались довольно неповоротливыми. Широко выбрасывая вперед сначала один, потом другой боковой плавник, периофтальмусы затем лениво подтягивали за ними свое зеленовато-коричневое пятнистое туловище длиной до четверти метра. Потревоженные мною, они предпочитали перепрыгнуть с ветки на ветку, но не падать в воду. Попав же туда, прыгуны тотчас же высовывали наружу свои физиономии, а затем вновь выбирались на илистые островки.
В общем, эта удивительная рыба явно предпочитала океану сушу. Хотя периофтальмус конечно же умеет отлично плавать, просидев долгое время в воде, он задыхается. Дыхательные органы прыгунов представляют собой своеобразное сочетание жабр и легких; к тому же некоторые части тела, особенно хвост, устроены так, что помогают рыбе дышать через кожу.
С трудом вытаскивая ноги из чавкающего черного ила, я подкрался к отвернувшемуся от меня прыгуну и схватил его за хвост. Но он в тот же момент выскользнул из моих рук и вместе со своим владельцем ушел в лужу. При следующей попытке я действовал более решительно — прыгнул сам. Но тут же поскользнулся и, не долетев до рыбки нескольких миллиметров, плюхнулся в ил. Прочистив глаза от черной жижи, я отметил про себя, что, быть может, теперь защитная окраска моего тела будет способствовать охотничьему успеху. Собравшись в комок, я направился к большому жирному периофтальмусу, который выглядел так, будто уже наполовину изжарился на солнце. И по-моему, я поймал его, но тут же споткнулся и вновь принял грязевую ванну.
Рашиди, сидя в лодке, буквально покатывался со смеху. Говорить, что именно его хохот мешает моей охоте, я не стал. Однако ее успех сделался для меня уже делом чести.
Заметив, что множество прыгунов отдыхает на дне небольшой лужицы, я начал ловить их в воде. Рыбы были спокойны до того момента, пока я не прикасался к их слизистому телу. Когда же я это делал, они молниеносно закапывались в ил. Я судорожно копал его, обдавая себя водой и грязью, но все безуспешно.
— Бвана, прыгунов надо ловить на рубашку, — корчась в конвульсиях смеха, еле выговорил Рашиди.
Выбравшись из замбуки и растянув свое одеяние под мангровым деревом, он несколько раз с силой тряхнул его. Два прыгуна тотчас же стали нашей добычей, с десяток попадало мимо.
Наверное, войдя в охотничий азарт, мы раскричались уж слишком громко, потому что вскоре из мангровых зарослей появились два старика с испуганными лицами и спросили, чем могут помочь. Пока я не смыл в лужах ил, буквально облепивший меня с ног до головы, старики относились ко мне несколько подозрительно. Однако, когда я совсем побелел, а Рашиди рассказал, при каких обстоятельствах мы стали ловцами рыб-прыгунов, старики заулыбались и представились: «Бвана Сайид, бвана Абу».
Из объяснений стариков следовало, что ветер отнес нас в залив, глубоко вдающийся с севера в остров Пате. Это приблизило нас к городу Пате, на юге острова, как раз напротив того места, где мы сейчас находились. Бваны обещали довести меня до города за полтора часа. Если же дожидаться прилива, а затем плыть в Фазу, уйдет часов шесть. Так что был полный смысл оставить Рашиди в лодке и довериться старикам.
Глава пятьдесят первая
Пешком через Фазу. — Чтобы остров оставался самим собою, коров отсылают пастись на материк. — Примета суахилийской деревни — чистота и порядок. — «Нельзя опускаться ниже того уровня, который предопределен человеку природой». — «Мвалиму» значит «наставник народа». — Легенда, отраженная в современности. — Как на побережье появились мертвые города? — Оманские корабли на рейде Момбасы. — Савахил освобождается от португальцев, — Начало «золотой поры» суахилийской цивилизации
Пеший переход по Пате — очень приятная прогулка. Никакие опасности не подстерегают здесь романтически настроенного иностранца: ни «воинственных дикарей», ни свирепых хищников, ни даже ядовитых растений нет и никогда не было на острове. Тропка проложена сквозь плантации кокосовой пальмы, иногда попадаются заросли одичавших бананов, а то и небольшие островки леса, всюду легко преодолимого, без колючек и лиан. Правда, проходя мимо одной из деревень, мы повстречали мужчину с дробовиком наперевес.
— Это единственный на весь остров охотник на дикобразов, — ответил на мой вопрос бвана Абу. — Они очень вредят нашим полям. Крестьяне складываются по нескольку шиллингов в месяц и платят охотнику, который обязан систематически посещать каждую деревню. Иногда ему приходится провести на пальме несколько ночей, прежде чем разделаться с хитрым зверем.
Несколько раз тропка огибала небольшие селения, застроенные прямоугольными белыми домами из известняка. Вокруг — поля маиса, сезама, кассавы, посадки папайи, увешанной плодами-дынями, но почти лишенной листьев. Поодаль — огромные деревья манго и кажу, под кронами которых может разместиться целое селение.
Обогнавшие нас на тропе крестьяне с большими тяжелыми картонными ящиками на головах, перебросившись парой фраз с моими провожатыми, проследовали дальше.
— На рынок? — полюбопытствовал я.
— Нет, домой, с пристани. Еще вчера вечером там пришвартовалась доу с навозом. Теперь крестьяне разносят его по своим полям на удобрение.
— Самади?[33] — переспросил я, так как, сколько ни ездил по Африке, не видел, чтобы крестьяне вносили органическое удобрение в почву даже в тех деревнях, где есть скот.
— Так, так, бвана, — подтвердил Абу.
— А что, своих коров у островитян нет?
— Это очень маленький остров, бвана, — последовал ответ. — Наши люди пришли к выводу, что если у нас будет столько коров, сколько нам надо, то Пате скоро превратится в скотный двор. А если мы еще будем разводить и коз, то они съедят все молодые побеги, и эти изумрудные рощи станут желтой пустыней. Не так ли, бвана?
— Так-то так, — согласился я. — Но тогда вы вынуждены покупать не только навоз, но и молоко, и мясо.
— Нет, бвана, коровам, которые дают молоко для наших детей, мы построили загон. Все мужчины, которые имеют детей, носят им туда траву. А остальных коров мы перевезли на материк. Наши старейшины договорились со старейшинами сомалийцев, живущих напротив архипелага. Эти люди знают толк в скотоводстве. Они пасут наш скот. За это мы отдали им часть молодняка. А наш остров остается самим собою.
Я стал приглядываться вокруг и вскоре понял то, что неосознанно почувствовал, как только начал эту прогулку со стариками: вокруг было стерильно чисто и ухожено. В какой-то степени, конечно, впечатление этой стерильности создавала сама же природа: все здесь росло не на обычных для Африки буро-красных латеритах, а на серебристо-белом песке. Но на песке этом, даже вокруг деревень, не было не то что консервных банок или битого стекла, но даже естественных, растительных остатков… Кое-где я заметил лишь пирамиды из собранных кем-то пальмовых листьев и кожуры кокосов.
Я полюбопытствовал у стариков, как достигается подобный порядок.
— Пате — очень маленький остров, бвана, — услышал я ту же самую фразу. — Враги не раз превращали его в гигантскую свалку, ровняя с землей наши города и деревни, вырубая кокосовые пальмы, выжигая леса. Мы, жители Пате, не враги сами себе и нашему острову. Мы не хотим превращать его в свалку. Этому нас учат с самого детства. А старейшины следят, чтобы в четверг, перед тем как пойти на пятничную молитву, все, у кого есть силы, поработали на благо острова.
«Вот это, наверное, и есть проявление многовековой культуры, истинная культура общества», — подумал я. И, как бы уловив мою мысль, подал голос молчавший все время Сайид.
— Люди у нас довольствуются малым в быту, но не разрешают себе и другим опускаться ниже того уровня, который предопределен человеку самой природой, — проговорил он. — Это путь нашей жизни. Если бы мы шли иным путем, ни от острова, ни от его жителей ничего бы не осталось за те долгие века, что Пате пришлось сражаться с сильными мира сего…
Это было уж слишком. Я мог допустить, что полицейский комиссар, долгое время проработавший в музейной обстановке старого особняка, превратил историю в свое хобби. Но Сайид, по виду обычный крестьянин, случайно повстречавшийся среди мангровых болот, — в роли философа?..
— Бвана Сайид, наверное, учитель? — предположил я.
— Мвалиму[34]…— иронически повторил он, и по его тону я сразу же уловил, что старик понял подоплеку моего вопроса. — Мзунгу[35] думает, что со старым африканцем в застиранной канзе только и можно говорить, что о том, как сорвать кокос с дерева.
Отпираться было глупо, и я решил промолчать. Однако бвана Сайид, почувствовав, в сколь деликатное положение я попал, чуть погодя сам вернулся к этому разговору.
— Вот вы сказали — «мвалиму». Я никогда не стоял перед учениками, сидящими за партами, и не писал на черной доске мелом. Поэтому я не учитель в вашем, европейском понимании. Я не представитель той нарождающейся вастаарабус[36], за которого вы меня приняли. Вы слышите: в этом слове звучит корень, указывающий, что образованность когда-то связывалась в представлении суахили с арабами. Не потому, что мы были дикарями, а потому, что арабы знали многое из того, чего не могли знать мы: арабский язык и Коран, например.
Но у нашего народа задолго до того, как здесь появились мусульмане, был обычай: в каждой деревне из среды соплеменников выдвигался человек — иногда его даже выбирали, — много повидавший на своем веку, ездивший по белу свету, немало переживший и обязательно знающий грамоту. К нему всегда можно было прийти за советом, спросить его, как и зачем жить. Традиционно, гораздо раньше, чем на архипелаге появились парты и грифельные доски, слово «мвалиму» употреблялось именно применительно к таким людям. Это были советчики, наставники соплеменников. У первого президента Танзании, Джулиуса Ньерере, был даже официальный титул «мвалиму». Иностранцы объясняли это тем, что Ньерере имел педагогическое образование. Но не в этом дело. Мвалиму Ньерере наставлял народ в том, как жить в условиях независимости.
— Что же тогда мвалиму Сайид и бвана Абу делали в мангровом болоте? — поинтересовался я.
— Давали советы, — отшутился Абу.
Но мвалиму счел нужным рассказать поподробнее.
— Остров у нас маленький, но страсти среди людей бушуют большие. Послезавтра на Пате должны играть свадьбу. На шестнадцатилетней девушке женится местный лавочник бвана Азан, который даже в сыновья-то мне не годится из-за своего солидного возраста. А девушку любит молодой парень из Пате. Чтобы помешать свадьбе, он залез в самое гиблое место мангровых топей и сидит там уже неделю.
— Это зачем же? — удивился я. — Не лучше было бы бороться за сердце девушки в деревне?
— Это у нас — традиционная форма протеста. Как я знаю, у одних народов отвергнутые женихи убивают соперника, у других — кончают жизнь самоубийством, у третьих — голодают или не спят ночами. А у нас — мучаются среди мангров, как бы доказывая избраннице свою любовь и волю. Их заливает соленая вода, палит солнце, трясет озноб от ночного холода, кусают комары, жалят медузы, щиплют крабы. Если у девушки есть хоть какие-то чувства к такому мученику, она обязательно сжалится и даже в последний момент откажется от свадьбы.
— Есть какое-нибудь объяснение этому обычаю?
— Многое объяснить могут легенды. Та, которую я вам расскажу, имеет, правда, под собой историческую основу. Когда в конце XVII века португальцы были изгнаны из наших мест и их место заняли оманские имамы, на острове появился похотливый наместник — араб. Он завел себе большой гарем, в который свозили красавиц со всего архипелага. Поймали для него и девушку, в которую был влюблен парень по имени Лионго. Он, надо отдать ему должное, узнав об этом, не побежал первым делом в болото, а пригрозил убить арабского наместника. Тот приказал схватить Лионго, заковать в кандалы и бросить в океан. Тогда, спасаясь от преследователей, Лионго и спрятался в мангровых зарослях. Оттуда через верных друзей он утром и вечером подавал возлюбленной о себе вести, расписывая муки, в которых он проводит время, и призывая девушку убежать из гарема, добраться до мангровых болот, а оттуда — уплыть подальше.
В конце концов она вняла его призывам, Лионго обрел любимую жену. Такова легенда…
— Но скорее всего, воссоединиться им помогло не мангровое болото, а то, что девушка любила парня и не хотела оставаться в гареме, — предположил я.
— Именно это я и вдалбливал в голову нашему парню. Но он, как и многие у нас, понимает легенду по-своему. Люди ведь всегда ищут необычное в обычном.
Мы приближаемся к Пате. Больше стало вокруг полей, расчищенных от леса пространств, гуще стала сеть тропинок, отходивших от нашей тропы, чаще стали попадаться люди.
Что надо знать об этом городе, чтобы заговорили его развалины, чтобы стал понятен быт его жителей, называющих себя патти? Да и как вообще жило суахилийское побережье после того, как его покинули корабли под командованием Али-бея — грузина, помогавшего местным жителям избавиться от португальских завоевателей?
Пока мы шли мимо каменных руин, со всех сторон окружающих город, пока мвалиму Сайид и бвана Абу подолгу жали руки каждому встречному, рассказывали, кто я такой, и обсуждали, что со мною делать, пока в ожидании решения своей судьбы я сидел под развесистым манго на базарной площади, а старики устраивали мои дела у какого-то местного начальника, у меня было время вновь вспомнить историю.
Успешные рейды Али-бея и та поддержка, которая была ему оказана местным населением, заставили португальцев сделать вывод: необходимо укреплять оборону.
Спасаясь от поборов, горожане бежали в глубинные районы. Некогда процветавший Геди к 1600 году стал мертвым городом. Килифи, Манда, Сийю превратились во второстепенные селения, которым больше так и не было суждено вернуть себе блеск и богатства времен расцвета суахилийской цивилизации. Попытки Лиссабона восстановить торговые отношения между побережьем и внутренними районами наталкивались на сопротивление местных купцов, не желавших сотрудничать с захватчиками-христианами. Экономика разграбленных городов не только не восстанавливалась, но все более и более приходила в упадок. Если в 1500–1528 годах Восточную Африку в среднем посещало до десяти португальских кораблей, то в 1529–1612 годах — в среднем шесть, причем были годы, когда в суахилийские порты не заходил ни один европейский корабль. Слоновой кости и черепахового панциря, отбираемых у населения, едва хватало на покрытие расходов по содержанию гарнизонов. Жестокость португальцев, по свидетельству их собственных хроник, приводила к тому, что «население городов было готово в любой момент поднять восстание».
В 1614 году поборами представителей «христианского короля» возмутился ранее покорный им султан аль-Хасан ибн Ахмад, отправившийся с жалобами к вице-королю в Гоа. Но по возвращении он был убит. Его наследник Юсуф ибн Хасан, известный под именем дон Жерониму Чингулиа, получил европейское образование и принял христианство. Однако в 1631 году он возглавил антипортугальский мятеж момбаситов. Почти все европейцы, а также многие арабы и суахили, принявшие христианство, были убиты.
Новые зверства португальцев не смогли сломить вольного духа жителей архипелага Ламу, который со второй половины XVII века превращается в главный центр борьбы за освобождение Восточной Африки.
Этот период совпадает по времени с усилением оманских арабов, которые в 1650 году изгоняют португальцев из Маската, а в 1652 году посылают свои корабли атаковать португальские крепости в Пате и на Занзибаре, население которых приняло их с восторгом. Королева Занзибара, король Пембы и правитель Отондо (около нынешнего Багамойо) признали суверенитет имама Омана и согласились платить ему дань, положив начало суахили-оманской коалиции против Португалии.
Высланная из Момбасы португальская флотилия изгнала оманцев, однако в это же время момбаситы, обнадеженные успехом соседних городов, направили к имаму Омана Султану ибн Саифу тайную делегацию с просьбой о помощи. В 1661 году его флот, освободивший ранее остров Фаза, обстрелял Момбасу и изгнал португальцев из города, заставив их укрыться под защитой стен Форт-Иисуса. Воины имама Омана не сумели овладеть крепостью и были вынуждены оставить восставших момбаситов.
Хотя и ослабленная, потерявшая часть своих владений, Португалия обладала еще достаточной силой, чтобы нанести новый удар по мятежным городам. В 1678 году, воспользовавшись передышкой, предоставленной Оманом, португальцы предприняли экспедицию против Пате, который был главным инициатором коалиции с оманцем Султаном ибн Саифом. Отряды д’Альмейды ворвались в город, осквернили его священную мечеть, устроив в ней свой штаб, сожгли дома, затем захватили Сийю, Манда, Ламу и казнили их правителей. Набег на Пате и соседние города был последней крупной военной операцией португальцев. Награбив много золота, серебра и слоновой кости, они начали грузиться на корабли, когда на рейде Пате появился оманский флот. Поддержанные жителями города, арабы в течение трех дней почти полностью перебили отряд капитана д’Альмейды.
Форт-Иисус оставался последним укрепленным пунктом на севере побережья, где португальцы чувствовали себя в относительной безопасности. В остальных городах одно восстание следовало за другим. В марте 1696 года сильная оманская флотилия с тремя тысячами солдат на борту, которыми командовал сам имам Султан ибн Саиф, появилась на рейде Момбасы, намереваясь приступить к длительной осаде Форт-Иисуса. Только через 23 месяца, 13 декабря 1698 года, арабам удалось захватить эту крепость, обладание которой давало Оману возможность изгнать португальцев из северной части Савахила.
Именно к этому периоду и относится возвышение Пате, расцвет в этом городе «золотой поры» суахилийской цивилизации. Почти на целое столетие города архипелага остаются предоставленными сами себе. Уход португальцев и установление тесных политических и экономических контактов с Оманом, у которого на первых порах не было сил играть роль нового хозяина побережья, в определенной степени способствовали возрождению торговых отношений с восточным миром. Широкие связи на равных с мусульманскими странами благоприятствовали расцвету ремесел и искусств.
Единственный из всех городов Савахила, так ни разу и не покорившийся завоевателям, но всегда стоявший во главе освободительной борьбы народов побережья, Пате приобретает репутацию его «культурной столицы». На остров съезжаются резчики по дереву, чеканщики, ювелиры, ткачи не только из соседних городов, но и из далекой Килвы, Мафии, Занзибара. Их руками создаются те дивные вещи, которые и сегодня поражают посетителей музея Ламу.
Именно в конце XVII — начале XVIII века, в период роста освободительного движения против Португалии и в первые годы появления арабов, когда еще не рассеялись иллюзии об обретенной свободе, происходит возрождение патриотической суахилийской литературы, новый подъем языка суахили. Подобно западноевропейским трубадурам, суахилийские нотабли устраивали между собой соревнования в стихосложении, собираясь в изысканно обставленных особняках, окнами смотревших на океан.
Попадая сегодня на улицы Пате и не зная истории, трудно, конечно, допустить, что за стенами его обветшалых домов некогда текла столь изысканная жизнь, а сам этот крохотный полусонный городок размерами и богатством соперничал в XVIII веке с бурлящей Момбасой — центром современного предпринимательства на побережье.
Глава пятьдесят вторая
Пате — маленький город с великим прошлым. — Платье-парус сегодня можно увидеть лишь на женщинах-патти. — Лучшие в мире шелка. — Радушие суахилийского дома. — В каждой комнате — коллекция кроватей. — Кресла-раритеты — инкрустированные рогом жирафа. — Местный этикет допускает и такое… — Обед, который может показаться северянину экзотическим. — Музейный фарфор в обиходе. — Прогулка по городу после сиесты. — Руины, рассказывающие о многом
Вернувшийся бвана Абу первым делом извинился за отсутствие мвалиму: «Ему еще надо давать много советов перед свадьбой», — объяснил он. Потом старик сообщил, что за неимением на острове гостиницы меня поселят в доме всеми уважаемого бваны Алиди — владельца одной из шести местных лавок. Бвана Абу сначала предложил отправиться туда, освежиться и перекусить, а уже затем идти осматривать остров.
Так мы и сделали. По дороге бвана Абу рассказал, что в молодые годы он плавал матросом на доу, бывал в Адене и Бомбее, но затем сошел на берег и стал портняжничать. Ремесло это на острове неубыточное, женщины всегда хотят быть хорошо одетыми, а модниц здесь — хоть отбавляй.
Что верно, то верно. Еще сидя под манго и наблюдая за толпой, снующей вокруг рынка, я заметил, что трудно представить себе более красочную толпу, чем в Пате. Свои национальные платья-китенги островитянки предпочитают шить из тканей, по красному или белому фону которых разбросаны огромные стилизованные цветы — обычно желтые, золотистые или синие. Резким контрастом среди них выделяются воронено-черные покрывала буибуи. И уж совсем необычными кажутся, правда не столь уж часто попадающиеся, наряды, подобных которым я никогда и нигде раньше не видывал. Впечатление такое, что в один большой, сшитый из ткани с ковровым орнаментом мешок одновременно залезли две женщины, над головами которых установлено по палке. В результате в верхней своей части этот странный балахон до пят имел М-образную форму. С одной стороны наряда-палатки была прорезь, в которой поблескивали черные глаза его обладательницы, с другой — он был глухим.
Я поинтересовался у бваны Абу, шьет ли он такие наряды и как они называются.
— Это — шираа, платье-парус, — понимающе закивал он. — Если заказывают, то шью, тут особой премудрости нет. Шираа вошли в моду у богатых местных женщин в прошлом веке, когда арабы завели здесь невольников. Сзади какой-нибудь купчихи, не желавшей обременять себя тесным платьем и чадрой, действительно шла рабыня, задыхавшаяся от духоты. Потом, когда невольников не стало, для ношения шираа придумали специальное приспособление из жердей. Но оно, говорят, неудобное. Охотников носить платье-парус почти нет; те женщины, которым по старинке нравится прятаться в одеждах, перешли на буибуи. Боюсь, под шираа, что вы видели сегодня, валяют дурака хиппи. Они-то все больше и покупают у меня эти несуразные мешки.
По дороге бвана Абу предложил мне зайти к своим родственникам. Откликнувшись на просьбу старика, хозяйка, испросив предварительно разрешения у мужа, продемонстрировала мне, как устроено платье-шираа. Когда, покидая ее гостеприимный дом, я протянул руку, желая попрощаться, она сунула мне в нее утиное яйцо. Я поблагодарил и недоуменно уставился на бвану Абу.
— У нас обязательно принято давать покидающему дом путнику что-нибудь съестное, — объяснил он. — Отказаться — значит кровно обидеть хозяев.
А вот и дом, в котором мне предстоит ночевать. Он двухэтажный: внизу расположены небольшая дука[37] и складские помещения, наверху — жилье. На второй этаж ведет отвесная наружная лестница с резными перилами, внутри дома этажи не сообщаются. «Работа от семейной жизни отделена, как ночь ото дня» — гласит местная пословица, констатирующая, что личная и деловая жизнь должны быть строго разграничены.
Судя по тому, как радушно принимал меня бвана Алиди в свое рабочее время и на первом, и на втором этаже дома, эта традиция все-таки нарушается. «Радушие — главная черта патти, — приветствуя меня у порога лавки, сказал он. — У меня счастливая судьба, потому что в моем доме всегда есть гости. А гости в моем доме всегда есть потому, что все на острове считают его самым-самым суахилийским. Возможно, у меня больше кроватей, чем в других домах. Что же касается гостеприимства, то вы его найдете в достатке под любой крышей в нашем городе».
Почему речь зашла о кроватях, я понял сразу же, как только поднялся на второй этаж. Они составляли основу основ обстановки дома и явно служили мерилом достатка его хозяина. На втором по численности месте находились стулья и кресла. Больше никакой иной мебели, если не брать в расчет нескольких обитых медью сундуков, я вообще в этом «самом-самом суахилийском» доме «самого суахилийского города» не нашел. Вот почему, когда, вернувшись в Ламу, я прочитал в новой, тогда еще не опубликованной работе Дж. Аллена, показанной мне ее автором: «Типичный дом суахили — это коллекция изумляющего вас числа кроватей и кресел», то понял, что это — не преувеличение.
Кровати, исполнявшие присущую им обычно роль, стояли повсюду. Это были массивные, широкие, из черного или розового дерева сооружения на очень высоких, в половину человеческого роста, ножках. Только тут я осознал реальность казавшегося мне гиперболическим сюжета из «Хроники Пате» о том, как одна знатная особа взбиралась на ложе к своему мужу по серебряной лестнице. Можно поверить и в то, что при подобном культе кроватей в знатных домах, воспетых одним местным поэтом, их инкрустировали золотом и слоновой костью. Таких произведений суахилийских мебельщиков, именуемых «витанда вья мтаванда», осталось очень немного. Одно время мне казалось, что увидеть их можно лишь в музеях Ламу и Могадишо да в особняках одного-двух негоциантов-арабов из Момбасы, где кровати тоже превратились в экспонаты. Здесь же, в Пате, такими «витанда» еще пользуются.
В женских комнатах стояли также музейного вида детские кровати. Их ажурные перила были сконструированы так, чтобы позабавить малышей: разноцветные шарики-погремушки скользили по перилам-перекладинам, сами перекладины откидывались и превращались в опоры, на которых можно покачаться. И все это было красным, зеленым, желтым. Мне объяснили, что еще в XVIII веке на Сийю были открыты секреты изготовления цветных растительных лаков. Они веками сохраняют цвет, вот и эти не поблекли до сих пор.
Кроме этого антиквариата дом был заставлен «улили» — лежаками в нашем понимании. Они представляют собой раму с сеткой, на очень низких ножках. Сетка сплетена из эластичного и очень прочного пальмового волокна. Улили делают самых различных размеров с таким расчетом, чтобы при необходимости их можно было вложить одна в другую и все вместе задвинуть куда-нибудь в угол. Отсюда труднопонимаемая непосвященными суахилийская пословица: «Одна улили занимает столько же места, сколько десять улили».
Кровати-раритеты стоят вдоль стен, а между ними везде, где только возможно, были втиснуты кресла. Они тоже заслуживают внимания. Материалом для них послужил трудно поддающийся обработке эбен. Поэтому все в этих креслах сочленено под прямым углом. Подобное однообразие, однако, щедро компенсируется плетением из золотистой соломки в резных спинках и подставках для ног, а также инкрустацией. В рисунке преобладает растительный орнамент, реже — силуэты сказочных птиц и зверей. Все они удивительно нежных желтых тонов.
На первых порах я подумал, что инкрустации выполнены из слоновой кости. Однако оказалось, что для них используют рожки жирафа. Их сначала на несколько недель закапывают в землю, а затем долго держат в соке манго и лимона. Это очень древний способ, имеющий еще кое-какие секреты, известные сегодня двум-трем старикам в Сийю.
Боюсь, что, если бы островитяне разгласили их, жирафам на материке не поздоровилось. А пока что на них мало кто охотится: мясо несъедобное, шкура не поддается выделке. Прок есть только от хвоста, из которого вожди многих племен делают себе опахало, символизирующее власть. Насколько мне известно, никто в Африке, кроме мастеров-пагги, никогда не использовал жирафьи рожки в каких бы то ни было целях. Еще для инкрустации кресел раньше применяли перламутр; украшали их также серебряными и медными гвоздями.
Когда мы покончили с осмотром дома и меня пригласили сесть, я наконец понял, почему в суахилийском доме так много улили, почему, они в отличие от витанда, не убраны бельем и почему эти лежаки стоят повсюду: посреди всех комнат, в коридорах, на кухне и даже на улице.
Войдя в «парадную» комнату дома, все расселись на улили. Затем хозяйка принесла густой чай, сваренный, по местному обычаю, с молоком. Его сервировали тоже на лежаке. Пока мы пили чай и беседовали, женщины сдвинули несколько свободных лежаков, застелили их яркими купонами китенга вместо скатертей и превратили кровати в обеденный стол.
Все стены в парадной комнате были увешаны фотографиями родных и близких хозяина, картинками из журналов и плохо вяжущимися с ними изречениями из Корана. Между ними кое-где поблескивали небольшие зеркала и тарелки с голубым рисунком. Примерно через каждый метр ряды их нарушали спускающиеся с потолка яркие шторы. Они крепились на тонких мангровых жердях, на разных уровнях пересекавшихся под потолком.
Я спросил об их назначении.
Ни слова не говоря, бвана Алиди встал и принялся растягивать шторы. Буквально через несколько минут вся парадная комната оказалась перегороженной ими на множество отсеков.
— Конечно, в моем доме это — лишь дань традиции, — объяснил хозяин. — Однако в обычных небольших ньюмба[38] или, тем более, в упену[39], где в тесноте живут большие семьи и бывает множество гостей, такие отсеки размером с улили попросту необходимы. Кроме того, местный этикет допускает и такое: если вы, к примеру, устали, то можете взять любую приглянувшуюся улили, отделиться от компании, зашторить один из отсеков и полежать. При этом можно продолжать беседу с сидящими. Но и соснуть не грех. Никто вас за это не осудит. Попробуете?
Честно говоря, я подумал, что неплохо было бы принять это предложение. Но принесенные женщинами кушанья, источавшие приятные ароматы, отвлекли меня от подобных мыслей.
Обитателю более высоких широт еда патти может показаться экзотической и даже изысканной, но для приэкваториального острова она обычна. Замечу лишь: 400-граммовая банка консервированной свеклы, привезенная из Англии, стоит в магазине Алиди в сорок раз дороже, чем килограмм признанных лучшими в мире красных манго из Ламу.
С них-то мы и начали обед. Затем подали суп с угали — горьковатыми клецками из маниоковой муки. На второе — вареный рис с креветками, обильно сдобренный жестоким перечным соусом. Затем («Специально для гостя!» — подчеркнул хозяин) любимое лакомство патти — мкате йа майяий (яичный хлеб) — нечто вроде пышного омлета, который поливают либо ананасовым сиропом, либо имбирным соусом. И снова чай, чай, чай…
Перед каждым новым угощением одна из женщин уносила со стола всю использованную посуду, а другая приносила чистую. Тарелки были в основном современные. Но небольшое блюдо, на котором к чаю подали сухарики с изюмом, привлекло мое внимание настолько, что, дождавшись, когда сдоба исчезнет, я, преодолевая неловкость, перевернул его. Китайский фарфор, XVIII век…
— Таких блюд на острове осталось несколько штук, — заметив мою проделку, сказал бвана Абу. — Но новой посуды в любом, самом бедном доме у патти очень много. И наверное, так повелось издавна, потому что среди некоторых развалин и сегодня фарфоровых черепков чуть меньше, чем камней. Вы знаете, я бывал за границей и видел, как там одну тарелку используют подряд для нескольких блюд. У нас это невозможно. И не потому, что этим обижают гостя, а прежде всего потому, что тем самым хозяйка роняет свое достоинство, престиж всего дома. Даже в самой бедной хижине маисовые угали едят на одной тарелке, а вареные бананы — на другой.
— Наш гость опоздал с визитом на остров на целых два столетия, — пошутил бвана Алиди. — Теперь нам все приходится ссылаться на черепки и о многом говорить в прошедшем времени. А если бы он попал сюда во времена «золотой поры» Пате, то еду из кухни ему приносили бы в огромных медных котлах-суфуриях, фрукты подавали на бронзовых подносах, а яства накладывали на дорогие фарфоровые тарелки с голубым рисунком. А что это были за яства! Мясо жарили на мангровых углях, придававших ему дивный аромат. Специально откормленных душистыми травами барашков подавали в диковинном соусе из гвоздики, муската и кардамона. Птицу предварительно вымачивали в кокосовом молоке, отчего мясо ее становилось нежным и сочным.
Мои хозяева закурили длинные трубки, улеглись на улили, и по всему было видать, что отказаться совсем от давно наступившей сиесты они не могут. Первым пример подал старый Абу: он пододвинул лежак к стене, отгородился от нас шторами и захрапел. Вскоре его примеру последовали все остальные. Уснул и я.
Но ровно в пять часов на первом этаже зазвенел звонок, возвестивший, что лавка хозяина открылась для работы до полуночи. Бвана Алиди спустился вниз, а бвана Абу пригласил меня осматривать город.
Первое впечатление не очаровывало: по сравнению с Ламу сегодняшний Пате кажется заброшенным и ветхим. Да и чему удивляться? В пору расцвета здесь жили около 25 тысяч, в начале века — всего лишь 300 человек, а ныне число патти приближается к тысяче. Более половины домов, среди которых многие достойны иной участи, заброшены. А нежилые дома, как известно, стареют и разрушаются куда быстрее, чем обитаемые.
Кое-где в кварталы этих старых домов из известняка врываются современные глинобитные ньюмба, окруженные садами за мангровыми изгородями. Не считаясь с ними, из садов в старый город переселяются бананы, окружают древние постройки, придавая им романтический, загадочный, но совсем необитаемый вид.
Но, побродив по лабиринтам полутемных улочек, наслушавшись от бваны Абу и присоединившегося к нам по пути мвалиму Сайида рассказов о богатом прошлом чуть ли не каждого дома, начинаешь проникаться уважением к Пате. Еще сохранилось кое-что от огромного Великого дворца фумомари, отстроенного в XVIII веке. В городе пять возникших на заре «золотой поры» действующих мечетей, в том числе почитаемые мусульманами далеко за пределами архипелага мечети Бвана Бакари и Бвана Таму. Около полутора десятков мечетей лежит в развалинах. Как и повсюду на суахилийском побережье, там, где минареты не приобретают форму фаллоса, их венчают устремленные в небо столбы-стелы, заставляющие вновь подумать об африканском влиянии на ислам.
Показал мне мвалиму Сайид и остатки некогда окружавшей город Великой стены, которую несколько раз крушили португальцы. Особенно хорошо она сохранилась у северных ворот, ведущих в Сийю. Через эти ворота верхом на ослах, предоставленных мвалиму, мы строем и выехали в путешествие по острову.
Глава пятьдесят третья
Верхом на осле в Сийю. — Развалины, которые полюбились табаку. — Как отговорить крестьян от соблазна истолочь памятники старины в порошок? Гавань, недоступная лодкам. — Город, который некогда был самым большим на острове. — Автору «Копей царя Соломона» пишут: «Это одно из интереснейших мест на всем континенте». — Финики во влажных тропиках. — Адов труд — выращивание бетеля. — Сийю — признанный центр суахилийских ремесел. — В мастерской оружейников. — Секреты кикакази будут жить
Предупрежу читателя сразу: к великим путешествиям эта прогулка на ослах никакого отношения не имеет. Расстояние между Пате и Сийю около десяти километров, между Сийю и Фазой — столько же. За неимением автотранспорта все три основных города острова соединены всего лишь тропинкой, по которой время от времени проезжают небольшие двухколесные повозки с ослами в упряжке. Остров плоский, без единого естественного холма. Там, где виднеются небольшие холмики, находятся, как объясняет бвана Абу, занесенные песком развалины древних построек.
— Им повезло, потому что песок предохраняет руины от людей, — говорит мвалиму. — Вся беда состоит в том, что известняк, прожарившись два-три столетия на солнце, превращается в прекрасное удобрение. Особенно его любит табак. Местные крестьяне давно заметили, что чем ближе табак растет к руинам, тем больше его урожаи. А если табак поселится между руинами, то он делается еще и необычайно ароматным. Кроме того, во многих частях этого маленького острова, где не так уж много пригодных для обработки площадей, развалины и древние постройки занимают хорошие земли. Поэтому наши крестьяне ведут подлинное наступление на памятники старины. Они рушат их, крошат древние плиты в порошок и удобряют им свои поля.
— Когда вчера, мвалиму, вы рассказывали, как поддерживается на острове чистота, мне показалось, что община здесь может добиться многого. Почему бы ей не взять опеку над руинами?
— Многого община может добиться только в том случае, когда людям можно доказать, что их коллективный труд или общее решение принесут им пользу. Прок от переселения на материк скота, прекращения вырубки мангров или уничтожения мусора очевиден. А какой прок земледельцу от сохранения руин? Ему польза видится в том, чтобы истереть их в порошок. Заставить крестьянина не крушить руины можно лишь в том случае, если вместо известняка мы бесплатно предоставим ему удобрения, а вместо занимаемых развалинами площадей — новые плодородные поля. Сколько людей — ученых, полицейских и журналистов — приходили ко мне за это время с просьбой: «Мвалиму, останови крестьян». А я всякий раз отвечал: «Мвалиму не может идти против собственной совести и заставлять людей голодать ради сохранения развалин». Причем я даже не упоминаю о том, что многие из этих развалин — памятники вторжений захватчиков — португальских, оманских, арабских.
— Но ведь эти развалины могли бы привлечь сюда туристов и обеспечить работой сотни островитян? — предположил я.
— Вот тогда-то, если, конечно, хоть что-нибудь останется, общинники сами проголосуют за сохранение и восстановление руин. Но пока что над нами летают спутники, а мы едем из Пате в Фазу на осле. До Сийю, стоящего на берегу океана, нельзя добраться по воде на приличной лодке. Напротив входа в гавань поднимаются постройки кораллов, с берега к ним придвигаются мангры. Скоро все, кто захочет попасть в Сийю, будут испытывать те же приключения, что выпали вчера на вашу долю. Я еще был мальчишкой, когда в начале 20-х годов власти обещали избавить нас от этих кораллов. А воз и ныне там…
Старик сплюнул и замолчал. Наши ослики, как бы почувствовав, что мы уже больше не отвлекаемся на разговоры и поэтому можем обратить внимание на их ленивый шаг, затрусили резвее.
Две мангусты, выбежав на тропку, замерли посередине, встали на задние лапы и удивленно посмотрели на нас, а затем молниеносно скрылись в зарослях.
— Мангусты — это к счастью, — заметил бвана Абу. — Они поедают змей, а вместе с ними — и зло.
— Слишком мало осталось мангуст, чтобы пожрать все зло на Пате, — возразил мвалиму. — Хотя иногда их размножается очень много. Может быть, поэтому и в истории острова наступают то хорошие, то плохие времена. Взять бы, к примеру, Сийю. Живут в ней сейчас всего лишь шестьсот человек. Из них половина — кто помоложе — только и мечтают, как бы сбежать на материк. А раньше что было? Вай-вай!!!
Побывавший в 1606 году в Сийю португалец Гашпар де Санту Бернадино называл его «самым большим городом острова». Потом судьба на 250 лет низвела Сийю на третьестепенные роли. Но в 70—80-х годах XIX столетия этот город вдруг стал «одним из интереснейших мест на всем черном континенте».
Такую характеристику дал ему Джек Хаггард, брат автора «Копей царя Соломона», который в то время занимал пост вице-консула Великобритании в Ламу. В разысканных мною в момбасском архиве черновиках его писем он призывал знаменитого писателя «забросить свою скучную Южную Африку, где все скоро будет напоминать Европу», и отправиться на Ламу, «дивный, удивительный и самобытный архипелаг, где на каждом островке величиной с лондонский Сити сходится весь мир».
Из другого, отправленного через полгода письма сэр Генри Ридер Хаггард узнал: «Дела на Сийю развиваются удивительным образом. Занзибарские вадирифу[40], расставаясь с приносившими им несусветные доходы рабами, решили делать деньги на островах Ламу. Вокруг Сийю они разбили плантации, подобные тем, что есть в Маскате, но которых нет нигде в Тропической Африке. Для этого проводят оросительные каналы. Масштабы строительства такие, что хилые африканские быки с работой справиться не могут. Поэтому на доу под черными парусами сюда доставили верблюдов. Удивительно видеть этих жителей песков, помогающих корчевать тропический лес! Выживут ли они в местном влажном климате? На этих обводненных землях арабы сажают финиковые пальмы — еще более фантастическая затея, если учесть, что нигде во влажном климате они не дают плодов…»
Однако плоды, которые затем все же начали снимать с этих пальм, отличались очень высоким качеством. Тогда же вокруг Сийю появились плантации тропических фруктов и табака, снискавших славу во всей Восточной Африке. Появились крупные объединения ремесленников — они изготавливали мебель для всего архипелага Ламу. Но после захвата островов Англией сельское хозяйство вокруг Сийю захирело. Последний плотник-чернодеревщик умер там в 1932 году.
— Да, теперь от тех времен вокруг Сийю остались лишь одни плантации тамбу, — подхватил разговор бвана Абу. — Так называют зеленый табак, идущий на приготовление бетеля. И сегодня, когда северо-восточные муссоны создают для него «плохой сезон» на Занзибаре и в городах южного Савахила, там пользуются нашим тамбу. Вон они, наши табачные плантации на руинах истории.
Я посмотрел в направлении, указанном Абу, но никакого табака не увидел. Среди разобранных почти до основания зданий виднелась обработанная земля, на которой удивительно ровными рядами, один к одному лежали, как мне показалось, полукруглые коричневые камни-окатыши.
Я вопросительно посмотрел на моих спутников.
— Выращивание зеленого листа для бетеля — адов труд, — объяснил бвана Абу. — В наших местах молодые побеги табака не выносят прямого солнечного света. Поэтому около десяти утра крестьяне покрывают каждый побег половинкой скорлупы кокоса, а около трех снимают ее.
Впереди блеснуло сапфировое озерцо — дитя прилива, за ним виднелись заросшие бурной растительностью стены форта. Слева, за пальмами, возникла внушительных размеров зубчатая башня, точь-в-точь как на Занзибаре.
— Ну вот, там, за стеной, и Сийю, — ударив осла рукой по холке, облегченно вздохнул мвалиму. — Сейчас попьем тембо и снова сделаемся молодыми.
— Тембо — это вино из тамбу? — предположил я.
Оба старика весело рассмеялись.
— Гостю в компанию нужен не такой мвалиму, как я, а настоящий школьный учитель суахили, — проговорил наконец Сайид. — Тембо — это кокосовое вино, прекрасный освежающий напиток. Но не вздумай пить вино из тамбу. Есть и такое. Это зелье цвета малахита. Им балуются хиппи, которые селятся среди здешних развалин.
Хотя форт Сийю и не рекламируется ни в одном из туристских путеводителей, при осмотре он показался мне одним из наиболее впечатляющих зданий на всем побережье. Построенный в XIX веке, незадолго до описанного Дж. Хаггардом «бума» в Сийю, он неплохо сохранился, а в будущем, когда регулярное сообщение свяжет этот город хотя бы с Ламу, форт станет одной из главных достопримечательностей архипелага. Из крепости маршрут туристов проляжет к восстановленной недавно мечети, в которой сохранился элегантный каменный минбар[41], датируемый 1521 годом.
Однако остальные памятники города находятся в плачевном состоянии. Три суахилийских здания, которые в конце 60-х годов изучил и описал в своей фундаментальной работе «Люди и памятники побережья Восточной Африки» известный английский историк Дж. Киркман, я так и не нашел. Судя по справкам, наведенным мвалиму, их уже «извели» на удобрения.
Но не все еще здесь утеряно. Испив три стакана тембо, старый Сайид действительно помолодел и с удвоенной энергией принялся знакомить меня с прошлым и настоящим Сийю.
Первым делом он повел меня к ремесленникам-оружейникам. Под высоким навесом из пальмовых веток на окраине города двое сухопарых мужчин в клетчатых юбках делали трости-обманки, без которых многие жители прибрежных материковых районов, что напротив острова, никогда не отправляются в дальнюю дорогу. С виду это обыкновенные палки, обтянутые тисненой кожей. На самом же деле они представляют собой грозное оружие. Черенок палки служит ножнами, в которые вставляется укрепленное на ручке длинное обоюдоострое лезвие. Схватиться за палку — значит лишь помочь ее владельцу вынуть свое оружие. Рывок — и в руках у противника остаются легкие кожаные ножны, а в руках у владельца «палки» — острая шпага.
— На архипелаге такие изделия не пользуются спросом, — объяснив мне технологию производства, заключил старший из кузнецов — Хасан Огли. — Их покупают на материке. Зато кинжалы-симе, что куют под соседним навесом, идут нарасхват.
Симе были кривые и тупые. Я заметил Хасану, что ими даже трудно оцарапаться.
— У кинжалов на острове совсем другое назначение, — улыбнулся он. — Баджун — мирные земледельцы, браться за оружие они научились, когда надо было постоянно отбиваться от колонизаторов и захватчиков. В память о былых битвах мужчины иногда по праздникам любят для шику заткнуть себе за пояс кинжал. Но главное для них сегодня, чтобы симе выглядел понаряднее. На ножны идет красивая красная кожа с тиснениями, подкрашенными черным соком водорослей. Рукоятки для этих тупых болванок вырезают из кабаньего рога и отделывают медной проволокой.
— В былые времена, наверное, их резали из слоновой кости и украшали золотом? — предположил я.
— Нет, нет, — возразил мвалиму. — Дело в том, что все суахилийские правители, извлекая очень большие доходы из торговли бивнями, вывозимыми в заморские страны, строго запрещали местным мастерам использовать слоновую кость для местных нужд. Тех, кто нарушал эту монополию султанов, сам вступал во взаимоотношения с материковыми племенами и выменивал у них бивни, сурово наказывали. Так что от «былых времен» нам известен всего один кинжал, подобный тому, какой вы описали. Он был сделан в XVII веке и принадлежал султанам из местной династии Ва-Фамау. Зато прекрасные посеребренные мечи с чернеными эфесами — не редкость. Их делали кузнецы-баджун по заказам суахилийской знати. Как говорят знатоки, они особой, напоминающей эфиопские сабли формы, отличной от арабских. И богатый орнамент, что украшает их эфес и ножны, тоже африканский.
К сожалению, мы не застали на месте мастеров, которые режут рукоятки и тиснят кожу для ножен. Мало что выяснили мы и у ювелира, в руках которого серебряная проволока и осколки кораллов превращались в изящные подвески и серьги: он был немой.
Зато в самом чреве старого города, где, как мне казалось, обитают лишь летучие мыши, мвалиму познакомил меня с бваной Маави. Сайид назвал его «единственным на всем побережье, кто еще умеет делать кикакаси» — нарядные шкатулки.
— Да нет, мвалиму, — обнимаясь с Сайидом, нараспев заговорил бвана Маави. — Ты отстал от жизни. За те полгода, что мы не виделись с тобой, у меня многое изменилось. Приезжали большие начальники из Момбасы. Они сказали, что, если умрет Маави, умрет и искусство кикакаси. Поэтому мне велели не умирать до тех пор, пока я не обучу своему ремеслу двух местных парней. Они уже делают неплохие вещи.
— И как же это достигается?
— Оставайся, и ты, наверно, освоишь, — улыбнулся мастер. — Сначала надо загрунтовать поверхность, а затем красить. В нижней части полосы одного цвета — погуще, в верхней — пожиже, или наоборот. Смешивать краски и лаки у границ полос. Сушить и опять красить. Потом целый день сушить. На следующий — лакировать. И так до тех пор, пока луна на небе не станет такой, какой была в первый день покраски кикакаси.
— А откуда берутся краски?
— Вернее сказать — цветные лаки. Чтобы освоить это дело, надо пожить в Сийю подольше. Мне передал секреты отец. Но за те шесть с лишним десятков лет, что я делаю кикакаси, кое-что удалось добавить к старым секретам и самому. Красный цвет дает сок больших деревьев на материке, когда они просыпаются после сухого сезона. Если каракатицу выварить в соленой воде, подбавив туда лимона, то получится синий. Из корней травы маджиканьи, что растет в соленых болотах вокруг Фазы, можно выдавить редкий по своей красоте зеленый цвет.
Бвана Маави так и сыпал местными мудреными названиями растений. Для получения красок и лаков он использовал больше полусотни трав, кустарников и деревьев. Но зато его кикакаси ничем не отличались от тех, что были выставлены в музее Ламу. Им свойственно благородство полутонов, патина многовековой традиции. «Раньше во всем мире такие полосатые лакированные коробочки делали лишь на суахилийском побережье, — прощаясь, сказал бвана Маави. — Сегодня во всем Савахиле их делают только в этой маленькой мастерской. Но теперь я верю, что искусство кикакаси не умрет вместе со мною…»
Глава пятьдесят четвертая
По исторической тропе, ведущей в Фазу. — Оманские «освободители» разочаровывают суахили. — Мазария приходят к власти. — Новая линия противостояния: Оман — Момбаса. — Центром работорговли становится Занзибар. — Султанский флаг над Форт-Иисусом. — Времена, когда вся Восточная Африка «плясала под занзибарскую дудку». — Закат «золотой поры» Пате
Потом мы напоили ослов и отправились в Фазу. Дорога туда — все тот же серебристый песок, пальмы и табачные плантации среди руин. Но мвалиму Сайид и здесь нашел тему, позволившую за разговором скоротать путь. Тропинка, связывающая Сийю с Фазой, была, по его словам, исторической. Здесь в середине XIX века разыгрывались события, отражавшие расстановку политических сил на побережье и во многом предрешившие его дальнейшую судьбу.
Все дело в том, что прошло несколько десятилетий — и радостный подъем, вызванный на побережье изгнанием португальцев и установлением тесных отношений с Оманом, сменился разочарованием. Жители многих суахилийских городов увидели, что Оман поддерживал их борьбу лишь для того, чтобы занять место Лиссабона.
Освободив от португальцев все побережье к северу от устья реки Руфиджи, арабы разбили вновь приобретенную территорию на провинции, во главе которых поставили губернаторов — вали. В крупных городах были размещены оманские гарнизоны. Арабские сборщики налогов объезжали населенные пункты, отбирая у африканцев слоновую кость, черепаховый панцирь, шкуры, золото и серебро. Декреты, составленные в далеком Маскате, были непопулярны среди населения.
Вскоре для жителей побережья мусульманские правители стали не менее ненавистными, чем их христианские предшественники. Население многих городов начало восставать против оманских гарнизонов, убивать вали, отказываться платить налоги. Многочисленные жалобы и протесты в адрес губернатора Момбасы заставили в 1741 году оманского имама Султана ибн Саифа отстранить своего наместника в этом городе и назначить на пост вали Мухаммеда ибн Усман ал-Мазруи — главу самой богатой и авторитетной в Момбасе местной семьи Мазария. С этого времени история восточноафриканского побережья превращается в историю борьбы за независимость Момбасы от Омана.
В 1746 году агенты, подосланные Бусаиди, убили Мухаммеда ибн Усмана, а его брата Али Мазруи заточили в Форт-Иисусе. На следующий год Али удается бежать. Собрав своих сторонников, он поднимает момбаситов на восстание, участники которого через три дня провозглашают Али Мазруи независимым правителем Момбасы.
На протяжении последующих 40 лет междоусобицы в Маскате не давали возможности Бусаиди заниматься восточноафриканскими делами. Пользуясь этим, Мазария к 1780 году подчинили Момбасе побережье от Малинди на севере до Пангани на юге. Попытка момбаситов захватить в 1753 году Занзибар не удалась. На протяжении всего последующего периода этот остров остается единственной территорией суахилийского побережья, лояльной Бусаиди.
Для того чтобы нанести удар экономическим позициям Мазруи, имам Омана запретил своим купцам торговать с Момбасой. В 1822 году оманский флот, базировавшийся на Занзибаре, приступил к осаде Пембы и, несмотря на сильное сопротивление, оказанное ему момбасским гарнизоном под командой военачальника Мбарука, возвратил остров под контроль Бусаиди. Оманский флот был еще не так силен, чтобы приступить к осаде Форт-Иисуса, но окончательная развязка спора между Мазруи и Бусаиди за господство над суахилийским побережьем уже приближалась. Покончив с внутренними междоусобицами и укрепившись на Занзибаре, Оман начал уделять Восточной Африке все большее внимание. На кенийском побережье строятся укрепленные пункты и торговые фактории. Эта активизация политики Омана на суахилийском побережье, особенно усилившаяся при имаме Сейид Сайде ибн Султане, совпала по времени с началом экспансии Англии и Франции в Восточной Африке, а также с активизацией работорговли.
Сейид Сайд, оценив большие выгоды, которые он может извлечь из доминирующего положения Омана на суахилийском побережье, поспешил стать главным партнером европейских работорговцев и превратил Занзибар в главный центр торговли «живым товаром». Если до начала XIX века количество рабов, вывозимых из Восточной Африки, исчислялось сотнями, то в 1811 году только на рынке Занзибара было продано около 10 тысяч, а в 1839 году — 50–70 тысяч человек. Один из главных путей занзибарских работорговцев начинался в Момбасе, проходил по землям камба, огибал населенные воинственными нилотами Центральные нагорья и заканчивался у побережья озера Виктория, на землях княжества Ванга.
Активизация торговли Занзибара с европейскими странами сопровождалась политической экспансией западных держав, прежде всего Англии, в Восточную Африку. Еще в 1738 году Британская Ост-Индская компания навязала оманскому имаму «договор о торговле и дружбе». Неясная позиция Лондона, вступившего в дипломатическую игру с Мазария с целью оказания давления на Оман, заставила Сейид Сайда, готовившегося к осаде Момбасы, пойти на дальнейшие уступки англичанам и согласиться на их новые требования. 22 сентября 1822 года Сейид Сайд подписал договор, позволивший Англии под видом «борьбы с работорговлей» осматривать все оманские суда и разрешавший англичанам создавать наблюдательные пункты в любой части имамата. Таким образом, прикрываясь гуманными лозунгами, Англия поставила под контроль все торговые пути Омана и получила возможность создавать свои опорные пункты в любой части его владений.
Англичане, не будучи заинтересованы в усилении власти Сейид Сайда, решили воспрепятствовать захвату Момбасы. Британский военный корабль «Левен», «случайно» оказавшийся в это же время в водах Момбасы, помешал оманцам овладеть городом, а его командир капитан Оуэн объявил Момбасу английским протекторатом. Только через три года, ценою новых уступок, Сейид Сайду удалось добиться отмены «протектората Оуэна» и снова приступить к осаде Форт-Иисуса. В 1827 году Момбаса капитулировала, но в 1828 году Мазария удалось поднять момбаситов на восстание. На следующий год Сайд вновь вернулся в Момбасу, а в 1837 году, ловко используя разлады и соперничество среди клана Мазария, окончательно овладел положением в городе. Около 30 человек из семейства Мазария были заточены в тюрьму, где и умерли.
Захватив Момбасу, Сейид Сайд сделался хозяином всего суахилийского побережья — от Пате до мыса Делгаду. Торговля рабами и слоновой костью, поборы с населения и доходы от плантаций в Восточной Африке, превратившейся в экономический центр Омана, навели султана на мысль порвать со своей арабской цитаделью. В 1840 году он переносит столицу на Занзибар.
Однако для побережья, и прежде всего для Момбасы, превращение Занзибара в центр торговой оманской империи означало появление по соседству сильного, отлично знающего местные условия соперника, монополизировавшего связи с материком и лишившего Момбасу источника ее благосостояния, а следовательно, и политического влияния. Если первые английские моряки в 1824 году писали о Момбасе как о «чисто африканском городе», где говорят на суахили и где «даже создали письменную историю» на этом языке, то после падения Мазария Момбаса превратилась не более чем в перевалочный пункт арабских торговцев. К 1844 году ее население сократилось до 10 тысяч человек, а к 1846 году — до двух с половиной тысяч. По тем же причинам достоянием истории делается «золотая пора» Пате. Глубокую депрессию переживают другие города архипелага. Зато для Ламу, чьи правители проводили политику сотрудничества с Занзибаром, наступает «серебряная пора».
Именно к этому времени и относятся события, разыгрывавшиеся на тропе, по которой мы едем. В 1843 году правители Пате и Сийю, изнывавшие под тяжестью поборов Сейид Сайда, отказались признавать его власть. Разгневанный султан послал против них двухтысячное войско, состоявшее из арабских солдат, наемников белуджей и добровольцев из Ламу. Командовал ими не знавший поражений военачальник Амир Хамад.
— Его воинство высадилось в январе 1844 года в Фазе и по этой дороге, как бы навстречу нам, отправилось в Сийю. Но на полпути отряд карателей попал в засаду. Затем островитяне начали партизанскую войну против арабов. В результате за три недели знаменитый Амир Хамад так и не смог преодолеть расстояние, которое наши ослы сегодня прошагают за три часа. Оставшись ни с чем, он отплыл на Занзибар.
— И на этом кончилась историческая битва под Сийю? — преждевременно подытожил я.
— Торопи осла, а не меня, бвана, — парировал Сайид. — Ровно год спустя сюда пожаловал не только генерал, но и сам султан. Осмотрев позицию, Сайд приказал Амир Хамаду построить вдоль этой дороги пять опорных пунктов, прежде чем приступить к штурму Сийю. Однако генерал ослушался и построил только один, в Мкупани. Ее развалины мы скоро увидим слева от дороги…
Затем Амир Хамад атаковал объединенные силы Сийю и Пате, вынудив их укрыться за стенами той крепости, что так понравилась тебе сегодня утром. Но взять крепость арабы не смогли: ее защитники были хорошо вооружены. Осада длилась долго, генерал решил немного отдохнуть на своем корабле и как-то вечером поскакал верхом на лошади в Фазу. С ним было не больше двадцати сопровождавших. Командующий войсками Сийю, извещенный о том, что Амир покинул лагерь, приказал настичь его. Но сделать это надо было без шума, чтобы не привлечь внимания тех, кто находился на кораблях. Самые меткие лучники-баджун участвовали в этой операции. Их стрела с ядом сразила генерала неподалеку от Фазы.
Узнав о гибели своего прославленного военачальника, оманские солдаты, осаждавшие Сийю, разбежались. Многие из них были затем убиты островитянами, другие утонули в мангровых болотах. Потрясенный подобным развитием событий Сейид Сайд, приказав поднять паруса на своем флагмане, отбыл на Занзибар.
Но не торопись предвосхищать события, бвана. Не этим заканчивается моя история, — проговорил мвалиму. — Давай слезем с ослов, найдем хорошие орехи, освежимся кокосовым соком и в тишине воздадим должное тем, кто на этой маленькой тропке показал себя большим героем.
Так мы и сделали. А потом старый Сайид досказал мне последнюю часть удивительной истории сопротивления крохотной Сийю всесильному Занзибару.
— Я вспомнил о кокосовых орехах потому, что, когда султан в третий раз попытался захватить Сийю, именно они спасли горожан от голодной смерти. Это было в 1863 году, когда занзибарские войска в течение целых шести месяцев стояли у стен форта Сийю. Продержались горожане только благодаря кокосу: другого провианта у них не было. За это время шейх Мухаммед, правитель города, проявил недюжинные дипломатические способности и добился того, чтобы осада была снята. Но арабы настояли, чтобы в Сийю был допущен их вали и построена крепость.
Мухаммед выполнил эти условия. Доказательством тому и служит та башня в Сийю, что напоминает занзибарскую. Однако враг оказался мстительным. Маджид, новый султан Занзибара, заманил шейха Мухаммеда к себе в гости. Но в Момбасе его схватили, заковали в цепи и бросили в один из казематов Форт-Иисуса. Командующий этой крепостью получил личное предписание от Маджида: «Это — опасный бунтовщик. Держите его в железе и не освобождайте вплоть до моего указания». Никаких указаний тюремщик больше не получал. Шейх Мухаммед, последний правитель последнего суахилийского города, вплоть до 1873 года остававшегося независимым от Занзибара, так и не вышел на свободу…
Наша «историческая тропа» поднялась на небольшую насыпь, по обе стороны которой простирались мангровые болота. Обнаженные по пояс женщины копались в черной грязи, что-то выкапывали из нее и складывали в горки. По специфическому неприятному запаху, характерному для всех мест, где ведется заготовка кокосовой фибры, я понял, чем они заняты.
Чтобы получить волокно пальмы, мохнатую шелуху спелых орехов зарывают во влажную, сильно минерализованную землю. Там за несколько месяцев ненужные компоненты шелухи разлагаются или съедаются насекомыми, а самые прочные, не гниющие в воде — остаются.
Их-то и выкапывали женщины из зловонного ила. Затем, водрузив огромные плетеные корзины с полусгнившей шелухой на головы, женщины двинулись на пляжи. Там они перевалят содержимое корзин в огромные мешки-сетки, сшитые из старых рыбацких сетей, и, предварительно закрепив, оставят их в зоне прибоя. Теперь океан сам, за два-три прилива, отмоет и очистит фибру, превратит ее в сырье для производства суровых канатов и веревок. Большую часть фибры отправляют на аукцион в Ламу, оставшуюся используют на месте.
Таково главное занятие женской половины двухтысячного населения Фазы — административного центра острова Пате. Что же касается мужчин, то они ремонтируют и строят доу, а также занимаются морским промыслом. В отличие от Пате и Сийю, где традиция не поощряет употреблять в пищу рыбу, жители Фазы не придерживаются этого ограничения. Они — рыбаки, дары моря — основа их рациона.
Фаза показалась мне городом, где преобладают баджун и влияние ислама сведено до минимума. Хотя среди населенных пунктов архипелага Фаза более всего удалена от материка, город этот еще в XVI веке был заселен баджун, нашедшими себе здесь убежище от нашествия оромо. В XIX веке верховный вождь баджун и правитель Фазы мзее[42] Сейф начал поощрять своих людей обрабатывать землю на материке, разводить там скот.
Много сил и времени потратил я на то, чтобы хоть что-нибудь прояснить в судьбе загадочного Ираклия. Имя такое старикам действительно было известно. Однако о его грузинской родословной никто там не слыхивал. Единственно новое, что мне удалось выяснить в его биографии, — это то, что в последние часы жизни он плыл в Ламу на бочке не из-под соли, а из-под вина.
После того как в 1586 году португальцы, покарав Фазу за сотрудничество с экс-мамлюком Амир Али-беем, разрушили город, он так больше никогда не играл заметной роли в экономической и культурной жизни Савахила. Сказывалось то, что доступ к городу как в былые времена, так и сегодня затруднен манграми и коралловыми рифами. Тропка, по которой мы прошли, — единственное, что связывает его с соседями. Из-за такой изолированности Фазу нередко называют «островом на острове». Строили там мало. Главная достопримечательность города — мечеть Мадараджа, воздвигнутая на вершине дюны. По ее склону вверх, к входу в мечеть, ведет лестница-времянка из мангровых жердей. Ее постоянно засыпает песком.
Глава пятьдесят пятая
Жених-неудачник выходит из болот. — К свадьбе готовится весь город. — В спальню к невесте вход запрещен! — Нумизматические коллекции или женские украшения? — Выкуп невесты. — Ювелирные драгоценности и семейная дипломатия. — Стихотворные наставления знаменитой Мваны Купоны молодой жене. — Священнодействие перед свадьбой. — На арене событий появляется жених. — Молодожены проведут в комнате семь дней и семь ночей
Пока я бродил по городку, в котором многое уже предвещало завтрашнюю свадьбу, мвалиму отправился к родственникам невесты узнать, какие новости поступили от соперника жениха, отсиживавшегося в манграх. Возвратился Сайид довольный.
— Парень внял моим советам, — сказал он. — Я просил его не омрачать торжеств и еще до их начала уйти с дороги будущей пары. Так он и сделал. Через своих друзей парень передал, что уехал в Момбасу искать работу и желает счастья жениху и невесте. А мне он просил сказать, что поступил так, поскольку понял: девушка не любит его, иначе она не заставила бы его так долго кормить комаров.
— Значит, мвалиму, чтобы у вас в будущем было поменьше хлопот, из этой истории надо сделать тоже легенду в противовес той, что рассказывают о Лионго. Не помогают болота отбивать невест у женихов-соперников.
— Есть еще одна хорошая новость. В благодарность мне родственники нареченных разрешили вам остановиться в доме родителей невесты и пригласили на свадьбу. Это большая честь, поскольку обычаи не допускают иноверцев на подобные семейные торжества.
Я поблагодарил мвалиму. Приготовив подарок невесте, мы отправились в гостеприимный дом Бакари, где должна была состояться свадебная церемония.
Найти его не составляло труда, потому что, по-моему, все население Фазы либо направлялось в этот дом, либо возвращалось из него. Поскольку после развязки событий в мангровых болотах невеста приняла очередной подарок жениха и тем самым подтвердила свой окончательный выбор, в дом Бакари, согласно местной традиции, в этот вечер перед свадьбой должны были прийти все те, кто хочет поздравить жениха и невесту. Собственно свадьба будет проходить лишь в присутствии родственников.
В качестве подарков несли кто что мог, но все больше съестное: связанных за ноги кур, переброшенных через плечо, грозди бананов на голове. Кое-кто даже катил перед собой целые тележки, нагруженные плодами манго. Все это тут же, во дворе, разделывалось и съедалось. Под развесистым деревом акажу дымил костер, на котором стоял огромный медный котел с кипящим кокосовым маслом. В нем жарили рыбную мелочь. Полная женщина в ярко-желтом, с черными цветами платье вылавливала ее из котла металлическим сачком и раздавала всем, кто тянул к ней тарелки, миски, а то и куски банановых листьев.
Меня представили хозяйке дома — худощавой, благообразной женщине, которую мвалиму велел называть просто биби[43]. Она объяснила, что я могу заходить в любые помещения дома, за исключением спальни невесты. Туда доступ закрыт всем, кроме самой биби, теток невесты и ее ближайших подруг. «Не обижайтесь, ведь даже жених не имеет права видеть невесту до начала свадьбы в ее доме, — лукаво улыбнулась она. — Но жених часто приходил ко мне и выспрашивал, когда я с дочерью собираюсь отправиться в магазины или на прогулку».
Вечер и ночь накануне свадьбы отводятся невесте для того, чтобы окончательно подготовиться к встрече с будущим мужем. Тетушки посвящают свою молодую племянницу в таинства супружеской жизни, а сверстницы втирают в тело подруги масла и благовония, окуривают ее волосы ароматическими травами и разрисовывают ей ладони ритуальными знаками. Все это время невеста должна молчать и не брать в рот еды, а обихаживающие ее, напротив, без умолку должны вести разговоры и есть сладости.
Биби пригласила посмотреть подарки, которые после свадьбы получит невеста от жениха и его родни. На куске красного атласа была разложена не только целая выставка ювелирных изделий, но и… коллекция монет. Мне в глаза сразу же бросилась советская юбилейная монета, выпущенная по случаю годовщины полета Ю. Гагарина в космос. Я взял ее в руки, а биби засмеялась и показала мне браслет на своем запястье, целиком сделанный из таких рублей. Потом у меня в руках оказался американский доллар 1851 года. Тогда биби указала на свою левую ноздрю. Поблескивавшее там червонным золотом украшение оказалось такой же монеткой, но выпущенной годом позже. Чем больше я рассматривал подарки и монеты, составляющие украшения самой биби, — серебряные талеры Марии-Терезии, индийские рупии, оманские пиастры, — тем очевиднее мне становилось, что местные женщины носят на себе подлинные нумизматические коллекции. Кто знает, быть может, если изучить их посерьезнее, то в ушах у местных модниц найдешь и уникальные монеты из Пате, Килвы, а то и Аксума?
Потом биби позвали, а я с мвалиму остался рассматривать ювелирные изделия. Здесь тоже было на чем остановить глаз, тем более что почти все они — местного производства. По словам Сайида, многие золотые и серебряные украшения, передающиеся из поколения в поколение, имели возраст 150–200 лет. Однако и новые по своему стилю и форме от них мало чем отличались. Мастера Сийю и Ламу оставались верны суахилийской традиции.
— Не думайте, конечно, что столько драгоценностей получает каждая невеста, — говорит мвалиму. — Вы попали на очень богатую свадьбу. Однако даже в бедных семьях свадебные подарки на архипелаге Баджун обязательно делаются в виде золотых украшений. Они, по сути дела, — форма выкупа невесты. Да и в будущем, после свадьбы, ювелирные изделия играют очень важную роль в семейном бюджете. Все дело в том, что получить развод на островах довольно легко, а получить бывшей жене свою долю нажитого — очень трудно. Драгоценные украшения, полученные в виде подарка, — это то единственное, на что женщина имеет полное право. Поэтому с первого дня супружеской жизни жена, стремясь обезопасить свое будущее, побуждает мужа тратить деньги на золотые безделушки. В этих же целях в украшения превращается любая монета, имеющая мало-мальскую ценность. Малюсенькая дырочка, просверленная в пиастре, позволяет рассматривать его как подвеску. При разделе имущества она достается женщине, а целый пиастр — мужчине.
Кроме того, есть еще одна причина, побуждающая многих женщин систематически истощать карман своего мужа. Ведь если у него нет сбережений, он не сможет купить дорогие подарки для того, чтобы обзавестись второй женой, как правило, более молодой и более любимой. Так что украшения у баджун — это целая политика. Мало где у африканских женщин есть так много ювелирных побрякушек, как здесь. Но бывает, побрякушки эти означают большую семейную драму.
Мелодичный перезвон отвлек внимание от украшений. Выглянув в окно, я увидел, что он исходит от двух тамбуринов, на которых играли расположившиеся напротив нас девушки. Чуть погодя они запели.
— Это женщины поют нравоучительные стихи, написанные великой Мваной Купоной, — подойдя сзади ко мне, пояснил мвалиму. — Она была женой известного политического деятеля Сийю первой половины прошлого века. Ее стихотворения, написанные в форме завещания своей дочери, очень популярны на архипелаге. Все у нас любят и почитают Мвану Купону.
— В Ламу я видел дом с мемориальной доской, где она жила, — вспомнил я.
— Говорят, это единственная во всей Тропической Африке доска, установленная в память о деятеле литературы. Разве биби Мвана не достойна этого? Во всяком случае, мужская часть человечества должна быть благодарна ей за мудрые советы женщинам, содержащиеся в ее стихотворных назиданиях.
Пение неожиданно прервал пронзительный крик. В руках у девушек вместо тамбуринов появились погремушки-трещотки. В такт им глухо забили барабаны. Из противоположного конца двора, где чадил котел с рыбой, к дому подошли женщины, завернутые в черные буибуи. Они остановились против комнаты невесты, отмеченной вывешенным из окна ковром, пожелали ей счастья и вышли на улицу. Затем их место заняли пожилые мужчины. Они молча хлопали в ладоши и удалялись.
— Наступила полночь. Теперь во дворе перед домом невесты могут оставаться лишь ее сверстники, — объяснил мвалиму. — Сейчас заиграют флейты-зомори, чистые звуки которых символизируют у нас молодость и счастье. Под их аккомпанемент молодежь будет танцевать и веселиться до утренней зари. А нам положено спать.
Свадьба была назначена на одиннадцать утра — час крайне неудобный, если принимать в расчет местную жару. Однако это время, как полагали местные духовники, «лучше всего соотносилось с расположением на небосводе звезды жениха».
С самого утра, как мне рассказали, жених сидел в одиночестве в своем доме, а невесту продолжали растирать благовониями. С помощью специального растительного клея на щеки ей прикрепили по золотой монете, а кончик носа украсили резной золотой пластиной. Затем платье и волосы девушки обрызгали липким лаком и обсыпали лепестками жасмина. В этом виде она предстала перед прибывшей в дом Бакари матерью жениха, которая принесла главные подарки: официально они не являются выкупом родителям невесты, а становятся ее личной собственностью. Приняв их, невеста отрезает себе путь к отступлению.
Только после этого на арене событий появился жених — средних лет статный мужчина в белом. Потом приехали его свидетели и друзья, затем мулла верхом на муле. Не заходя в дом, все они устроились в расставленных во дворе креслах. Жениху было отведено самое высокое место, мулле, сидевшему напротив, — чуть пониже. Подняв руку с Кораном, он прокричал несколько фраз. На этом формальная часть свадьбы была закончена.
Откуда-то из-за кустов ударили барабаны. Мужчины встали и, пропустив вперед новоиспеченного мужа, пританцовывая, направились в дом, где все еще скрывалась невеста. Дверь в ее комнату оставалась закрытой. Подойдя к ней, муж громко постучал в нее три раза. Тогда дверь отворилась, но одновременно кровать, на которой сидела девушка, скрылась за опустившимся сверху палантином. Мужчины получили право войти в комнату, постояли немного, обменялись шутками и, так и не увидев той, ради которой пришли, удалились.
В спальне остались лишь молодожены и несколько пожилых женщин, которые старались казаться незамеченными. Они натерли мужу волосы и руки ароматическими маслами, затем принесли большой фаянсовый таз, в котором он вымыл ноги. Только после этого жених, слегка откинув палантин, присел на угол кровати. Женщины удалились. Из-за палантина высунулась обсыпанная жасминовыми лепестками рука, в которую муж положил первый «семейный» подарок. Теперь он получил право разговаривать со своей женой.
Семь дней и семь ночей они не выйдут из этой комнаты. Доступ к ним будет иметь лишь старшая тетка мужа, нянчившая его еще младенцем. На восьмой день молодожены появятся во дворе и устроят там угощение для своих общих друзей. А на девятый день молодая жена переступит порог дома своего мужа, у которого уже есть старая жена…
Глава пятьдесят шестая
Если в тюрьму, то только на экскурсию! — Под парусом к берегам Манда. — На лазурной глади океана показывается кусок амбры. — Мы снова сидим на мели. — Пестрый мир коралловых рифов. — Баобабы на берегу безводного острова. — Профессор Н. Читик говорит: «Разгадки многих тайн истории суахили следует искать именно здесь». — Пионеры каменного строительства в Экваториальной Африке. — Торговля удивительных размеров. — Монетный двор континента. — Железо здесь плавили повсеместно
Заждавшийся меня на доу Рашиди сетовал, что за столь долгое отсутствие бвана Чуй спишет его на берег. А когда услышал о моем плане зайти на остров Манда, прежде чем вернуться в Ламу, то заявил, что за «угон судна» мы оба угодим за решетку, откуда вызволить нас не удастся.
Тюрьма в Ламу помещалась в импозантной оманской крепости, и попасть туда мне как раз хотелось, но только в качестве туриста. Чем устраивать мне поденную экскурсию, бване Чуй будет гораздо выгоднее получить дополнительные шиллинги за аренду доу. Однако Рашиди не соглашался, ссылаясь на то, что между островами Пате и Манда одни лишь коралловые рифы и отмели. Он там никогда не плавал, и, если что случится, в открытом океане от беды мы так легко, как в мангровом болоте, не отделаемся.
Тогда на помощь пришел бывалый моряк, бвана Абу. Он вызвался провести доу над коварными отмелями сам, а в ответ на отказ Рашиди заявил, что найдет для поездки другую лодку. Авторитет старшего возымел действие. Рашиди сделался пассажиром. Я расцеловался с мвалиму, и бвана Абу поднял парус.
На небе не было ни облачка, путешествие — каких-нибудь десять миль — обещало быть безоблачным. Однако, оставшись без определенного занятия, Рашиди начал глазеть по сторонам и вскоре увидел слева по борту качавшееся на лазурной глади океана нечто серое, напомнившее мне кусок пемзы. Рашиди показал это нечто Абу, тот зачмокал губами и резко изменил курс доу.
Кусок, оказавшийся довольно зловонным, выловили, после чего мои африканцы пришли в неописуемое возбуждение. Они уверяли, что нашли серую амбру, за которую на аукционе в Ламу давали немалые деньги.
— Если найден один кусок, то рядом где-то обязательно плавают еще несколько, — твердил бвана Абу. — Мы неплохо заработаем на троих.
От своей доли я сразу же отказался, но сказал, что мешать обогащаться своим спутникам не намерен. После этого амбровая лихорадка у них еще больше усилилась.
Забыв о рифах, отмелях и бване Чуй, они кружили в радиусе около километра вокруг места находки. Через полчаса на борт был поднят еще один, размером с обычную чашку, кусочек. Он вонял еще сильнее. Спасаясь от запаха, я перебрался на корму и принялся загорать.
Но амбра все равно напоминала о себе, и поэтому мне волей-неволей пришлось о ней думать. Зловонные серые куски, за которыми охотились мои спутники, — это продукт жизнедеятельности китов. После соответствующей обработки амбра превращается в благовоние, издревле ценимое на Востоке. Ее употребляют там для курения, применяют в парфюмерии и, главное, добавляют в масло или керосин, используемые в лампах. Запах газа при этом пропадает, а язычок пламени делается ярким и светлым, словно светящийся перламутр.
Не знаю, вспомнил бы я еще что-нибудь про амбру или нет, но сильный толчок, выбросивший меня с кормы на дно доу, заставил задуматься над более насущными проблемами. Наступило время отлива, и мои амброискатели все же наскочили на мель. Беглый осмотр показал, что никаких пробоин и повреждений доу не получила. Значит, через шесть часов прилив снимет нас с коралловой подушки. А пока, если не бояться перегреться на солнце, можно было полюбоваться пестрым миром коралловых рифов.
Прошло минут сорок, и по отмели уже можно было шлепать пешком, поскольку вода осталась лишь в глубоких лужицах, заполнивших провалы и воронки в серо-черном теле рифа. Чего только не было в этих лужицах!
Потеряв надежду разбогатеть на амбре, бвана Абу теперь обратил все свои старания на то, чтобы найти хотя бы скудное пропитание. Поэтому он занялся сбором трепангов. Вскоре ведро было доверху наполнено черными величиной с большой палец голотуриями. Выпотрошив их и слегка подвялив на солнце, Абу, не обращая внимания на протесты Рашиди, изрубил на дрова две доски, валявшиеся в доу, развел на ее дне костер и принялся варить трепангов в морской воде.
Блюдо оказалось не ахти какое, но за неимением лучшего я присоединился к трапезе. А Рашиди, как истый мусульманин, ушел подальше и потом с нескрываемой брезгливостью смотрел на нас, как на неверных.
Скоротав время, мы снялись с мели и взяли курс на Манда. Швартовались уже в сумерках.
Как ни парадоксально, но на этом острове посреди океана ощущается острая нехватка воды. Его крупнопесчаные почвы так быстро теряют влагу дождей, что, в отличие от Ламу и Пате, на Манда преобладает не тропический лес, а саванна. Необычно выглядят огромные, растущие вдоль пляжей баобабы. Они придают поистине фантастический вид скрывающимся под их сенью руинам дворцов и мечетей одноименного города — самого древнего города восточных банту. От первых его построек IX века ничего, правда, не осталось. Однако Манда называют «настоящим раем» для археологов. Вот почему первым делом я решил найти на острове Нэвилла Читика.
Не знаю, действительно ли узнал меня профессор. Во всяком случае, когда я напомнил, что несколько раз заходил в его директорский кабинет в Институте истории и археологии Восточной Африки в Найроби, он встретил меня как старого знакомого, рассказал о своих последних открытиях в Килве, на Мафии и на островах архипелага Ламу. Но больше всего конечно же он рассказывал о Манда.
— Об этом острове известно еще меньше, чем о Пате и Ламу. Но если бы вы вместе со мной покопались в земле, то поняли бы: разгадки многих тайн суахилийской истории следует искать именно здесь. В тот период, когда в Ламу появились первые мусульмане, на Манда уже строили дома из коралловых блоков, весящих больше тонны. Такого я еще не встречал нигде к югу от Сахары. Вплоть до конца XII века, когда начался закат Манда, здесь велось огромное строительство.
— На основании чего определяется возраст этих построек? — спросил я.
— В основном по монетам и фарфору, которые попадаются среди руин. Судя по количеству находок, обитатели города предпочитали пользоваться серебряными деньгами египетских Фатимидов X — начала XI века. Встречаются монеты из Сицилии, что позволяет предполагать существование торговых связей со Средиземноморьем.
Торговля велась здесь в удивительных размерах, — продолжает ученый. — Это видно по тому, какое огромное, невиданное количество импортных товаров мы находим на Манда. Черепки китайского фарфора, например, встречаются в 75 раз чаще, чем в соответствующих горизонтах Килвы. Потрясающее количество керамической посуды времен Сассанидов — кувшинов, горшков, ваз, ламп. Они точно такие же, как те, что археологи Института персидских исследований откопали недавно в Сирафе. Значит, Манда активно торговала и со странами Персидского залива. Попадаются также прекрасные образцы местной керамики. Но она неглазированная.
— Вся импортная посуда ввозилась издалека конечно же для местного употребления, — вставил я. — Это говорит не только о высоком культурном уровне островитян в самом начале тысячелетия, но и об их достатке. На чем он зиждился?
— Помимо слоновой кости, получаемой с материка, у жителей Манда было два специфических источника дохода. Во-первых, здесь был своеобразный «монетный двор» Тропической Африки. На тех отмелях, где вы сегодня застряли, островитяне собирали раковины каури, которые во внутренних районах континента играли роль денег. Мы находим очень много приспособлений, на которых ракушки соответствующим образом обтачивались. Очевидно, это был очень доходный и распространенный вид экономической деятельности. Во-вторых, я все больше убеждаюсь, что на этом острове в больших количествах плавили железо. Груды шлака здесь встречаются повсеместно! Они имеют куполообразную форму и, бесспорно, образовывались в основании примитивных доменных печей. Их было так много, что металл явно плавили на экспорт.
Глава пятьдесят седьмая
В ночном Манда. — Строительный материал IX века: метровые кубы весом в тонну. — Неволшебная лампа Аладдина. — Бвана Мсуо — подвижник культуры. — «Кто же оплачивает зов души?» — Интересные особенности суахилийских рукописей. — Стихотворная эквилибристика в жанре машаири. — Классик восточноафриканской литературы Муяка был современником А. С. Пушкина. — Еще неизвестный историкам свиток рассказывает о том, как старейшина Ламу посрамил Мазруи, как были разбиты при Шелле объединенные силы момбаситов и патти и как после этого наступила «серебряная пора» Ламу
Простившись с ученым, я в сопровождении бваны Абу отправился бродить по пыльным улочкам заснувшего Манда. Луна была полная, и в ее призрачном свете развалины под серебристыми баобабами казались особенно живописными. На северной окраине городка старик показал мне те самые знаменитые древние блоки, которые служили строительным материалом первым островитянам. Они представляли собой метровые кубы, поставленные один на другой. Эта своего рода дамба, защищавшая город от наступающего на сушу океана. Я подумал, что для населения крохотного островка в IX веке подобные сооружения были, без преувеличения, чудом строительной техники.
Затем мы вышли к Большой мечети, построенной в XVI веке. Среди ее грандиозных руин резвились сотни, а может быть, и тысячи ящериц. Пробегая по сухим листьям, наваленным тут и там, они наполняли все вокруг загадочными звуками…
В южной части города стояла еще одна мечеть, столетием помоложе и хорошо сохранившаяся. Я вошел в нее и не поверил своим глазам. В углублении михраба[44], освещенного светом масляной лампы, форма которой заставила меня вспомнить про Аладдина, четко вырисовывалась фигура бородатого мужчины в белой чалме. Он сидел за столом, уставленным склянками, и что-то не то писал, не то рисовал. Три летучие мыши бесшумно вились над лампой, поочередно облетая чалму.
— Hujambo, bwana Msuo! Sikuona wewe tangu zamani[45], — войдя под своды мечети, воскликнул мой спутник.
Эхо долго повторяло его приветствие, а когда смолкло, тотчас же подхватило ответ на него:
— Sijambo, rafiki mingi! Nina furaha sena kukuona![46]
Старики бросились навстречу друг другу и крепко обнялись посреди мечети. Затем они долго разговаривали о житье-бытье, Абу подробно рассказывал о наших совместных приключениях, а Мсуо все с большим любопытством поглядывал в мою сторону. Наконец они выговорились, и загадочный старец в чалме обратился ко мне:
— Если путника из далекой страны интересует суахилийская культура, я с удовольствием расскажу ему то, что знаю. Я не ученый, но более сорока лет проработал клерком в архивах Момбасы и Занзибара. Там я понял, что книги и бумаги в нашем климате быстро умирают. Поэтому на склоне лет своих я решил спасти кое-что от гибели.
— А что же вы делаете здесь среди ночи, бвана Мсуо?
— Я езжу из одного старого города в другой, хожу из одной мечети в другую, разыскивая суахилийские рукописи. И когда обнаруживаю что-нибудь поистине интересное, я сажусь и переписываю выцветшие письмена. Потом оставляю рукопись на прежнем месте, а копию передаю туда, где она лучше сохранится, — в архив, музей или библиотеку.
— Вам платят за это?
— Платят? — полуиронически-полупрезрительно переспросил бвана Мсуо. — Кто же оплачивает зов души? В суахилийском мире всегда были люди, подобные мне. Они довольствовались тем, что сыты, и не желали большего, только бы им не мешали сохранить память народную.
— Вы работаете ради этого даже по ночам?
— Не преувеличивайте моего рвения, рафики минги. Я отдыхаю днем, а ночью работаю потому, что настоящую копию древней рукописи можно создать лишь в той обстановке, в какой родился сам подлинник. А средневековые грамотеи работали в ночной тиши и прохладе, под сводами мечетей и при свете лампады. Посмотрите на творения рук моих.
Мы подошли к столику Мсуо. Там помимо оригинала свитка рукописи и изготавливаемой копии было разложено множество непонятных мне вещей.
— Гостю, наверное, будет интересно узнать, как и чем писали в Савахиле? — не без основания предположил Мсуо. — Бвана Абу уже рассказал мне, что вы познакомились с кикакаси, и поэтому мне нет нужды говорить о том, из чего васуахили приготавливали чернила. Они были всех цветов и делались по тем же рецептам, что и краски бваны Маави.
— Но для окраски кикакаси не используют черный цвет, а суахилийские рукописи, как мне известно, написаны все больше черными чернилами?
— Гость прав… Для того чтобы получить черные чернила, следует обжечь рисовые зерна, истолочь их в муку, размешать ее в лимонной воде и добавить немного гуммиарабика. Такие чернила не выцветают на солнце десятилетия. Я тоже пользуюсь рисовыми чернилами, — продолжал Мсуо. — Перо, которым ими пишут, сделано из хорошо высушенного речного тростника. Когда же приходится копировать буквицы, вырисованные очень изящными штрихами, надо пользоваться более тонким пером из соломки болотного злака мататени.
Бвана Мсуо протянул лежавший на столе свиток, который он этой ночью начат переписывать. Текст предварял многоцветный титул, перед началом каждого абзаца красовались красные буквицы, по полям были щедро разбросаны рисунки и орнаменты. Судя по тому, что речь в рукописи шла о вмешательстве Мазруи в конфликт между Пате и Ламу, относилась она к началу XIX века.
Но бвана Мсуо не дал мне вникнуть в текст и продолжал свой рассказ:
— Одна из особенностей многих старых суахилийских свитков состоит в том, что они обычно разлиновывались. Для этого применялась вот такая специальная дощечка — кибао, в которой, как видите, прорезан ряд горизонтальных линий. А те, кто писали стихи, имели еще и вот такую трафаретку — кимойо. На ней были вырезаны контуры сердца разной величины, а также геометрических фигур. Признаком хорошего тона считалось, чтобы такими контурами в стихотворении друг от друга отделялась каждая строка. Если стихотворение было любовным, то использовалось изображение перевернутого сердца.
Есть в суахилийской поэзии еще одна премудрость, — повертев в руках кибао, говорит Мсуо. — Видите, на дощечке сделана и вертикальная прорезь. Если стихи писали не на свитке, а на обычных листах бумаги, то их расчерчивали не только вдоль, но и посередине поперек. Эта вертикальная полоса как бы делила единую стихотворную строку — кипанде, написанную по горизонтали, на две самостоятельные части. При этом первая, левая, половина кипанде рифмовалась самостоятельно и имела самостоятельный смысл. Каждая строфа должна при этом состоять из четырех шестнадцатисложных стихов и заканчиваться афоризмом. Такие стихи, очень популярные среди суахили, называются машаири. Понятно?
— На слух не совсем, — признался я.
— Тогда я напишу одну из любовных машаири Муяки, и вам все станет ясно.
Мсуо взял кимойо, ловко расчертил лист бумаги и начал вписывать в образовавшуюся сетку:
— Муяка был подлинным волшебником слова и большим мыслителем, — не без гордости наблюдая мое удивление этой стихотворной эквилибристикой, проговорил бвана Мсуо. — Он рассуждал о том, что «огромен мир и никогда его пределов не достичь нам», и напоминал, что «перед Аллахом все равны: и в рубище, и под шелками». Но самое удивительное то, что большинство его блестящих афоризмов, бытующих сегодня в нашем языке как народные пословицы, были рождены без всяких кимойо. Он сочинял их на рыночных площадях Момбасы, на набережных Ламу и Пате, где в годы его жизни еще была жива суахилийская традиция состязания поэтов и острословов. Говорят, что одной-единственной фразы, брошенной из толпы, ему было достаточно для того, чтобы в тут же сочиненном экспромте блеснуть своим искрящимся остроумием и изысканным мастерством.
— Как же сохранились произведения Муяки, если они не всегда записывались?
— Они жили и живут в народе. Большая часть его поэтического дивана перенесена на разлинованные по кимойо листки лишь в восьмидесятых годах XIX века, спустя сорок лет после смерти Муяки. Сделал это мвалиму Сикуджуа — человек, который вел такой же образ жизни, как и старый Мсуо. Каждый вечер он обходил африканские кварталы Момбасы и записывал то, что сохранила благодарная народная память. Мы должны также быть признательны Сикуджуа за то, что он собрал и помог сохранить до наших дней секреты народной суахилийской медицины.
При этом дремавший бвана Абу встрепенулся и начал выведывать у бваны Мсуо способы излечения мучивших его недугов. А я, послушав стариков и поняв, что тема эта бесконечная, принялся за чтение рукописи, найденной Мсуо в Манда.
В длинном свитке речь шла о событиях начала прошлого века, которые привели в конечном итоге к закату Пате и возвышению Ламу. Узнать об этом перед возвращением в этот город и знакомством с его «серебряной порой» было очень кстати.
Между Ламу и Пате, извечно боровшимися за господство над архипелагом, никогда не было согласия. Во времена «золотой поры» патти взяли верх в этой борьбе. Для того чтобы закрепить свои позиции, они в 1801 году заложили в Ламу огромный форт, где намеревались держать солдат. Однако фумомари, приказавший начать строительство, неожиданно умер. А между его многочисленными вдовами и их пятьюдесятью сыновьями, каждый из которых считал себя законным наследником, началась ожесточенная свара за власть.
В конечном итоге на трон сел претендент, которого поддержал Мазруи. Создалась коалиция Момбаса — Пате, опасная для Ламу. Правивший тогда этим городом-республикой совет вождей заседал семь дней и семь ночей. В конечном итоге было принято решение на первый взгляд неожиданное, но в действительности очень характерное для «дипломатии хитростей», которую всегда проводили города архипелага: старейшины добровольно соглашались впустить войска момбаситов в свой город. «Это поможет нам при вашей поддержке выбросить агрессоров патти», — говорилось в послании, которое на доу было доставлено в Форт-Иисус.
Однако Мазруи, прибрав к рукам Ламу, решил не ссориться с союзниками-патти. С фумомари была достигнута договоренность: нужно достроить форт в Ламу. Ради этого момбаситы делают вид, что принимают предложение старейшин, и заигрывают с ними до тех пор, пока сооружается крепость. Затем, спрятавшись за ее стены, войска Мазруи обеспечат полную поддержку нападению на Пате с моря. «Старцы из Ламу попадут в капкан, который они сами же себе и расставили», — потирая руки, говорил фумомари своим момбасским союзникам.
В 1813 году Мазруи самолично пожаловал в Ламу, чтобы поторопить с сооружением форта под предлогом «надвигающейся опасности из Пате». Но кто-то из сопровождавших Мазруи вельмож бросил какую-то двусмысленную фразу, которая стала известна одному из правящих старцев. Он заподозрил, что за спиной Ламу между Момбасой и Пате ведется нечестная игра, и вновь занялся «дипломатией хитростей». От имени фумомари старейшина сфабриковал письмо к Мазруи. В нем выражались опасения патти тем, что жители Ламу «обихаживают гостя из Момбасы», и содержалась просьба подтвердить все ранее достигнутые большим трудом договоренности.
Поздней ночью, в глубокой тайне, старейшина отправил это письмо с рыбацкой лодкой к мысу Мканде. Там верный человек с письмом пересел на шедшее из Пате доу, вернулся в Ламу, на глазах у момбасских солдат и соглядатаев сошел на берег и сразу же направился к кораблю, служившему резиденцией Мазруи.
Ничего не подозревая, тот тотчас же ответил на письмо. В нем содержались заверения, что момбаситы поддержат нападение Пате на Ламу, как только форт будет отстроен.
Не прошло и получаса, как разоблачительный ответ оказался в руках старейшины. А чуть погодя, сопровождая Мазруи, пожелавшего осмотреть строительство крепости, старейшина показал ему письмо, а затем громогласно поведал о случившемся всем присутствовавшим.
Посрамленный Мазруи отбыл в Пате, излил свою злобу на молодого фумомари, а затем совместно с ним занялся подготовкой нападения на разоблачителей. Избегавшие военных столкновений с португальцами, от которых Ламу обычно откупался, жители этого города на сей раз приняли бой. Битва произошла при Шелле — знаменитом ныне своими архитектурными памятниками селении, которое расположено в пяти километрах к югу от Ламу.
Войско Ламу превосходило врага по численности, однако в свитке их победа не объяснялась этим обстоятельством, а приписывалась помощи Мвеньи Шеши Али — «человека, знавшегося с духами предков». Он сделал «чудодейственный гонг, своими звуками поддерживавший боевой дух граждан Ламу и запугивавший врага». Когда патти и момбаситы начали отступать, пришло время отлива, их корабли сели на мель, путь к бегству был отрезан. Лишь горстка солдат возвратилась в Пате, где женщины потом долгие годы неутешно оплакивали погибших. Победа при Шелле сильно подорвала позиции Мазруи на архипелаге и привела к закату Пате.
Глава пятьдесят восьмая
Город, где люди обручены с традицией. — Утро в Ламу. — Улицы, которые моют мылом. — Черная чадра не укротила черных женщин. — Раритеты на аукционе. — Арабский язык здесь знают очень немногие. — Сиеста — время поэтов
В Махарусе меня ожидали два гневных письма и четыре счета на крупную сумму от бваны Чуй. Оплатив их, я вновь отправился бродить по Ламу.
Чем больше познаешь этот удивительный город, тем больше попадаешь во власть его колдовских чар. Мало, очень мало осталось на земле мест, где бы традиционную культуру высокого уровня развития пощадила современная цивилизация. Местные жители опасаются ее влияния и не жалуют новинки технического прогресса. Они с подозрением относятся к тому новому, что может навсегда разрушить еще полезное старое… «Люди Ламу обручены с традицией», — говорят о них другие островитяне.
Размеренно начинается здесь день. С восходом солнца над городом со всех 19 минаретов Ламу разносится заунывный крик муэдзина, созывающего правоверных воздать должное Аллаху. Словно под аккомпанемент этого звука, неторопливо подымают паруса выстроившиеся вдоль набережной фелюги рыбаков, уходящих в океан на промысел. На рейде, плавно покачиваясь на волнах, ждут прилива доу, идущие под разгрузку. Протяжное мычание раздается с огромных баркасов, на которых сомалийцы привезли живой скот. Постепенно в порт стягиваются грузчики-баджун. В ожидании работы они устраиваются на парапете набережной и, купив у уличного разносчика две горсти разваренного риса на банановом листе, принимаются за завтрак. Длинная вереница ослов, на спинах которых прикреплено по два огромных мешка с ракушечником, направляется к пирсу.
К восьми утра центр деловой жизни города перемещается на Харамбе-авеню и прилегающие к ней улочки-щели. Если попасть туда на полчаса раньше, то можно увидеть, как домохозяйки или их слуги посыпают мыльным порошком столетиями полируемые ногами прохожих известняковые плиты тротуаров, а затем драят их шваброй.
Едва просохли улицы, открываются магазины, и в них тотчас же изо всех резных дверей устремляются женщины в черных буибуи. Ритмичный шум, доносящийся из прикрытых жалюзи окон, извещает о том, что на видавших виды машинках «Зингер» начали работать швеи и портные. Застучала стамеска сапожника: подошву не выходящих из моды вот уже несколько столетий сандалий делают здесь из пальмовой древесины. «Самаки! Самаки! Самаки!»[47] — неожиданно донеслось сразу с нескольких сторон. Это значит, что в порту уже разгрузились уходившие на ночной промысел рыбаки, и торговцы, расхватав их улов и разрубив на части огромных акул, марлинов и тунцов, теперь предлагают товар покупателям.
На небольшой площади, образованной перекрещивающимися улицами, расселись в тени почти сплошь покрытой огненно-красными цветами сикоморы арабы — владельцы обслуживаемых в порту доу. Обмахиваясь от жары пальмовыми листьями, они ежеминутно сплевывают бетель и не пропускают в своих шуточках ни одной проходящей мимо женщины.
Несмотря на усиливающуюся жару, большинство женщин предпочитают прятаться под покрывалом буи-буи. Это, однако, не мешает им, проходя мимо балагуров, отвечать на насмешки, а то ненароком и уронить с лица покрывало как раз напротив сикоморы, дерзко явить посреди улицы свою красоту. Оказывается, под черными балахонами далеко не всегда скрываются безропотные блюстительницы заветов Корана. Напомаженные губы, подведенные яркой синью глаза, выщипанные брови, манерные, типично африканские прически. Черная чадра не укротила черных женщин!
Была суббота, и на площади перед фортом собирался традиционный аукцион. Обычно на нем продают бананы, как правило оптом, экзотические дары моря, сшитые в местных мастерских канги, китенги и кофии. Однако, если повезет, на аукционе могут попасться удивительные вещи, дополняющие общую картину суахилийского быта. Например, вечный, никогда не устаревающий календарь местного изобретения, с виду похожий на деревянные перекидные счеты. Или украшенная дивным резным растительным орнаментом подставка для книг, придуманная, кстати говоря, не столько для удобства читателя, сколько ради сохранности книги.
Если площадь, заполненную ярким торжищем, обогнуть справа и по склону холма подняться чуть вверх, то можно выйти к нарядному зданию коранической школы. Обучающихся в ней мальчишек заставляют зубрить Коран по-арабски, но элементарно изъясняться на этом языке, закончив школу, они так и не могут. На почте я собственными глазами видел нескольких пожилых людей, отправлявших письма: кто в Момбасу, кто на Занзибар. Хотя вот уже почти сто лет существует суахилийское письмо на основе латинской графики, все они надписывали адрес по старинке — арабской вязью. Однако, кроме приветствия и нескольких банальных фраз, ничего сказать по-арабски старики не смогли.
Минут за пятнадцать до полудня раздается звонок, извещающий об окончании занятий в школе, ровно в двенадцать аскари закрывают двери государственных учреждений, а лавочники опускают жалюзи в дуках. Начинается пятичасовая сиеста. Город вновь вымирает, лишь на небольшой площади у спуска, где стоит дом бваны Купоны, собираются люди. По старой традиции сюда приходят те, у кого есть вкус к поэзии, но кому некуда спрятаться от солнца. В былые времена, когда на распространенном в Ламу наречии суахили — киаму — создавалась классическая поэзия XIX века, на эту площадь приходили великие поэты и проводили те самые соревнования стихотворцев, о которых рассказывал Мсуо. Теперь там только читают стихи, созданные на киаму. Здесь впервые услышал я очень популярное, как потом выяснилось, утенди, которое лишний раз подтвердило мою мысль: жители Савахила ни в коей мере не отождествляют себя с арабами, а местная культура отнюдь не преклоняется перед ними.
Глава пятьдесят девятая
Дж. Аллен ставит последние точки над «i»: речь идет о суахилизации арабов, а не об арабизации африканских мусульман. — Уникальный для Тропической Африки осколок традиционной городской цивилизации, чудом сохранившийся до наших дней. — Эталон городского быта. — Чудеса сантехники. — «Жители Лондона XVIII века могли бы позавидовать обитателям Ламу». — Влияние африканского быта на архитектуру. — Стена каждого дома — это подлинное произведение искусства. — Наследие цивилизации и современная жизнь. — Многообразие и единство суахилийского мира
Есть еще одно место, где в часы сиесты в Ламу всегда шумно и оживленно. Это — «Петли бар». Там собирается в основном европейский «свет» городка, и именно там я надеялся в тот субботний день найти Джеймса Аллена — куратора местного музея и большого знатока Савахила.
Дж. Аллен быстро занял свое место в научном мире Восточной Африки. В первых же своих опубликованных работах он по-новаторски, смело заявил об африканских истоках суахилийской цивилизации и поставил все точки над «i» в вопросе о том, почему некоторые его западноевропейские коллеги все еще силятся выдать ее за «арабскую». Он писал, что «этот ярлык необоснованно повешен британской колониальной наукой» и что попытки объяснить любое достижение суахили «импортом из Аравии», равно как и домыслы о «финикийском вкладе в строительство Зимбабве», должны быть «несомненно отвергнуты как империалистический миф».
Пожалуй, впервые в западной африканистике он заявил, что преобладающей тенденцией на восточноафриканском побережье в течение всего последнего тысячелетия была скорее суахилизация арабов, чем арабизация африканских мусульман. Был отброшен термин «африканизация» в отношении переселенцев из стран исламского мира, под которым расиствующие ученые подразумевали разрушение их более высокой культуры «черными элементами». Обосновавшись в Ламу и основываясь на огромном местном фактическом материале, ранее не вовлекавшемся в научный оборот, Дж. Аллен взглянул на прошлое этого района не как на историю городов-государств «цивилизованных переселенцев», а как на составную часть истории бантуязычного населения всего восточноафриканского региона, навел мосты между цивилизацией суахили и цивилизацией банту в целом.
Но сначала, когда мы встретились у «Петли» и я поделился с ним своими впечатлениями от последней поездки по архипелагу, Аллен начал разговор не о теоретических проблемах, а, как он выразился, о «тех частностях, без которых впечатление о культуре суахили не может быть полным».
— Надо твердо уяснить себе, что на архипелаге Баджун мы сталкиваемся с уникальной для Тропической Африки традиционной городской цивилизацией. Эта городская цивилизация имеет очень солидный возраст и на разных стадиях своего развития затрагивала то одни, то другие его части. Поэтому практически все население архипелага, даже обитатели ныне кажущихся полузаброшенными деревнями древних поселений на Манда, живет по законам городской культуры. Она может показаться экзотичной, архаичной, консервативной, но это именно тот городской традиционный африканский быт, который чудом сохранился до конца XX века. Эталон этого быта был создан на Ламу в первые десятилетия его «серебряной поры». Познакомиться с ним настолько важно, что я бы предложил вам расстаться с прохладой «Петли» и вновь совершить прогулку по городу.
По опустевшим улицам мы пошли по направлению к форту, где сохранились характерные для традиционной архитектуры Ламу дома XVIII — начала XIX века. Они имеют открытую террасу и по своей конструкции представляют собой модифицированный вариант тех более ранних жилых построек XIII–XVI веков, которые известны в Килве и Геди. Так, форма окон этих старых домов явно свидетельствует о том, что над местными зодчими довлела задача обезопасить находящихся в них женщин от докучливых взглядов соседей и прохожих. Означает ли это, что дома в Ламу строились по канонам арабской архитектуры?
— Нет, — однозначно отвечает на этот вопрос Дж. Аллен. — Причем это не только мое личное мнение. Не так давно здесь работал крупный специалист по истории арабской архитектуры Усам Хайдан — иракский ученый, читавший лекции в Найробийском университете. Потом появилась его монография «Ламу. Исследование суахилийского города». В ней делается вывод: местные дома не похожи на арабские, они оригинальны и представляют собой важный вклад в развитие городской архитектуры в условиях тропиков.
— В чем же заключается их специфика?
— У суахилийских архитекторов была своя концепция пространства. Она отражала свойственные африканцам традиции общения. Оставляя разумный минимум площади для частной жизни, строители домов неизменно «выкраивали» побольше места для общесемейного использования и приема гостей. Поражает высокий уровень санитарно-гигиенических условий в этих домах. Каждый из них имел по два-три туалета и вызывающую восхищение систему канализации. Во многих домах была не только холодная, но и горячая вода. Все «санузлы» были со вкусом отделаны. Делалось все возможное, чтобы поддержать чистоту и избежать неприятного запаха.
Я уверен, — продолжает Аллен, — не будет преувеличением сказать, что уровень гигиены и сантехники в Ламу XVII века был намного выше, чем в Лондоне тех времен.
Столь же прогрессивно решались строительные проблемы в масштабах всего города. Выросший в условиях влажного климата Ламу нуждался в сложной дренажной системе. Узенькие улочки, в которые не проникает солнце и где поэтому всегда прохладно, хороши лишь в сухую погоду. После тропического ливня они могут стать сущим адом. Потоки воды превращают их в глубокие каналы размывают фундаменты, затопляют нижние этажи, выносят наружу нечистоты, сбрасываемые затем в океан. Пляжи превращаются в свалки, в зловонные малярийные болота. Несколько таких дождей равносильны для старого города без канализации стихийному бедствию. Поэтому еще в XVIII веке, по мере того как Ламу застраивался, под ним создавалась разветвленная система глубокого дренажа. Копировать тут суахилийским строителям было некого! Ведь в арабских городах, создававшихся среди пустынь, подобные проблемы попросту не стояли.
В общем, — резюмирует Дж. Аллен, — Ламу являет собой прекрасный образец планирования и застройки африканского города доколониального периода. При этом всегда надо помнить, что суахилийские архитекторы мало что заимствовали извне и очень умело приспосабливались как к географической среде влажных тропиков, так и к специфическим социальным, психологическим требованиям его обитателей — африканцев.
Представление о самобытной суахилийской архитектуре, однако, не может быть мало-мальски верным, если не упомянуть о еще одной специфической детали — декоративной лепке. Ее прекрасные образцы сохранились еще во многих жилых домах Ламу. Однако устраивать экскурсию по таким домам в часы сиесты было не вполне удобно. Поэтому Дж. Аллен предложил потратить четверть часа и на моторке съездить в Шеллу. Там среди белоснежных дюн стоят полуразрушенные, покинутые здания, стены которых подобны произведению искусства.
Я не оговорился — именно стены! Потому что есть среди развалин Шеллы комнаты, в которых с пола до потолка все стены украшены, словно сотами, изящными нишами — мадаке, обрамленными лепными панелями филигранной работы… Есть анфилады комнат, где можно видеть целую галерею дивной красоты лепных дверных коробок… Есть ванные комнаты, где места для мыла и парфюмерии, расчески или стакана выдолблены в известняке и щедро украшены орнаментированной лепниной. Странно было видеть эти роскошные руины рядом с обитаемыми лачугами, в которых ютятся грузчики и рыбаки Шеллы.
Долго ли простоят еще под открытым небом эти шедевры суахилийских строителей? Корни растений уже рвут фундаменты зданий, поселившиеся внутри их пальмы переросли стены, а птицы не без комфорта устроились в глубоких мадаке.
— Все как в знаменитой утенди «Ал-Инкишафи» — «О тщете», — с трудом пробравшись ко мне через сплетения лиан, блокировавших вход в одну из комнат, полушепотом сказал Аллен. — Помните?
Ниши, где стоял фарфор, — Птичий постоялый двор. Диким уткам здесь простор И сове ширококрылой, —продекламировал он. — Хотя, по правде говоря, я не вполне уверен в том, что в каждой из этих многочисленных ниш даже в «серебряную пору» Ламу обязательно стояли вазы. Так же как не согласен с теми, кто утверждает, что все ниши в стенах женской половины домов использовались как вместилища для бытовых мелочей. Верхние три ряда ниш расположены настолько высоко, что поставленные туда вазы попросту не смотрелись бы, а женщины не смогли бы достать с пола то, что в них находится. Но в нижних рядах ниш действительно могли выставляться предметы роскоши: китайский и европейский фарфор, арабская бронза, индийские статуэтки, лучшие изделия местных мастеров. На почетных местах находились также книги в дорогих сафьяновых переплетах.
— Как же использовались тогда другие ниши?
— Не исключено, что их делали для улучшения акустики в доме.
Однако в первую очередь они имели престижное значение, были «эталоном красоты». Подобно тому как богатые резные двери были главным украшением наружной части однообразных домов вдоль узких улиц Ламу, эта роскошная лепнина со временем стала главным элементом интерьера узких суахилийских комнат, заставленных лишь мтаванда и улили. Ну и конечно, как и двери, богатая лепка дома свидетельствовала о достатке хозяина.
— Но ведь резная штукатурка и лепка очень распространены и в исламской архитектуре, — напомнил я. — Можно ли считать работу суахилийских мастеров столь уж оригинальной?
— И можно и должно, — последовал уверенный ответ. — Я могу, конечно, вновь сослаться на авторитет арабски образованного У. Хайдана, который категорически утверждает: «Лепной дизайн суахилийских домов — не исламского происхождения». Но приглядитесь к орнаменту лепки, и вы сами без труда убедитесь, что он повторяет основные мотивы так называемого занзибарского стиля и стиля «баджун». На первых порах резные двери, обрамленные лепниной, создавали удивительно гармоничный декоративный ансамбль в домах знатных жителей архипелага. Затем лепка, переняв все лучшие традиции искусства резьбы по дереву, почти что вытеснила двери из внутреннего интерьера домов. На смену всегда запертым дверям пришли почти всегда открытые, реже зашторенные проемы, коробки которых были украшены лепниной. Это больше соответствовало и климату архипелага, и традициям, а также нраву местных жителей, которым был чужд затворнический образ жизни мусульманского дома. Благодаря лепке, которая произвела подлинный переворот в суахилийской архитектуре, местный быт стал еще менее религиозным, более светским.
— Так же, наверное, можно объяснить и появление мадаке — своего рода «встроенной мебели», — предположил я. — Поскольку традиция суахили не знала шкафов, буфетов, сервантов, горок и сейфов, возможности лепной пластики использовались для того, чтобы хранить и выставлять красивые престижные вещи в стенных нишах. Действительно, формы архитектуры, вызванные к жизни лепкой, имеют свои африканские корни!
— И знаете что, как мне кажется, убедительнее всего доказывает местные корни суахилийской культуры? — обратился ко мне Дж. Аллен. — То, что закат «серебряной поры» Ламу, застой в развитии других городов архипелага совпали по времени с усилением здесь арабов из Омана и с Занзибара. Ведь если бы суахилийская культура была «ветвью» арабской, тут бы ей только и расцветать! Однако именно после 1850 года из суахилийских домов исчезает лепная пластика, не режут больше оригинальных дверей, повсюду, кроме Сийю, который сохранял свою политическую независимость, угасают местные ремесла. Экономически Ламу будет процветать еще несколько десятилетий, но в культурном отношении начнет сдавать свои позиции с каждым годом.
Почему? Да потому что хрупкая цивилизация Ламу в условиях мира с арабами была не способна противостоять их культурному влиянию. В условиях войны сработал бы инстинкт самосохранения нации. А в мирной обстановке оманцы и занзибарцы задавали тон и моду, заказывали суахилийским мастерам изделия на свой вкус, наводняли местные рынки товарами из метрополии, которые, естественно, служили образцом для подражания. Вслед за арабами с Занзибара на архипелаге появились ширазцы и индийцы, влияние которых на суахили увело их культуру еще дальше от путей, определяемых местной традицией.
Однако при всем при том роль внешнего влияния на архипелаге не следует преувеличивать, — говорит ученый. — Оно не идет ни в какое сравнение с процессом арабизации суахилийской цивилизации, которую за последнее столетие пережил Занзибар, или с индоевропеизацией Момбасы. Даже сегодня на Ламу живут по традициям суахилийской цивилизации дозанзибарского периода. Она конечно же обеднена, но сохранила свои черты.
Вы сталкиваетесь с ними в быту повсюду. В большом — когда имеете дело с единодушной доброжелательностью жителей, их культом чистоты, преклонением перед достижениями культуры прошлого, их любовью к своим великим поэтам, почти поголовной грамотностью, врожденной интеллигентностью. В малом — когда утром у колодца видите женщин, набирающих воду в медные сосуды XIX века, днем — когда, обедая в деревенском с виду доме, можете встретить среди поданных на стол тарелок китайский фарфор XVIII века, вечером — когда на окне покосившейся бедной ньюмбы замечаете огонек бронзовой масляной лампы XVII века. Все это и складывается в феномен Ламу, к которому следует относиться очень бережно! Этот город — своего рода живое ископаемое. Чем больше я живу в Ламу, тем больше мне хочется сравнить его с Помпеями: несмотря на катаклизмы прошлого, старинный быт здесь сохранился. При этом у Ламу есть одно огромное преимущество: город остался обитаемым. Правда, в его «серебряную пору» здесь жили более двадцати тысяч человек, а при английских колонизаторах, которые в 90-х годах прошлого столетия спустили над архипелагом красный оманский флаг и подняли «Юнион джек», осталось в четыре раза меньше. Сейчас, однако, Ламу оживает и возрождается, число его обитателей постепенно восстанавливается.
Солнце уже садилось за материк, когда, взобравшись на дюну, протянувшуюся вдоль берега океана, мы пешком отправились в Ламу. Ветер гнал на берег высокую волну. Накатываясь на пляжи, она разбивалась и обдавала даже нас мириадами брызг. Изогнувшиеся пальмы шуршали огромными листьями. Иногда в их просветах внизу открывалась панорама Шеллы: руины, плоские крыши домов, островерхие хижины, а за ними, на самом краю земли, — белоснежная мечеть с устремленным в голубое небо островерхим минаретом-маяком. Несколько мужчин, подойдя к мечети, скинули обувь и вошли в черный проем входа.
— Еще в начале века у жителей этой деревни существовал интересный обычай, — говорит Аллен. — Подходя к Ламу, они из уважения к великому суахилийскому городу снимали сандалии и шли по его улицам босиком. Кто знает, быть может, этот обычай когда-нибудь возродится и станет обязательным для всех жителей побережья, желающих воздать должное вкладу Ламу в суахилийскую культуру.
— А что, подводя итог нашей прогулке, Джеймс Аллен может вообще сказать об этой культуре и ее создателях?
— Если говорить о создателях, то я все больше склоняюсь к мнению, что понятие «народ суахили» надо трактовать намного шире, чем это было принято в колониальное время. Английские чиновники вообще с большой легкостью «создавали» и «ликвидировали» в Восточной Африке целые племена и народы, руководствуясь при этом не столько действительным положением дел, этническими реалиями, сколько своими административными и политическими целями. В их трактовке «суахили» — это социальная элита, полукровки с арабской или ширазской родословной, что и обусловливает, дескать, их способность строить города и дома с канализацией и создавать письменную литературу.
— Неудивительно поэтому, что в колониальные времена к суахили в Кении причисляли себя лишь пятнадцать тысяч человек, а по переписи 1969 года их оказалось даже на пять тысяч меньше, — вспомнил я. — Ведь после революции на Занзибаре и начала осуществления политики африканизации в Кении иметь арабских предков оказалось ни к чему.
— Да, я и сам знал двух таких «суахили с благородной кровью», которые в новой обстановке принялись усиленно доказывать, что у них были чернокожие предки. Очень редко кто из этой «суахилийской знати» колониальных времен владел арабским языком, не говоря уже о простом населении побережья. И это при том, что язык — двигатель культуры. Таково еще одно доказательство абсурдности утверждений о преобладании арабского начала на восточноафриканском побережье, где очень мало кто говорит по-арабски, но почти все — на кисвахили.
Но кого же тогда можно сегодня назвать васуахили? — задает себе вопрос ученый и отвечает: — Думаю, всех, кто живет вдоль побережья Восточной Африки — от сомалийского города Варшейка до мозамбикского мыса Делгаду. Все, кто говорит здесь на суахили, обладает общими для обитателей этого района обычаями, традициями, религией, культурой, национальной психологией, образуют единую суахилийскую цивилизацию. Подобное единство куда важнее, чем формальное признание племенной общности. Характерно, что французские ученые, которые, в отличие от своих английских коллег, не имели в Восточной Африке особых политических интересов, давно заметили и признали это единство. Для них суахили — не «племя», а этносоциальная группа, живущая «а-ля суахили».
От места к месту на этом огромном отрезке побережья есть, конечно, определенные различия и культурные варианты. Ламу и другие острова Баджун — самый яркий из них. Четко выделяется субкультура сомалийского Савахила, Занзибара, Момбасы, Дар-эс-Салама, Софалы, Коморских островов. Но эти различия не столь велики, как можно было бы предположить на такой огромной территории. И это еще раз доказывает существование единой суахилийской культуры — самобытной, зрелой и независимой. Она возникла на Черном континенте, имеет глубинные африканские корни и нигде больше, кроме как в Африке, созреть не могла бы. Это — африканская культура, причем в условиях независимой Кении в ее развитии все большее участие принимают выходцы из внутриматериковых районов страны — кикуйю, луо и лухья. Они не обязательно делаются мусульманами. Но, воспринимая суахилийский образ жизни, они вносят в него новые элементы, присущие традициям своих народов.
Так происходит взаимное обогащение культур, начатое еще теми, кто привез с Манда на материк секреты плавки черного металла, кто впервые посвятил жителей прибрежных деревень озера Ньянза в премудрости письма и научил масаи суахилийскому счету.
Глава шестидесятая
На похороны португальского колониализма опоздать никак нельзя. — Остров Мозамбик — перекресток путей времен эпохи Великих географических открытий. — Взрыв у моста задерживает нас еще на час. — «Это не привидения, а девушки». — Косметические маски и политические цели. — Оплот Лиссабона на суахилийском юге. — Макуа приветствуют передовые отряды ФРЕЛИМО
— О, если бы кто-нибудь — Аллах, Христос, Будда или даже лесной божок — смог удлинить сегодняшний день хоть на три-четыре часа, все могло бы быть так славно! — энергично хлопая себя по колену на очередном дорожном ухабе, восклицает комиссар Жоао. — Приехали бы на остров засветло, в лучах заходящего солнца отправили бы на свалку истории португальский флаг, а утром, в лучах восхода, подняли бы флаг ФРЕЛИМО. В перерыве же между торжествами занялись бы неотложными делами.
— Ничего не получится. До моста, что соединяет материк с Илья-де-Мозамбиком[48], мы доберемся лишь в полночь, — вмешивается Алвиш, наш шофер. — И как раз в это время начнется дождь — так положено по сезону. Раньше утра он здесь не кончается и льет как из ведра. Какое уж там торжество!
Но изменить что-нибудь в нашем расписании этого дня — 21 декабря 1974 года — было нельзя. Возглавляемый комиссаром Жоао передовой отряд освободительных сил ФРЕЛИМО, двигаясь с севера, принимал власть на местах у навсегда уходивших с мозамбикской земли португальских колонизаторов. Где-то за нами двигались колонны фрелимовской регулярной пехоты и отряды партизан, соединения боевой техники, спешили к своим рабочим местам фрелимовские агитаторы и учителя, врачи и агрономы — все те, кому предстояло включиться в процесс создания переходной власти в Мозамбике, перестройки его жизни на новый лад.
Но у Жоао и сопровождающих его иные, первоочередные задачи: реализовать договоренность о прекращении огня, провести митинги и встречи с заждавшимся своих освободителей населением, разъяснить ему особенности текущего момента.
— Хорош я агитатор! — теперь уже себе под нос вполголоса сетует Жоао. — Собираюсь перед народом распространяться о пользе дисциплины при новой власти, а поднять флаг этой власти сам на полдня запаздываю. A сделать все вовремя именно на острове важно вдвойне. Знаешь, почему мне так не терпится попасть на Илья-де-Мозамбик?
— Тяготеет «бремя истории»? — предполагаю я.
— Конечно! Возраст Лоренсу-Маркиша[49] как столичного города не перевалил еще за век. А Илья-де-Мозамбик! Ведь почти пятьсот лет этот город-остров был главным военным, политическим и культурным форпостом Лиссабона не только в Мозамбике, но и во всей южной части Восточной Африки, одним из оплотов могущества португальцев в Индийском океане. Туда стекались все несметные богатства, увозимые на Запад и Восток постоянно теснившимися на рейде острова огромными судами. В какой-то книжке я недавно прочитал, что в XVI веке через остров проезжали все, кого влек на Восток соблазн легкой удачи: вице-короли и преступники, поэты и купцы.
Мощный взрыв прерывает наш разговор. Машину бросает влево, разворачивает, клубы пыли заволакивают лунное небо. Рядом раздается второй взрыв, третий… Вдоль дороги, справа и сзади от нас, начинают строчить автоматы. Вскоре, однако, они стихают. Комиссар со своими помощниками выясняет обстановку, солдаты ставят наш перевернувшийся «Лендровер» на колеса и выталкивают его на дорогу.
— Судя по тому, как все бездарно подстроено, это дело рук местных правых, — резюмирует происшедшее Жоао. — Хотели подорвать на мосту нас, но ошибочно направили взрыв на лежавшую у обочины огромную глыбу ракушечника. Нас отбросило взрывной волной в песок, а осколки глыбы привели в действие еще два взрывных устройства, уничтожившие мост. Реку — а это Манапо — переедем вброд. Беда лишь в том, что у нас пропал еще целый час.
Сразу за широкой речной долиной кончилось однообразие хлопковых и кукурузных полей, за окном машины замелькали черные силуэты кокосовых пальм. Чаще стали попадаться жилища. Многие из них иллюминированы разноцветными электрическими лампочками, кое-где у входа в хижины можно разглядеть портреты фрелимовских лидеров.
Я бросаю взгляд в окно и чуть не вскрикиваю от удивления. Прямо по дороге на нас движется… форменное привидение: черный балахон, над которым выделяется лишенный всякого выражения неестественно белый блин лица. Привидение исчезает в темноте, но автомобильные фары высвечивают на дороге другие странные фигуры в белых масках.
— А, значит, девушки нас еще ждут, — тоном, в котором звучит явное удовлетворение, говорит Алвиш.
— Девушки? — удивляюсь я. — Я было подумал, что это представители местной контры, решившие отпугнуть людей от праздника.
Алвиш закатывается таким смехом, что вынужден притормозить машину. На заднем сиденье ему вторит Жоао.
— Зачем они делают себе такие страшные физиономии? — спрашиваю я.
— Для красоты, исключительно для красоты, — смеется Жоао. — Дело в том, что женщины макуа давным-давно отдают дань косметике. Таким образом они пытаются предохранить нежную кожу лица от здешнего жестокого солнца, которое жжет не только сверху, но и снизу, отражаясь и от белоснежного кораллового песка, и от зеркальной глади океана.
— Время, однако, уже давно помыться и предстать перед гостями во всей своей красе.
— А, это уж маленькая хитрость. Девушки наши, фрелимовские. Был уговор: если они встречают нас «несмытые», значит, на острове все спокойно, и мы можем ехать дальше. Если бы они открыли свои прекрасные лица, то это означало бы, что нас ждут неприятности.
Резкий поворот шоссе — и перед нами в отсвете тысяч разложенных вдоль берега костров предстал остров Мозамбик. На посеребренной лунным светом глади Индийского океана он казался сверкающим мириадами граней драгоценным камнем на серебряном подносе.
Завороженные этим зрелищем, мы притормозили. И почти тут же, очевидно отреагировав на появление передовой колонны ФРЕЛИМО, у переезда включились прожектора португальских военных объектов острова, высветив в ночи строгие очертания средневекового арсенала, зубчатые стены форта, брустверы укреплений, уходящих далеко в загадочный океан. Изгнанные с островов суахилийского севера еще в конце XVII века португальцы здесь, на юге, сохраняли свои владения вплоть до наших дней.
Длинный, почти трехкилометровый, но узенький, не дающий разъехаться и двум легковым автомобилям мост, соединяющий материк с Илья-де-Мозамбиком, не мог вместить и сотой доли людей, съехавшихся сюда со всей округи по случаю прибытия ФРЕЛИМО. Основная масса встречавших разместилась в лодках. Наверное, никогда еще мозамбикские воды, посещавшиеся мощными армадами галер, каравелл и фрегатов, не видели такого количества пирог, фелюг и доу. В каждой из них — оркестр и танцовщики, которые, размахивая факелами и не обращая никакого внимания на все усиливающийся прибой, выделывали в своих перебрасываемых с волны на волну суденышках хитрые антраша.
При въезде на остров — облаченные в соответствующие торжественному моменту одеяния колониальные чины. После обмена рукопожатиями и приветствиями португальцы предлагают представителям ФРЕЛИМО проследовать в губернаторский дворец. Там при закрытых дверях будет обсуждаться механизм переходного «разделения власти» между колониальной администрацией и освободительными силами, а также детали подъема флага ФРЕЛИМО над островом.
Глава шестьдесят первая
Флаг свободы над колониальным фортом. — Илья-де-Мозамбик — главный оплот проникновения европейцев в XVI–XVII веках в Африку. — Здесь многое было сделано «впервые». — Крепость Сан-Себаштьян — главный конкурент Форт-Иисуса. — Страшные тайны португальских казематов. — Ораторское искусство политкомиссара и наследие вождей-прорицателей. — Жоао рассказывает о целях национально-освободительных сил. — Мы победим!
…И вот я смотрю на флаг, высвечиваемый прожекторами на звездном бархате африканской ночи, и думаю о том, что, хотя провозглашение независимости Мозамбика еще впереди и флаг республики взовьется в небо Лоренсу-Маркиша лишь спустя шесть месяцев, 25 июня 1975 года, первую черту под почти пятисотлетним правлением Лиссабона в Восточной Африке правомочно провести именно здесь, на острове Мозамбик, на протяжении веков бывшем символом этого правления.
Португальцы кичились, что на Мозамбике ими многое было сделано «впервые». Именно против жителей этого островка впервые в истории Восточной Африки европейские колонизаторы употребили огнестрельное оружие и тем самым впервые запятнали кровью отношения между Западной Европой и Востоком. Затем Мозамбик стал первым постоянным поселением белого человека к югу от экватора, форпостом, откуда осуществлялось проникновение португальцев как в Африку, так и за океан, в Индию. Именно на этом островке появилось первое каменное здание, сооруженное белым человеком к югу от экватора. Симптоматично, что это — церковь, символизирующая столь характерное для колониальной политики Португалии единство креста и шпаги. Островная цитадель была и первым оплотом португальцев, испытавшим на себе всю силу национально-освободительного сопротивления африканцев. Так не признак ли исторической справедливости предоставить многострадальному островку счастье первому в стране встретить новое утро под флагом освободительных сил!
А пока что под этим флагом на главном плацу крепости собирается все двенадцатитысячное население острова и не меньшее количество гостей, прибывших с материка. Жоао стучит по микрофону — толпа замирает.
— Товарищи, друзья! — начинает он. — Вам отлично известно, с каким страшным пятисотлетним колониальным наследием мы сегодня расстаемся. Вы, жившие здесь, на крохотном Илья-де-Мозамбик, порою знали о зверствах «белых хозяев» нашей страны даже больше, чем жители крупных городов на материке. На крохотном островке не может быть секретов, и по ночам вы конечно же слышали стоны подвергавшихся пыткам и призывы о помощи, доносившиеся из-за стен казематов. Древний форт, которым португальцы гордились как первым оплотом белой цивилизации в Африке, был превращен ими в последние годы в главную тюрьму, в лабораторию пыток над патриотами. Лучшие сыны и дочери нашей страны замучены за этими стенами, сотни патриотов были сброшены с них прямо в океан. Сегодня, принимая власть над крепостью, мы освободили ее последних узников. Вот они: Мария Граса да Кошта — двадцатитрехлетняя девушка из Лоренсу-Маркиша, которую три года продержали в одиночном каменном мешке вместе с полчищами клопов, скорпионов и муравьев лишь за то, что она отнесла в столичную тюрьму передачу своей подруге — активистке-подпольщице.
Толпа возмущенно гудит, когда четверо фрелимовцев выносят на носилках Марию и ставят их рядом с Жоао.
— Томаш Нчангу — наш двадцатипятилетний боец. Полтора года палачи ежедневно пытали его, наливая ему в глаза, а вернее, в уже давным-давно пустые глазницы кипящее масло. Так Томаша вынуждали назвать имена его товарищей — разведчиков, помогавших нам следить за военными базами в Нампуле.
Поддерживаемый солдатами, Томаш тоже занимает свое место под флагом. Чувствуется, что напряжение среди присутствующих нарастает.
— Альфонсу Чипанда, ему уже перевалило за восьмой десяток, причем последний он провел здесь, по соседству с вами. Вы, наверное, знаете, что ближайшие соседи макуа на материке — народ маконде. Мзее Чипанда был уважаемым вождем у маконде. Португальцы потребовали, чтобы он запретил юношам и девушкам подвластных ему сел присоединяться к отрядам освобождения. Большой патриот, Чипанда отказался. И тогда мзее привезли на ваш остров. По отношению к старику применили пытку, цинично называемую колонизаторами «маконде». Почему так? Потому, что у маконде еще не забыт обычай татуировки. Почти ежедневно варвары, что окопались в этой крепости, разрезали старику кожу на спине и груди острой бритвой — «подновляли рисунок», как острил палач, затем заливали раны кислотой. Но мзее выстоял. Сегодня он в наших рядах.
Одетый в новую, с иголочки, пригнанную фрелимовскую форму, седой как лунь мзее Альфонсу выходит из каземата и присоединяется к своим товарищам. Отдает честь флагу. Затем, чуть задумавшись, снимает с себя гимнастерку. На теле — алые, едва затянувшиеся раны.
— Мне уже говорил кое-кто сегодня, да и раньше я был наслышан, что вот-де Мария — с юга, мзее — с севера, а что местных, макуа, колониальные власти якобы не обижали и все им прощали, — нагнетая пропагандистский накал, продолжает Жоао. — Тогда пусть хоть кто-нибудь из собравшихся здесь скажет мне, почему вот уже три года нет среди нас Катарины Нганьи? Да-да, той самой «матушки Кати», которая усыновила семерых детей, чьи родители-рыбаки не вернулись с океана, и которая первая заявила на этом острове: «Наши мужья не будут разгружать в порту оружие, которым убивают наших мальчишек и девчонок». Так где же Катарина Нганья?
Не удовлетворяясь робкими «Ее здесь нет», «Ее увезли на материк», «Мы не знаем», доносящимися с площади, Жоао повторяет свой вопрос, добиваясь, чтобы каждый из присутствующих включился в осознание происходящего на площади.
— Где же Катарина Нганья? — каждый раз все более аффектируя интонации своего раскатистого баса, вопрошает Жоао.
Я всегда восхищался искусством фрелимовских комиссаров направлять и, я бы сказал, «настраивать» аудиторию, используя при этом не только смысловую, идеологическую нагрузку своего выступления, но и традиционные, чисто африканские приемы владения аудиторией. Есть в их ораторском искусстве что-то от древних традиций африканских вождей-прорицателей, ясновидцев, чародеев, умевших вводить людей в своего рода транс, психологический шок, использовать, импровизируя, совершенно случайные явления природы.
Вот и сейчас так получилось у Жоао.
— Так где же Катарина Нганья? — могучим басом вопрошает Жоао.
И я чувствую, что собравшиеся, утомленные долгими ожиданиями сегодняшних событий, потрясенные встречей с героями и мучениками крепостных застенков, доведены этим раздающимся как бы откуда-то из черноты предгрозового неба вопросом до некоего нервного предела.
К Жоао подходят девушки во фрелимовской форме с алыми подушечками в руках.
— Вот она, Катарина Нганья с острова Мозамбик! — неожиданно провозглашает Жоао.
И в тот же момент гигантская молния, прорезав небосклон, ударяет в океан. Минуты две по всему непроницаемо черному горизонту катится грозовой раскат.
— Вот кандалы, в которые были закованы ее руки, — теперь уже тихим, слегка дрожащим от волнения голосом произносит Жоао, указывая на подушечки в руках девушек. — Вот цепи, что оплетали ее ноги. Вот ошейник с иголками, который впивался в ее шею. Те, кто якобы любил макуа и пестовал среди них людей побогаче, бросили нашу Кати в подземный колодец, сообщавшийся с океаном. Морские пиявки сосали ее кровь, а хищные черви терзали ее тело. Несколько костей да тюремный, номер 2135/7, под которым была заключена «заговорщица Нганья», — вот и все, что осталось от нашей Катарины.
Я смотрю на заполненную до отказа людьми, неестественно безмолвствующую площадь. Тишина длится минуту, вторую, третью. Потом ее нарушают первые капли дождя, и вслед за ними над площадью проносится стон. Начинают плакать женщины, плакать так, как это умеют делать лишь африканки: они кричат и завывают, катаются по земле и вырывают волосы друг у друга. Навзрыд, не стесняясь слез, плачут мужчины. Ну а уж дети…
Часы на крепостной, башне отбивают два часа ночи. Дождь все усиливается, заглушая плач и смывая с лиц островитянок последние следы нсиро. С океана дует резкий, пропитанный солеными брызгами ветер. Весьма жалко выглядящие в своих маскарадных нарядах португальские чины, о чем-то посовещавшись, шепотом предлагают Жоао перенести продолжение церемонии на утро.
— Нет, я буду говорить сейчас! — рявкает он в микрофон. — Но я буду теперь говорить не о колониальном режиме, последние преступления которого смоет сейчас этот очистительный дождь. Я буду говорить о новом режиме, флаг которого отныне и навечно будет развеваться над мозамбикской землей.
Жоао рассказывает о том, как в освобожденных районах на севере, где ФРЕЛИМО начал борьбу за независимость, зарождались зачатки новой жизни, о том, как в процессе борьбы и труда там шла битва за нового человека, как создавались кооперативы, которые занимались выращиванием сельскохозяйственных продуктов, добычей соли, ловлей и засушкой рыбы, изготовлением сельскохозяйственных орудий и домашней утвари, сборкой и ремонтом оружия. Комиссар говорит, что даже химическая война и налеты португальской авиации не смогли затормозить экономическое развитие освобожденных районов. Для того чтобы не подвергаться бомбежке, тысячи людей работали на полях ночью. В результате появились излишки продукции, экспорт которой стал источником средств для приобретения необходимых в освобожденных районах товаров, а также оружия.
Островная аудитория явно не готова слушать выступление на политические темы, стоя среди ночи под проливным дождем. И Жоао, прекрасно чувствуя это, внезапно обрывает свой рассказ и затягивает песню. Ее подхватывают фрелимовцы. То в одном, то в другом конце плаца начинают глухо отзываться набухшие от дождя барабаны. Проходит несколько минут — и вот уже вся многотысячная аудитория, собравшаяся в форте, поет партийный гимн «Канимамбо, ФРЕЛИМО» («Спасибо, ФРЕЛИМО»). Его сменяет старая, пришедшая из глубины веков песня о легендарном вожде Маурузе, в конце XVI века возглавившем первое восстание макуа против иноземных пришельцев. Потом все пустились танцевать, поднимая столько брызг, что уже было не разобрать, откуда воды больше — с неба или из-под ног. И снова, усиленный микрофоном, раздается раскатистый бас Жоао:
— От одного успеха в нашей борьбе мы шли к другому. Была создана система народного просвещения. Многие молодые мозамбикцы были направлены для получения образования в социалистические страны. Поэтому уже сегодня ФРЕЛИМО может с гордостью заявить: несмотря на трудности военного времени, нужду и лишения, мы за период войны дали образование большему числу соотечественников, чем колонизаторы за 500 лет!
Но главными, определяющими чертами освобожденных районов стали ликвидация там системы эксплуатации и угнетения народа и создание новых форм власти, служащих интересам масс. Народ, направляемый армией, сам стал осуществлять руководство экономической, социальной и административной жизнью. Регулярно проводились народные собрания, на которых обсуждались различные вопросы и изыскивались пути их решения в интересах населения. Массы начали опираться на собственные силы, высвобождать свою творческую энергию. Так в освобожденных районах зародилась народная власть, ставшая средством уничтожения эксплуатации человека человеком.
Ощутив, что аудитория вновь уходит из-под контроля, перестает воспринимать слишком емкие и пока еще абстрактные для ее понимания категории, Жоао предлагает слушателям «игру», давно апробированную фрелимовскими комиссарами в их работе с африканскими массами.
— Абайшу[50] эксплуататоров! — провозглашает комиссар, правой рукой как бы вминая в землю классового врага.
— Абайшу! — восторженно подхватывает аудитория, жестами энергично «добивая» эксплуататоров.
— Вива свободный труд! — подняв руку в ротфронтовском приветствии, выкрикивает Жоао.
— Вива! — И лес кулаков теряется в дождливой темноте.
Такое чередование лозунгов самого различного содержания с попеременным подниманием и опусканием рук длится очень долго. Наконец оратор, желая проверить политическую «бдительность» с воодушевлением включившейся в «игру» аудитории, провозглашает заведомый нонсенс:
— Абайшу алфабетизасао[51]!
— Абайшу! — ничтоже сумняшеся вторят ему собравшиеся, делая соответствующие жесты и с удивлением наблюдая за комиссаром и окружающими его фрелимовцами, стоящими с поднятыми кулаками.
Многие тотчас же исправляют свою ошибку и, поняв что к чему, начинают смеяться. Смех перекатывается по толпе, и вот уже вся площадь, весело обсуждая случившееся, хохочет над проделкой комиссара.
А для комиссара это повод для того, чтобы поговорить о необходимости революционной бдительности в условиях независимого Мозамбика, рассказать о происках западных спецслужб против национально-освободительных сил, перейти к большой и важной теме о том, что мозамбикский народ, руководимый ФРЕЛИМО, вел свою борьбу за свободу не только против португальского колониал-фашизма, но и против поддерживавших его сил мирового империализма, против США, НАТО, расистской ЮАР.
Кончился дождь, и вскоре на расчищенное свежим ветром голубое небо выкатило из-за океана ослепительное солнце.
— Вива ФРЕЛИМО! — провозглашает комиссар, и поднимается лес рук.
— Вива мозамбикский народ!
— Независимость или смерть! Мы победим!
Митинг заканчивается. Впереди танцы, а в перерывах между ними — обсуждение услышанного на ночном митинге.
Жоао сходит с трибуны, и только теперь, в свете яркого утра, я вижу, как он измотан, каких сил стоило ему это восьмичасовое выступление.
— Абайшу усталость! — хлопая меня по плечу. — Пора принимать хозяйство, знакомиться с островом.
Глава шестьдесят вторая
Всеафриканский рекорд плотности населения. — Черный и Белый город знаменитого острова. — Знакомый суахилийский колорит. — Первое каменное сооружение европейцев к югу от экватора. — «Величайший памятник», построенный на костях африканцев. — Сидаде-Бранка — город-призрак
Размеры острова Мозамбик как бы обратно пропорциональны той огромной роли, которую он на протяжении почти пяти веков играл в истории восточноафриканского региона. Длина этого кораллового сооружения — три километра, ширина — один километр. Итого три квадратных километра суши, на которой живет 12 тысяч человек. Густота населения — максимальная для Африки, рекорд континента!
Выросший на этом клочке суши город Мозамбик занял весь островок. Внутри же город четко делится на два района: Сидаде-Прету (Черный город) и Сидаде-Бранка (Белый город).
Когда в «свите» Жоао я впервые попал в Сидаде-Прету, то первое, что бросилось мне в глаза, — это скученность населения. В африканских кварталах острова заселен и обработан буквально каждый квадратный метр. От некогда богатой тропической природы осталось всего лишь два зеленых пятнышка — два огромных, развесистых баньяна, в тени которых женщины коротают время, стоя в очереди за водой. Она — дефицит на острове, где реки неизвестны, а дождевая вода моментально впитывается известняковыми породами. Над главной улицей Сидаде-Прету тянется сплошной навес, образованный сплетением лиан-бугенвиллей, усыпанных белыми, розовыми, фиолетовыми и красными цветами. Под навесом жмутся друг к другу крохотные, явно однокомнатные домики из известняка. Сопровождающие Жоао португальцы объясняют, что здесь живут африканские чиновники и торговцы.
В сторону от этой улицы, к океану, тянутся кварталы бедноты: уплотненные городской застройкой обычные африканские хижины, лишь кое-где разделенные, согласно традициям макуа, заборами — циновками из тростника. Вдоль тротуаров и пляжей, между пальмами и казуаринами — километры рыбацких сетей. Несмотря на скученность построек, вокруг идеальная чистота. В общем, колорит уже знакомый, суахилийский.
Направляемся на северо-восточную оконечность острова, где возвышается мрачная громада португальского форта. Колонизаторы заложили его в 1508 году, на 85 лет раньше, чем момбасский Форт-Иисус.
— Это была действительно неприступная по тем временам крепость, самая большая и важная на всем восточно-африканском побережье, — не без гордости объясняет португальский офицер. — Четыре башни-бойницы, три из которых обращены в сторону океана, а четвертая наблюдает за островом и материком, не раз отражали попытки — будь то голландцы или арабы — овладеть этой цитаделью. В ее казематах могут разместиться две тысячи солдат.
Высота стен, поднимающихся почти повсюду прямо от воды, — 12 метров, а их протяженность по периметру — три четверти километра. В бойницах этих стен и вокруг крепости размещено 400 пушек.
— Да, да, полковник, но ваш рассказ был бы гораздо более полным, если сказать, что сооружался этот «величайший памятник» для того, чтобы держать в повиновении и грабить миллионы африканцев, — со сталью в голосе замечает Жоао. — Рядом с гранитом, доставленным вашими каравеллами, в фундаменте этого архитектурного шедевра лежат кости моих соотечественников…
Выходим через помпезные ворота крепости, увенчанные латинскими изречениями и гербами известных конкистадоров, и оказываемся в Сидаде-Бранка — Белом городе.
С нетерпением ожидал я встречи с этим городом, волею судеб долгое время игравшим роль центра всей Восточной Африки. Отстав от группы Жоао, я пошел бродить по нему один.
Он показался мне белым городом-призраком. И не потому, что на его средневековых улицах почти не было людей. И не потому, что совсем неживыми казались аскетически строгие, лишенные окон здания мавританской архитектуры, придающие удивительный колорит Сидаде-Бранка. И не потому, что не было судов в порту Мозамбика, слывшем когда-то одной из самых оживленных гаваней восточного мира, и что неестественно пуста была огромная рыночная площадь, где в былые времена бойко торговали слоновой костью и золотом. Нет, городом-призраком показался мне Сидаде-Бранка потому, что его португальское средневековье, сохранявшееся здесь последние десятилетия в искусственной обстановке, было совершенно чуждо Африке, а музейная тишина его белоснежных кварталов не вязалась с той бурей политических страстей и революционных преобразований, которые неотвратимо захватывали всю страну.
Весь день пробродил я по улочкам португальских кварталов острова, отдал должное их очарованию, но так и не избавился от мысли о городе-призраке. А когда, взобравшись на колокольню церкви Святого Павла, увидел город в мягких лучах заходящего солнца, то его смазанные белые контуры, почти лишенные теней и световых пятен, навеяли мне мысль о мираже, неожиданно отразившем в сегодняшнем дне реалии далекого средневековья.
Глава шестьдесят третья
Пьеса, которую можно было бы разыграть на набережной у дворца. — 1487 год: Ковильян проникает в «золотую» Софалу. — Первые вести о Великой Килве достигают португальцев. — Васко да Гама в Индийском океане. — Шейх Муса Мбики предлагает пришельцам убраться. — Железо плавили и здесь! — Роковая ошибка султана Малинди. — Знаменитый лоцман Маджид показывает португальцам путь в Индию. — «О, если бы я знал, что от них будет!»
«Интересно было бы поставить когда-нибудь среди этих дворцов и памятников спектакль, отражающий события, свидетелями которых они были», — подумал я, спускаясь с колокольни. Перейдя площадь у губернаторского дворца, я сошел по заканчивающим ее ступенькам прямо к океану. «С чего бы начинался этот спектакль?»
Можно было бы, конечно, рассказать об удивительных приключениях шпиона-иезуита Ковильяна, который, переодевшись мавром, еще в 1487 году добрался до восточноафриканского побережья и даже проник в расположенную в 800 км к югу от острова Мозамбик золотоносную Софалу. В Лиссабоне он поведал об огромном количестве желтого металла, вывозимого через этот порт суахилийскими купцами Килвы.
Но лучше, наверное, первый акт нашей пьесы начать с того, как на рейде острова Мозамбик появились корабли Васко да Гамы, искавшего путь в Индию.
Дойдя до самого конца пирса, уходящего далеко в океан, я остался один на один с прибоем и звездами. Что же, тут можно попробовать отрешиться от сутолоки XX века и перенестись в век XV.
Обогнув в самом конце 1497 года Южную Африку, будущий «адмирал Индийского океана» и его спутники с радостью начали примечать, что жители прибрежных селений знакомы с железом, располагают большим количеством медных изделий и, главное, как записал хронист экспедиции, «придерживаются исламской веры» и «говорят как мавры». Небольшая радость для праведных христиан, однако в этом — еще один признак близости Востока!
— Вперед, на север, — командует Васко да Гама, чувствуя, что напал на след большой торговли, а следовательно, и больших богатств. Держась подальше от берега, окаймленного цепью коварных коралловых рифов и островков, дрейфуя по ночам, чтобы не сесть на мель, флотилия 1 марта 1498 года появилась в бухте, на берегу которой я и сидел, воссоздавая в памяти события былого.
Можно представить себе, как, важно распустив все свои паруса, появился на рейде португальский флагман «Сан-Габриэл», как, едва показавшись из-за горизонта, начал палить в воздух — для острастки — из всех своих пушек «Сан-Рафаэл» и как, распугивая лодки туземцев, влетел в бухту быстроходный «Берриу». Однако вскоре португальцы убедились, что их воинственные маневры не произвели должного впечатления на островитян. Причины этого вскоре стали ясны Васко да Гаме. Придя с юга, они не знали и не ведали, что на противоположном рейде острова уже стоят корабли отнюдь не меньшие, чем их. Вся северная гавань была забита огромными доу с косым парусом.
Странное дело, но на первых порах шейх — правитель острова, тоже мусульманин, — сквозь пальцы смотрел на наглые проделки пришельцев и даже скорее благоволил к ним. В чем дело? Из местных анекдотов можно узнать, что богатые арабские купцы «становились на острове сильнее шейха», что «остров платил большую дань северному султану» и что, «привечая инородцев», шейх «надежду лелеял обрести союзников и поддержку, дабы руки себе развязать».
Кстати, недальновидного правителя богатого острова-города звали шейх Муса Мбики. Поэтому пришельцы стали называть место, где они провели целых 10 дней, островом Мусамбики, или, как им проще было произносить, Мозамбик. Позднее, когда была сооружена громада форта Сан-Себаштьян и остров стал главным форпостом Португалии в Юго-Восточной Африке, название Мозамбик распространилось и на всю материковую часть португальских владений.
Муса Мбики, не зная и не ведая, что благодаря португальцам его имя будет увековечено в мировой истории и географии, на седьмой день пребывания белых наглецов в его водах начал выражать первые признаки недовольства. Вскоре шейх запретил португальцам выходить на берег. Но чтобы покинуть остров, им нужна была пресная вода. В распоряжении Васко был единственный способ ее заполучить — использовать мощь пушек. Противопоставить им местным жителям было нечего. Поэтому воду забирали лишь после того, как «противника» рассеивали пушечными выстрелами. Оказавшихся вблизи «места баталии» местных жителей пытали, женщин насиловали, брошенные дома и суда грабили, распределяя по распоряжению Васко да Гамы трофеи между солдатами как «военную добычу».
Эти события датируются последними числами марта 1498 года. Именно здесь, на островке Мозамбик, гром европейских пушек, заглушив рокот прибоя Индийского океана, возвестил о начале колониальной экспансии европейцев на Восток. И жители Мозамбика стали ее первыми жертвами.
Первого апреля флотилия Васко, дав несколько холостых выстрелов по острову Мусы Мбики, ушла из его владений. Так заканчивается первый акт нашей пьесы.
Чем же начнется второй? Как и в ту ночь, что автор провел на пирсе, небо над Индийским океаном было хмурым. Боясь непогоды, Васко спешил и поэтому проскочил расположенную на рубеже мозамбикских вод Великую Килву, развалины которой сохранились у побережья Северной Танзании. Именно ее султану платил дань Муса Мбики. Опасаясь наткнуться на рифы, португальцы ушли далеко от берега и не узнали о существовании десятков других шумных портов и гаваней. Они даже «не заметили» острова Занзибар. Но, встречая суда в открытом океане, дивясь их числу, размерам и оснастке, Васко да Гама и в особенности его более опытные советники не могли не понимать: они повстречались с цивилизованным миром, который по размерам, а может быть, и по богатству превосходил все, что имела в то время Европа.
Сегодня мы с вами знаем об этом мире куда больше, чем спутники «адмирала Индийского океана». Надо, однако, признать: источников для воссоздания истории южной части суахилийского побережья, и особенно Зинджа, в нашем распоряжении куда меньше, чем имеется о севере. Хотя Великая Килва в иные времена и спорила с Ламу и Пате своим богатством, количеством импортируемого ею фарфора и атласа, она никогда не была культурным центром суахилийского юга. Реже на юг добирались и арабские купцы, чьи описания и рассказы могли бы помочь нам восстановить картину экономической жизни Зинджа.
Вот почему долгое время территория Мозамбика казалась своего рода «белым пятном», окруженным со всех сторон культурами железного века, но лишенным собственных центров древней металлургии. Однако буквально в последние годы выяснилось, что причиной тому — нерадивость португальских «цивилизаторов», не проявивших ни малейшего интереса к историческому прошлому этой территории. Систематизация данных, накопившихся в колониальных архивах, а также новые полевые исследования позволили мозамбикским ученым доказать, что только в междуречье Замбези — Лимпопо были десятки тысяч рудников по добыче железа, разрабатывавшихся африканцами задолго до прихода европейцев. Как остроумно заметил один из моих коллег, методы радиокарбонной датировки сильно подняли престиж зинджей. Выяснилось, что в долине Замбези, богатой болотными рудами, местные племена плавили железо уже во II веке н. э.
Новые исследования расширили и наши знания о географии торговых связей зинджей с суахили и арабами. Еще совсем недавно считалось, что их купцы не заплывали южнее Софалы: парусникам трудно было возвращаться из этих широт, поскольку господствующие в Мозамбикском проливе течения препятствуют плаванию в северном направлении. Однако в 1983 году студенческая экспедиция университета Мапуту обнаружила следы фактории мусульманских торговцев железом более чем в тысяче километров к югу от известного ранее «предела» — в предместьях городов Виланкулош и Иньямбане. Развалины поселений суахилийских купцов сохранились на островах архипелага Базаруто, раскинувшегося против Виланкулоша. Сегодня научно доказано, что уже к началу текущего тысячелетия племена зинджей междуречья Замбези и Лимпопо создали настолько развитую культуру железного века, что смогли сделаться достойными торговыми партнерами наиболее цивилизованных государств Востока.
Как мы уже знаем, попеременно в этой выгодной посреднической торговле главенствующая роль принадлежала то одному, то другому городу-государству суахилийского севера. К моменту появления у восточноафриканского побережья Васко да Гамы эта роль досталась Момбасе. Но секретов прибрежной торговли ему там не открыли, путь в Индию не показали. Португальская флотилия, едва избежав столкновения с мощным флотом момбаситов, отплыла в соседний Малинди.
Для португальцев этот переход длиной 70 километров был отдыхом, а нам он должен послужить антрактом перед началом третьего акта пьесы.
Прослышав о конфликте в Килиндини, малиндский султан Сайид Али, давний враг и завистник момбаситов, устраивает португальцам восторженный прием. Надеясь заручиться поддержкой Васко в своем давнем конфликте с могущественным южным соседом, он готов исполнить любую его просьбу. На живописных улицах Малинди, проложенных через плантации кокосовых пальм, на площади у мечети с уже знакомым нам минаретом в виде гигантского фаллоса, который португальцы сочли главной достопримечательностью городка, на его шумном, ярком и богатом базаре — повсюду Васко и его спутники встречают красивых, утонченно вежливых людей с яркими чалмами на головах. Так португальцы впервые собственными глазами видят жителей той страны, попасть в которую столь давно мечтают, — индусов, как именуют их хронисты.
На пышном приеме на лужайке у своего дворца султан Сайид Али потчует христианских гостей не только изысканными восточными сладостями, но и, главное, ласкающими их слух рассказами о богатстве Индии. Васко слушает, хвалит халву и лукум, а когда над лужайкой вспыхивает фейерверк, переходит к главному.
— Мой король имеет такую артиллерию и такие корабли, что они могут заполнить моря Индии, — и не думая краснеть от заведомой лжи, говорит он Сайиду Али. — Португальцы могут помочь владыке Малинди победить его врагов. У султана будет могущественный покровитель.
— Чем же я могу отблагодарить великого короля?
— О, сущим пустяком. Король сочтет за величайшую услугу, если ваше султанское величество не откажет дать мне опытного лоцмана, способного провести наши каравеллы в Индию.
Сайид Али щелкает пальцами, и тотчас же чернокожий визирь предстает перед султаном. Он покорно выслушивает его приказание и, кланяясь, удаляется.
Проходит день, и во время другого приема, уже на борту «Сан-Рафаэла», к Васко подводят сурового вида мужчину средних лет.
— Малемо Кано, — рекомендует его султан португальцам. — Великий король Португалии будет доволен нами: лучшего лоцмана не сыскать во всем Индийском океане.
В оценке лоцмана он не ошибся. Под именем Малемо Кано португальцам был представлен араб, оманский лоцман Ахмад ибн Маджид — один из просвещеннейших людей восточного мира тех времен, автор по крайней мере 37 дошедших до нас работ по географии и навигации, «лев моря», как называли его современники.
Но не пора ли нам начинать последний акт нашей пьесы? Он будет коротким, потому что чем дальше каравеллы португальцев удаляются от африканского побережья, тем меньше у меня оснований рассказывать в этой книге о плавании Васко да Гамы.
Всего лишь 26 суток понадобилось оманцу для того, чтобы провести европейскую флотилию к берегам Индии, в порт Каликут. У Васко да Гамы и Ахмада ибн Маджида было время, чтобы поговорить. Было о чем поговорить и двум мореходам, представителям двух народов, стоявших тогда на самых передовых рубежах мореходного дела Запада и Востока. Но Васко, считавшего путь в Индию уже открытым, теперь навязчиво интересовало лишь одно — золото! Даже беглого знакомства с суахилийскими городами было ему достаточно, чтобы понять: желтого металла там немало. Уж не находился ли он в преддверии легендарного Офира и Пунта, где черпали свои золотые запасы фараоны? И не те ли это были воды, где плавали груженные золотом доу, о которых доносил Ковильян, возбудивший в Лиссабоне аппетиты своими рассказами о богатствах Софалы? Вот это-то и хотел Васко выведать у Маджида.
— Суфалат ат-Тибр? Золотая Софала? — загадочно улыбаясь, говорит лоцман. — Да, ваши корабли прошли мимо этого порта. Да, это большой порт. Он принадлежит людям Мономотапы, то есть «владыки рудников», которые разрабатывают много, очень много россыпей золота.
Так Васко да Гама впервые убеждается, что напал на нужный след. Однако больше, судя по записям хронистов, Ахмад ибн Маджид почему-то ничего не сказал. А мог бы, потому что в своей «Софальской урджузе» — лоции для плавания в восточноафриканских и мозамбикских водах, написанной в самом начале XVI столетия, то есть сразу после плавания на «Сан-Габриэле», — он не делал секрета из торговых связей Мономотапы.
В разговоре с Васко оманский лоцман бросает своему собеседнику еще одну кость. Подтвердив сказанное еще Масуди, он обмолвился, что желтый металл добывают вплоть до устья Лимпопо. «Чистое золото из этих, мест вывозят через порт Мамбане, что в устье реки Сави», — говорит он. В этом названии португальцам слышится имя царицы Савской, имевшей, как гласит легенда, доступ к сказочно богатым золотым рудникам в самом сердце Африки…
Так в судовом журнале «Сан-Габриэля» появляется запись, полная алчных надежд: «Нам сказали, что земля Иоанна расположена неподалеку от Мозамбика… Эти сведения и многое другое, о чем мы прознали, наполнили сердца наши таким счастьем, что мы плакали от радости».
Наконец вечером 20 мая 1498 года муссоны доносят парусники Васко да Гамы до Каликута! Проходит не так уж много времени, и Маджид с ужасом отмечает, что приведенные им в Индию португальцы, еще совсем недавно «приятные собеседники», превратились в ненасытных хищников, обрушившихся на мирную жертву. «Я ляйта ши’ри ма якуну минхум!» (О, если бы я знал, что от них будет!) — восклицает он, горько раскаиваясь в помощи, оказанной им португальцам. Люди поражались их делам…
Закончим здесь нашу пьесу, тем более что время близится к полуночи и тропический ливень вот-вот закроет нашу главную сцену — Индийский океан — сплошной дождевой завесой.
Глава шестьдесят четвертая
Прикосновение к никому не доступным архивам. — Мания засекречивания. — В центре внимания Лиссабона — торговля золотом. — Ф. Алмейда бомбардирует Килву — «хозяйку» Софалы. — Первые монеты в Африке к югу от экватора. — Португальцы в роли собаки на сене. — «Восстала вся земля», — констатирует хронист. — «Ночные водяные» на реке Замбези. — Ф. Баррету надеется получить титул «завоевателя рудников». — Реликвии конкистадоров уплывают на берега Тежу
Вечером на приеме в губернаторском дворце я узнал: в ближайшие дни португальцы будут эвакуировать с острова все свои архивы, большую часть экспонатов музеев и убранства дворцов. Ящики начнут заколачивать сразу же, как только будет закончен десерт и выпито шампанское.
Упустить такой шанс — прикоснуться к не доступным почти никому на протяжении веков колониальным архивам и хоть краешком глаза взглянуть на уплывающие в Лиссабон реликвии конкистадоров? Нет, это было бы преступлением!
Прием еще не закончился, а я уже имел согласованное с губернатором разрешение Жоао ночью и днем иметь доступ к материалам, уплывающим с острова.
Что можно было сделать за это дарованное мне судьбой время, вылившееся в три ночи и два дня? Не много, если мыслить категориями серьезного исследователя. И очень много, если говорить об эмоциональном настрое, о понимании атмосферы и колорита той далекой эпохи португальского проникновения в Африку. Эпоха эта у нас почему-то очень мало известна, хотя она не менее богата событиями, своими героями и своими злодеями, чем описанный во всех деталях период испанских завоеваний в Америке.
Это «почему-то», впрочем, перестало быть для меня загадкой, как только я попал в архивное помещение дворца. Грифы «Confidencialmente», «Secretamente», «Em rigoroso segredo» («Конфиденциально», «Секретно», «Совершенно секретно») были на всех без исключения папках и ящиках, будь то подшивки издававшейся в 1783 году в Гоа газеты или данные об урожае ореха кешью в хозяйстве какого-то плантатора в долине Лимпопо.
В ящиках за огромными, с гербами и коронами, сургучными печатями хранились копии интереснейших документов первых лет проникновения португальцев в Юго-Восточную Африку. «Софала, Софала, Софала» — это название десятки раз повторяется в любом письме или указе, следовавшем с берегов Тежу. В Софале — и причем не без основания — португальцы видели основной канал, по которому изливается африканское золото, овладеть которым им так не терпелось. Их главными врагами и конкурентами на «золотых путях» в Индийском океане были мусульманские купцы, и поэтому на них Лиссабон обрушил всю свою военную мощь.
Подчиняясь воле своего монарха, Франсишка Алмейда, первый вице-король Индии, руководивший завоеванием восточноафриканского побережья, приказывает подвергнуть очередной бомбардировке Килву, в вассальной зависимости от которой находилась Софала. В Килве он сооружает форт, и вот уже его капитан, некто Педру Фогашу, рапортует: «Мы разрешили нашим доблестным солдатам взять в домах мавров все, что им понравится, а затем сровняли эти дома с землей».
В октябре 1505 года П. Фогашу приступает к морской блокаде побережья между островом Мозамбик и Софалой, с тем чтобы перекрыть доступ доу к портам, вывозящим золото. «Топите мавров», «Убивайте мавров», «Жгите их», — приказывают П. Фогашу из Лиссабона.
О, какой интересный документ — черновик реляции некоего Педру де Анайя о его успешных переговорах с туземным правителем, закончившихся созданием португальского форта в Софале. Эмира этого города, буквально купавшегося в золоте, купили, что называется, ни за грош. За право построить рядом со своим дворцом логово врага — португальскую крепость — он затребовал дюжину медных гамбургских котелков, венецианские бусы из цветного стекла, английское постельное белье и скатерти, португальские холсты, мавританский ковер и плащ, а также кучу всякой бижутерии.
Однако, как и на суахилийском севере, здесь, на зинджском юге, управлявшемся из крепости Сан-Себаштьян, португальцы получают мало проку от своей завоевательной политики. Захват Индии и стремление во что бы то ни стало прибрать к рукам связи суахилийских купцов привели к закату торговли. Еще совсем недавно процветавшие города приходили в запустение, их жители, лишившиеся средств к существованию, все откровеннее выказывали признаки неповиновения пришельцам.
Первым против пришельцев поднялся в 1511 году эмир Молид — тот самый правитель Софалы, который променял свой суверенитет на котелки и скатерти. Вот тревожные донесения А. де Салданьи, командовавшего софальским фортом: «Эмир бежал из дворца», «Эмир запретил купцам перевозить золото из глубинных районов в порт», «Эмир вошел в антипортугальский союз с шейхами соседних племен», «Эмир поднял восстание, успешно блокируя связи Софалы с внутриконтинентальными районами». Один хронист тех дней замечает: «Восстала вся земля».
Вслед за этой первой крупной неудачей португальцев на мозамбикской земле следует вторая. Вожди макуа, которых суахили начинают активно снабжать огнестрельным оружием, организуют подлинную партизанскую войну, препятствуя продвижению португальцев в глубь страны. Предприимчивый Салданья снаряжает на борьбу с ними созданный из коллаборационистски настроенных жителей острова Мозамбик «туземный корпус», прошедший подготовку на плацу Сан-Себаштьяна. Но в первом же бою на берегу уже известной нам реки Монапо те несут большие потери, а после второго боя переходят на сторону своих соплеменников.
Судя по обилию документов, сохранившихся в губернаторском архиве, очень затяжным и мучительным оказался для португальцев конфликт вокруг Софалы, вспыхнувший в 1518 году и длившийся вплоть до начала 30-х годов. Его главное действующее лицо — воинственный вождь Иньямунда, правитель расположенных к западу от Софалы королевств Седанда и Китева. На первых порах он сотрудничал с португальцами в надежде использовать их в борьбе против своего извечного врага — Мономотапы. Однако вскоре вождь Иньямунда разуверился в могуществе «посланцев христианского короля» и, как говорится в одном из сообщений, направленных из Софалы в Лиссабон, «разражаясь смехом при упоминании о возможностях португальцев, приказал блокировать все их пути, пропуская по ним лишь мавров».
В 30-х годах XVI века очаги сопротивления вспыхивают вдоль реки Замбези, рассматривавшейся португальцами как естественный путь в Мономотапу. Арабы и суахили уже в XII–XIII веках поднимались вверх по великой африканской реке вплоть до порогов Кебрабасы, шли затем сушей до верховьев Луалабы, а оттуда, переправляясь по системе рек бассейна Конго, доходили до Атлантического побережья Анголы и Заира. В долине Замбези они обладали множеством укрепленных факторий, которые начали постепенно превращаться в центры оппозиции проникновению португальцев.
«Положение таково, — свидетельствовал хронист Жуан душ Сантуш, — что из трех наших лодок, пытающихся подняться вверх по Куаме (так португальцы называли Замбези в ее нижнем течении. — С. К.), две становятся жертвами туземцев, провоцируемых маврами. Они прекрасно знают сложную систему протоков дельты этой реки и располагают картами, без которых мы словно без глаз». Ж. душ Сантуш описывает также очень любопытный, чисто африканский метод борьбы прибрежных племен Замбези. Завидев издалека громоздкую лодку, принадлежащую мазунгаш, мужчины ныряли под воду, используя для дыхания длинные тростниковые трубки, едва видневшиеся над поверхностью реки. Когда лодка подходила к месту засады, 40–50 африканцев с воинственными криками выскакивали из воды и, не давая португальцам опомниться и схватиться за оружие, топили ее. Подобные засады устраивались обычно ближе к вечеру, и суеверные португальцы начали приписывать их «ночным водяным».
«В борьбе с врагами нашими — неверными маврами и нечистой силой — да поможет вам Бог!» — заканчивается направленное губернатору Мозамбика королевское послание, в котором содержится приказ во что бы то ни стало укрепиться на Замбези, пробивая себе путь огнем, мечом и крестом, выйти по ней к Мономотапе. Для этого в Мозамбик направляют огромную карательную экспедицию, возглавляемую бывшим генерал-губернатором Индии Франсишку Баррету. Помимо полуторатысячного войска на кораблях из Португалии доставили целую речную флотилию, множество лошадей, ослов и совершенно ненужных в условиях влажных тропиков верблюдов. Еще никогда Португалия не предпринимала в Африке столь грандиозную экспедицию!
В разговорах с приближенными Баррету не скрывает:
— Молодой король Себаштьян решил покорить Мономотапу. В случае успеха монарх обещал мне пост губернатора и титул «завоевателя рудников».
Экспедиция поднимается вверх по Замбези и останавливается в Сене — тогда главном опорном пункте португальцев на великой африканской реке. Местные племена здесь «усмирены», лояльно ведут себя и купцы-мавры, среди которых многие, приняв христианство, даже взяли на себя роль посредников в продаже португальских товаров в глубинных районах.
Участники экспедиции, изрядно уставшие от перехода на веслах вверх по Замбези, располагаются биваком посреди широченной речной долины. Погода прекрасная. Вечером местная знать приглашает португальских сеньоров на ужин. Угощение еще не окончено, а португальцы начинают хвататься за животы. Проходит немного времени — и кое-кто, воя от боли, катается в судорогах по траве. Участвующий в экспедиции иезуит Монкларуш подзывает к себе собаку и дает ей по кусочку восточных сладостей, которыми потчевали гостей арабы. Не проходит и часа, как собака протягивает ноги.
— Измена! — решает остававшийся на корабле Баррету. Для расправы с маврами он посылает 200 солдат, которые расстреливают всех находившихся в селении мусульманских женщин, стариков и детей. Мужчин же берут в плен и с восходом солнца начинают «экзекуцию во устрашение населения»: по двое мавров привязывают к жерлам пушек и стреляют из них, разрывая тела «неверных» на мелкие куски. Потери португальцев — 28 умерших, почти 73 тяжелобольных.
…Конечно, немало интересного можно было бы еще разузнать в этом архиве, но рабочие начали забивать в ящики материалы о периоде завоевания Мономотапы. Тут уже не было времени выстраивать события в хронологический ряд и живописать биографии героев тех времен. Судорожно перелистывая драгоценные бумаги, я силился доискаться до самого важного, выписать самое интересное. Эти записи еще помогут нам заглянуть в загадочное прошлое государства «владыки рудников».
…Ранним утром, шатаясь от усталости после нескольких почти бессонных ночей, я вышел наконец из губернаторского дворца. Постоял у приземистого памятника Васко да Гаме, на адмиральской треуголке которого уже начинали играть блики восходящего солнца. Свернув за угол, подмигнул модернистскому изваянию Камоэнса — поэта-певца эпохи великих географических открытий.
Великие тени прошлого оставались на острове-призраке. А мне через несколько часов предстояло покинуть Илья-де-Мозамбик…
Глава шестьдесят пятая
Как бы попасть в Софалу? Рут Ферст рекомендует мне Антонио да Кошту. — Путешествие по мозамбикским низменностям. — Равнины и реки приносят в Юго-Восточной Африке одни лишь неприятности? — Неистовства циклонов. — Софальские руины под водой. — Суахилийские и арабские купцы мешают португальцам реализовать мечту о «золотом Офире». — В Нова-Софале поют маримбы. — Чародеи, вдохновленные природой
Но прикосновение к прошлому Мономотапы не давало мне покоя. Тянуло в то место, где на современной карте Мозамбика обозначено: Нова-Софала. Хотя я и знал, что ничего там не осталось от древнего города, хотелось поездить по огромной, расположенной в центре страны провинции, в своем названии тоже сохранившей имя «золотого порта». Ведь именно здесь, на территории провинции Софала, развивались главным образом события, все же позволившие португальцам расчистить себе дорогу к заветным рудникам. И главное, неотвязно преследовала мысль — съездить в Манику, этот вытянувшийся вдоль границы с Зимбабве горный район Мозамбика, который некогда был составной частью Мономотапы. Маника — единственное на мозамбикской территории место, где сохранились и древние шахты, и удивительные архитектурные сооружения времен «владык рудников».
В Бейре, главном городе Софалы, втором по значению порте и промышленном центре современного Мозамбика, я бывал чуть ли не ежемесячно, но «мономотапская тема» с мертвой точки у меня не сдвигалась. От поездки во всеми забытые города, к заброшенным рудникам останавливало то, что по древним памятникам Софалы и Маники не водят экскурсий и не издают путеводителей. Подобное путешествие — не туристская прогулка по Аксуму и не знакомство с улочками Ламу. Поехать туда одному — значит, ничего не увидеть. Тут нужен был опытный спутник, профессионал, который бы в скрытых тропической растительностью камнях узнавал фундаменты древних построек, а за местной легендой угадывал историческое событие. А таких людей колониализм в Мозамбике не оставил.
Лишь после долгих поисков и расспросов мне удалось напасть на нужный след. В столичном университете на кафедре истории меня познакомили с высоким черноглазым и чернобородым худым человеком.
— Антонио Ногейра да Кошта, — представила его Рут Ферст[52], одна из руководителей Центра африканских исследований университета Мапуту, моя давняя и добрая знакомая. — Это тот единственный человек в Мозамбике, который сможет тебе помочь в мономотапских исканиях. Ты же поможешь и ему и нам, если всякий раз, покидая Мапуту в машине, будешь приглашать его себе в попутчики. Ему надо много ездить по стране, а с «колесами» и бензином туго.
Еще накануне вечером, предупреждая о предстоящем знакомстве, Рут по телефону рассказала мне об Антонио.
— Могу рекомендовать его не только от себя, но и от имени нашей партии, — как всегда, по-деловому начала она. — Это именно тот человек, который соответствует понятию «передовой представитель нарождающейся национальной интеллигенции». Родился, кажется, в пятьдесят первом…
— Не молод ли, чтобы получать столь авторитетные характеристики? — удивился я.
— Да знаешь, пожалуй, с ним все ясно, и уже давно. В семьдесят первом окончил истфак в местном университете, мог получить шикарную синекуру в одном из колониальных департаментов, но почти открыто заявил: «Не желаю служить фашистам» — и с головой ушел в изучение африканского прошлого. Работал в Центре археологических исследований, но вскоре понял, что заправляющие там португальцы фальсифицируют местную историю, вгоняют ее в прокрустово ложе расизма. Ушел оттуда, долгое время был без дела, пока не начал сотрудничать с подпольными прогрессивными организациями, поддерживающими ФРЕЛИМО. Серьезно засел за изучение марксизма-ленинизма. После провозглашения независимости он — в университете, с нами, твердо и безоговорочно…
Через десять дней мы были уже в Бейре. В самом центре этого душного и жаркого города высится довольно нескладный, построенный в неоготическом стиле кафедральный собор. Его смело можно назвать памятником колониальному варварству, о чем свидетельствует мраморная мемориальная доска на одной из стен собора. На ней можно прочитать: «Кафедрал сооружен из камня, добытого из развалин исторического форта Софала, выстроенного в начале XVI века, а также из других, более ранних сооружений этого города».
— Надеюсь, теперь вам понятно, что ждет нас в Софале? — спросил Антонио. — Я посещал ее с десяток раз и вынес твердое убеждение: без серьезных археологических исследований увидеть и узнать там ничего нельзя. Поскольку сегодня я выступаю в ипостаси знатока средневековых чудес, мое дело — предупредить, что никаких чудес Софала нам не сулит.
— Пусть тогда нам принесет удовлетворение хотя бы то, что наше путешествие по Мономотапе начнется на земле Софалы… — подбодрил я своего спутника.
…И вот за окном нашего автомобиля мелькают плантации сахарного тростника, который изумрудными волнами колышется от порывов океанского ветра. Проплывают строения контролируемого юаровским капиталом огромного сахарного завода в Ново-Лузитании. За ним, то есть там, где в былые времена не ездили белые, дорога практически кончается, а на взятой нами подробной карте значится: «Колея, непроезжая девять месяцев в году». А впереди еще 150 километров…
Счастье наше, что сейчас не те месяцы. Сухой ветер, дующий из Калахари, подсушил приморские равнины, заливаемые мелкими, но очень многочисленными в этих местах речушками.
Наводнения, уничтожающие урожай и смывающие не только тростниковые хижины крестьян, но и насыпи шоссе, железные дороги и мосты, сносящие опоры ЛЭП и линии связи, усугубляются затяжными тропическими ливнями, как правило обрушивающимися на приокеанские низменности вслед за циклоном. Тогда в провинции Софала и лежащей к югу от нее провинции Иньямбане не только деревни, но даже крупные поселки и городки, выросшие с учетом многовекового опыта на вершинах едва выраженных в рельефе возвышенностей, превращаются в островки. Два-три месяца в году они изолированы и друг от друга, и от всей страны. Для крестьян, лишающихся всего, что они имели, единственным средством транспорта становится пирога, а для полиции и армии — моторка. В пору буйства стихии значительную часть мозамбикских вооруженных сил бросают на спасение раненых и детей, эвакуацию материальных ценностей.
И все это не из ряда вон выходящее стихийное бедствие, а скорее «норма поведения» тропической природы. Повторяясь из года в год, наводнения усугубляют экономические трудности, порождают голод, вынуждая народную власть расходовать и без того ограниченные денежные ресурсы на внеплановые, экстренные мероприятия по эвакуации из зон наводнения сотен тысяч пострадавших, на импорт продовольствия.
Мы едем по долине реки Бузи, пересекаем ее притоки и благодарим Небо за то, что вот уже четвертый месяц оно не посылает дождя. Иначе и нам бы плыть в пироге по этой континентальной равнине!
Однако остатки того, что натворили здесь циклоны, видны до сих пор: с корнями вывороченные вековые баобабы; словно скошенные разгулявшимся Мфуе — злым гигантом местных легенд — кокосовые пальмы; огромные, покрытые спекшейся на солнце тиной затопленные участки, оставшиеся на месте полей после того, как с них ушла вода. Еще более обширные площади покрыты белыми выцветами солей — следами нашествия на сушу океанской воды. Чем ближе к побережью, тем этих выцветов делается больше, почва увлажняется, появляются мертвенно-серые, почти лишенные растительности низины. Отсюда океанская вода не уходит практически круглый год. Скудная растительность зеленеет лишь там, где дорогу воде преграждают ослепительные золотисто-белые дюны.
— В былые времена натиск океана сдерживали здесь буйные мангровые леса, — говорит Антонио. — Но многовековая деятельность населения привела к тому, что побережье всей провинции Софалы обезлесело. Океан сейчас беспрепятственно наступает на сушу. И вот вам плачевный результат… Никаких следов Софалы.
— А что, разве суахилийский порт был именно здесь?
— Именно здесь, — утвердительно кивает мой спутник. — Велья Софала, или Старая Софала, отождествляемая с «Суфалат ат-Тибр», шумела метрах в двухстах от современного берега. Сейчас она сплошь занесена песком и покрыта водой. Помеченная на современных картах Нова-Софала, или Новая Софала, возникла тремя веками позже примерно в километре отсюда. Я думаю, мы переночуем там…
Сейчас время отлива, и мы с Антонио идем по щиколотку в воде по обнаженному дну, вспугивая стайки оставшихся в лужах ярких рыбешек и проворных красных крабов. Дно почти сплошь покрыто почерневшими постройками кораллов, но кое-где из-под них еще выступают серые гладкие камни, в которых Антонио видятся остатки тех монолитных глыб, которые португальцы привезли когда-то в Софалу для строительства местной крепости.
А что это за неестественно белый для океанской палитры осколок с голубыми разводами? Я нагибаюсь и вытаскиваю из песка довольно большой фаянсовый черепок. Подобные черепки мы уже находили на островах Ламу. Они стали как бы вечными спутниками суахилийских городов.
— Форт, сооружение которого длилось с 1505-го по 1512 год, получил название Сан-Гаэтано, — говорит Антонио. — Он вырос рядом с шумным купеческим городом.
— Только ли желтый металл фигурировал в вывозе Софалы? — интересуюсь я.
— Конечно нет. Еще в XII веке великий аль-Идриса писал: «В стране Софале есть рудники с большими запасами железа. Оно является самой главной статьей дохода и основным товаром».
— Ну а золото?
— Золото выдвинулось на первый план в торговле Софалы уже после того, как здесь появились португальцы, — уверенно говорит Антонио. — Конечно, можно возразить, что для аль-Масуди Софала была «страной золота» еще в X веке. Но я на это отвечу: великий арабский географ имел в виду запасы недр Софалы, хорошо известные местному населению, а не торговлю золотом. Арабский термин «Суфалат ат-Тибр»? Так можно было называть этот город и за то, что он вообще приносил купцам огромные доходы.
Вернувшись на берег, мы идем вдоль золотистого пляжа, на который уже начинает набегать приливная волна. Тихо колышутся в такт ветру ажурные ветви раскидистых казуарин, на вершинах которых чудом удерживаются длиннокрылые фрегаты. Всякий раз, когда из-за океана после охоты появляются олуши или чайки, они взмывают в воздух. Настигая свои жертвы, фрегаты сильным клювом бьют их в хвост, заставляя отрыгнуть добытую в океане рыбу. Не дав упасть добыче в воду, фрегаты ловко подхватывают ее на лету и с победоносным видом возвращаются на вершины казуарин.
— Интересно, кто у кого учился: португальцы у фрегатов или наоборот? — замечает Антонио. — Но стиль поведения в отношении слабого у них совершенно одинаковый…
Когда султан Софалы начал дарить португальцам четки из золота, а купцы-суахили поведали им, что в Мономотапе железо ценится дороже, чем желтый металл, Лиссабон решил, что обладание легендарным Офиром стало для него реальностью. И на первых порах могло показаться, что так оно и есть: ведь пока еще строился Сан-Гаэтано и португальцы не успели исковеркать всю прибрежную торговлю, арабы в 1506 году на их глазах вывезли из Софалы свыше миллиона меткалей золота. В пересчете на доступные современникам единицы измерения это около четырех тонн! Однако восстание Молида, а затем конфликт с Иньямундой добили Софалу: она превратилась в торговый тупик. Уже в 1515 году через нее было продано лишь пять тысяч меткалей золота.
Незаметно за разговорами мы дошли до Нова-Софалы — в сущности, небольшой деревеньки, как и повсюду на побережье, прячущейся в тени кокосовых пальм, раскидистых манго и акажу. Два десятка прямоугольных хижин, в которых обитают сотни полторы земледельцев и рыбаков, несколько видавших виды доу, качающихся на волне, — вот и все, что скрывается за будоражащим воображение названием Нова-Софала, сохранившимся на современных географических картах.
Заночевали мы в «гостевой» хижине, которая есть почти в каждой африканской деревне, где еще не до конца разрушена община. На первых порах мне показалось, что, как и повсюду в Мозамбике, кроме разве что его северных районов, экзотичность африканского бытия подменена в Софале нищетой. Вместо некогда замысловатого традиционного костюма — застиранные шорты цвета хаки у мужчин и вылинявшая тряпица вместо юбки вокруг талии у женщин; вместо добротной, отмеченной вековой традицией керамической посуды — пивные бутылки и консервные банки; вместо захватывающих ритмов африканской музыки — диссонансы, завезенные отходниками из Южной Африки. Уже не раз поездки в мозамбикскую глубинку, где я надеялся найти что-нибудь самобытное, оборачивались для меня разочарованием. Причины подобной «культурной нивелировки» вполне понятны: мало где в Африке колонизаторы «усердствовали» над разрушением местных традиций целых пять столетий.
Но нет, неистребимо африканское начало! Когда уже совсем стемнело, вернулся Антонио, ходивший проведать своих знакомых.
— Местный старейшина решил в честь гостей созвать со всей округи музыкантов — мастеров игры на маримбе. Он приглашает нас к костру, — сообщил он мне.
Маримба — это огромный, в здешних краях нередко достигающий трех метров в длину ксилофон, снабженный резонаторами из полых тыкв-калабашей. Обычно вместе собираются пять-шесть исполнителей, но на сей раз то ли случай, то ли добрая воля старейшины объединила у костра 13 инструментов.
Еще раньше я отметил одну черту, вообще, наверное, свойственную традиционному стилю музицирования на маримбах. Исполнение начинается на редкость вяло, скучно, очевидно с дальним психологическим прицелом поразить слушателя эффектностью виртуозно буйной концовки.
Обычно такой минорной прелюдией служит подражание музыкантов шелесту листьев кокосовых пальм. Прислушиваясь к природе, они подчиняют звуки маримб прихотям дующего с океана ветра, заставляющего пальмовый лист издавать то металлический лязг, то бархатный, ласкающий ухо шелест.
Здесь, в Софале, музыканты настраивают свои маримбы на шум океана. Набежала-убежала волна, загудел где-то на рифах прибой, разбилась, разлетаясь вдребезги, пена у ближней скалы… На первых порах ухо еще силится отличить эти колдовские звуки музыкантов от естественных. Но очень скоро их мастерство побеждает, и мелодия океана сливается воедино с музыкой маримб.
Упиваясь своим искусством, ксилофонисты могут продолжать перекличку с океаном и час и два, особенно если тот неспокоен и требует от музыкантов настоящей игры, изобретательности, постоянного действия. Отвернитесь от маримб — и вы тотчас же забудете, что слышите их игру, отдадите все звуки океану. Но взгляните на музыкантов — и в бликах костра вы увидите, как и кто творит это чудо.
Дирижера нет, но музыканты действуют необычайно слаженно. Вдруг почти все они разом замирают, и одновременно на фоне шума морского прибоя начинает слышаться плеск лодочных весел. Я было начал всматриваться в сторону океана, но Антонио, тронув меня за плечи, отрицательно покачал головой и указал на музыкантов: «Это они».
Всплески весел усиливались, делались все ритмичнее, и наконец на фоне однообразного гула океана маримбы повели свою основную тему — задорную и мужественную мелодию о мореходе или рыбаке, вступившем в единоборство со стихией. Прелюдия, длившаяся на сей раз около часа, кончилась.
И тотчас же откуда-то из темноты на освещенную костром площадку выскочили танцоры. Наряды их оставляли желать лучшего: к каждодневной одежде у кого было прикреплено длинное перо, у кого — кусочек меха. Но виртуозное мастерство, с которым они исполняли танец, полностью компенсировало эту дисгармонию.
Танец гребцов. Танец пловцов. Танец рыбаков. Танец потерпевших крушение. Танец тонущих. Каждый сюжет предполагает усиление драматизма музыки и убыстрение ее ритма. Обливаясь потом, мечутся из конца в конец своих инструментов музыканты, поют и плачут, стремясь превзойти самих себя, маримбы. Потом исполняется песня. Окружив ксилофонистов, поющие взялись за руки и мерно раскачиваются в такт музыке.
— О чем она? — спросил я у Антонио.
— Это длинная, почти бесконечная песня об истории местного края и его жителей из племени мандоуа. Но припев у нее общий для многих современных фольклорных песен, бытующих вдоль побережья. Суть его такова:
Когда португальцы пришли на наш берег, У нас было много земли и золота, А у них — только крест. Потом мазунгаш обманули нас, И получилось так, Что мы стали владеть лишь крестом, А они — и золотом, и землей, и всем, всем, всем, всем. Но потом пришли солдаты ФРЕЛИМО, И восторжествовала правда. И теперь у нас в руках Самое главное, чем обладает человек, — Свобода.Глава шестьдесят шестая
Мы едем в Мономотапу. — Правителя народа каранга звали Мване Мутапа — «владыка шахт». — Название «Зимбабве» произошло от «дзимба дза мабве», что значит «почитаемый дом». — Страна зинджей — великих менял и искусных металлургов. — Загадочная «огромная крепость из камней, ничем не скрепленных». — Пан Меренский отдает карту лейпцигскому геологу К. Мауху. — Первооткрыватели не верят своим глазам. — Возрождение легенды о Соломоновых копях. — Ритуальные птицы Хунгве и «финикийцы». — В археологию вмешиваются расисты
Четыре маримбы почему-то так и не угомонились в ту ночь до самого рассвета, а певцы и танцоры прервались лишь для того, чтобы приветливо пожелать нам: «Боа въяжем, боа въяжем»[53].
Возвращаться в Бейру не хотелось, да и оживленная, заезженная магистраль, ведущая из этого города в Манику, не привлекала нас. Поэтому, изучив карту, мы променяли асфальтированное шоссе на ухабы проселка и покатили напрямик.
— У какого-то хрониста я вычитал, что от Софалы до дворца Зимбабве, где жил владыка Мономотапы, сто семьдесят часов ходьбы, — сообщил мне Антонио, как только мы перестали махать провожавшим нас. — Мы, правда, направляемся не в Зимбабве, а в расположенную ближе Манику, и не своим ходом, а на машине, поэтому дорога не займет у нас и одного дня. Поскольку все мозамбикские земли, которые нам сегодня предстоит пересечь, в том числе и Маника, были составной частью территории, управляемой из дворца в Зимбабве, тема моей сегодняшней «автолекции» будет именоваться…
— Мономотапа, — продемонстрировал я свою догадливость.
— С чего бы только начать? Наверное, прежде всего надо сказать, что этническое ядро королевства Мономотапа и его столица находились на территории нынешней Республики Зимбабве и что у его периферийных восточных княжеств, включая мозамбикскую Манику, были свои специфические интересы, своя политика и в отношении метрополии, и в отношении португальцев.
Но пожалуй, я все же расскажу вам немного о государстве Мономотапа вообще. Его создал в 1440–1450 годах народ каранга, который англичане, обосновавшись позже в Родезии, начали называть шона. Сегодня они составляют примерно 80 процентов населения Республики Зимбабве, доминируют в мозамбикских провинциях Софала и Маника. Легенды гласят, что первого правителя государства каранга звали Мване Мутапа — «владыка рудников». По его-то имени арабы и суахили, уже с конца XIV века имевшие в этом районе большие торговые интересы, и начали называть все государство Мономотапой.
Окружавшие Мутапу отправители традиционных культов и жрецы внушали народу: владыка всевидящ и всезнающ, поскольку он, как и его власть, вездесущ. Дабы подкрепить эту версию, по всей его огромной стране возводились дворцы. В них жили исполнявшие роль наместников многочисленные жены Мутапы, к которым владыка по очереди наведывался. Такие дворцы назывались «дзимба дза мабве» — каменные дома или «дзимба войе» — почитаемые дома. Отсюда и произошло слово «зимбабве», которое со временем начало применяться в значении «ставка владыки», «столица». Об этом прямо писал Барруш, который в своих заметках о «стране мутапы — Бенаметапе» свидетельствовал: «Зинджи этого царства именуют «зимбабве» любое каменное сооружение, где может жить их царь… Они говорят, что все другие царские здания имеют такое же название, поскольку они собственность владыки».
Слухи о них, равно как и о богатстве и величии «владыки рудников», будоражили воображение уже первых португальцев, появившихся в Зиндже. «За этой страной в глубь континента, — писал в 1516 году о мозамбикском побережье Барбоша, — лежит огромное королевство Бенаметапа». В Софале португальцы встречали подданных мутапы, которые приценивались к товарам, выставленным в суахилийских лавках. У некоторых, «наиболее благородных», свидетельствует Барбоша, служившие им одеждой звериные шкуры были украшены кистями, волочившимися по земле, — знак достоинства и величия. «Кроме того, у них были мечи в украшенных золотом и другими металлами деревянных ножнах… Они также носят дротики в руках, а некоторые ходят с луками и стрелами средней величины. Железные наконечники их стрел имеют продолговатую форму и хорошо отточены. Это — воинственные люди, и некоторые из них — великие меновые торговцы», — писал Барбоша. Он же упоминает об «огромном городе», где «в очень большом здании находится излюбленная резиденция царя» и откуда «купцы возят золото в Софалу».
А два с небольшим десятилетия спустя другой португалец, де Гоиш, уточнил: «В центре этой страны (Мономотапы. — С. К.) находится крепость, сложенная из больших тяжелых камней… Это весьма интересное и хорошо выстроенное здание, ибо, согласно сведениям, при его укладке не употреблялось никаких скрепляющих материалов… Крепости, сооруженные таким же способом, высятся и в других районах равнины. Но та, что в центре страны Мутапы, — самая главная и почитаемая». Таковы первые упоминания об еще одном «африканском чуде». Но потом о нем забыли…
И лишь начиная с 1862 года до белых вновь начали доходить слухи о том, что где-то среди жаркой равнины лежит в междуречье Лимпопо — Замбези зеленая долина, а посреди нее, скрытые вековыми тропическими зарослями, прячутся величественные каменные сооружения, вызывающие трепетный священный страх у шона. Однако Адама Рендера, который в 1863 году первым из европейцев попал в эту благодатную долину, больше интересовал слон с огромными бивнями, которого он преследовал.
Руины преградили Рендеру путь по прямой к слону, охотник чертыхнулся, обогнул их и больше к ним не возвращался.
Но, заночевав как-то в богами забытой миссии на севере Трансвааля, Адам поведал о своей находке местному священнику — пану Меренскому. Старый ксендз, питавший интерес к старине еще со времен своей юности, проведенной в древнем Кракове, попросил Рендера начертить ему план района долины, укрывавшей загадочные постройки. А год спустя Меренский уговорил воспользоваться этим планом Карла Мауха — молодого немецкого геолога, приехавшего в Южную Африку попытать счастья золотоискателя.
Маух был неопытен в африканских делах, он не знал, что зеленую долину, которую он мечтал найти, местные жители почитают как «обитель духов». Поэтому, едва он пересек реку Лунди и, приблизившись к долине, начал расспрашивать своих проводников и носильщиков о том, как добраться до загадочных развалин, как сопровождавшие его африканцы разбежались. Кто-то из них донес о намерениях белого вождю местных каранга, и тот почти на год превратил незадачливого золотоискателя в своего пленника.
Лишь вмешательство А. Рендера, повадившегося бить слонов в долине, принесло Мауху освобождение и помогло в 1872 году добраться до руин. Он был потрясен и поражен увиденным: и размерами спрятавшегося в зарослях сооружения, и удивительной, не знающей углов архитектурой постройки, и характером каменной кладки — не скрепленной раствором, но настолько плотной и аккуратной, что Маух вспомнил о кирпичных стенах богатых старых домов в родном Лейпциге.
Его записная книжка заполнилась первыми сведениями о главном сооружении Великого Зимбабве, которое затем не вполне удачно нарекли «эллиптическим храмом»: длина наружной стены, окружающей все сооружение, — 300 метров, высота — до 9 метров, толщина у основания — 6 метров, наверху суживается до 3 метров. Молодой немец зарисовал расчищенную африканцами по его приказу от лиан коническую башню, поднявшуюся над землей на 11 метров. Затем он подсчитал количество плит, слагающих стену по высоте, тут же, на листке планшета, произвел расчеты. Получалось, что на сооружение «эллипса» ушло ни больше ни меньше, а почти 900 тысяч каменных блоков, что соответствует 22,5 миллиона «европейских кирпичей». Геологическим молотком Маух отбил один из них, прикинул на руке вес, вновь перемножил цифры. Весь «храм» должен весить минимум 100 тысяч тонн!
Затем Маух оторвал глаза от планшета, осмотрелся по сторонам и вздрогнул от неожиданности. На вершине нависшего над долиной скалистого гребня, чем-то напомнившего ему огромного крокодила, он заметил нечто вроде крепости, удивительно искусно вписанной в естественный ландшафт. Поднимаясь на скалу, геолог чуть было не поплатился за свое любопытство жизнью. Тропу, ведущую к крепости (за ней впоследствии утвердилось название «акрополь»), стерегли готовые в любой момент сорваться «висячие камни». Стоило задеть за болтавшуюся над тропой лиану, как они падали вниз, всякий раз готовые размозжить голову.
Отскакивая от камней, Маух всякий раз останавливался, переводил дух и осматривался вокруг. Вскоре он заметил, что во многих местах проходы между глыбами скал, среди которых петляла коварная тропа, перекрыты каменными стенами, а за ними создано нечто вроде «миникрепостей», стерегущих путь наверх. Обычно толщина этих стен не превышала двух метров, но на западе, где доступ наверх облегчался рельефом, превосходила четыре метра. За стеной находился «нижний двор» крепости, соединенный с «верхним двором» лабиринтом узких, простреливающихся отовсюду переходов. Оттуда на «акрополь» вела единственная тропа в траншее, прикрытая сверху 50-метровым каменным бруствером с серией защищенных площадок, позволявших обитателям крепости обстреливать пытающегося прорваться наверх врага.
Сама крепость венчала 30-метровую скалу, обрывающуюся в сторону долины. В центре ее, среди зарослей, вырисовывалась, словно вычерченная по лекалу, стена «эллиптического храма».
Стояла безветренная погода, ни единый листочек не двигался в подернутой красноватым маревом «долине руин». Жизнь как бы осталась там, за горами, со всех сторон ограждавшими загадочное строение от внешнего мира. «Никаких следов людей, — записал К. Маух на уголке листка, испещренного цифрами. — Я открыл мир, историю которого забыли даже камни…»
Итоги своих открытий К. Маух изложил на страницах популярного немецкого географического журнала. Его обмеры, сделанные с немецкой скрупулезностью, до сих пор никем не корректировались. Однако исторические «выводы» геолога отбросили науку далеко назад и перечеркнули то, что было очевидно еще португальцам в самом начале XVI века: Зимбабве — творение рук зинджей. Овеянные африканскими мистическими преданиями развалины почему-то дали Мауху повод вновь вспомнить о царе Соломоне и утверждать, что обмеренный им «эллиптический храм» — точная копия дворца царицы Савской, в котором она флиртовала с иудейским царем. Фантазия Мауха зашла настолько далеко, что он счел возможным написать в своей статье: «Деревянные брусья над проходами в «эллипс» вырезаны из ливанских кедров, высаженных тирским деспотом Хирамом».
Сообщение Мауха произвело настоящий фурор в Западной Европе и побудило Р. Хаггарда начать работу над своим знаменитым романом «Копи царя Соломона». Однако не нашлось ни Джека Лондона, ни Брет-Гарта, которые бы описали ту «золотую лихорадку», которая охватила междуречье после того, как К. Маух и Р. Хаггард вновь возродили надежды на реальное существование легендарного Офира. Она мало чем отличалась от аляскинской или калифорнийской! Достаточно сказать, что к началу XX века в междуречье Лимпопо — Замбези было зарегистрировано 114 тысяч заявок на золотоносные участки…
Вряд ли стоит говорить о том, что авантюристов и искателей легкой наживы, со всего света съехавшихся в эти места, интересовало золото, и только золото. В поисках желтого металла они варварски разрушили, уничтожили многие памятники Великого Зимбабве, а также окружавшие его шахты, рудники и поселки, хранившие свидетельства старинных методов добычи и плавки. Золота находили немало. Но любое изделие, пусть даже представлявшее огромную историческую или ювелирную ценность, тотчас же переплавляли в слитки.
Единственное интересное открытие, дополнившее увиденное Маухом, было сделано в 1889 году. Вилли Поссельт, переквалифицировавшийся из профессионального охотника в кладоискателя, нашел тогда среди развалин «акрополя» несколько крупных изваяний птиц. Они были мастерски вырезаны из стеатита (мыльного камня) и восседали на высоких прямоугольных столбах. Проводники-каранга, завидев птиц, упали ниц, в страхе произнося лишь одно слово: «Хунгве, хунгве».
Впоследствии В. Поссельт, ставший благодаря этой находке знаменитостью, напишет в своих мемуарах: «Я сразу же понял, что это главные тотемы каранга, стоящие на ритуальных подставках. Они напоминали то ли соколов, то ли орлов. Я задался целью унести этих идолов с холма, чтобы продать их в Йоханнесбурге и окупить расходы на экспедицию к руинам. Однако сопровождавших нас кафров[54] обуяло такое негодование, что нам пришлось взвести курки ружей… Через пару дней, сторговавшись с кафрским вождем из другого племени, я все же стал обладателем нескольких «хунгве». Одну из птиц купил у меня сам Родс — создатель Родезии».
Родс и Кº вдохновляли и финансировали целые направления антинаучных «исследований», призванных доказать: африканцы к созданию зимбабвийских колоссов никакого отношения не имеют. Птицам хунгве нашли предка в ближневосточной мифологии и даже отыскали их изображение на финикийских монетах. По меткому выражению известного зимбабвийского археолога П. Гэрлаке, «в качестве создателей архитектурных памятников междуречья упоминались все древние народы, кроме самих африканцев». Расиствующая политика властно вмешалась в археологию: все исследования, сулившие пролить свет на происхождение «руин», свертывались, запрещались, а их итоги засекречивались. Так, уже в наше время Великое Зимбабве стало «великой загадкой».
Глава шестьдесят седьмая
Мнение маститого ученого: «Зимбабве имеет чисто африканское происхождение». — Пощечина расистам от науки. — Почему не увидел свет один из номеров журнала «Энтикс»? — Сенсационное открытие на холме Мапунгубве. — Малое Зимбабве проливает свет на секреты Великого Зимбабве. — Науке уже известны 400 поселений зимбабвийской культуры. — Мозамбикские земли перестают быть «белым пятном». — Мопаневельд — африканская дубрава. — На древней земле Маники
Первая, причем отнюдь не робкая, попытка сказать правду о Зимбабве была сделана в начале XX века Д. Рэнделл-Макайвером. Маститый британский египтолог обладал авторитетом, который разрешил ему пойти против расистского течения и заявить: «Я обследовал семь районов развалин в районе междуречья и пришел к твердому мнению: они имеют чисто африканское происхождение и относятся к средневековому или послесредневековому периоду». В архитектуре, писал он, «независимо от того, военная она или гражданская, нельзя обнаружить никаких следов восточного или европейского стиля любого периода. Здания, заключенные в эти каменные руины и составляющие их неотъемлемую часть, имеют, бесспорно, африканский характер. Искусство и ремесленные изделия, представленные предметами, найденными в этих зданиях, типично африканские».
«Финикийцы», однако, не сдались и превратили выводы Ренделл-Макайвера об африканском средневековье в современную политическую проблему. Доказывая, что «черные ничего не создали и не имеют никаких корней на африканском юге», они настолько накалили страсти, что в 1929 году Британская ассоциация содействия развитию науки послала в междуречье новую экспедицию. Ее возглавила Гертруда Кайтон-Томпсон, по итогам своих исследований опубликовавшая классический труд, самое название которого — «Культура Зимбабве» — звучало словно пощечина расистам от науки. Ее вывод таков: «Исследования свидетельств, собранных со всей страны, не подтверждают ничего такого, что опровергало бы происхождение от банту или датировку средневековым периодом… Я решительно не могу согласиться с часто повторяющимся предположением, будто Зимбабве и смежные с ним сооружения были созданы под руководством «высшей расы или надсмотрщиков».
Лучше других зная, сколько зимбабвийских ценностей безвозвратно потеряно для науки, и твердо веруя в то, что герои «Эншент руине компани» наверняка ничего не оставили для ученых, «финикийцы» прибегли к заведомо запрещенному приему: потребовали от Г. Кайтон-Томпсон «конкретных и новых доказательств того, что культура Зимбабве существовала и что у нее есть африканское лицо». В замбийском городе Ливингстоне, где находится один из крупнейших центров исследований Центральной Африки, мне показывали любопытный экспонат: отпечатанный в 1934 году специальный выпуск издававшегося «фондом Родса» журнала «Энтикс», ни один экземпляр которого так и не дошел до читателей.
Рассказывают, что африканские мальчишки-газетчики уже запихивали свежие экземпляры этого журнала в свои сумки, готовясь выйти на улицы и начать завлекать покупателей фразой, которую им приказал выкрикивать их белый «баас»: «Гертруда все переврала! Золотые украшения из руин — дело рук финикийцев. Это — золото белых, а не черных!» Кто-то из мальчишек уже даже выбежал из здания типографии, когда к ней подъехал «роллс», в котором восседал «баас».
— Остановите этих черномазых! — закричал он. — Заткните им глотки.
Затем «баас» сдернул сумку с плеча первого подвернувшегося ему мальчугана и начал топтать ногами еще пахнувшие типографской краской номера «Энтикс» на роскошной мелованной бумаге. В них содержались пространные статьи, «резюме» которых намеревались вложить в уста африканских газетчиков.
Никто в то утро не рискнул спросить «бааса», что вызвало его гнев. Однако на следующий день до Ливингстона добрался поезд с южноафриканскими газетами, и все стало на свое место. «Кейп аргус», «Ранд дейли мейл» и «Стар» на своих первых полосах, словно сговорившись, рассказывали о сенсационных находках на «королевском холме» Мапунгубве. Местный археолог ван Тондер обнаружил там 23 скелета — первые из уцелевших до нашего времени с допортугальского периода. Кости в могильнике были буквально пересыпаны золотыми украшениями, в том числе двенадцатью тысячами (!) бусин из желтого металла высокой пробы. Один из скелетов оказался скован с другим золотой цепью весом в два килограмма. И при этом все скелеты принадлежали африканцам. Вряд ли финикийские «арийцы» хоронили бы своих черных рабов в золоте!
Слухи о необычайных делах в Мапунгубве стали будоражить умы местных жителей еще за несколько лет до того, как находки ван Тендера вывели из себя владельца «Энтикса». В 1932 году этим холмом, расположенным в 75 километрах к западу от южноафриканского города Мессина, заинтересовался бурский фермер ван Граан. Наслышанный от аборигенов здешних мест — охотников венда — о сокровищах «шакальей горы» (так с банту переводится название Мапунгубве), он без труда «вычислил» этот холм среди сотен других, теснящихся вдоль долины Лимпопо.
Мапунгубве стоит как раз в том месте, где эта река, поворачивая к Индийскому океану, резко меняет направление своего течения с меридионального на широтное и образует огромное колено. Окруженный, таким образом, с двух сторон водой, холм резко выделяется среди других и своей формой: он не пологий, как все соседние, а как бы рубленый, с обрывистыми склонами и плоской вершиной. «Обитель страха», «дом предков», «последний приют владык» — так характеризовали венда этот холм, с первого взгляда напомнивший ван Граану гигантский саркофаг. Приблизившись к Мапунгубве, африканцы норовили повернуться к нему спиной, боялись бросить взгляд в сторону холма и дружно отговаривали буров от попыток забраться на его вершину.
Да и не таким уж легким это оказалось делом! Серпантинов троп туда никто не протоптал, а для того, чтобы брать отвесные склоны холма «в лоб», надо было овладевать искусством скалолазов. Больше месяца ван Граан с сыном и тремя спутниками потратили на то, чтобы найти проводника, который согласился бы открыть им тайну пути к «месту страха». Он показал им узкую, сплошь скрытую колючей растительностью расщелину.
Прорубая себе путь по ней с помощью топоров, первооткрыватели Мапунгубве добрались до небольшой площадки, над которой нависала стена из голубоватого песчаника. Проводник постоял в раздумье, как бы обшаривая ее глазами, затем начал взбираться наверх. Следя за его действиями, ван Граан понял, что древние обитатели холма вырубили в песчанике незаметные углубления — ступеньки, ведущие на вершину.
Скрупулезно повторяя каждое движение проводника, посоветовавшего «не делать никаких лишних движений и ни в коем случае не хвататься за корни и ветви», буры поднялись на столовую вершину. Только там они поняли, какая смертельная опасность им угрожала во время восхождения. На самом краю вершины огромные валуны удерживались над лестницей только за счет собственного равновесия. Некоторые из них были перевиты свешивавшимися вниз лианами. Стоило непосвященному или непрошеному гостю, взбиравшемуся по лестнице, ухватиться за такую лиану, и камни полетели бы на него…
За несколько дней до того, как было совершено это восхождение, прошел сильный ливень. Потоки воды размыли поверхностный слой земли и, обнажив то, что под ней лежало, избавили буров от дальнейших поисков. Повсюду в глаза бросались обломки керамики, кусочки железа и… блестки золота. Чаще всего попадались отливавшие червонной желтизной фигурки носорогов.
Вскоре на Мапунгубве поднялся один из ведущих южноафриканских археологов — ван Риет Лоув. Он выяснил, что холм в значительной степени создан руками человека, и назвал предварительную цифру — минимум 10 тысяч тонн почвы было поднято строителями на его вершину. Впоследствии эта цифра была увеличена до 120 тысяч тонн, а сам холм был охарактеризован ученым как «до сих пор никем не тронутое место, имеющее огромное значение для понимания Африки». Затем последовала уже известная нам сенсационная находка ван Тендера — первое «королевское погребение», обнаруженное на землях, некогда подвластных Мономотапе. Холм Мапунгубве оказался не чем иным, как «малым зимбабве» — одной из многочисленных ставок мутапы, разбросанных по его огромной империи. Она была основана не позже IX века, а жизнь на холме продолжалась до XVIII столетия. Найденное там, в «малом зимбабве», сразу же приоткрыло ученым глаза на то, какие огромные ценности были добыты и уничтожены родсовскими «искателями Офира» в Великом Зимбабве.
Сколько еще таких «зимбабве» скрывают от археологов тропические заросли? Ответить на этот вопрос пока что трудно. Однако около 400 поселений зимбабвийской культуры ученым уже известны. Самое восточное из них — Мани Кеми, расположенное всего лишь в 50 километрах от мозамбикского побережья Индийского океана, неподалеку от Виланкулуша, было изучено в 1978–1981 годах. Обследовавший его бразильский историк Ж. Мораиш установил, что Мани Кеми окружала типичная для построек культуры Зимбабве овальная стена двухметровой высоты, сложенная из каменных глыб.
…Я намеренно до сих пор не отвлекал внимания читателей от профессионально отработанной «автолекции» университетского преподавателя А. Кошты и навеянных ею собственных воспоминаний об истории Зимбабве описаниями мест, по которым мы проезжали, потому что за окном мелькала все та же унылая равнина, хранящая следы насилия воды над сушей. До гор Маники, куда мы направлялись, еще далеко, подъем приморской низменности к ним столь незаметен, что никаких изменений не видно ни в рельефе, ни в растительности. Лишь километрах в ста от побережья среди тощих серых кустарников начинают попадаться большие, с пахучими семенами деревья — мопане. Кроны их раскидисты и ветвисты, но практически не дают никакой тени, так как листья этого дерева, чтобы сохранить испарение, постоянно повернуты ребром к солнцу.
Чем дальше на запад, тем мопане делается все больше и больше. Начинается мопаневельд — очень распространенная в Юго-Восточной Африке лесная формация, растущая на тяжелых глинистых, как правило, бесплодных почвах.
Вдали от заезженных дорог и селений леса мопане и поныне служат излюбленным местом обитания слонов. Судя по обилию навозных куч и поваленных старых деревьев, с которых толстокожие гиганты любят ощипывать молодые побеги, этих животных здесь еще немало.
Несколько раз мы спугивали стада грациозных антилоп-импала, а жемчужнокрылые цесарки вырывались из-под колес нашей машины в таком количестве, что вскоре мы перестали обращать на них внимание. Там, где деревья росли близко от дороги, ее глубокая колея была сплошь засыпана темно-красными листьями. Да и на самих мопане преобладал багряный наряд, сближавший по колориту мопаневельд с нашими осенними дубравами.
— А вот и первые предвестники Маники, — указывает Антонио на небольшие холмы, появившиеся впереди. — И каждый из них ждет своих исследователей, в первую очередь археологов. Раскопки, проведенные преподавателями и студентами нашего факультета, показали, что на вершинах этих холмов сохранилось немало остатков святилищ, где проводились культовые церемонии в честь почитавшихся каранга предков — мвари. Сделали мы и находки, связанные с периодом конкисты. Ведь были времена, когда безлюдные ныне леса мопане служили ареной событий, имевших первостепенное значение для будущего как всей Юго-Восточной Африки, так и Португалии. Вы удивлены? — замечая недоумение на моем лице, спрашивает Антонио. — Все дело в том, что, опасаясь серьезной военной конфронтации с белыми и не желая видеть их в своей столице, мутапа пошел на компромисс, приказав пропустить воинство Баррету в Манику. Португальцев это устраивало, поскольку добычу золота из аллювиальных песков Маники они считали для себя делом более перспективным, чем строительство рудников в глубинных районах Мономотапы. Однако на пути из Софалы в Манику лежало тогда княжество, названное по имени правившей там династии Китеве. Хотя его владыка Китеве III и находился в полувассальной зависимости от мутапы, он вовсе не собирался пропускать португальцев в Манику через свою территорию даром. Китеве III лелеял мечту облагать данью каждый караван белых, проходивший по его землям. К тому же в Манике правил его заклятый враг Шиканга, и никто не мог гарантировать Китеве, что в лице португальцев тот не найдет себе союзника.
Так началась затяжная и жестокая война между конкистадорами и подданными Китеве. После нее остались многие из тех холмов и могильников, мимо которых мы проезжаем. Вооруженным до зубов португальцам поднявшиеся на партизанскую борьбу африканцы могли противопоставить лишь ассагаи, дротики, луки и… голод. Засыпая колодцы, уничтожая запасы продовольствия, предавая огню не только свои поля, но и дикорастущие деревья, дающие съедобные плоды, местные жители увлекали незваных пришельцев все дальше и дальше в глубь незнакомой им страны. Объевшись плодов мопано, давно уже пали верблюды и лошади, начали болеть ослы, а люди изнемогали от голода. Охотиться в этом богатом дичью крае португальцы не могли: неуловимые, преследовавшие их люди Китеве отпугивали животных. Ничего не досталось воинству Баррету и в столице Китеве, покинутой ее жителями. Спалив дворец из дерева и соломы, предав огню остальные строения города, поредевшие наполовину отряды крестоносцев двинулись в Манику.
Рассказ Антонио прервала свадебная процессия, повстречавшаяся у переправы через неширокую, почти высохшую реку Ревуэ. К нам обратился благообразного вида старец с необычной для африканца седой бородой. Он попросил, чтобы мы «оказали честь жениху и невесте» — перевезли их через реку на машине. Собравшаяся по случаю торжества публика была одета довольно бедно и разномастно, но все — по-европейски. Жених и невеста же, с довольным видом усевшиеся на заднее сиденье машины, удивили меня своей униформой: весь их наряд составляли коротенькие юбочки, сделанные из какого-то несотканного растительного волокна.
— Ну вот вам и отголоски порядков, некогда существовавших в Китеве, — объяснил Антонио, когда, пожелав счастья и множества детей молодой паре, а также пожав руки по меньшей мере сотне их гостей, мы вновь тронулись в путь. — Формально жених и невеста принадлежат к народу шона, но помнят, что когда-то их предки причисляли себя к племени абатеви, создавшему королевство Китеве. А у его владык существовал строгий придворный этикет: в их дворец можно было являться лишь в юбках из луба баобаба. Королевства уже давно нет, а традиция надевать такие юбки в знаменательные дни осталась.
Через два часа воздух стал свежее и суше, разноцветные мопане и бесцветные солончаки сменились посадками канарской сосны с длиннющей темной хвоей. Изумрудными оазисами замелькали кукурузные поля, небольшие табачные плантации. Дорога начала резко набирать высоту.
— По всему видно, Маника — рядом, — порадовал меня Антонио. — А значит, настала пора завершить рассказ о Баррету. Дойдя до границ владений Шиканги, он заболел, вернулся в Сену и вскоре там умер. Огромное воинство Баррету уменьшилось до 180 человек. Командование экспедицией принял на себя Омень — фигура зловещая, великий магистр ордена святого Яго. Наученный горьким опытом плавания по Замбези, он в новый поход отправился из Софалы. В сущности, мы сегодня повторили его путь. Но португальцы потратили на него не один день, а два месяца, поскольку Китеве вновь поднял свой народ на партизанскую войну. В конечном итоге Омень добрался до столицы Маники и установил португальский контроль над районами, простирающимися на запад вплоть до современного зимбабвийского города Умтали. Что же касается нас, то мы достигли Маники в районе мозамбикского городка Ротанда, где некогда была одна из столиц правителей этого прекрасного края, — заключил Антонио, указывая на дорожный знак.
Глава шестьдесят восьмая
По следам африканских рудознатцев. — Добычей золота занимались на семейных рудниках. — Появление под землей женщин нарушает покой могущественного духа Чаминуке. — Всеобщее божество Мвари обитало в Великом Зимбабве? — Золото завлекает семейство мутапы в сети португальцев. — Начало движения «Засыплем шахты — забудем о золоте». — Фольклор и политэкономия. — «Лишь создатели египетских пирамид могут тягаться с потомками шона грандиозностью своих дел». — Следы великой рудниковой цивилизации
Обосновавшись в одной из хижин проводника по заповеднику Бинго, расположенному в предгорьях Маники, мы с самого утра колесили на машине в поисках следов деятельности тех, кто добывал железо и золото Мономотапы. У Антонио было две карты. Одна из них — копия с португальской, составленной еще в XVII веке, из которой следовало: в те времена именно мозамбикская часть Маники была главным районом добычи золота в Мономотапе. Вторую карту вычертил сам Антонио. На ней были нанесены открытые в основном им же горные разработки прошлых веков в районе между горами Бинго и главным городом Маники — Шимойо.
— О средневековых Мономотапе и Зимбабве написаны десятки монографий, но что обидно: о подчинявшихся им мозамбикских территориях там не сказано ни слова, — с горечью говорил А. Кошта во время одной из поездок, ориентиром в которой нам служили эти карты. — А между тем о прошлом Маники, свидетельствующем, в частности, о хорошо налаженной административной и экономической системах этого государства — вассала Мономотапы, есть что рассказать.
На примере золотодобычи это выглядело так, — продолжал ученый. — Как только местное население выявляло на своей земле признаки золота, местный вождь сообщал об этом высшему наместнику мутапы в Манике, носившему титул «муэнемамбо». Тот направлял на место предполагаемой добычи желтого металла «послов». В их обязанности входило следить, чтобы каждый из золотодобытчиков ежедневно делал в пользу правителя «одну ходку», то есть ссыпал в «фонд мутапы» один сшитый из козлиных шкур мешок с рудой. Добыча велась, как правило, членами одной семейной общины — муча. Поэтому можно говорить, что это были своего рода семейные рудники, на которых до появления португальцев были заняты все общинники, свободные от сельскохозяйственных работ.
— Мне вот что непонятно, — говорю я. — Ведь многие португальские авторы отмечают, что местное население не имело представления об истинной цене золота, считало, что оно дешевле железа. Какая же нужда была загонять людей под землю?
— Сейчас объясню. Мономотапа была довольно развитым государством, а это значит помимо всего прочего, что ее население облагалось налогами в пользу высшей власти. Ни в столицу, ни в ставку муэнемамбо простой общинник не мог войти с пустыми руками. Даже в случае если рядовой член общины был гол как сокол, он был обязан подойти ко дворцу, неся связку соломы на голове. С политической точки зрения эта связка была нужна для того, чтобы продемонстрировать подчиненность всех и каждого высшей власти, с практической — чтобы ремонтировать крыши бесчисленных построек королевского крааля. В Манике каждая муча была обязана возделывать «королевское поле»; собранная с него кукуруза принадлежала мутапе. Ему же охотники были обязаны отдавать один из бивней каждого убитого слона, все клыки добытого ими бегемота или когти леопарда.
По мере того как в Манику начали проникать арабы, имевшие дело с представителями аристократии шона, те начали проявлять все больший интерес к золоту. Рядовые члены общины быстро поняли, что с его помощью можно откупиться от властей, увильнуть от общественных работ, оставить себе оба слоновьих бивня, в которых традиционно виделся символ богатства. Проникновение португальцев в Манику, особенно усилившееся после похода Оменя, активизировало этот процесс. Но для мужчин добыча золота была делом непрестижным. Вот почему загонять под землю, в рудники, начали женщин и детей, которые у каранга, как и почти всюду в Африке, были наиболее эксплуатируемой частью общества.
Самостоятельно эксплуатировать рудники португальцы еще не могли. Поэтому они делали это с помощью местной аристократии, правящей верхушки. Так у Лиссабона возникла заинтересованность в сохранении власти мутапы, но при условии, что он будет португальской марионеткой, — заключил Антонио.
Вдоль древнего тракта — из Ротанды через Умтали до подножия Иньянги, — от которого осталась лишь жалкая тропка, по которой мы сейчас двигаемся, а также в других золотоносных районах Мономотапы возникли ярмарки, где местное население могло обменять золото на ткани и стеклянные бусы. Каждый купец платил на этой ярмарке пошлину, а посетитель покупал нечто вроде «входного билета», доходы от которых пополняли казну мутапы. Ведал этим бесконтрольным бизнесом так называемый капитан у ворот. На самой большой ярмарке, в Массапу, этот пост по инициативе португальцев заняла «капитанша» — старшая жена самого мутапы. Прибыли этой не умевшей считать дамы, в значительной степени зависевшие от манипуляций ее португальского советника Магальяо Гомеша, были столь велики, что тот вскоре докладывал губернатору острова Мозамбик: «Королева уже поняла все выгоды сотрудничества с нами. Она не скрывает, что готова служить нам, а не своему мужу-монарху. В ее лице мы также имеем нашего главного союзника в борьбе с маврскими купцами».
Я рассказываю Антонио о разысканных мною в губернаторском архиве острова Мозамбик ранее неизвестных материалах иезуита П. Коррейо «Об умонастроениях туземной знати золоторудных земель в Африке», подготовленных в 1631 году. Его автор признавал, что, чем больше усиливался контроль португальцев над добычей и торговлей золотом, тем меньше делались доходы местной знати, не связанной родственными связями с мутапой. Португальцы, снаряжая огромные караваны, состоящие из 400–500 носильщиков, начали торговать повсюду сами. Одновременно все большее число рядовых общинников загоняли добывать желтый металл под землю, в чем «туземцы повсеместно винили белых, и особенно людей с крестом». Антикатолические настроения среди каранга усиливаются. Интересно, что это происходит именно в то же время, когда религиозные смуты потрясают Эфиопию и народ в 1632 году заставляет «царя-еретика» Сусныйоса отречься от трона.
— Иезуиту нельзя отказать в проницательности, тем более что христианин-мутапа по имени Филипп был вызовом всему традиционному обществу каранга, — говорит А. Кошта. — Однако когда мы воссоздаем историю этого района, опираясь лишь на писания португальских хронистов и официальные документы, то всегда существует опасность свести все к борьбе за власть, к интригам в «высших сферах». А между тем для понимания событий тех времен существует еще один богатейший источник — фольклор, насыщенный обильным историческим материалом. Я упомянул об этом потому, что сейчас мы приближаемся к древнему селению Мавита, которое и у ндау, и у маньика, и у розве, в легендах и сказаниях всех племен каранга фигурирует как место, где зародилось и откуда пошло по всей Манике движение «Засыплем шахты — забудем о золоте».
Ничего не осталось от прежних веков в Мавите, кроме огромного, развесистого капского каштана. Но именно под ним, как из поколения в поколение передает народная молва, тайно собрались вожди и старейшины Маники, Китеве и Кисанги, объявившие «войну золоту». Было это в самом начале второй половины XVII века.
Конечно, африканские легенды — источник не документальный и довольно далекий от понятий современной политэкономической науки, в категории которой Антонио пытался втиснуть фольклорные сюжеты. Однако если сопоставить эти легенды с португальскими документами, то общие экономические и исторические параллели в них прослеживаются.
Так, легенды рассказывают о том, что «с приходом мазунгаш золото стали заставлять искать даже перед наступлением дождей», отчего «людей в деревнях вовсе не оставалось, поля не обрабатывались, посевы хирели и голод наступал». А вот письмо некоего сеньора Алвиша Оливейруша из Тете в Порту, датированное июлем 1665 года. После пяти лет пребывания в Манике он пишет: «…Земли этого Богом созданного земного рая, в первый год моего туда прибытия ласкавшие глаз зеленью полей и разнообразных красок садов, возделанных местными необычайно трудолюбивыми неграми, отныне поглощает тропический лес… И виною всему тому — насилие властей наших, кои этих негров на рудниках работать принуждают, не оставляя им ни времени, ни сил для занятия землей. Тяжелый труд их при добыче золота и бескормица стали причиной мора повсеместного, который, словно странная эпидемия, ведет к обезлюдению огромных районов».
Еще одно сопоставление фольклора с португальскими источниками. В записанном Антонио сказании ндау говорится о том, что «сама земля, протестуя против насилия над ней, не допускает людей к золоту… И обрушивается эта земля на людей, погребая их числом не меньшим, чем листьев растет на дереве». Метафора, конечно, вынужденная, поскольку в языке каранга вплоть до начала XX века не было слов, обозначающих числительное свыше ста. Но какой элемент гиперболы содержится в этом иносказании?
Изданная в 1683 году в Лиссабоне книга «Sorbe os Rias de Guama» позволяет уточнить цифры. «Сначала строился большой дом для тех, кто наблюдал за работой, — рассказывается в ней. — Затем, разбившись на группки по четыре-пять человек, негры рыли колодцы-входы средней глубиной саженей в тридцать. Когда примерно 20 тысяч таких колодцев одинаковой глубины были готовы, негры залезали в них и начинали выбирать породу между ними, дабы все входы соединились один с другим под землею. Иногда, когда внизу находилось 30–40 тысяч туземцев, вся земля обрушивалась… Тел погибших почти не находили, а только раздавленные кости». В этой книге отмечается, что в некоторых местах добычи золота «собиралось 60–80 тысяч негров, иногда их число доходило до 90 тысяч…»
«Засыплем шахты — забудем о золоте», — прозвучал из Мавиты призыв, который был услышан на всех землях мозамбикских каранга. И почти одновременно, выражаясь современным языком, поддержал его «на высшем уровне» правитель мятежной Китеве. «Не добывайте золото, а обрабатывайте землю, — призвал он своих подданных. — От этого выгода большая будет, а жить станете в мире и спокойствии».
По призыву вождей и старейшин сотни тысяч людей клялись духам предков не работать на португальцев в шахтах, скрывать от мазунгаш переходящие из поколения в поколение сведения о месторождениях золота, не давать пришельцам возможности открывать новые рудники. Опасаясь мести всесильных духов и неминуемой смерти, очень редкий африканец даже сегодня осмелится нарушить такие клятвы. В те же времена эти клятвы были равносильны приговору планам Лиссабона превратить Мономотапу в «португальский Офир».
По ночам, повинуясь приказу старейшин, тысячи людей, живших в золотоносных районах, снимались с насиженных мест, оставляя белых пришельцев без рабочих рук.
— Кое-где еще сохранились следы брошенных тогда рудников, деревень и ярмарочных центров, — говорит Антонио. — Ведь шона большую часть своих строений сооружали из камня, и поэтому хоть фундаменты их в некоторых местах уцелели. Хотите посмотреть?
Я с готовностью соглашаюсь: ведь район, который мы сейчас проезжаем, известен как восточная периферия огромной зоны средневекового каменного строительства. Ренделл-Макайвер назвал эту зону «огромным музеем африканской архитектуры под открытым небом». Совсем неподалеку от нас, на территории Республики Зимбабве, находится древнее селение шона Пеньялонга, каменные сооружения которого произвели на ученого не менее внушительное впечатление, чем руины Зимбабве.
Земляные работы проводились здесь на огромной площади в 65 тысяч квадратных километров в таких размерах, что кое-где они совершенно изменили весь облик местности. Уступы искусственных террас, достигающих порою в ширину 5 метров, вытянулись по склонам долины Пеньялонга на 4–5 километров. На дне долины земля повсюду в среднем вынута на полметра. Нетрудно подсчитать, что при подобных масштабах землеустроительства с каждого квадратного километра долины было перемещено вверх, на террасы, минимум полмиллиона кубов плодородной земли. Всего же для сооружения искусственных уступов для полей и прокладки к ним оросительных каналов здесь было перенесено несколько сот миллионов тонн земли и камня. Лишь создатели великих египетских пирамид могут тягаться с предками современных шона грандиозностью своих дел. Недаром же Ренделл-Макайвер писал, что от Пеньялонга и далее на восток, в сторону Мозамбика, лежит обширная территория, где трудно пройти и десяток шагов, не наткнувшись на сооружение из камней.
— С каменной архитектурой шона мы познакомимся чуть позже, — говорит Кошта, когда, покинув машину, мы начали пробираться вверх сквозь заросли густых кустарников. — Что же касается остатков сооружений из камня, имевших сугубо хозяйственное назначение, то далеко ходить не надо. Они перед нами.
Мы выходим на неширокую плоскую площадку, от которой по склону поднимается нечто вроде гигантской лестницы. Почти все поросло колючими акациями и причудливыми, канделябровидными молочаями, но даже они не могут скрыть того, что естественный рельеф склона некогда был изменен вмешательством человека.
— Террасы? — не без доли сомнения говорю я.
— Конечно! Да еще какие! Землю сюда приносили в мешках из козьих шкур снизу, где она намного плодороднее. Поэтому, опасаясь, что дожди смоют драгоценную почву или, не приведи господь, эрозия вообще разрушит террасированный склон, его укрепляли каменными барьерами.
Мы идем вдоль одного из таких барьеров, а по сути дела — каменной стены. Идем сто, двести, триста метров… Террас же, нависших одна над другой, а следовательно, и каменных стен здесь восемь. Кое-где еще сохранились выложенные каменными плитами каналы и запруды, по которым в засушливое время воду пускали на поля. Длина этих каналов, как утверждает Антонио, превышает три километра, а глубина редко меньше метра. Он же показывает мне остатки некогда переброшенного с одного холма на другой акведука, с помощью которого вода поступала в деревню. Осматриваем едва различимые фундаменты жилых строений, поросшие колючей травой следы каменных заборов и стен, некогда окружавших всю деревню.
— На сооружение этих террас и каналов, разбросанных на огромной территории, равной по площади иному европейскому государству, затрачен колоссальный труд, — не без гордости продолжает рассказ историк. — Здесь мне всегда вспоминаются слова Бэзила Дэвидсона, который писал, что впечатление от успехов древних жителей этого района тем более огромно, если учесть, в каких условиях существовали здесь люди. Сохранившиеся остатки их материальной культуры рисуют народ, который создал цивилизацию, пусть грубую и простую, но вполне заслуживающую этого термина.
— Нечто подобное, если только не принимать во внимание характер каменной кладки, — и террасированные поля, и каналы, и акведуки — я уже видел в Кении, на землях народов элгейо, мараквет и покот, — говорю я. — Только там эти древние сооружения зачастую еще поддерживаются крестьянами и «работают» на них. А это покинутое ндау селение в общих чертах очень напоминает танзанийскую Энгаруку.
— Я не вижу ничего особенного и удивительного в таком сходстве, — немного подумав, отвечает Антонио. — Подобно тому как на побережье развивалась единая суахилийская цивилизация, так и во внутриконтинентальных районах Африки формировалась единая цивилизация, с носителями которой и поддерживали связи прибрежные купцы. Мы называем эту цивилизацию азанийской и считаем ее наследницей достижений Аксума и других великих древних африканских государств. Шона — это не народ-вундеркинд, а всего лишь частица этой цивилизации.
Взбираясь вверх по террасам, словно по гигантским ступеням, мы выходим на вершину холма, а затем по его противоположному склону спускаемся в небольшую, со всех сторон зажатую горами, засушливую и поэтому почти совершенно лишенную растительности котловину. Честно говоря, я бы не обнаружил в ней ничего примечательного. Но опытный глаз Антонио, проведшего не один сезон в археологических партиях, распознал на дне котловины и следы «колодцев», с рытья которых африканские рудознатцы начинали освоение месторождения, и обрушившиеся своды кровли, и отвалы пустой породы по краям. Указал мне Антонио и на небольшой перевал, через который золотоносную руду носили промывать к ручью.
— Ныне на землях Мономотапы выявлено около 90 тысяч золотоносных мест, где осуществлялась добыча желтого металла. А в междуречье Замбези и Лимпопо обнаружены десятки тысяч заброшенных рудников по добыче железа, — увлеченно рассказывает Антонио. — Здесь, в Западном Мозамбике — в Манике, Киесанге, Китеве и Седанде, существовала поистине рудниковая цивилизация. Стук железных кайл и отблеск каменных плавильных печей составляли здесь в средние века столь же важный элемент, как и железные дороги в Европе XIX века.
Но в уродливой экономической ситуации, созданной португальцами, торговля и добыча металла, служившие ранее величию Мономотапы, обернулись своей противоположностью. Народ первым понял это и поднялся на борьбу, которая по своим формам не имела прецедента в многовековой истории Африки. Для того чтобы удержаться у власти и окончательно не потерять авторитета в глазах соплеменников, мутапе Педру не оставалось ничего иного, как сверху легализовать инициативу низов. В 1683 году его гонцы разнесли по всей стране приказ закрыть все рудники и под страхом смерти прекратить добычу золота. Один из португальских документов тех лет свидетельствует: «Предательство и черное колдовство, ранее рассматривавшиеся как самый тяжкий грех, теперь считаются куда меньшим преступлением, чем работа на руднике. Жестокому наказанию — чаще всего смерти — подвергают не только нарушителя приказа мутапы, но и его родителей и детей. Люди боятся даже подходить к местам, где раньше добывалось золото, и в ужасе разбегаются при упоминании об этом металле».
Из одной легенды шона в другую переходит сюжет о том, как некая прекрасная девушка, готовясь выйти замуж, вспомнила о бытовавшем среди маника древнем поверье: если закопать в землю самородки желтого металла, то после дождей под землей появится «большой урожай» золотистых блесток. Желая иметь к свадьбе красивые украшения наподобие тех, что начали носить знатные женщины в Зимбабве, девушка собрала целый горшок самородков и уже начала было закапывать их в землю, когда за этим занятием ее застала мать. Тотчас же созвала она соплеменников, раскрыла им страшное преступление дочери и первой бросила в нее камень. И как ни плакала и ни молила о пощаде прекрасная девушка, соплеменники забили ее камнями до смерти.
Глава шестьдесят девятая
Шимойо — столица легендарной Маники. — Главным богатством делается не золото, а лес. — Редкостный набор древесины цветных пород. — Пеньялонга на горизонте. — Чангамире Домбо — незаслуженно забытый герой африканского освобождения. — Португальцы бегут под защиту стен Сан-Себаштьяна. — Рождение империи Розве. — Природа в роли каменотеса. — Иньянга — самый большой в мире укрепленный район
Под вечер на восьмой день странствий мы наконец выехали на асфальтированное шоссе, связывающее Зимбабве с Бейрой. А вскоре огромный щит у обочины оповестил: «Вы въезжаете в Шимойо — столицу Маники».
Шимойо — симпатичный, уютный городок в неширокой горной долине. Тропические хвойные леса, покрывающие обращенные к ней склоны гор, мощными языками врываются и в город, как бы дробя его на кварталы и районы. Главная архитектурная достопримечательность одноэтажного Шимойо — выстроенный в виде мельницы ресторан «Мулен руж»[55].
А единственное крупное промышленное предприятие столицы Маники — текстильная фабрика. Есть еще в Шимойо старенькая джутовая фабрика, несколько небольших предприятий по консервированию фруктов и бананов, а также многочисленные мебельные мастерские и лесопилки.
Лес, а не золото теперь главное богатство Маники. Именно по склонам ее гор и дальше на северо-запад, к границе с Зимбабве, на уступах Иньянги, наряду с ценными хвойными породами растут знаменитые жамбир и палисандр, причем зачастую таких размеров, что их не обхватить даже четверым-пятерым людям. Эндемичное дерево макарангу дает здесь розовую поделочную древесину, кесария — лимонную, стромбосия — красную, хлорофора — желтую.
Последний мозамбикский населенный пункт перед границей с Зимбабве — Масекесе. Поднявшись повыше, на какую-нибудь гору, отсюда можно уже разглядеть Умтали — в прошлом столицу «британской» Маники, а чуть дальше на севере — уютные домики Пеньялонги. Разделив территорию Мономотапы на «английскую» Родезию и «португальский» Мозамбик, колонизаторы расчленили между двумя странами и племена шона. Масекесе — один из памятников тех времен, когда их единство еще не было нарушено.
Отражая умонастроения каранга, в 1684 году на борьбу с португальцами поднимается один из мамбо — вождей розве — Чангамире Домбо. Имя его, ныне незаслуженно забытое, в будущем, бесспорно, займет надлежащее место среди имен наиболее выдающихся политических деятелей освободительного движения в Африке.
Подчинив западную часть Маники, Чангамире кладет конец политическому влиянию португальцев за пределами нынешних границ Мозамбика и превращает Мономотапу в своего вассала. Затем Чангамире продвигается далее на северо-восток и появляется у стен Тете и Сены — главных и последних оплотов португальцев вне побережья. Со всей территории Мозамбика «знатные сеньоры и монахи бегут под защиту грозных пушек и двенадцатиметровых стен форта Сан-Себаштьян», — констатирует хронист.
Воспитанные иезуитами черные предатели по приказу с острова Мозамбик проникают в ставку Чангамире Домбо. Не без их помощи при весьма загадочных обстоятельствах, приписываемых преданиями колдовству и черной магии, освободитель Мономотапы в 1695 году гибнет. Его преемник, мамбо Себабеэ, вторгается в Зимбабве, ставит там у власти своего человека, запрещая новому мутапе любые контакты с белыми.
Лишь во второй половине XVIII века, когда влияние Лиссабона в Восточной Африке почти сошло на нет, а могущество Розве — так все чаще именуют новое государство — близилось к апогею, португальцам разрешили вновь появляться в Манике. Однако вести какие-либо горнодобывающие работы им запрещалось. Торговать они могли лишь после уплаты «куруа» — налога, да и то лишь на ярмарках, которые были специально отведены властями для этой цели.
Самая большая среди этих ярмарок и возникла в Масекесе, который долгое время играл роль главного центра португальского присутствия в Манике, слыл столицей маникийских купцов. До сегодняшнего дня сохранились остатки крепостной стены, фундаменты нескольких жилых домов старого Масекесе.
— Посмотрите на кладку этих строений, хорошенько ее запомните, а затем ступайте за мной, по дороге сопоставляя ее с хрестоматийной «безрастворной» кладкой, употреблявшейся создателями знаменитых строений Великого Зимбабве, — говорит Антонио, направляясь в сторону гор.
Мы идем вдоль русла узкой кристально чистой речушки, в которой, играя на перекатах, прыгает форель. Затем сворачиваем вправо, огибаем пологий холм и выходим в довольно широкую, почти лишенную растительности долину, зажатую лесистыми горами.
Впечатление от первого знакомства с этой долиной такое, будто там работали опытные каменотесы, отделявшие от ее днища крупные плиты. Толщина этих плит примерно одинакова — 30–40 сантиметров, ширина — до метра, в длину же некоторые вдвое больше.
— Вам, конечно, понятно, что материалом для строительства крепости Масекесе служили эти плиты. Но догадываетесь ли вы, что их высекла сама природа? — спрашивает Антонио.
Действительно, вспомнил я, многие ученые, исследовавшие культуру Мономотапы, в своих работах отмечали, что граниты, кремнистые сланцы, кварциты и гнейсы, слагающие здешние плато, под воздействием довольно значительных суточных перепадов температуры, деятельности ветра и воды расслаиваются на плиты разной величины, имеющие зачастую почти гладкую поверхность.
Иногда местные жители ускоряют эти процессы. Они разводят под скальными глыбами костры, а затем, когда монолит раскалится, льют на него холодную воду. Стоит повторить подобную процедуру два-три раза, как монолит покрывается сетью трещин, по которым от него «отслаиваются» прямоугольные бруски.
— Расисты от науки до сих пор силятся доказать, что каменное строительство привнесено в эти районы извне, — продолжает Антонио. — А между тем совершенно не надо было быть гениями архитектуры и строительного дела, чтобы начать класть эти «вырезанные» природой плиты одна на другую, воздвигая сначала примитивные ограды, а затем хижины и строения позамысловатее — вроде «храма» и «акрополя» в древнем Зимбабве. Крепость в Масекесе строили ведь португальцы, но они пошли тем же путем, что и местные жители: попросту подгоняли одну плиту к другой, стремясь, чтобы их естественные неровности служили лучшему сцеплению. Сопоставьте кладку безвестного португальского Масекесе и кладку знаменитого африканского Зимбабве — и вы сразу же придете к выводу: суть одна и та же. Эта знаменитая сухая кладка — строительство без использования связующего раствора, без специальной предварительной обработки плит, в расчете на их естественную «притирку». В этих удивительных местах действительно нельзя пройти и десяти шагов, не натолкнувшись на следы какого-нибудь древнего каменного строительства.
— Ну а сохранились ли какие-нибудь следы этой древней традиции каменного строительства в современной бытовой деревенской архитектуре? — спрашиваю я.
— Я как раз и хотел предложить вам съездить в один из тех немногих районов, где каменное строительство еще живо. Хотя вообще-то тут трудно было чему-либо сохраниться. Ведь не успел закончиться длившийся до середины XIX века конфликт шона с португальцами, как у западных границ Мозамбика появились англичане, начавшие создавать Родезию как переселенческую колонию, как «страну белого человека». В отличие от португальцев, которых в мозамбикской части Маники не интересовало ничего, кроме золота, англичане в родезийских районах Маники видели их главное богатство в плодороднейших почвах и благодатном климате. У африканцев в районе Умтали начали отбирать все земли, перепахивая их под плантации в будущем знаменитого родезийского табака. Десятки тысяч обезземелевших шона мигрировали на восток, на земли, совсем недавно покинутые их мозамбикскими соплеменниками. Но, подвергаясь гонениям португальских властей, они чувствовали себя беженцами и не были склонны заниматься фундаментальным каменным строительством. Так впервые за много веков на склонах Маники появились тростниковые хижины.
Будучи еще студентом, я облазил в этом районе все, что было можно, — продолжал Антонио. — И совершенно неожиданно нашел то, что искал, не в Манике, а к северо-востоку от нее, в труднодоступных горах Горонгоза. Там еще в XVII веке обосновались земледельческие племена маньика и ндау, относимые теперь к шона.
Спасаясь от португальцев, они сначала жили в многочисленных пещерах гор Горонгоза, но затем, убедившись, что чужеземцы не суются в этот неприветливый край, вспомнили и о каменном строительстве, и даже о сыродувной черной металлургии.
Глава семидесятая
Дага — цемент, который не надо производить на заводе. — Дым выдает деревню, замаскированную на вершине холма. — Автомат Калашникова и мальчуган по имени Калаш. — Кооператоры возрождают традиции каменного строительства. — Архитектура, навеянная местными природными условиями. — Башня Великого Зимбабве: памятник доменной печи или зернохранилищу? — Вожди отдают ФРЕЛИМО старые карты
За Вила-Говеа — еще одной португальской «столицей» Маники — мы свернули с древнего тракта на восток. «Макоса», — было написано на выщербленном дорожном указателе. Дороги, правда, никакой не было, но по усыпанным щебенкой водоразделам и руслам сухих рек, покрытым слоем мелкого, порою сцементировавшегося песка, машина катила довольно бодро. Иногда приходилось объезжать высокие гранитные купола, круто возвышавшиеся над ровной поверхностью древних плато, почти сплошь покрытых уже знакомыми нам плоскими плитами. Строительного материала хватило бы здесь на целый город из гранита.
— Между прочим, обратите внимание на песок, покрывающий речное дно, — заметил Антонио, как только мы начали перебираться через русло реки Ньяндуге. — Он гранитный и образовался в результате выветривания этой горной породы на протяжении долгих миллионов лет. В сезон дождей вода перемешивает его мельчайшие частицы с гранулированной глиной, и получается то, что шона называют дагой, — созданный самой природой строительный материал, по своим качествам мало чем отличающийся от цемента. Даге обязана своим возникновением знаменитая керамика шона — огромные сосуды для хранения воды, а раньше и зерна. Такие сосуды, для маскировки слегка обмазанные глиной, очень похожи на валяющиеся вокруг валуны. Португальцы, рыскавшие вокруг в поисках продовольствия, даже и не догадывались об их существовании. Как не догадываетесь и вы, что находитесь метрах в ста от деревни, в которую мы направляемся. Попробуйте найдите ее.
Я удивленно посмотрел на Антонио, огляделся вокруг, но ничего не заметил. Затем, остановив машину, вышел из нее и стал внимательно всматриваться в причудливые формы местного рельефа. На равнине — хаос гранитных глыб с ржаво-красным загаром, по склонам холмов — какие-то чахлые баобабы, на вершинах холмов… Память опять выдала информацию: шона предпочитали селиться на возвышенных местах, именно поэтому двигавшиеся внизу португальцы оказывались отличной мишенью для их лучников. Первый, второй, третий холм венчали готовые сорваться вниз огромные камни. Четвертый, пятый, шестой, седьмой холм… Едва заметная голубая струйка дыма, в дневное безветрие перпендикулярно поднимавшаяся в синеву неба, выдала мне место, где, слившись с природой, обосновалась деревня ндау.
— Нашел! — победоносно кричу я.
— Лучше поздно, чем никогда, — иронизирует Антонио. — И согласитесь, что, не появись дымок, вы бы простояли здесь до тех пор, пока не получили бы солнечный удар. Архитекторы шона обладали удивительным искусством «вписывать» жилища и даже целые деревни в ландшафт, частью которого они как бы становились. Вот почему очень многое оказалось португальцами незамеченным, а затем и утерянным.
Устроившись в тени машины, мы рассматриваем снизу деревню. Одна хижина с округлой крышей своими очертаниями удивительно напоминает камень-валун, другая прячется за скалой, которая одновременно служит ей стеной, третья висит над обрывом, подобно одному из тех камней, что стерегут тропинки на вершину холма.
По одной из этих тропинок поднимаемся и мы. На полпути нам встречается громкоголосая ватага восторженных мальчишек. Традиционные приветствия и небольшой подарок старейшине деревни, вопросы мужчин о последних событиях в мире, удивление, затем и радость оттого, что к ним пришел советский человек — амигу[56].
Подходит средних лет мужчина с двух-трехлетним мальчуганом на руках. Расталкивая собравшихся, протягивает мне сына.
— Я партизанил в отрядах ФРЕЛИМО, — говорит он. — А когда вернулся сюда, первого же родившегося у меня сына назвал Калаш. А меня зовут Мпфуму.
«Калаш» — распространенное среди фрелимовцев сокращенное название советского автомата Калашникова, помогавшего мозамбикским патриотам отвоевывать независимость своей родины. На севере, где шли основные бои против колонизаторов, я встречал десятки мальчишек по имени Калаш, в котором отразилась глубокая благодарность народа Мозамбика за бескорыстную помощь нашей страны. Но подобная встреча в этой горной глуши удивила и растрогала меня.
— Желаю тебе счастья, Калаш Мпфуму, — обнимая ребенка, говорю я. — Тебе повезло — ты родился хозяином на своей древней земле.
Потом к Мпфуму обращается Антонио. Они что-то долго обсуждают на изобилующем скороговорками языке чишона, затем Кошта резюмирует:
— Я попросил Мпфуму быть здесь нашим экскурсоводом. Думаю, вам не менее интересно послушать местного жителя, чем историка-профессионала. Мпфуму многое может рассказать.
Тот кивает в знак согласия и, довольный выпавшей ему ролью, тотчас же начинает:
— Деревня у всех людей шона называется «муша». Моему отцу сказал его дед, а его деду — его прапрадед, что эта муша построена так, как раньше строились селения по всей стране шона. У нас, в долине Ньяндуге, создают коллективную деревню — «алдейя коммунал», где все будут работать в поле вместе. И мы решили, что построим эту деревню тоже похожей на нашу мушу, потому что в ней удобно жить.
— С чего же начинается строительство муши?
— Надо выбрать холм, у которого большая плоская вершина, откуда все видно. В середине эту вершину мы расчищаем от камней. Некоторые из них скатываем вниз, а другие отодвигаем к краю вершины. Там, между камнями, и ставим хижины. Если площадка, на которой должна стоять хижина, неровная или земля под ней влажная, то делаем… — Мпфуму запнулся, подыскивая нужное слово.
— Фундамент, — подсказал Антонио.
— Да, делаем фундамент из плит, которых полным-полно внизу. Из таких плит можно выложить и пол. Но чаще всего поверх земли мы накладываем раствор даги. Так лучше, потому что в трещинах плит любят селиться змеи. А в даге трещин нет…
— Фундамент построен, пол зацементирован, что же дальше? — поинтересовался я.
— Дальше? — Мпфуму вопросительно посмотрел на Антонио и что-то спросил на чишона. Тот утвердительно кивнул.
— Дальше кто как хочет. Можно позвать из соседней муши старого мгангу. Он вобьет посреди пола деревянный кол, обольет его кровью белого петуха и скажет: «Мир этому жилищу». А можно и не звать мгангу, а делать так, как советует ФРЕЛИМО: пригласить всех соседей и с их помощью сообща строить хижину.
— Из чего? — спросил я.
— Каркас дома мы делаем из деревянных кольев. Потом оплетаем его прутьями, а затем обливаем раствором даги. Даговые хижины стоят очень долго и не промокают от дождя. Вот почему мы хотим строить такие хижины и в «алдейя коммунал».
— А кто же сооружает каменные изгороди вокруг всей вершины холма?
— Изгороди строят сообща, потому что они служат всем. Но возводят их только после того, как появляется первый ряд хижин. И ремонтируют эти изгороди-стены все. У нас, как и в других мушах, все мужчины делятся на каменотесов, занятых внизу, в долине, и каменщиков, работающих здесь, наверху. Когда наступает время ремонта или когда внутри селения образовывается второй или третий круг из хижин, которые надо отделить стеной, каждый знает свое дело.
— И на этом строительство деревни кончается?
— Почему же кончается? — удивился Мпфуму. — Я еще не рассказал про центр муши. Его тоже покрывают раствором даги, потому что в центре деревни ночует скот. Ближе к центру, на высоком каменном фундаменте, строят также общественные амбары из даги.
Мы обошли деревню, которая, как и следовало из рассказа Мпфуму, представляла собой типичный крааль — селение, окружающее загон для скота. Однако в отличие от южноафриканских краалей, обитатели которых предпочитают селиться на равнине и сооружают свои жилища из тростника, жители этих мест вели строительство на холме и в камне.
Затем мы зашли в хижину приветливого Мпфуму, по местному обычаю, через тростниковую трубку попили пива из общего кувшина и еще раз пожелали много радости Калашу, спавшему прямо на даговом полу.
— Амигу обидит меня, если не посмотрит мою кузницу, — проговорил Мпфуму, когда мы покидали его жилище. — Это совсем недалеко отсюда, на склоне холма у одной из троп, по которой мы будем спускаться вниз. В отряде ФРЕЛИМО я научился многому. А с металлом в этих краях сейчас туго, да и не всякий твердый заводской металл мне здесь под силу обработать. Поэтому я и плавильную печь построил, старики помогли…
Когда мы подошли к кузнице, разместившейся в пещере, и я увидел печь, стоящую между скалами, то не поверил своим глазам.
— Ну, что скажете? — прозвучал из-за спины лукавый голос Антонио.
— Так ведь это же почти точная копия конической башни руин Великого Зимбабве, форма которой вызывает так много толков у ученых! Хоть беги в машину за путеводителем и сличай с фотографией.
— Ах, если бы не было так жарко, я бы обнял вас и расцеловал! — довольно хлопая меня по плечу, засмеялся Антонио. — Это же моя старая идея! Башня Великого Зимбабве — своего рода памятник, символ плавильной печи как первоисточника богатства и могущества Мономотапы. По всей стране каранга-розве были разбросаны маленькие печи, поставлявшие железо на экспорт, а в ее столице, на удивление иностранным купцам, выросла гигантская печь. Но и форма и кладка у них одинаковая.
Очень много одинакового вообще в архитектуре и технике строительства как этой деревни, чудом пронесшей через века древние традиции каранга, так и многочисленных каменных построек эпохи Великого Зимбабве, — продолжал историк. — Эта муша дает возможность проследить, с чего все началось в Мономотапе и как все развивалось от примитивных плавильных печей, даговых хижин и каменных изгородей, сложенных техникой сухой кладки, до архитектурных гигантов Зимбабве. И все по подсказке африканской природы, благодаря смекалке местных жителей, но без всякой помощи неких высокоразвитых пришельцев!
…По дороге, указанной Мпфуму, мы поехали на север. Вдоль нашего пути теснились причудливые канделябры молочаев. И всякий раз, когда машина ломала их мясистые, лишенные листьев ветви, растения обильно проливали на красную землю белый, словно молоко, сок.
— Есть легенда о молочаях, — нарушил окружавшую нас тишину Антонио. — В ней говорится, что африканские женщины, погибшие во время борьбы против добычи золота, отдали этим растениям свое молоко до лучших времен, с тем чтобы, когда земля шона освободится от чужестранцев, природа взрастила на ней сильных и смелых людей. Под наиболее старыми и уважаемыми молочаями общинники маньика и ндау проводили церемонию посвящения юношей в мужчин. На густом и горьком соке растений, символизировавшем у шона молоко героически погибших женщин, юноши клялись ни при каких условиях, ни под какими пытками не выдавать иноземцам тайны древних рудников.
И они сдержали свое слово. Исчезли, превратились в священный фетиш, недоступный для глаз чужестранцев, карты золотоносных мест времен Мономотапы, вычерченные на ткани, изготовленной из древесного луба. Португальские хронисты с нескрываемым удивлением отмечали, что эти карты свидетельствуют о тонком знании туземцами геологии своей местности и никогда не подводят. Конкистадоры на протяжении веков охотились за этими картами, но так и не убедили шона вынуть их из тайников. В 1970 году в золотоносной Манике португальцами был добыт лишь один килограмм драгоценного металла!
Однако спецслужбы ЮАР, действуя по совету амазизи — знахарей и колдунов-готтентотов, издревле практикующих среди шона, организовали нечто вроде… археологических раскопок в Северном Трансваале. Там в фундаменте дома летней резиденции одного из мамбо, в тайнике, выложенном все тем же способом безрастворной кладки, они обнаружили несколько обрывков карт на лубе. Их сопоставили с современной топографической картой и без труда определили район, о котором идет речь. Результатом этой находки стало создание в 1971 году консорциума для эксплуатации старых рудников Маники. В него вошли три юаровские компании — «Миндеп оф Саут Африка», «Саут Африкен файненс корпорейшн» и «Минерал депозите оф Саут Африка» — и две португальские — «Маника аурифера» и «Маника минас». Геологические изыскания позволили этому консорциуму сделать в своем отчете за 1974 год вывод: «Изученный район Маники имеет весьма перспективные для разработки современными промышленными методами месторождения золота». В преддверии событий 1975 года вся документация об этих месторождениях была вывезена в ЮАР.
Однако провозглашение независимости НРМ отменило клятвы, которые на протяжении трех столетий давали под молочаями шона. В конце 1975 года в отделение ФРЕЛИМО в Шимойо пришел один из старейшин розве и положил на стол комиссару карту рудников в треугольнике Масекесе — Мавонде — Пунгве. Другой старейшина рассказал о тайнике с важными документами, который был устроен под самым носом у колонизаторов, на труднодоступной скале Массере, где, словно в природной крепости, отсиживался, опасаясь местного населения, гарнизон мазунгаш.
По следам древних рудознатцев пошли современные геологи. Необходимость создания государственного предприятия по добыче золота в Манике подчеркивается в директивах Партии ФРЕЛИМО по социально-экономическому развитию Народной Республики Мозамбик.
Традиции и государство
Глава семьдесят первая
Старейший монарх планеты танцует второй час. — Король-«лев» и королева-«слониха». — Инчвала — праздник первых плодов. — Принцессы пляшут в загоне для скота. — Королева-мать часто бывает моложе короля-сына. — Отец шестисот детей. — Трон, на который претендовали сто принцев
Его величество Собхуза II, верховный вождь народа а-ма-нгване, король Свазиленда, лихо плясал вот уже второй час. Обильный пот струился по его морщинистому лицу, смазанному придворным знахарем по случаю торжеств смолистыми черными снадобьями.
Однако никаких иных признаков усталости этот престарелый правитель, находившийся у власти более 60 лет[57] и поэтому слывший монархом с наибольшим стажем на нашей планете, не выказывал. Если он на мгновение и останавливался, то лишь для того, чтобы поправить накидку из серебристого обезьяньего меха, едва прикрывавшую его торс. В этот момент услужливые царедворцы вставляли в его волосы потерянные во время танца черные перья редкостных птиц, а девушки посыпали тело монарха мелко истолченными листьями священного дерева мбонво. Собхуза милостиво одарял их улыбкой, а затем вновь принимался выделывать замысловатые пируэты.
Бешено стучат тамтамы, лишь изредка умеряя свой пыл для того, чтобы разрешить подать голос ксилофонам-маримбам. Пение доносится откуда-то издалека, из-за загородки, где столпились тысячи подданных Собхузы. Сановники танцуют молча и, лишь дождавшись звуков маримбы, начинают кричать в такт ксилофонам: «Ингвеньяма! Ингвеньяма! Ингвеньяма!»
В переводе с сисвати — официального языка Свазиленда — это слово означает «непобедимый лев». Традиция свази ассоциирует монархов с самыми сильными и мудрыми представителями животного мира и официально разрешает употреблять подобное прозвище. Поэтому, обращаясь к Собхузе II, совсем не обязательно было начинать с вычурной фразы: «Ваше королевское величество». Достаточно сказать просто: «Ингвеньяма». Прочие титулы короля — Сын Слонихи, Буйвол Необъяснимый, Великая Гора — менее почетны, и поэтому о них вспоминали редко.
В королевской деревне Лобамба к своей кульминационной развязке приближался четвертый день знаменитой инчвалы — главного ежегодного праздника а-ма-нгване, известных в мире как народ свази.
Инчвала, или праздник «первых плодов», который отмечается согласно прихотям лунного календаря то в декабре, то в январе, совпадает у свази с Новым годом и служит сигналом к отмене строжайшего табу на употребление в пищу плодов нового урожая.
Неподалеку от Собхузы, стараясь не отстать от короля, танцевали многочисленные умнтфвана бенкоси — принцы крови, индуны — губернаторы провинций — и сикулу — вожди. Все они были родственниками короля и принадлежали к одному правящему в Свазиленде клану Нкоси-Дламини, роду аристократов. Однако все они тоже пришли на этот праздник без смокингов, манишек и галстуков-бабочек. Принцы, подобно королю, довольствовались повязками из обезьяньего меха, а вожди — поясами из меха тех животных, которые считались покровителями их племени. На губернаторах были ярко-красные накидки, украшенные замысловатым черным рисунком. Расставив руки и встав в круг, они создавали вокруг Собхузы нечто вроде огненно-красной изгороди. Это тоже был символ, говорящий о том, что все округа королевства сплочены вокруг короля.
В противоположном конце нхламбело — королевского загона для скота, где и разыгрывались главные события инчвалы, веселилась женская половина высшего света Свазиленда. Здесь в центре внимания находилась королева-мать. У нее тоже есть свое официальное прозвище: индловукати — госпожа слониха. Но танцует она еще задорнее и грациознее, чем король. И ее танец, и ее моложавое лицо говорили о том, что по возрасту королева-мать совсем не годится в родительницы королю, уже отпраздновавшему свой «бриллиантовый» юбилей.
— Она совсем не выглядит столетней дамой, — наклонившись к своему спутнику, сикулу Дламини, удивленно сказал я.
— Так оно и есть на самом деле, — улыбаясь ответил он. Затем добавил: — Обязательное существование королевы-матери предусмотрено и многовековыми обычаями а-ма-нгване, и конституцией Свазиленда. А поскольку мать обычно умирает раньше, то традиционное право допускает выдвижение на официальную роль королевы-матери одной из первых жен монарха. Как вы сами понимаете, короли берут себе в жены девушек помоложе.
— А где же ныне царствующая королева? — поинтересовался я.
— Не королева, а королевы, — поправил меня Дламини. — Свази издревле верят, что благополучие их короля служит залогом благополучия всего народа, что его здоровье — залог процветания всех свази и что чем больше детей будет в королевской семье, тем плодороднее будут наши равнины и тучнее пастбища в наших горах. Вот почему король должен иметь много жен, обязанных производить на свет как можно больше детей.
— Сколь же велика в таком случае королевская семья?
— Если скрупулезно следовать традиции, то король должен жениться семь раз в год, поочередно выбирая себе девушек в различных районах страны. В былые ре-мена, когда государство свази лишь создавалось, подобный обычай имел прямой практический смысл. Установление родственных связей королевской семьи с различными племенами и кланами, раньше не общавшимися друг с другом, способствовало укреплению единой власти, созданию централизованного государства. Теперь, конечно, такая необходимость отпала. Поэтому и жен у Собхузы меньше, чем можно было бы предположить. В 1935 году, например, их было 40, в 1961 году — 48, а сейчас — чуть больше 100. Часть жен с детьми живет в королевском краале в Лобамбе, остальные — в деревнях, разбросанных по всей стране. Чтобы доставить всех их на праздник, лимузинов не хватило, и поэтому многие важные персоны были вынуждены довольствоваться автобусами.
— У ингвеньямы, наверное, много наследников? — предположил я.
— Сейчас у короля более 600 детей.
— При таком положении дел разобраться в королевской родословной — дело чрезвычайно трудное, — заметил я.
— Вы правы, — соглашается мой собеседник. — Следить за генеалогическим древом монаршей семьи и всех Дламини — одна из главных обязанностей королевы-матери.
Глава семьдесят вторая
«Водные колдуны» добывают пену океанских волн. — Все юноши свази собираются в деревне Лозитехлези. — Ветки в подарок королю. — Ингвеньяма раздает плевки своим подданным. — Прошлое народа а-ма-нгване в песнях. — Белые прибирают земли «при помощи закорючек». — «Один цент на дорогу монарху». — Укрощение черного быка. — Орден за победу над крокодилом. — Собхуза II наносит королевский удар. — «Тыки-тыки! Уф-уф-уф!» — Танцы на высшем уровне и экономика
Три недели, предшествовавшие началу инчвалы, практически все 600 тысяч жителей Свазиленда готовились к этому своему великому празднику. В ночь, когда рождается новая луна, примерно за месяц до событий, которые разыгрывались перед моими глазами в королевском краале, группа «водных колдунов» — беманти отправилась из Лобамбы на побережье Индийского океана, туда, откуда в XVI веке пришли на горные равнины Свазиленда пращуры нынешних жителей этой страны — «настоящие а-ма-нгване». Потом были еще две волны миграции, обусловившие появление еще двух этноисторических групп современных свази: «предшественников» и «пришедших позднее». Однако гордые Дламини выводят свою родословную именно от «настоящих», некогда живших на берегу благодатной бухты Делагоа.
Там, неподалеку от нынешней мозамбикской столицы Мапуту, «водные колдуны» собирают в тыквенные сосуды-калабаши пену океанских волн. Они также набирают воду рек и водопадов со всей территории Свазиленда и доставляют ее в Лобамбу.
Тем временем король отправляется в уединение. В присутствии придворных знахарей, тиньянг, он с помощью «пены моря предков» и «всех вод родной земли» совершает тайные обряды.
Пока король и его тиньянги находятся в королевском святилище, по горным дорогам и лесным тропам Свазиленда в сторону деревни Лозитехлези идут юноши. В этой деревне, как гласит предание, в XVI веке обитал король Нгвана II. Никто не знает, когда жил и жил ли вообще Нгвана I, потому что во всех легендах и ритуальных песнях история свази начинается со времени правления Нгваны II. Поэтому его чтят как основателя нации, а его деревню Лозитехлези — как колыбель государственности свази. Каждый год паломники посещают его могилу. У нее собираются и юноши, принимающие участие в инчвале.
Как только на небе появляется полная луна, старейшины, пришедшие вместе с юношами, приказывают им резать ветви лусеквены — священной акации плодородия.
Чем большую ветку лусеквены срубил юноша, тем преданнее служит он ингвеньяме. Еще до утренней зари, взвалив на плечи ношу потяжелее, юноши направляются в Лобамбу и с появлением первых лучей восходящего солнца вносят ветки в королевский крааль. Этим и начинается, собственно, праздник инчвалы. Весь день юноши будут подметать красный земляной пол королевского хлева и посыпать его зелеными листьями лусеквены.
Вечером, еще до захода солнца, начинаются танцы. Женщины занимают восточную часть крааля, мужчины — западную. Образовав таким образом два гигантских полумесяца, они отплясывают «мужские» и «женские» танцы до тех пор, пока на небо не выкатит полная луна. Тогда два полукруга смыкаются, как бы образуя полную луну. Тиньянги, находящиеся в услужении у королевы-матери, а затем и сама индловукати, облаченная в желтое одеяние, просят луну ниспослать их земле дожди и плодородие в наступающем году.
Появление короля-ингвеньямы служит знаком к прекращению танцев и женских церемоний в честь луны. По старому обычаю свази, утверждающему, что плевок короля — это нечто вроде монаршего благословения, он раздает плевки направо и налево, а затем усаживается в кресло, устланное львиными шкурами. Одновременно индуны затягивают песню, которую затем подхватывают все присутствующие.
Эти песни — неисчерпаемый кладезь мудрости народной, источник сведений о прошлом а-ма-нгване, изобилующий не только доподлинными историческими фактами, но и точными датами.
В одной из этих песен воздавалась хвала Нгване II, в другой — рассказывалось о том, как его внук Собхуза I основал королевский крааль Лобамба и выиграл сражение с воинами великого зулу Чаки, в третьей — воспевались подвиги его сына короля Мсвати II, от имени которого и произошло название «свази». Сплотив в середине прошлого века все племена а-ма-нгване в единый народ, он создал королевство, территория которого в два раза превосходила нынешний Свазиленд.
Потом заунывная мелодия, исполненная на маримбах, возвестила о наступлении колониальных войн. Они совпали с периодом междоусобиц, соперничества за престол и вмешательства в политическую жизнь ведунов, отправлявших на тот свет неугодных им монархов. В одной из песенных легенд, исполненных стариками, повествовалось о том, как англичане и буры прибрали к своим рукам земли а-ма-нгване «при помощи закорючек» — подписей, которые малосведущие в европейском законодательстве вожди свази ставили под договорами, подсовывавшимися им европейцами.
В 1921 году Собхуза II вступил на престол, а на следующий год в Свазиленде началось движение, которое в исполненной всеми присутствовавшими песне было названо «Один цент на дорогу ингвеньяме». По всей стране проходил тогда сбор средств, каждый свази должен был внести минимум один цент для того, чтобы собрать деньги на авиационный билет до Лондона. Там молодой король надеялся договориться о возвращении свази их земель. Но он вернулся оттуда ни с чем.
Бешеная дробь тамтамов и всеобщее ликование. Это присутствующие поют песню-хвалу 1968 году, когда Свазиленд получил независимость. Ингвеньяма спускается со своего трона и, смешавшись с танцующими, начинает вновь раздавать направо и налево королевские плевки. Подданные, приближаясь к нему, кланяются до земли и говорят: «Я — ничто, я только палка в твоих руках».
На следующий день поутру тысячи людей собираются у нхламбело, стараясь занять место поближе к воротам. В полдень, как только солнце достигает зенита, из них выгоняют разъяренного черного быка. Он несется на толпу, а наперерез ему бегут юноши. Некоторые на полпути останавливаются в нерешительности. Другие наперекор опасности бросаются прямо под копыта свирепому животному, виснут на его рогах, пытаются взобраться на спину.
В конечном итоге обвешанный десятками парней бык успокаивается. Его загоняют обратно в нхламбело, и юноши, сделавшие это, удостаиваются чести провести остаток дня неподалеку от ингвеньямы. Потом их зачисляют в королевскую охрану и разрешают в течение всей жизни носить набедренную повязку из шкуры леопарда — символ мужества.
Между тем к быку, приведенному в центр крааля, подходят королевские сановники. Юноши отходят в сторону. Бешено, исступленно бьют тамтамы. Огромную площадь крааля заполняют мужчины-свази в национальных костюмах.
Главная деталь их нарядов — нечто вроде гамаш из распушенного меха ангорских коз, закрывающих ногу от ступни до колена. На поясе — сине-бело-красные юбки, в руках — дротики-ассагаи. Издавая устрашающие воинственные крики и дико вращая глазами, они исполняют танец, главное па которого — прыжки в высоту с одновременным выбрасыванием вперед то правой, то левой ноги. Иногда они выстраиваются в шеренги и, выставив вперед ассагаи, как бы начинают наступать на невидимого противника. «Тыки-тыки! Уф-уф-уф! — в такт барабанам кричат воины. — Тыки-тыки! Уф-уф-уф!» Затем прыжки возобновляются.
Неожиданно стихают тамтамы, расступившись, замирают воины. Из королевской хижины выходит ингвеньяма. Вручив медаль 12-летнему мальчику за то, что тот спас своего младшего брата от крокодила, Собхуза произносит краткую, но выразительную тронную речь. Она начиналась словами: «Иностранцы смеются над нами, но наш образ жизни лучше». Затем он проходит мимо склонивших головы царедворцев, воинов, застывших в той позе, в какой их застал конец танца, и останавливается около черного быка. Удар обоюдоострого меча — панги, поистине достойный короля-«льва»! Сраженное животное беззвучно падает к ногам ингвеньямы.
«Он его заколол!» — возвещают тиньянги. «Он его заколол!» — подхватывают царедворцы и воины. «Заколол! Заколол! Заколол!» — словно эхо, передается новость за изгородь крааля, по всей Лобамбе, по всем городам и деревням Свазиленда.
Эта новость — своего рода призыв ко всем свази в зависимости от их достатка всадить нож в черного быка, козла или на крайний случай даже в черного петуха. Убивая черную животину, они как бы расправляются со всеми неприятностями уходящего года, не дают им возможности перекочевать в год наступающий. Пройдет час-другой, и над всеми хижинами по всему Свазиленду в небо потянутся струи голубого дыма. Это женщины начинают печь «красный пирог», заправленный кровью только что убитого «черного зверя». Он будет главным угощением на новогоднем столе.
На следующий, третий день праздника происходит представление королю официальных гостей. Инчвала отмечается широко и открыто, на нее приглашаются правительственные делегации и аккредитованные в соседних столицах послы тех государств, с которыми Свазиленд не поддерживает дипломатических отношений. Кроме того, на эти дни в Лобамбу съезжается до 10–15 тысяч туристов. Преобладают среди них, конечно, белые южноафриканцы. Но в последние годы туристские фирмы начали возить на инчвалу зрителей из США, Англии, ФРГ, Скандинавских стран. Всем им дозволено войти в нхламбело и, пожав руку королю, поздравить его с наступающим Новым годом.
Глава семьдесят третья
Разделение труда в «двуглавой монархии». — Собрание, в котором приняли участие 100 тысяч свази. — Ингвеньяма и индловукати разъезжаются по разным деревням. — Король занимается мужскими, королева-мать — женскими проблемами страны. — Кабальные порядки лоболы — приданого невесты. — Мать, обязанная выкупить собственных детей. — Что такое лавиратный брак? — Совет вождей ликоко набирает силу. — Молодежь против анахронизмов
Многие в Свазиленде в шутку называют свою страну единственной в мире «двуглавой монархией». Действительно, и традиционное право свази, и скрупулезно следующая ему конституция предоставляют как королю, так и королеве-матери практически равные возможности в управлении государством. Сталкиваясь вместе на одной тропе, лев и слониха обычно не склонны уступать друг другу. Как же складываются взаимоотношения ингвеньямы и индловукати, встретившихся на одном троне?
Были, рассказывают, в истории Свазиленда смутные времена, когда король и королева-мать отчаянно боролись за право первого голоса в своем королевстве. Все это непосредственным образом отражалось на положении народных масс. Постепенно распри в Лобамбе стали угрожать подрывом устоев монархии. Было созвано гигантское питсо — собрание представителей всех племен свази, на котором присутствовало более ста тысяч человек. Дабы прекратить ссоры между королем и королевой-матерью, им было предложено расселиться. Монарх остался жить в Лобамбе, а его матушке построили деревню в Лозита. Когда положение ночного светила не «благоприятствует» хорошим отношениям между правителем и правительницей, они могут общаться друг с другом лишь через посредство курьеров. А на этот высокий пост выдвигаются люди с умом дипломатов, знающие, о чем умолчать и что прибавить, для того чтобы между Лобамбой и Лозита не вспыхнула вражда.
Так постепенно произошло своеобразное разделение труда между Лобамбой и Лозита. Ингвеньяма сосредоточил в своих руках административную власть, индловукати — ритуальную. Поэтому они нередко решают одни и те же проблемы, но разными путями. Король вместе со своими министрами ведет с правительственной делегацией ЮАР переговоры о предоставлении займа для ирригации и орошения вновь осваиваемых земель, а королева взывает к небу ниспослать на эти же земли тропический ливень. Королевский суд приговаривает кого-то к смерти, а совет беманти, которым руководит королева, ссылаясь на волю предков, постановляет заменить казнь очистительными омовениями…
Кроме того, говорят, что король и его окружение занимаются преимущественно проблемами, связанными с мужской половиной общества а-ма-нгване, в то время как королева — с женской. Особенно много просительниц у индловукати, потому что у женщин в обществе свази есть все основания для того, чтобы быть недовольными своим положением.
Как и у других скотоводческих народов Южной Африки, мужчина, намеревающийся обзавестись семьей, должен пригнать родителям своей избранницы стадо. Такой выкуп, называющийся у всех южноафриканских банту лоболой, в зависимости от достатка жениха и запросов семьи невесты может колебаться от сотни коров до пары коз. Но в отличие от большинства других банту выкуп у свази платят не за невесту, как таковую, а за ее потенциальную способность производить на свет детей. Иными словами, отдавая скот будущему тестю, жених практически лишает всю его семью, в том числе и его дочь, свою невесту, каких бы то ни было прав на будущих детей.
Поэтому, когда умирает глава семьи, все дети вместе с имуществом автоматически переходят к его брату или другому ближайшему родственнику по мужской линии, а вдова практически остается ни с чем. Чтобы «выкупить» собственных несовершеннолетних детей, несчастная женщина должна вернуть лоболу… Но редкая вдова в Свазиленде может найти средства для этого.
Есть, правда, еще один выход, официально предусмотренный кодексом обычного права наследования и распоряжения хозяйством семьи. Если у вдовы нет совершеннолетних сыновей, способных наследовать отцу, она может вступить в так называемый лавиратный брак — союз с одним из ближайших родственников покойного мужа. Хотя кодекс этот принят отнюдь не в средние века, а совсем недавно, в 1965 году, в нем есть и такое положение: «Жена умершего мужчины, имевшего одну жену, может быть унаследована, то есть она может вступить в лавиратный брак… В таком случае хозяйство умершего остается на попечении вступившего в лавиратный брак мужчины, который должен быть также опекуном несовершеннолетнего наследника и жены покойного». Перед тем как вступить в лавиратный брак, вдова должна пройти «испытательный срок» у матери своего будущего супруга.
Подобные анахронизмы в законодательстве Свазиленда уже не раз вызывали недовольство среди населения. Однако требования модернизации жизни общества а-ма-нгване лишь подтолкнули короля к укреплению устаревших институтов власти. В 1973 году Собхуза II отменил действие конституции, на основе которой Свазиленд получил независимость, и сосредоточил в своих руках абсолютную власть. «В парламент, — заявил тогда Собхуза, — проникли подрывные элементы и другие недостойные люди. Выборы только сеют раздор. С нас вполне достаточно обычаев свази, а именно: «Король ведет свой народ, а народ ведет короля». В ответ на недовольство студентов и интеллигенции он в 1978 году ввел новую конституцию, которая функции парламента, избранного в том же году, свела к функциям племенного совета старейшин.
Власть на местах осуществляют советы племенных и деревенских старейшин — так называемые либандлы, беспрекословно исполняющие волю королевского совета — ликоко, который состоит из представителей клана Дламини. Именно они да верховный индуна, или премьер-министр Свазиленда, начали вершить судьбами страны.
В королевстве запрещены политические партии, преследуется оппозиция. «Возвращение к временам управления страной с помощью племенных советов отбрасывает Свазиленд на тысячу лет назад, — заявил председатель действующей в подполье партии Конгресс национального освобождения Нгване доктор Э. Зване. — Я думаю, что советчики, подсказавшие подобное решение, находились в Претории. Демократическое развитие нашей внутриполитической жизни там хотят подменить… «танцами на высшем уровне».
Глава семьдесят четвертая
Инчвала продолжается. — В королевский крааль пожаловал каждый четвертый свази. — В танцы вступают воины. — Ингвеньяма снимает табу на плоды нового урожая. — Вся страна устремляется к праздничному столу. — Прохожие со щитами и копьями на столичных улицах. — Собхуза II поджигает черную шкуру и бросает в костер свой наряд. — «С Новым годом!»
…Однако вернемся в Лобамбу, которую мы оставили в самый разгар четвертого, главного дня инчвалы. Накал страстей на празднике постепенно переносится за изгородь нхламбело. Там, на просторной площади, окружающей королевский крааль, собрались тысячи, десятки тысяч а-ма-нгване, добрая четверть населения страны. Живописнейшее зрелище!
Вокруг нхламбело начинают группироваться воины в праздничных боевых доспехах. Их стройные тела покрывают леопардовые шкуры, в волосах — разноцветные перья, в руках — копье и огромный щит, обтянутый пестрой воловьей шкурой.
Вновь оживают тамтамы. Но на этот раз они играют монотонно, и маримбы, как бы вторя им, выводят заунывную мелодию. Воины склоняют головы, выставляют вперед щиты и медленно начинают приближаться к изгороди нхламбело. В их позах — не то мольба, не то смирение.
— Это воины исполняют танец, в котором просят короля выйти за пределы нхламбело, как бы вернуться к своему народу, — объясняет мне Дламини. — Ингвеньяма подождет, поупрямится немного и согласится.
Так оно и было. С полчаса исполняли свою пантомиму воины. Потом ухнули тамтамы, ворота крааля открылись, и перед восторженно кричащими подданными появился Собхуза II.
Все, кто лишь мгновение назад были танцорами или певцами, замерли и превратились в зрителей. Король танцевал свой сольный танец — танец льва, исполнять который может только ингвеньяма.
Затем, взобравшись на небольшой помост, Собхуза застыл в величественной позе, протянув к северу обе руки.
— Оттуда, с севера, пришли предки а-ма-нгване, — опять пояснил Дламини. — Поэтому именно с севера король получил сейчас священную луселву, которую, как вы видите, вкладывает ему в руки верховный тиньянга. Эта выращенная на самых северных землях свази тыква — первый плод нового урожая, приготовленный для еды. После того как король отведает ее, снимается табу на употребление продуктов нового урожая в пищу.
Ингвеньяма пробовал тыкву долго, смачно причмокивал, явно испытывая терпение зрителей. Потом вдруг запустил тыквой в толпу и вновь пустился в пляс.
Многие присутствующие на площади ждали этого момента не из простого любопытства. В крестьянских семьях продуктов редко хватает от урожая до урожая, и поэтому, соблюдая табу инчвалы, многие в деревнях жили последние недели впроголодь. Не случайно, как только луселва упала в толпу, кое-кто из присутствующих начал покидать площадь перед королевским краалем. Они спешили домой, к уже накрытому столу, отведать плоды нового урожая.
Понятно поэтому, что пятый день инчвалы называется «ситила» — «когда работать нельзя». Плотно поев на ночь, люди проснулись поздно. Даже в Мбабане, столице Свазиленда, куда я съездил, чтобы убить время, две современные улицы были пусты. Лишь подвыпившие белые южноафриканцы бродили вокруг гостиниц и ресторанов, пытаясь воспроизвести замысловатые па увиденных накануне плясок. В жилых африканских кварталах было оживленнее. Наблюдая за прохожими, я пришел к выводу, что Мбабане — единственная на континенте столица, жители которой по воскресным дням снимают с себя «рабочую» европейскую одежду и облачаются в привычные им наряды из шкур диких животных. Мужчины разгуливали по столичным улицам со щитами и луками так же небрежно, как жители многих городов с портфелями и атташе-кейсами.
На следующий день все мужское население долины Эзульвени встало с восходом солнца и, как по команде, отправилось на окрестные холмы. Часа через два-три все тропинки, ведущие к Лобамбе, заполнили люди со связками хвороста за спиной. Его собрали, чтобы разжечь огромный костер в королевском краале, в том самом месте, где, облепленная мириадами мух, все еще лежала черная бычья шкура.
Сам ингвеньяма поднес факел к этому костру, огонь которого должен был поглотить не только шкуру, но и олицетворяемые ею неприятности уходящего года, а с ними и сам старый год.
И опять забили тамтамы, завыли маримбы и затанцевали вокруг пляшущего пламени огромного костра люди. Иногда кто-нибудь останавливался и бросал в огонь кусочек черного меха или дерева: сжигал собственные неприятности. Ингвеньяма поступил по-королевски: он бросил в костер тот наряд, в котором встречал прошлогоднюю инчвалу.
Королева-мать в сопровождении развеселых королев и принцесс затянула монотонную песню, прося небо о дожде. И если капли дождя погасят, как иногда случается, костер, это еще раз подтвердит силу индловукати, ее умение общаться с предками.
— С Новым годом! — прервав мои наблюдения за церемонией вызывания дождя, неожиданно сказал Дламини. — Инчвала закончена, на землю а-ма-нгване пришел Новый год.
— С Новым годом, сикулу Дламини! — ответил я. — И до свидания.
Завершение инчвалы означало, что мне надо покидать страну. Виза, выданная свазилендскими властями, обусловливала, что я могу находиться в ней только во время инчвалы и должен покинуть ее пределы сразу же по окончании торжеств. Кто-то решил, что в Свазиленде мое любопытство должно быть ограничено созерцанием танцев на высшем уровне…
Глава семьдесят пятая
А-ма-нгване узнают, что ингвеньяма «никогда больше не выпустит свои когти». — Ритуальная церемония в священных горах Мдзимбза. — «Госпожа слониха» выходит на первые роли. — Оказывается, бог-царь избирается из числа избранных. — За забором королевского крааля начинается спор за трон. — Принц Макхосетиве получает титул «дитя нации». — Столкновение «традиционалистов» и «модернистов». — Способны ли колдуны противостоять монополиям?
Внешне мало что изменилось в Свазиленде после того, как в 1982 году Собхуза II «ушел в мир предков». Разве что вокруг Мбабане выросли десятка два новых предприятий, контролируемых южноафриканцами, а в Лобамбе отстроились новый королевский дворец и комплекс правительственных зданий, в оформлении которых кубизм причудливо сочетается с традиционным орнаментом свази. Однако внутриполитическая ситуация, с тех пор как подданные попрощались со своим монархом, меняется в обеих столицах с калейдоскопической быстротой.
Собхуза умер на 83-м году жизни. Он действительно оправдал один из своих многочисленных титулов — «старейшина старейшин», поскольку последние семь лет был самым старым гражданином своей страны, где средняя продолжительность жизни составляет 46 лет.
О том, что ингвеньяма «никогда больше не выпустит свои когти», а-ма-нгване узнали ранним августовским утром по струйке ядовито-желтого дыма, появившегося над королевским краалем. По традиции свази, такой дым извещает о кончине хозяина дома, над которым он поднимается. Затем из ворот нхламбело вышли воины; на клинках их копий были повязаны желтые траурные ленты. «Вода вылилась!» — трижды возвестили они собравшимся вокруг крааля. Эта фраза, имеющая свое объяснение в легендах свази, означает: «Король умер!»
Затем о кончине монарха объявило свазилендское радио. Мужчины-свази еще надевали себе на головы желтые ленты, когда на экране телевизоров появились кадры с королем, лихо отплясывавшим танец буйвола на последней инчвале. Пять дней страна готовилась к похоронам, люди оплакивали ингвеньяму. И все эти пять дней, как бы подбадривая своих подданных, плясал на экране король.
Все ждали полной луны: только при ее свете, согласно традиции а-ма-нгване, «король может навсегда проститься со своими воинами». Когда она наконец взошла, пляски стихли и в тишине, нарушаемой лишь перезвоном колокольчиков на шеях жертвенных быков, старейшины племен и главы родов склонили головы перед ингвеньямой. Затем члены 3,5-тысячной королевской семьи и духовники отправились в горы Мдзимбза. Там, в пещере Дидимба, местоположение которой держится в глубокой тайне, находится усыпальница свазилендских монархов.
Двенадцать одетых в желтые набедренные повязки беманти возглавляли эту ночную процессию, окропляя «водой Делагоа» последний путь короля. Достигнув одной из долин в горах Мдзимбза, где, согласно преданиям свази, «обитают духи Дламини», ритуальные лидеры а-ма-нгване облачили набальзамированное тело Собхузы II в коровьи шкуры. Затем его усадили на трон, в левую руку вложили щит, в правую — копье, а в волосы — три желтых пера.
Тогда к усопшему приблизились принцы крови. Они подняли трон и на вытянутых руках понесли его через посеребренные призрачным лунным светом горы в Дидимба. Там Собхузу поместили на вечный покой. Вход в пещеру замуровали, а снаружи привязали черного быка.
Солнце уже начало освещать вершины гор, когда траурная процессия повернула в Лобамбу. В небольшом гроте напротив погребальной пещеры остался всего лишь один беманти. Греясь у костра, человек несколько суток ждал, когда черный бык умрет от голода и жажды.
А дождавшись, он опрометью спустился с гор, вбежал в королевский крааль и, упав на колени у хижины индловукати, сорвал со своей головы желтую повязку. Для всей страны это означало: «Официальный траур закончен!»
Однако взоры всей страны были прикованы к хижине индловукати еще задолго до того, как судороги свели тело черного быка в горах Мдзимбза. Согласно традиции, после смерти «непобедимого льва» верховная власть над а-ма-нгване переходит к «госпоже слонихе». Еще когда, прощаясь со своим венценосным мужем, королева-мать всенародно появилась у стеклянного куба в короне из красных перьев на голове и с красной палкой в руках, всем в Свазиленде стало ясно: высшие символы власти находятся в руках королевы Дзеливе — старшей вдовы Собхузы II.
Поговаривали, будто корона была передана ей самим королем, причем не только потому, что 57-летняя Дзеливе сумела остаться фавориткой у своего мужа, имевшего и 20-летних жен, но и потому, что она была бездетна. А это в специфических условиях выбора престолонаследника в Лобамбе имело в глазах Собхузы и всех подданных особое значение. Отсутствие собственных детей давало ей возможность быть объективной, не потворствовать интересам каких-либо конкретных членов королевской семьи, но зато свято придерживаться традиции.
Что это за традиции? Ответить на этот вопрос мне тогда толком никто не мог, поскольку они за давностью лет были забыты и утрачены всеми, кроме их главной хранительницы — индловукати. Да и чему тут удивляться, если прошло более 80 лет после того, как эта традиция соблюдалась в последний раз? Тогда, в 1899 году, наследником стал сам Собхуза II, назначенный на престол в день своего рождения и вплоть до достижения совершеннолетия отстраненный от государственных дел регентшей. С тех пор, естественно, не осталось никого, кто бы во всех деталях знал процедуру избрания нового короля.
Дело осложнялось и тем, что судачить о предполагаемой кандидатуре наследника престола при жизни Собхузы считалось преступлением. И после его смерти разговоры о том, кто может получить престол, противоречили местному этикету. Было только известно, что, дабы предотвратить попытки честолюбивых принцев захватить престол, ликоко еще в прошлом веке узаконил традицию: никто из сыновей короля не может быть по рождению наследником короны. Так выяснилась одна из интереснейших деталей престолонаследия, дожившая до наших дней в Свазиленде — этой последней неотрадиционной монархии Черного континента: король, а вернее, верховный вождь избирается из числа наследных принцев. Так еще в прошлом веке повсеместно выдвигали на трон африканских властителей.
Но кого избирать? Собхуза оставил после себя по меньшей мере 400 сыновей в возрасте от 11 до 53 лет. Часть принцев заседали в ликоко, были министрами и послами, другие занимались активной предпринимательской деятельностью, третьи предпочитали традиционный образ жизни в краалях посреди зеленого вельда.
Королева Дзеливе как главная хранительница обычного права свази сразу же резко сократила число претендентов на престол. Ссылаясь на традицию, она заявила, что по законам а-ма-нгване наследник должен быть единственным сыном одной из вдов Собхузы, так как это исключает возможность борьбы за трон между единоутробными братьями. Кроме того, претендентом на корону может быть только мальчик, не достигший еще возраста, допускающего вступление в брак. Именно благодаря этим критериям выбор будущего короля был ограничен только шестью сыновьями Собхузы.
Свои решения Дзеливе принимала в Лозита, отказываясь использовать модернистские покои дворца в Лобамбе.
Кое-кто тоже видел в этом верность традиции, другие объясняли мне поведение королевы чисто прагматическими причинами, скорее всего идущими с этими традициями вразрез. Оказывается, по обычаям свази, дом короля после его смерти должен быть полностью сожжен. А новый дворец в Лобамбе, построенный с большим размахом, сровнять с землей было не так просто, как крытую буйволовыми шкурами королевскую хижину прошлых лет. «Для того чтобы не привлекать внимания ко дворцу, индловукати и не показывается в Лобамбе», — объяснили мне.
Однако в тот февральский вечер 1983 года, когда на небе должна была появиться ровно половина луны, индловукати в сопровождении пышной свиты прибыла в «мужскую столицу» королевства. Сначала она председательствовала в ликоко, а затем проследовала в «небесную долину» — Эзульвини, где в королевском краале ее уже поджидали 400 племенных вождей, съехавшихся со всей страны.
Два дня и две ночи продолжались споры за плотным забором из высоких жердей, окружающим этот лишившийся хозяина крааль. Затем самый старший из принцев, игравший роль главного советника при индловукати, объявил решение мудрейших и старейших земли свази. Наследником престола был официально избран тогда еще 15-летний принц Макхосетиве, который после достижения совершеннолетия будет коронован на престол а-ма-нгване под именем Мсвати III.
На три года, отпущенные принцу для подготовки к державным делам, ему был присвоен официальный титул «дитя нации». За это время он должен был завершить свое образование в школе, узнать азы военных наук в офицерской академии Сандхерст, постичь все премудрости традиционного права свази, а также жениться и доказать свои способности произвести на свет наследника. Вплоть до достижения кронпринцем совершеннолетия регентшей при нем назначалась, как то и предписывалось традицией, королева Дзеливе.
Вскоре, однако, в Свазиленде разгорелись страсти, которые, как затем выяснилось, впервые вспыхнули еще при жизни Собхузы. Старый король правил страной, сочетая опыт племенных вождей с приемами современной политики. В наследие от него в королевстве остались и две политические группировки, которые, будучи по всем меркам на редкость консервативными и архаичными, в специфических условиях племенной монархии свази выглядели как «традиционалисты» и «модернисты». К последним, как это ни парадоксально, по прошествии времени многие относят и самого Собхузу. Хотя всего лишь потому, что «крушение апартеида соответствует интересам королевской семьи Дламини», он с пониманием относился к нуждам антирасистского движения в ЮАР. А номер его личного телефона был занесен в справочную книгу Мбабане. Трубку, правда, монарх подымал редко, но когда подымал, то выслушивал любое мнение и отзывался на бесчисленные просьбы.
Регентство Дзеливе рассматривалось многими как гарантия продолжения «модернистского традиционализма» ее супруга. Так же оценивалось и то, что на посту премьер-министра ею был оставлен назначенный еще Собхузой принц Мабандла Дламини, которого теперь, по прошествии времени и в сравнении с его преемниками, называют то «прогрессистом», то «просвещенным прагматиком». Его первые шаги даже вызвали надежды на радикализацию в Свазиленде. Он стремился упрочить влияние и власть кабинета министров, состоявшего из европейски образованных технократов, в ущерб позициям заседавших в ликоко порою полуграмотных принцев и даже осмелился арестовать нескольких его членов по обвинению во взяточничестве. Во внешней политике принца Мабандлы все отчетливее проявлялось понимание того, что его страна граничит не только с расистской ЮАР, но и с народным Мозамбиком. Свазиленд начал развивать отношения с независимыми странами Африки и предоставлять убежище южноафриканским патриотам, бежавшим от преследований расистов. «Страна а-ма-нгване — традиционная африканская монархия, — сказал как-то он. — А коли так, мы свято должны придерживаться традиции оказывать помощь нашим ближним и не забывать, что в ЮАР живет в два раза больше свази, чем в самом нашем королевстве».
На первых порах королева Дзеливе поддерживала своего премьера и шла наперекор воле ликоко, оказывавшего им обоим сопротивление. Наконец дело дошло до открытого скандала. Когда в Мбабане впервые после смерти Собхузы возобновила свою работу сессия парламента, то с его трибуны прозвучала тронная речь Дзеливе, зачитанная одним из министров. В ней превозносилась роль ликоко и расточались комплименты в адрес ЮАР. Одновременно по радио диктор говорил, что в своей тронной речи индловукати выступила за признание руководящей роли премьер-министра над ликоко, обещала принять меры по демократизации общественной жизни и осудила апартеид.
Полицейское расследование, проведенное по поводу этого «разночтения», выявило, что текст речи, составленный Мабандлой и одобренный Дзеливе, был подменен в парламенте принцами, заседающими в ликоко. Однако копию, отправленную на радио, перехватить им не удалось…
Мабандла бросил за решетку еще нескольких принцев крови. Королевская семья была взбешена, большинство членов ликоко, нарушив этикет, среди ночи прибыли в Лозита и там, угрожая вмешательством армии, потребовали от Дзеливе освобождения заключенных и отставки Мабандлы, ставшего в их глазах «коммунистом».
«Госпожа слониха» уступила. Однако, как вскоре выяснилось, сделано это было лишь для того, чтобы, как говорят свази, «попытаться затем разбежаться и сокрушить врага». Понадеявшись на свой традиционный авторитет, она повела дело к тому, чтобы вообще распустить ликоко и править единолично в ожидании вступления на престол Мсвати III.
Но «разбежаться» ей не дали. Ультраконсервативные принцы свергли ее и посадили под домашний арест в Лозита. А в Лобамбе королевой-регентшей провозгласили неискушенную в политических делах 34-летнюю Нтомби, мать кронпринца. Автоматически к ней перешел и титул королевы-матери. Ликоко одобрил эти перемены, но Дзеливе сочла их неконституционными и отказалась передать своей преемнице атрибуты высшей власти, включая королевскую печать, корону из алых перьев и красную палку.
Вскоре выяснилось, что за дворцовым переворотом в Свазиленде стояли именно те принцы, которые выступают за сохранение тесных связей с ЮАР и, несмотря на свою внешнюю приверженность «традиционному образу жизни» а-ма-нгване, имеют увесистые пакеты акций в предприятиях, контролируемых юаровским капиталом. Среди них называли принцев Поликарпа, Ричарда и Мфанасибили, а также получившего из их рук пост премьер-министра Бхекимпи Дламини. «Все эти люди пытаются удержать народ свази на уровне племенной деспотии ради того, чтобы, эксплуатируя соплеменников с помощью расистов, самим сделаться капиталистами, — заявил Э. Зване. — События, происходящие в Лобамбе после отстранения принца Мабандлы, отвратительны, а растущий консерватизм ликоко крайне опасен для будущего страны. Из-за всевластия и произвола ликоко государственный аппарат практически перестал функционировать. Все это играет на руку лишь Южной Африке».
Один заговор в Лобамбе сменял другой, принцы бросали друг друга за решетку, королева через неделю-другую освобождала их по требованию одной из противоборствующих группировок клана Дламини, отправляя в тюрьму других. Дикторы национального телевидения, появляющиеся на экране обнаженными по пояс и с перьями в волосах, все чаще начали сообщать зрителям о таких «новостях», как ритуальные убийства людей, массовые жертвоприношения с участием известных деятелей, и колдовстве в политических целях. Дело дошло до того, что одним из парламентариев был поднят вопрос о создании… профсоюза колдунов.
Выяснилось: к колдунам и ведунам обращались не только безграмотные общинники, надеявшиеся с их помощью излечить свой недуг, наслать порчу на недруга или приворожить любимую девушку. Среди клиентов оккультных деятелей попадались и лица, находившиеся у вершины власти. Поэтому и просьбы их к колдунам были отнюдь не традиционными.
Так, когда в марте 1986 года очередь угодить за решетку дошла до принца Мфанасибили и он предстал перед судом, в качестве одного из главных свидетелей обвинения на процессе выступил некто Эллиот Ндаба. Назвав себя «профессиональным колдуном — мгангой из Южной Африки», он заявил, что принц поручил ему приготовить зелье из «дурманящих ум» трав и мяса зебры, а затем спрятать его перед воротами парламента. По мнению Мфанасибили, подобные действия колдуна должны были помочь ему убедить ликоко в том, что пять его политических противников готовили заговор с целью свержения правительства.
«Мганга выдает важные секреты» — под таким заголовком вышла на следующий день после выступления Ндабы в суде газета «Свази ньюс». Выяснилось, что главным своим противником принц Мфанасибили считал упрятанного им же в тюрьму бывшего министра финансов королевства, вождя Сишайю Нксумало. Еще в 1984 году он раскрыл мошенничество в таможне, обошедшееся казне в 6,5 миллиона долларов. К нему были причастны многие высокопоставленные деятели страны. «Ставки в разгоревшейся после этих разоблачений борьбе очень высоки, — писала хорошо осведомленная йоханнесбургская газета «Санди таймс». — Помимо явных целей завоевания политической власти и влияния борьба в королевской семье в значительной степени также вызвана стремлением заполучить контроль над минеральными богатствами всего Свазиленда. А они будут принадлежать тому, кто возьмет в свои руки «Тибийо така Нгване» (ТТН) — созданный еще Собхузой II фонд, куда поступают все средства от продажи минеральных ресурсов, добываемых на принадлежащих королевской семье рудниках. С. Нксумало долгое время совмещал пост министра финансов с директорством в ТТН. Через него представители некоторых могущественных кланов свази имели выход на транснациональные компании». Таким образом, борьба Мфанасибили с Нксумало, в которой принц призвал себе в помощники колдуна, была не чем иным, как борьбой за монопольный контроль над экспортом полезных ископаемых Свазиленда!
Глава семьдесят шестая
«Дитя нации» готовится стать Мсвати III. — Среди 16 тысяч девушек выбираются несколько жен. — Транссвазилендское сафари кронпринца. — Наследник убивает слона. — Церемония восшествия на трон из буйволиных черепов. — «Ты самый могущественный!» — Первый «след» молодого ингвеньямы: король смещает премьер-министра посреди пастбища. — Выбор между традициями и новациями — основная проблема последней неотрадиционной монархии
А что же делал в это время кронпринц? Отвечая на этот вопрос, свази обычно приводят свою национальную поговорку: «Когда лев пробирается сквозь дебри, он не оставляет следов на земле».
Сообщения о жизни наследного принца, появлявшиеся до того, как он стал Мсвати III, носили чисто протокольный характер. Большую часть своего времени он проводил за учебниками в Англии, однако нередко посещал родину, чтобы выполнить традиционные ритуалы, предшествующие восшествию на трон. Так, в официальной биографии «Дитя нации», опубликованной в Мбабане, упоминается, что в сентябре 1984 года он принял «королевское участие» в очередной инчвале. Там он впервые исполнил «танец тростника», и это событие означало достижение Макхосетиве совершеннолетия. Затем в течение двух дней непрерывных песен и плясок мимо него прошли 16 тысяч девушек с обнаженным торсом: среди них принц должен был выбрать себе на будущее несколько жен.
В августе 1985 года будущий монарх совершил стокилометровое пешее путешествие через всю свою страну, призванное продемонстрировать своим подданным, что «новый король так силен и вынослив, что может защищать традиции а-ма-нгване». Это транссвазилендское сафари наследника сопровождалось охотой. Кульминацией ее стал поединок со слоном, которого кронпринц убил копьем, дабы доказать, что он достоин именоваться ингвеньямой. Кожа с ушей этого убитого в честном поединке великана вельда была главным нарядом Макхосетиве в день его коронации.
Это торжественное событие состоялось 25 апреля 1986 года. Никто, кроме узкого круга царедворцев и духовников, не знает, в чем заключалась тайная часть ритуальной церемонии вступления на трон, проведенная в Лозита. Однако из королевского крааля принц Макхосетиве вышел уже Мсвати III — шестнадцатым монархом в истории Свазиленда, обладателем священного трона а-ма-нгване, сделанного из черепов буйволов.
«Вся эта церемония, занявшая 25 секунд, не только поставила у власти в стране Сотжу Дламини, работавшего ранее чиновником на одной из сахарных плантаций, — передал из Мбабане корреспондент Ассошиэйтед Пресс. — То, что произошло на королевском холме, традиционным путем продемонстрировало всем свази два очень важных обстоятельства. Во-первых, они увидели, что пользующаяся авторитетом у народа Дзеливе передала Мсвати красную палку Собхузы. Во-вторых, король всенародно дал понять, что он плевать хотел на ликоко. Несколько месяцев спустя самый молодой в мире монарх объявил о решении провести в своей стране выборы на основе уникальной, практикуемой только в Свазиленде системы голосования. «Все мужчины, — сказал он, — соберутся в деревнях, на центральных площадях которых будет стоять несколько ворот, а в каждом из них — кандидат в коллегию выборщиков. Проходя под теми или иными воротами, свази тем самым выражают свое предпочтение одному из кандидатов, а стоящие рядом старейшины ведут подсчет голосов». Потом победившие выборщики изберут из списка, предложенного королем, пятьдесят законодателей, руководствуясь при этом их репутацией, мудростью, честностью и способностью руководить. Еще двадцать законодателей назначает сам Мсвати III. Считают, однако, что он будет терпеть этих законодателей, да и ликоко, только в том случае, если они, как и во времена Собхузы, будут во всем соглашаться с волей короля».
Какова будет воля молодого ингвеньямы, покажет время. В отличие от большинства монархов современного мира, которые являются скорее лишь номинальными правителями, король а-ма-нгване правит страной, имея в своих руках исполнительную власть. Как воспользуется ею Мсвати, по какой дороге поведет он свой народ? Получивший образование на Западе, но воспитанный в духе строгих племенных традиций, Мсвати III как бы олицетворяет собой дилемму, перед которой сегодня стоит весь Свазиленд — единственная неотрадиционная монархия Африки, вступающая в современный мир…
Глава семьдесят седьмая
Два дворца свергнутого короля. — Самый большой рынок гончарных изделий. — Скотоводы-тутси покоряют земледельцев-хуту. — Легенда об отважном охотнике, ставшем королем Нтаре I. — Средний рост — 186 см. — Иньямбо — скот с трехметровыми рогами народа-великана. — Мвамбутсу IV увлекается рок-н-роллом. — Республика, рожденная без единого выстрела
Гитега — небольшой городишко с десятитысячным населением и огромным базаром. Прямо у шоссе, ведущего в город, стоит новый дворец, в котором, правда, свергнутым королям-мвами почти не удалось пожить. Здание модернистское, но с чертами местной архитектуры: стрельчатые арки окружающей дворец галереи напоминают дверные отверстия африканских хижин, внутренний же свод — копия островерхих крыш конусообразных крестьянских построек.
А на полпути из Гитеги в Бужумбуру, современную столицу Бурунди, в деревне Мурамвья находится старый дворец, выстроенный в традиционном африканском стиле. Это большая, просторная хижина из золотистой соломы, внутри перегороженная циновками. На полу — сплетенные из папируса коврики, на которых разрешалось сидеть приближенным мвами, несколько деревянных лежаков и плетеных сундуков. Никакой роскоши, никакого напоминания о величии власти. Но двери во дворец низкие, гораздо ниже, чем у окружающих хижин: хочешь не хочешь, но, входя в обитель владыки, обязательно согнешься перед ним в три погибели.
За этими дворцами, свидетелями истории Бурунди, далекой и всего лишь вчерашней, присматривает Дамьен Хабомимана, куратор Национального музея в Гитеге, знаток истории своей страны.
— Вы, конечно, уже побывали на нашем рынке? — обращается он ко мне. — Это самый большой во всей Восточной Африке рынок гончарных изделий. Огромные кувшины, которые умеют делать только в наших краях, расходятся из Гитеги по всем соседним странам. Керамику здесь делают испокон веков. В долине реки Ниамбийя, например, найдены остатки очень древних очагов, а рядом — осколки кувшинов, отделанных красивым орнаментом. В былые времена гончарное ремесло считалось презренным и было уделом лишь низших слоев земледельцев-хуту. Но их прекрасными изделиями украшали свои жилища даже короли, которые в нашей стране, как и в соседней Руанде, всегда выдвигались из числа скотоводов-тутси.
Много, очень много лет назад в местах, где тутси пасли свои стада, случилось великое несчастье. Реки, которые раньше текли по их землям, повернули вспять или высохли. Дожди прекратились, и равнины, на которых некогда зеленела сочная трава, превратились в пустыню. Красавицы коровы, лишившись корма, начали гибнуть.
И тогда старейшины-тутси решили покинуть пораженные засухой места и идти на юг, искать новые пастбища. Они шли долго, и никто не знает, сколько великанов-воинов, статных женщин и лиророгих иньямбо погибло во время этого перехода. Позади оставались горы и пустыни, населенные враждебными племенами, равнины и непроходимые леса. Но тутси упрямо шли, а когда силы совсем оставляли людей, они цеплялись за рога иньямбо, и коровы поддерживали их. Наконец впереди мелькнула гладь большого озера; пьянящий запах пряных трав с прибрежных лугов заставил людей напрячь силы, прибавить шагу. Здесь были и вода, и сочная трава для скота. «А раз будут живы и сыты иньямбо, значит, будут счастливы и тутси», — решили старейшины. Так выходцы с севера обосновались в области межозерья. Историки считают, что это произошло примерно в XV веке.
Богатый край конечно же не пустовал, плодородные долины были издавна заселены земледельцами-хуту, а в лесах охотились пигмеи. Но вскоре сильные и воинственные тутси покорили их и создали в самом центре Африки феодальное государство. Говорили, правда, в нем на кирунди — языке хуту.
— Трудно точно сказать, когда это произошло, поскольку о прошлом Бурунди, или, как раньше говорили, Урунди, можно судить только по рассказам кариенд, — продолжает свой рассказ Д. Хабомимана. — Независимое королевство, словно спрятавшееся в африканской глубинке, в самом сердце континента, развивалось своим особым путем. Многие характерные черты его традиционного общества и экономических укладов дожили до сегодняшнего дня. Западные этнографы нередко называют Бурунди «самой африканской республикой», имея в виду ту огромную роль, которую играют в жизни нашего государства специфические социальные и хозяйственные обычаи и традиции, унаследованные от прошлого.
Сегодня жители республики — а их уже почти пять миллионов — все чаще называют себя барунди. Однако со времен Нтаре внутри традиционного общества отчетливо выделялись три этносоциальные группы: тутси, хуту и пигмеи-тва. Численно преобладавшие в королевстве крестьяне-хуту, которые составляют примерно 85 процентов населения всей страны, находились в зависимости от тутси (14 процентов), из среды которых выделились феодалы-баганва, владевшие и землей и скотом.
Чтобы отсрочить свой уход из Бурунди (в колониальные времена эта страна была частью единой «подопечной территории», именовавшейся Руанда-Урунди), бельгийцы всеми силами стремились разъединить народ барунди. Дважды — в 1959-м и 1963 годах — им удавалось спровоцировать в стране вспышки кровавой резни. В ней погибали не только феодалы и уничтожались не только дворцы знати. Национальная трагедия, спровоцированная из Брюсселя, ударила в первую очередь по скотоводам-беднякам. Настроенные против феодалов, они могли бы стать союзниками угнетенных масс хуту в борьбе против иноземных и местных эксплуататоров. А этого-то и боялись больше всего колонизаторы.
Последний мвами Бурунди — Мвамбутсу IV — взошел на престол в 1915 году, когда ему было всего лишь тринадцать лет, и правил до 1966 года. Это был ловкий политик, умевший ладить со всеми. Хотя он и считался «первым среди баганва», Мвамбутсу заявлял, что стоит выше сословных интересов. Он провел ряд реформ, ограничивших привилегии феодалов, и умело заигрывал с народом.
В этом, наверное, одна из причин того, что монархия в Бурунди не пала одновременно с провозглашением независимости, как это было в Руанде, а просуществовала еще пять лет. Однако все эти пять лет и трон, и все королевство лихорадило. Под конец своего многолетнего правления Мвамбутсу IV пристрастился к делам, весьма далеким от государственных. Из короля Бурунди он превратился в «короля рок-н-ролла», завсегдатая западноевропейских игорных домов и знатока джаз-оркестров. В одном из лозаннских ночных клубов мвами пленила полногрудая Жози Белькур, выступавшая в стриптизе. Сначала Мвамбутсу сделал тридцатидвухлетнюю блондинку своей секретаршей, а затем привез ее в Бужумбуру, где выстроил для нее прекрасный особняк с бассейном.
Придворные были шокированы, народ роптал. Становилось ясно, что архаическая форма правления, основанная на привилегированном положении баганва, изжила себя. Поэтому, когда 28 ноября 1966 года группа прогрессивно настроенных офицеров взяла власть в свои руки, никто не выступил в защиту монархии. Республика родилась в Бурунди без единого выстрела, без капли крови.
Глава семьдесят восьмая
Триединый лозунг партии УПРОНЛ: «Единство — труд — прогресс!» — Торжества у памятника принцу-революционеру. — В Бужумбуре поют «Интернационал». — К празднику присоединяются «потомки священного тамтама». — Ходить и плясать здесь учатся одновременно. — Короли африканского танца
Впервые я приехал в Бужумбуру ровно через год после революции. Улицы столицы пестрели антиимпериалистическими лозунгами, из рупоров громкоговорителей неслись призывы покончить с отсталостью и невежеством.
Однако празднества в честь годовщины республики начались с торжественной мессы в церкви. Архиепископ Бужумбуры, прелаты в ярких сутанах, римский нунций в малиновом одеянии, стоя на широкой лестнице кафедрального собора, сдержанной улыбкой приветствовали лидеров молодой Африки. Республика избрала свой путь в будущее, но еще не смогла освободиться от традиций прошлого…
Когда служба закончилась, а президент молодой республики произнес речь, тишину не нарушили аплодисменты. Над площадью внезапно вырос лес рук — тысяч, десятков тысяч черных мускулистых рук с протянутыми вперед тремя пальцами. Этот жест — символ правящей в стране Партии единства и национального прогресса (УПРОНА); каждый палец символизирует часть триединого лозунга. Раньше, в королевстве, он означал: «Бог — король — родина». Теперь, в республике, символ звучит по-иному: «Единство — труд — прогресс». Несколько минут площадь безмолвствовала, застыв в клятве верности республике и партии. Торжественное молчание прервал сам президент: «Убумве — ибикорва — амаямберре!» — произнес он на языке кирунди. «Единство — труд — прогресс!» — вторила ему площадь.
С площади Революции торжества были перенесены на гору Кирири, к памятнику Луи Рвагасоре — основателю партии УПРОНА, зверски убитому в 1961 году пулей, оплаченной бельгийскими колонизаторами. А потом на стадионе Бужумбуры, у подножия Кирири, началась демонстрация. Сначала шли военные, потом рабочие предприятий столицы, учащиеся. Шествие замыкали огромные желтые дорожные машины, первые тракторы и комбайны, грузовики, полные крестьян, приехавших из отдаленных уголков страны.
До самого вечера шествовали под звуки несущегося из репродукторов «Интернационала» граждане республики. Не все из тех, кто приехал в столицу и хотел пройти по стадиону мимо трибуны, смогли принять тогда участие в грандиозной манифестации. Поздно вечером по радио передали решение правительства продлить демонстрацию на следующее утро. Власти обращались к предпринимателям с просьбой дать возможность принять в ней участие всем рабочим и служащим.
Шествие кончилось, и стадион превратился в гигантский табор, где устроились на ночь «иногородние». Зажглись костры, вспыхнуло веселое оживление у огромных горшков с пенящимся пивом, отовсюду понеслись песни, песни, песни…
К полуночи, когда в президентском дворце окончился прием, на стадион приехали королевские барабанщики. Во времена монархии они жили в Гитеге, получали большие деньги и были своеобразной кастой привилегированных дворцовых музыкантов. Д. Хабомимана, сам член этого «цеха» музыкантов, рассказывал мне, что при мвами в королевский ансамбль могли попасть лишь выходцы из нескольких семей тутси, за чистотой крови которых наблюдали сами кариенды. Хуту туда не принимали: инструменты, на которых играли королевские барабанщики, считались «потомками священного тамтама». Прикасаться к ним могли лишь тутси.
После революции за королевскими барабанщиками осталось их прежнее название, и, я думаю, оно останется и впредь. Не потому, конечно, что среди барунди сильны монархистские настроения, а по той причине, что в своем искусстве музыканты-тутси действительно короли. Африка вообще богата танцорами и тамтамистами. Чувство ритма — в крови у всех африканцев. Люди здесь рождаются танцорами, они учатся ходить и танцевать одновременно. Но во всей Африке я не видел ничего более блистательного, эффектного и виртуозного, чем королевские музыканты Бурунди.
Двухметровые красавцы юноши в туниках из пятнистых леопардовых шкур, символизирующих у барунди войну, становятся у огромных барабанов. В центре — «тамтам мвами», достигающий великанам почти до плеча. По обе стороны от него барабаны симметрично уменьшаются. На флангах, у самых низких тамтамов, стоят десяти-двенадцатилетние мальчики. В стороне — два жилистых старца в лиловых тогах, с прическами, которые поддерживает бисерный обод. Один из них держит ярко раскрашенный щит и длинное копье-жезл. Он — балетмейстер. У другого в руках длинный закрученный рог иньямбо. Это — дирижер.
Трубный звук рога — и тамтамы начинают петь. Исполняется танец воинов. У тутси нет принятой почти повсеместно у африканских барабанщиков манеры постепенно наращивать темп. Здесь начинают «без раскачки», сразу в фантастически бурном ритме. Сила удара и быстрота. Быстрота и сила удара. Наконец, музыкант подбрасывает палочки (а они по полтора килограмма весом) в воздух и становится еще и жонглером. Палочки вращаются над его головой, не нарушая ритма, шлепаются на барабан, отскакивают вверх и снова попадают к нему в руки где-то за спиной. Если жонглируют и соседи, они еще успевают обежать вокруг барабанов и поменяться местами.
Это увертюра. Когда пот катится со всех ручьем, быстрота и сила удара достигают предела, мелькания рук уже не видно и кажется, что вот-вот порвется кожа тамтамов, величественный старец со щитом властно поднимает свой жезл, и барабаны замолкают. Он идет медленной походкой властелина, шлейф его лиловой тоги эффектно скользит по зеленой траве. Блики костров играют на мускулистом лице, прищуренные глаза смотрят в темноту, туда, где скрывается враг. Он приглядывается, переступает с ноги на ногу, как бы высматривая кого-то, и вдруг резким броском запускает копье в толпу. Она ахает, но не успевает даже шелохнуться. Дрожащая полоска металла уже воткнулась в землю совсем близко от чьих-то босых ног.
И снова гремят тамтамы. Исступленный, бешеный, нечеловеческий темп. Глаза музыкантов вылезают из орбит, на лицах вздуваются вены. Долго в таком темпе играть нельзя. То слева, то справа два-три тамтама замолкают, а музыканты, выбежав в центр полукруга, отплясывают у костров замысловатые па. Между ними, словно африканский Мефистофель, скользит старец в развевающихся одеждах. Он мечет копье в танцоров, и каждый раз оно падает так близко, что еле удерживаешься, чтобы не вскрикнуть.
Иногда старец ловит в воздухе палочки «тамтама мвами» и извлекает из огромного барабана новую мелодию. Ее повторяет старик с рогом, а затем остальные барабанщики. Образуется какой-то беспрерывный конвейер, круговорот музыкантов и танцоров. Вот тамтамисты выстраиваются друг за другом, и начинается бег вокруг цепочки барабанов. Поравнявшись с инструментом, каждый ловит брошенные соседом палочки, ударяет, не нарушив ритма, по барабану и подбрасывает их для другого.
На трех главных барабанах солируют все по очереди, даже мальчики. Достать до барабанов с земли малыши не могут, и им приходится залезать на спину кому-нибудь из взрослых. Солисты импровизируют, остальные тут же подхватывают новую мелодию.
Люди вокруг зажглись бешеной музыкой, хлопают, пляшут. Посторонних и равнодушных нет. Если мерить на европейский аршин, здесь есть кумиры, солисты и хор, статисты. Нет лишь сценаристов и режиссеров. Их в Африке всегда заменяют врожденное чувство ритма и вдохновение.
Глава семьдесят девятая
Агония феодального наследия: 100 тысяч убитых. — Республика против этносоциальных предрассудков. — «Все бурундийцы — братья!» — Этнические перегородки и… рельеф. — Республика на 80 тысячах холмов. — Аграрная страна без деревень. — Почему крестьяне «самой африканской республики» не спешат объединяться в кооператив? — Общеконтинентальная проблема: ограниченным материальным возможностям соответствуют умеренные желания. — Экономика руго спасает Бурунди от превратностей мирового капиталистического рынка. — Аграрная реформа отменяет «убугерерва» и «убугабире»
Ликование, вызванное свержением монархии, прошло очень скоро, потому что выяснилось: руководители Первой республики оказались не способны разорвать традиционные трибалистские и сословные путы, тормозившие развитие общества барунди. Изменив собственным прогрессивным лозунгам, они погрязли в политических интригах, междоусобицах, местничестве, коррупции.
Агония режима, хотевшего приспособить республиканские формы правления к диктатуре феодалов-тутси, была страшной: в 1972–1973 годах Бурунди пережила один из самых кровопролитных на Африканском континенте этнических конфликтов. Он стоил жизни более чем 100 тысячам хуту.
Вот почему руководители Второй республики, родившейся в 1976 году, во главу угла поставили задачу: сделать все возможное для того, чтобы этнические различия больше никогда не могли парализовать социальную и экономическую жизнь страны. В Бужумбуре исходят из того, что в республике нет ни территории хуту, ни территории тутси. Ни хуту, ни тутси не имеют собственного языка, культуры, религии, которые были бы свойственны только им. А следовательно, в стране существует только одна этническая группа — барунди.
Решительным образом искореняется все, что могло бы напомнить о былой племенной розни. В новых школьных учебниках географии и истории, изданных в начале 80-х годов, я вообще не нашел ни одного упоминания о хуту, тутси или тва. В бурундийских паспортах, где в былые времена фигурировали эти термины, теперь указывается однозначно: рунди. Если раньше представители скотоводческой аристократии в разговоре со мной по собственной инициативе сообщали, что ведут свою родословную от переселенцев с севера, то теперь даже на вопрос: «Вы — тутси?» — отвечают: «Я — бурундиец».
Правительство стремится привлечь к национальному строительству все социальные группы населения, подчеркивая: все равны перед законом и имеют одни и те же права на получение работы, образования и других социальных благ. Мало кто отрицает, однако, что после многовекового господства баганва земледельцы-хуту во многом отстали от тутси в культурном и хозяйственном отношении. Практически преодолеть этот разрыв не так-то легко, и причем не только в силу исторических, социальных, но и… географических причин.
Уже стало плохой традицией, журналистским штампом называть Бурунди «страной зеленых холмов», «республикой на холмах», «государством тысячи холмов» и т. д. Уточню сразу: в Бурунди около 80 тысяч холмов, в том числе 10 тысяч — крупных. Холм официально признан низовой административной единицей этой республики. Таких «административных холмов» там 2460. Когда вы спрашиваете у жителя Бурунди или соседней Руанды, где он родился или где оставил свою семью, то обычно следует ответ: «На холме таком-то…»
Словно гигантские застывшие волны древнего океана, теснятся эти холмы по Бурунди и, не желая считаться с границами, придуманными человеком, уходят в Руанду. Образно говоря, в обеих этих странах каждой большой крестьянской семье или нескольким семьям родственников принадлежит холм или по крайней мере хотя бы один из его склонов. Крестьянские поля находятся здесь на косогорах, скот бродит по крутобоким пастбищам, а тропинки и дороги то взбираются на пологую возвышенность, то падают с нее. Местным учащимся нельзя доказать, что земля имеет форму шара, на том основании, что у горизонта округлая форма. Здесь линия горизонта волниста и извилиста…
Однако эти холмы, придающие ландшафту Бурунди ни на что не похожий колорит, столь ласкающий взоры туристов, создают огромные социальные и хозяйственные проблемы. Аграрная страна, где лишь пять процентов населения живет в городах и поселках, Бурунди в то же время с полным основанием заслуживает названия страны без деревень. А попробуйте, задавшись целью поднять культурный и экономический уровень жизни земледельческого населения, подвести к каждому склону бесчисленных бурундийских холмов электричество и водопровод, создать такие условия, чтобы обитатели холмов жили неподалеку от школ и здравпунктов. Все эти и другие трудности жизни на холмах не могут не влиять на решение этнических проблем, создание единой нации.
Выход? В Бужумбуре его видят в том, чтобы убедить крестьян покинуть свои руго (изолированные фермы на холмах) и селиться вместе в крупных деревнях-кооперативах, объединяющих от 200 до 500 семей. Казалось бы, перспектива иметь рядом магазин и здравпункт, школу, получить возможность пользоваться советом агронома и арендовать у правления кооператива сельскохозяйственную технику должна была бы привлечь в укрупненные деревни мелких земледельцев. Однако они не спешат. Сказывается психологический фактор, вековая привычка быть хозяином у себя на холме, ни от кого не зависеть. Кроме того, многие крестьяне просто не понимают, зачем их призывают переселяться и ежедневно ходить из деревни за несколько километров на свои поля, если им совсем не нужны те услуги, которые предлагаются в кооперативе.
Однако именно эти архаичные внерыночные отношения помогли Бурунди в 80-х годах остаться в стороне от влияния экономического спада, охватившего всю Африку. Не связанные с мировым капиталистическим рынком, руго оказались нечувствительными ни к снижению цен на африканское сельскохозяйственное сырье, ни к мировому топливному кризису, ни к повышению учетных и кредитных ставок империалистическими банками.
По уровню дохода на душу населения Бурунди давно занимает девятое с конца место в мире, а по классификации ООН входит в число наименее развитых стран планеты. Доход на душу населения здесь действительно более чем скромный — около 200 долларов в год. Однако, прилетев в Бужумбуру из Найроби или Киншасы — городов, выдаваемых за «витрины» капиталистического развития в Африке, сразу же обращаешь внимание на то, что в бурундийской столице, в отличие от кенийской или заирской, нет попрошаек. Нищенствуют лишь калеки, что «узаконено» нормами африканской традиции.
Благодаря интенсивному, хотя и ведущемуся архаическими методами, земледелию на холмах Бурунди, в отличие от большинства стран континента, самостоятельно обеспечивает себя сельскохозяйственными продуктами. Поэтому в стране никто не умирает с голоду, а вокруг Бужумбуры не растут бидонвилли вчерашних крестьян, не имеющих возможности прокормиться собственным трудом. Конечно, в стране есть зажиточные и даже богатые люди, однако социальные контрасты даже в столице не бросаются в глаза, большинство барунди живут примерно в одинаковых условиях, соответствующих традиционному «этнографическому стандарту».
В первые годы после провозглашения независимости я не раз слышал, как западные предприниматели называли Бурунди «одной из самых нежизнеспособных стран континента», удел которой — «существование взаймы». Сегодня эти же бизнесмены говорят о ней как о «стране, где можно рисковать», и с удивлением констатируют: по сравнению с другими развивающимися государствами Бурунди имеет весьма незначительную задолженность. Так, традиционная африканская «экономика руго» сыграла роль своеобразного амортизатора, который помог Бурунди устоять перед проблемами, с которыми не могут справиться страны куда более богатые, но в то же время и более втянутые в мировые капиталистические отношения. Бурундийский пример лишний раз доказал: разрушение традиционной африканской экономики в угоду западному капиталистическому предпринимательству, сокращение клина продовольственных культур местного потребления ради увеличения экспорта сырья на капиталистический рынок — отнюдь не лучший путь модернизации сельского хозяйства на континенте.
Вот почему правительство Бурунди не переселяет обитателей руго в укрупненные деревни с помощью декретов и полиции, а делает это постепенно, по мере того, как у крестьян возникает объективная заинтересованность приобщиться к производству на рынок. Важным стимулом развития товарного производства стала осуществленная в 1977 году аграрная реформа, отменившая систему убугерерва — феодальной зависимости в ее местном варианте. До реформы безземельный крестьянин должен был бесплатно трудиться на землевладельцев за предоставленный ему в пользование крошечный надел. По новому закону тот, кто обрабатывает землю, за небольшую сумму может выкупить этот надел и стать его владельцем.
Достоянием истории сделалась и убугабире — система «держания коров», превращавшая владельцев скота — шебуйе — в феодалов, а арендаторов — умугарагу — в эксплуатируемых крестьян.
В былые времена, когда у умугарагу разрасталась семья и начинал чувствоваться недостаток в молочных продуктах, он наполнял кувшин банановым пивом и отправлялся к шебуйе.
— Я прошу у тебя молока, хозяин, — говорил он, ставя кувшин в ноги феодалу. — Помоги мне, и мои дети, взращенные молоком твоих коров, будут твоими детьми. Они сполна отблагодарят тебя за доброту.
Если шебуйе соглашался удовлетворить просьбу, он выпивал пиво и наполнял горшок молоком. Это значило, что умугарагу мог идти и выбирать в хозяйском стаде корову.
Внешне безобидный ритуал. Но именно он и заложил неравноправные отношения, расколовшие все общество дореволюционной Бурунди на два класса. Сколько бы лет ни ухаживал за арендованными иньямбо крестьянин, ни скот, ни приплод не делались его собственностью. Аренда, как правило, была пожизненной. Животные старели, переставали давать молоко, но крестьянин не имел права их забить и был обязан по-прежнему отрабатывать за них в хозяйстве шебуйе, смотреть за его личным скотом, отдавать в его закрома часть урожая со своего поля. Если крестьянин нарушал освященные веками условия убугабире, хозяин имел право отобрать у него весь скот, обречь всю семью на голод. Все это привязывало формально свободного умугарагу к феодалу, давало шебуйе возможность облагать крестьян новыми повинностями, выжимать из бедняков последние соки. Шебуйе знал: деться кредитору(?[58]) некуда.
Теперь древняя система «держания скота» упразднена. Однако архаические формы ухода за иньямбо, обряды и ритуалы тутси, порожденные убугабире, кое-где еще сохранились.
Путешествуя по Бурунди, я как-то забрался на крайний северо-запад республики. Там, за городком Ругомбо, в стороне от дороги, я увидел окруженный тростниковым забором небольшой загон для скота, посреди него огонь, который тушат лишь в случае смерти владельца стада.
За скотом ухаживают лишь мужчины. Женщинам не разрешается подходить к коровам. Мужчина-воин способен лучше защитить скот и от диких животных, и от набегов врагов. А поскольку скот зачастую остается на пастбищах и на ночь, то пастух, естественно, становится также дояром. Так порожденное практикой правило превратилось в освященное веками табу, запрещающее женщинам доить скот.
Молоко для тутси все равно что хлеб для русского крестьянина. К молоку относятся с почтительным благоговением. Доят животных здесь не между делом, а основательно, с чувством. Коров ежедневно чистят и моют веником из ароматических трав, запах которых отгоняет мух. Эта процедура происходит во внешнем дворе загона, из которого вымытых коров ведут во внутренний двор.
Здесь мада — пожилые дояры-виртуозы, сидя на крохотных скамеечках, «берут», как говорят тутси, у коров молоко. Главный помощник дояра — молодой бычок, которого подводят поочередно к каждой из ожидающих дойки коров. Его задача — дочиста облизать шершавым языком соски и добыть первые капли молока. Как только оно появляется, теленка уводят, а мада начинает свое священнодействие. Главное теперь не допустить, чтобы у молока пропала пена, чтобы она сохранилась до тех пор, пока еще теплый напиток попадет к женщинам. Такой способ «долгой пены» называют «епфура». Он доступен лишь опытным, наиболее уважаемым мада. Но «малую пену» обязан уметь получить любой мужчина-тутси. В противном случае «он доит как женщина», и поэтому ему могут вообще запретить ухаживать за иньямбо.
Когда корова выдоена, мада встает, моет руки из рога, который подносит ему юноша, и направляется к следующему животному. Подоенную корову подводят к костру, окуривают травами, запах которых отгоняет на поле слепней, смазывают соски сажей, чей горький вкус не позволяет телятам лакомиться молоком, и только после этого выпускают на пастбища. А глиняные крынки, где еще вздувается и лопается молочная пена, относят женщинам. В их обязанности входит приготовление безахи — молочных продуктов.
Глава восьмидесятая
Скотовод приобщается к земледелию. — 2,5 га — предел возможностей крестьянской семьи. — В Африке люди умирают не от болезней с экзотическими названиями, а от тривиального голода. — Сложная проблема простой мотыги. — Не погубит ли плуг африканские почвы? — Экологические проблемы, порожденные подсечно-огневой системой. — Черное дерево… на удобрения. — Огня не боится лишь птица-секретарь. — Переложное сельское хозяйство становится непригодным для Бурунди
Таких скотоводов можно было бы назвать «настоящими тутси», поскольку они свято придерживаются традиции. Однако, оглядевшись вокруг, я вдруг понял, что они нарушили одну из главных заповедей своих гордых предков: начали заниматься земледелием. Прямо за загоном для скота зеленело 200–300 молодых кофейных деревцев.
Скотовод, приобщившийся к земледелию, и земледелец, который завел в своем хозяйстве пару коров, по нашим понятиям, явление обычное. Но для сегодняшней Африки это новость, причем имеющая огромнейшее экономическое значение. В Бурунди, где скотовод-тутси соседствует с земледельцем-хуту, этот процесс, пожалуй, вырисовывается ярче и отчетливее, чем в других странах Африки.
Веками скотоводство и земледелие у большинства народов Африки были разобщены сложной системой не только экономических перегородок, но и племенных предрассудков. Скотоводы, правда, остаются в выигрыше: употребляя в пищу молоко, кровь и мясо, они обеспечивают себя необходимым числом калорий. Земледельцы же, которые зачастую не видят на своем столе ничего, кроме бананов и корнеплодов, довольствуются полутора тысячами калорий в день, тогда как, например, рацион европейца содержит три тысячи калорий.
Землепашец без скота и сегодня подобен российскому безлошадному крестьянину дореволюционного времени. Не имея тягла, он по сей день не может поменять мотыгу на плуг. А самое большее, что может обработать в год мотыгой африканская семья, в которой четыре-пять трудоспособных членов, а остальные — старики и дети, — это два с половиной гектара. Слишком тяжело отвоевать у саванны землю, слишком тяжело отстоять потом поле от настойчиво лезущих из земли сорняков, уберечь его от беспощадных лучей солнца, размывающих ливней, испепеляющей засухи, саранчи и других вредителей. Два с половиной гектара, обрабатываемые отсталыми методами, не могут без помощи животноводства прокормить крестьянскую семью.
Европейцу, привыкшему к трактору и комбайну, вытеснение мотыги плугом кажется делом легким. В Африке же, где внедрение плуга стало центральной проблемой технического перевооружения сельского хозяйства, этот процесс оказался мучительно сложным. Почти везде он тормозится нехваткой скота. Но в Бурунди, где крестьянский двор с коровой не редкость, замена мотыги плугом может произойти куда быстрее, чем в других государствах.
Конечно, скот в Бурунди есть еще не в каждой семье и, пожалуй, не на каждом холме. Но чтобы вспахать поле, всегда можно нанять кого-либо из соседей, имеющих быка и плуг. В таком случае рождается очень интересная форма социальных отношений: более богатый крестьянин — владелец скота — обрабатывает поле бедняка. Но он выступает здесь уже не как батрак, а как предприниматель, сдающий напрокат «технику».
Незадолго до приезда в Бужумбуру я разговаривал в Дар-эс-Саламе с французским ученым Рене Дюмоном, крупным знатоком аграрных проблем современной Африки, автором нашумевшей во всем мире книги «Черная Африка плохо начинает».
— Использование в Тропической Африке плуга тоже проблема, — говорил он мне. — По-моему, допускать, что здешние крестьяне, тысячелетиями обрабатывавшие землю мотыгой, были не способны изобрести плуг, — значит быть расистом. Крестьянин не мог не изобрести плуг. В Древнем Египте его применяли уже три тысячи лет тому назад, и он, как и многие культурные растения, должен был попасть с Нила в Тропическую Африку. В металле здесь тоже никогда не было недостатка. Почему же в Тропической Африке нет плуга? Дело в том, что это орудие в простейшей своей форме не соответствует местным условиям.
— Но ведь вы, профессор, не будете защищать теорию о том, что африканские почвы непригодны для обработки орудиями более сложными, чем мотыга? — спросил я.
— Я бы сказал так: они пригодны для обработки или мотыгой, или орудиями более сложными, чем простейший плуг. Потому что простейший плуг зачастую губит плодородие африканской земли. В Западной Африке, особенно в Кот-д’Ивуаре, где прослойка зажиточных африканских крестьян, имеющих плуг, появилась гораздо раньше, чем в восточной части континента, результат применения этого орудия оказался самым неожиданным: плодородные почвы превратились в бедленд, началась устрашающая эрозия. То же повторяется в Руанде и Бурунди, холмы которых начали разрушаться оврагами. Эрозию можно предотвратить, если наряду с плужной обработкой внедрять правильный севооборот, проводить лесонасаждения. Можно справиться и с другой проблемой, вызванной тем, что почвенная микрофлора в Африке селится лишь в самом верхнем горизонте. Там, где используют плуг, не переворачивающий пласта, а еще лучше — дисковую борону, мотыга явно проигрывает.
Но главное — чтобы приспособленный к африканским условиям плуг, не говоря уже о бороне и тракторе, появился именно тогда, когда начнется отмирание подсечно-огневой системы. Огонь разрушает почву, убивает микрофлору, губит водозащитные леса, приносит много бед, о которых, быть может, современной науке еще даже неизвестно.
Саванна горит… Кто из ездивших по глубинной Африке не видел этого завораживающего и одновременно жуткого зрелища, когда огонь охватывает все вокруг, раскаляет и без того горячий воздух, гудит на ветру и потрескивает, поглощая мириады травинок!
Возвращаясь из Ругомбо в Бужумбуру кружным путем, через Нгози, я увидел впереди зловещую черную тучу. Дождь в Бурунди, не знающей асфальтированных дорог, не сулил ничего хорошего, и я прибавил газу, надеясь добраться до цели раньше, чем потоки воды превратят грунт в месиво грязи.
Но шустрые мангусты, сначала поодиночке, а потом целыми стайками бежавшие навстречу автомашине, подсказали, что спешить мне некуда. Звери спасались не от дождя, а от пожара. Облако было не дождевой тучей, а пеленой черного дыма, висящего над пепелищем. Кудахчущие выводки цесарок, несколько оголтело мечущихся зайцев, какая-то мышеподобная мелочь — все, кто обычно прячется в густой траве, выскочили сейчас на открытую дорогу и ошалело неслись в одном направлении, даже не сворачивая при встрече с машиной. Птицам и мошкаре дорога была не нужна: они летели прямо над саванной, лишь иногда садясь передохнуть на кусты или деревья. Я не разворачивал машину назад только потому, что совсем недавно проехал заболоченную зеленую низину, куда огонь забраться не мог. В крайнем случае, если бы пожар начал меня настигать, всегда можно было ретироваться в этот влажный оазис.
Неожиданно из самого пекла важно вышла птица-секретарь, очевидно уверенная в том, что сильные голенастые ноги в последний момент всегда унесут ее от опасности. Птица мотала головой, а вместе с нею болтался и конец еще не проглоченной ею змеи, торчавший из клюва. Потом змеиный хвост исчез, и секретарь, наклонив голову, начала выискивать среди улепетывающих пресмыкающихся жертву повкуснее. Иногда языки пламени почти лизали всклоченные бело-серые крылья, но всякий раз птица увертывалась и принималась злобно шипеть на огонь.
Становилось все жарче, и было страшно смотреть на взвивающиеся желто-алые языки, которые, словно вырвавшись из пасти взбесившегося сказочного чудовища, набрасывались на густую стену травы. То там, то здесь факелами краснели раскаленные стволы редких деревьев. Огненные струйки уже забежали за машину. Пора было отступать в низину.
Когда выпущенная человеком огненная стихия пронеслась дальше, саванну нельзя было узнать. Черное пепелище, среди которого кое-где возвышались обугленные баобабы, напомнило мне запечатлевшиеся с детства картины войны, разрухи, горя.
Но африканцами пожар воспринимается по-иному. Крестьянин в Африке считает огонь своим главным помощником. Пламя за один день расчищает поле, удобряет золой почву. Пожарище в Африке — это предвестник начала полевых работ, будущего урожая. Я ехал по пепелищу, а навстречу мне неслась радостная песня. Это пели разбредшиеся по саванне мужчины, собиравшие испекшиеся яйца и вкусных черепах, под обуглившимися панцирями которых было готово отличное жаркое.
Но эта песня — радость людей, которые привыкли к щедрости природы и не знают о том, что у этой щедрости есть предел. Сотни, а может быть, и тысячи лет земледельцы в Бурунди выжигают растительность, чтобы расчистить и удобрить землю, а скотоводы — чтобы их пастбища после дождей зазеленели более густой, свежей травой. Но, уничтожая сухостой, пожар не щадит молодые деревья и кустарники. За долгие годы огонь превратился в своеобразный элемент экологии, изменил саму природу саванны. Выжили здесь лишь деревья с плотной корой и древесиной, не поддающимися мимолетному огню, и кустарники-скороспелки, на которых семена созревают еще до наступления первых дождей и первых пожаров.
Но разве обуздаешь разбушевавшийся огонь? Он выжигает в саванне земли куда больше, чем может обработать одна деревня. Из саванны пламя перебрасывается на леса и лесопарки. Там же, где пожар щадит лес, его нередко губит топор крестьянина. В районах с негустым травянистым покровом полученной на месте золы не хватает, и крестьяне валят лес на стороне, перетаскивают разрубленные стволы на поле и там сжигают их. Редчайшие породы деревьев — эбен и сапелли — превращаются в золу, которая всего лишь два-три года будет удобрять поля кассавы или кукурузы.
Опустошенная огнем саванна через несколько лет, когда человек забросит переставшие плодоносить поля, может восстановиться в своем прежнем виде, но погубленный лес умирает навсегда. Экваториальная гилея появилась в Восточной Африке в эпоху гораздо более влажного климата, чем теперь, и возобновиться в своем первозданном виде она уже не может.
Все это отнюдь не специфические проблемы Бурунди. Они актуальны для всей Тропической Африки. Становится ясным, что подсечно-огневая система ведет к непроизводительному разбазариванию естественных ресурсов и что расплачиваться за это в очень недалеком будущем придется дорогой ценой.
В Бурунди дело еще осложняется тем, что страна перенаселена. По плотности населения — около 200 человек на квадратный километр — она стоит на втором месте в Африке после соседней Руанды, а по площади территории она одна из самых маленьких на континенте. Половина ее площади — 1,4 миллиона гектаров — непригодна для сельскохозяйственной деятельности, а 90 процентов пригодных земель уже интенсивно обрабатываются. Таким образом, в стране практически нет свободных земель. Если же учесть, что среднегодовой прирост населения здесь составляет 2,7 процента, а по традиции каждый мужчина должен иметь по 10–12 детей, то проблемы «самой африканской республики» очевидны.
Уже сегодня подавляющее большинство семей барунди не могут найти на склонах холмов «среднеафриканские» 2,5 гектара под свои поля и вынуждены ограничиваться «среднебурундийским» наделом в 1,4 гектара. Половина мелких фермеров, однако, довольствуется клочками земли в полгектара и менее. Традиционная «экономика руго», таким образом, работает на пределе. Остается лишь удивляться трудолюбию крестьян-барунди, умудряющихся до сих пор обеспечивать себя пищей.
Ведь отвоеванное у саванны или леса поле, где не применяется ни севооборот, ни удобрения, дает урожай лишь три года. Чтобы эта земля восстановила плодородие, она должна пробыть в залежи пятнадцать лет. Таким образом, регулярно, через каждые три года, «средний» бурундийский крестьянин должен вновь выжигать саванну, осваивать новые 1,4 гектара. Нетрудно подсчитать, что при подобной системе земледелия каждой семье нужен земельный резерв минимум 7–8 гектаров. Если же потребуется увеличить экспорт продукции и в связи с этим расширить обрабатываемые площади, то сразу же возникает вопрос: где эти площади взять? Экстенсивная и крайне непродуктивная подсечно-огневая система родилась в те далекие времена, когда людей в Африке было мало, а свободных плодородных земель — много. Для перенаселенной Бурунди переложное земледелие делается все более и более непригодным.
Глава восемьдесят первая
Выход — в освоении «целины». — Обитатели холмов «нисходят» до обработки низменных равнин. — Первые кооперативы на берегу озера Танганьика. — Кофе господствует в экономике Бурунди совсем не потому, что его много производят. — Плантации хлопчатника в Имбо. — Чай взбирается по склонам Конго-Нильского водораздела. — Традиционная «экономика руго» в обрамлении товарных хозяйств долин. — Предприятия работают на местном сырье. — Залежи никеля мирового значения в ожидании ГЭС. — Столица в сердце Африки — «порт двух океанов». — Одна из пятнадцати не имеющих выхода к морю стран континента решает транспортные проблемы
Где выход? В Бужумбуре мне рассказывали, что видят его в освоении «бурундийской целины». Так называют долину Имбо, находящуюся между западными отрогами Конго-Нильского водораздельного хребта и восточным побережьем великого озера Танганьика. Расширяясь к северу, вверх по течению реки Рузизи, плодородная Имбо ближе к границе с Руандой превращается в плоскую равнину, осваивать которую привыкшие к холмам барунди до сих пор не решались. В результате именно здесь остались те 10 процентов, или целых 140 тысяч гектаров плодородных земель, которые крестьяне так и не распахали. И именно здесь, не разрушая и не подрывая «экономику руго», которая спасает страну от превратностей мирового капиталистического рынка, правительство намеревается интенсивно создавать укрупненные деревни. Государство также поощряет развитие кооперативов, которые будут содействовать тому, чтобы на смену первобытному переложному земледелию пришли современные методы ведения сельского хозяйства. Через кооперативы земледельцы и животноводы барунди получат квалифицированный совет, помощь техникой и удобрениями.
Сейчас товарные культуры занимают всего лишь 50 тысяч гектаров, или меньше 4 процентов обрабатываемых в стране площадей. Из них примерно две трети приходится на долю кофе, обеспечивающего 90 процентов экспортной выручки республики. Кофе — высокосортный «арабика», но урожаи его не превышают в год 30 тысяч тонн. Все эти цифры, сопоставленные одна с другой, говорят лишь об одном — о беспрецедентной даже для Африки слабости товарного сектора Бурунди. Кофе «господствует» в ее экономике формально: не потому, что Бурунди — страна «монокультуры кофе», а потому, что другие экспортные культуры выращиваются в этой стране в мизерных количествах. Положение, сложившееся в животноводстве, красноречивее всяких слов характеризуют такие цифры: при поголовье крупного рогатого скота в 800 тысяч голов страна производит 52 тысячи тонн молока. Иными словами, надои с одной иньямбо не превышают пол-литра в день.
В Имбо одновременно с освоением бурундийской целины идет создание современного товарного сектора национальной экономики. В долине прекрасные условия для выращивания хлопчатника: обилие солнца, жаркий климат, близость озера и реки, которые могут питать ирригационные каналы, несущие влагу на плантации «белого золота». Вслед за кофе хлопок должен стать главной статьей экспорта Бурунди. По склонам смотрящего на Танганьику хребта заложены первые плантации чая и хинного дерева. В противоположном, юго-восточном краю республики, в долине реки Малагараси, расширяются хозяйства, возделывающие сахарный тростник и арахис. Центральный район страны — ядро традиционной «экономики на холмах» — как бы оказывается в обрамлении современных товарных хозяйств, развивающихся в долинах.
Поставляемое ими сырье вызвало к жизни промышленность, обрабатывающую местную продукцию. Построена текстильная фабрика, выпускающая ткани из местного хлопка, появились сахарный, молочный и маслобойный заводы. У бельгийцев выкуплено 15 заводов по очистке кофе. Под контролем государства находится несколько хлопкоочистительных предприятий и чайных фабрик. Завершается строительство крупного сахарного комбината на границе с Танзанией, стекольного завода в Бужумбуре.
И наконец, о транспортных проблемах Бурунди — одной из полутора десятков африканских стран, за которыми в англоязычной литературе укоренился очень емкий эпитет «land-locked country» — «страна, запертая сушей». Республика, расположенная в самом сердце Африки, в центре африканского межозерья, не имеет собственных выходов к океану, своего «окна в мир».
Преодоление географического затворничества для государства, которое поставило свое будущее в зависимость от экспорта сельскохозяйственной продукции, — проблема первостепенная. В былые времена, когда Бельгия пристегнула Руанду-Урунди к своему главному владению — Конго, почти все экономические связи Бурунди осуществлялись по конголезским дорогам. Но сейчас республика сама вольна выбирать партнеров, и на смену политическим соображениям колонизаторов пришел экономический расчет независимой страны. Если раньше все экономические связи Бурунди шли через Атлантическое побережье, то теперь ее экономика повернулась лицом к Индийскому океану. Основной маршрут протяженностью 1425 километров начинается в порту Дар-эс-Салам. Отсюда грузы по танзанийской железной дороге перевозятся до пристани Кигома на берегу озера Танганьики; там они перегружаются на суда и следуют в Бужумбуру. Второй путь идет из кенийского порта Момбаса по железной дороге до Кампалы и далее — по угандийским и руандийским шоссе. Поддерживается и западный маршрут — по железным дорогам Заира, обрывающимся у берегов Танганьики. Оттуда грузы в Бужумбуру тоже доставляют на судах. Все это дает повод бурундийцам в шутку называть свою озерную столицу портом двух океанов.
В Бурунди нет ни одного километра железных дорог. Поэтому, для того чтобы не создавать трудностей при сношениях с внешним миром хотя бы на своей территории, правительство выделяет очень большие средства на строительство и ремонт шоссе, ведущих из Бужумбуры к границам республики, а также к районным центрам. Долгое время Бурунди критиковали за то, что она развивает инфраструктуру в ущерб сельскому хозяйству. Теперь целесообразность подобных затрат подтвердилась. Новые дороги помогают «самой африканской республике» преодолеть многовековое затворничество барунди, поддерживать связи с внешним миром, идти в ногу со временем…
Примечания
1
«Земной бродяга» — русский перевод названия английской автомашины «Лендровер» повышенной проходимости.
(обратно)2
Хозяин, господин (суахили).
(обратно)3
Гоминиды — семейство отряда приматов. В него помимо современных и ископаемых людей многие ученые включают также австралопитеков и других ископаемых двуногих высших приматов.
(обратно)4
Рас — военачальник.
(обратно)5
Охранник, проводник (суахили).
(обратно)6
Шамма — накидка с узкой цветной каемкой по двум длинным сторонам. Непременный элемент национальной одежды эфиопов.
(обратно)7
Крок — сокращенное разговорное название крокодила (англ.).
(обратно)8
Бегемот (англ.).
(обратно)9
Сарва — обобщенное название бушменских племен, распространенное у бантуязычных народов Южной Африки.
(обратно)10
Белые люди (суахили).
(обратно)11
Обряд дефлорации — ритуальная операция у многих африканских племен, приводящая к нарушению целостности девственной плевы.
(обратно)12
Вамзее — форма множественного числа от мзее: уважаемый, почтенный человек (суахили).
(обратно)13
Достопочтенный, уважаемый (суахили).
(обратно)14
Джандо — обрезание, составная часть обряда инициации (суахили).
(обратно)15
Поколение (суахили).
(обратно)16
Возможно, «включают» — прим. верст.
(обратно)17
Шитани — добрые духи, в существование которых верят маконде (киконде).
(обратно)18
Со — сокращенное от «сеньор» (народный мозамбикский вариант португальского языка).
(обратно)19
Чука — дождливый сезон (киконде).
(обратно)20
Иголи — кровать (киконде).
(обратно)21
ФРЕЛИМО — Фронт освобождения Мозамбика — движение, возглавившее вооруженную борьбу против португальских колонизаторов. На его основе в 1977 году создана Партия Фрелимо.
(обратно)22
Белые люди, но не португальцы (киконде, кияо).
(обратно)23
Португальцы (киконде, кияо).
(обратно)24
Миамбо — осветленные тропические леса.
(обратно)25
Голова (киконде).
(обратно)26
Слон (киконде).
(обратно)27
Сталь (суахили, киконде).
(обратно)28
Заинтересовавшихся более подробно этой проблемой можно отослать к книге Ю. М. Кобищанова «Северо-Восточная Африка в раннесредневековом мире», опубликованной в 1980 году издательством «Наука».
(обратно)29
Ваше императорское величество (амхара).
(обратно)30
Отец, духовное лицо (амхара).
(обратно)31
Более подробно познакомиться с этой захватывающе интересной страницей истории можно в опубликованной в 1967 году в Тбилиси книге В. Г. Мачарадзе «Грузинские документы из истории русско-грузинско-египетско-эфиопских отношений восьмидесятых годов XVIII века»
(обратно)32
Лодка (суахили).
(обратно)33
Навоз (суахили).
(обратно)34
Наставник, воспитатель, в современном понимании — учитель (суахили).
(обратно)35
Белый, европеец (суахили).
(обратно)36
Образованные люди, интеллигенция (суахили).
(обратно)37
Лавка, небольшой магазин (суахили).
(обратно)38
Дом (суахили).
(обратно)39
Хижина (суахили).
(обратно)40
Зажиточные люди (араб.).
(обратно)41
Кафедра с лесенкой, предназначенная для чтения Корана и проповедей (араб.).
(обратно)42
Интересно, что такой же титул официально носил первый президент Кении — Джомо Кениата.
(обратно)43
Госпожа, хозяйка (хинди, перс.).
(обратно)44
Молитвенная ниша в стене мечети.
(обратно)45
Здравствуй, бвана Мсуо! Я давно не видел вас (суахили).
(обратно)46
Здравствуй, мой друг! Я давно не видел тебя (суахили).
(обратно)47
Рыба (суахили).
(обратно)48
Остров Мозамбик (порт.).
(обратно)49
Лоренсу-Маркиш — так в колониальные времена называлась столица Мозамбика Мапуту.
(обратно)50
Долой (порт.).
(обратно)51
Алфабетизасао — термин, употребляемый в Мозамбике для обозначения кампании по ликвидации неграмотности (порт.).
(обратно)52
Ферст Рут — одна из ведущих деятельниц Африканского национального конгресса (АНК) Южной Африки, известный публицист, борец против апартеида. Погибла в Мапуту в августе 1982 года, вскрывая почтовую бандероль, в которую юаровскими спецслужбами было вложено взрывное устройство.
(обратно)53
Счастливого пути (порт.).
(обратно)54
Кафры — презрительное название «черного населения», распространенное среди белых южноафриканцев.
(обратно)55
«Красная мельница» (фр.).
(обратно)56
Друг (порт.).
(обратно)57
Собхуза II умер осенью 1982 года в возрасте 83 лет.
(обратно)58
Вероятно — арендатору — прим. верст.
(обратно)


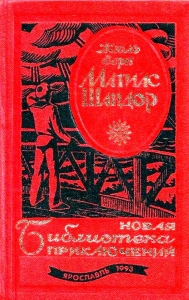
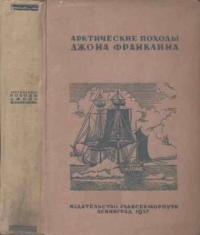
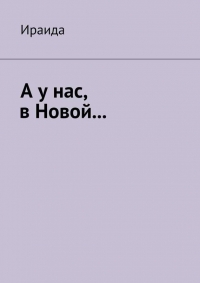
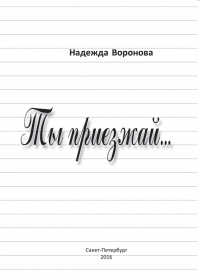
Комментарии к книге «Черный феникс. Африканское сафари», Сергей Федорович Кулик
Всего 0 комментариев