НА БЕРЕГУ КРАСНАГО МОРЯ Изъ путешествія по синайской пустынѣ
I
Болѣе двухъ недѣль я былъ уже въ странѣ пирамидъ и успѣлъ достаточно ознакомиться съ Нижнимъ Египтомъ. Страна древнѣйшей въ мірѣ цивилизаціи въ настоящее время представляетъ изумительную смѣсь, въ которой очень странно соединяется культура востока съ ея оригинальными особенностями и культура міровая — европейская, и надъ обѣими гордо высятся до сихъ поръ дивные памятники исчезнувшаго съ лица народа. Путешественникъ, впервые посѣщающій Египетъ, сначала пораженъ контрастами, но наконецъ привыкаетъ видѣть и полудикаго араба, слушающаго военную музыку чалмоносцевъ, исполняющихъ творенія великихъ артистовъ въ скверѣ Магомета Али въ Александріи, и телеграфные и телефонные столбы рядомъ съ полуобнаженнымъ феллахомъ, поливающимъ свое рисовое поле по способамъ древнихъ египтянъ, вѣчныя пирамиды почти рядомъ со станціею желѣзной дороги, и пароходы англійской конструкціи, везущіе по священному Нилу муміи знаменитыхъ царей древняго Египта. Александрія — городъ европейскій въ полномъ смыслѣ этого слова; Каиръ имѣетъ европейскую часть города, не переставая быть столицею Востока, красоваться 400 дивными мечетями и быть въ глазахъ правовѣрнаго истинно-великимъ царственнымъ городомъ — Эль Масръ, какъ его называютъ арабы. Но дальше постепенно передъ глазами путешественника встаетъ Египетъ мусульманскій, Египетъ арабовъ, феллаховъ, "Египетъ для Египта", какъ любятъ выражаться египетскіе патріоты. Еще пароходы, бороздящіе священный Нилъ на цѣлыя полторы тысячи верстъ вверхъ, напоминаютъ о европейской цивилизаціи, но на берегахъ — развалины Мемфиса, Ѳивъ и свободныя жилища феллаховъ переносятъ насъ въ другой невѣдомый міръ.
Я посѣтилъ Каиръ, развалины Мемфиса и Геліополиса, знаменитые сады Шубра и Булака, взлѣзалъ на верхушки пирамидъ Гизеха, на одной изъ которыхъ, извѣстной всему міру, въ мое время былъ сервированъ обѣдъ для нѣсколькихъ англичанъ; но все это не удовлетворяло меня — ко всему еще прикасалась рука европейца. Не были дѣвственны даже памятники древняго Египта; катакомбы Александріи на своихъ стѣнахъ украшены именами посѣщавшихъ европейцевъ; эти надписи, профанирующія древность, красуются и на верхушкахъ пирамидъ и внутри ихъ, у гробницъ царей и царицъ древняго Кеми и на обелискѣ Геліополиса, и на колоннѣ Помпея, и на носу у таинственнаго сфинкса, и на развалинахъ Ѳивъ и Мемфиса, словомъ вездѣ, куда ни проникала святотатственная нога туриста. Поле мумій и мѣсто древняго Мемфиса теперь распахивается французомъ-колонистомъ, гіероглифическіе камни идутъ на фундаменты жалкихъ хижинъ феллаховъ, изъ остатковъ египетскихъ храмовъ ставятъ тумбы; былъ проектъ даже огородитъ памятники Египта и брать плату за входъ въ эту ограду. Но довольно объ этой профанаціи древности; теперь путешественникъ едва ли найдетъ что-нибудь нетронутое въ Египтѣ изъ остатковъ древности; даже кости изъ пещеръ Синайскаго полуострова, заключающія драгоцѣнные останки для антропологіи каменистой Аравіи, вывозятся на мыльныя фабрики Нижняго Египта.
Путешественникъ, неудовлетворенный Египтомъ, стремится пробраться въ мѣста болѣе привольныя, мѣста, куда не проникла еще промышленная цивилизація и гдѣ природа является во всемъ своемъ дикомъ величіи, храня въ дебряхъ своихъ горъ и пустыни драгоцѣнные архаическіе памятники исчезнувшей древней цивилизаціи. Отъ Египта недалеко такая страна; она лежитъ какъ разъ на порогѣ, гдѣ кончается его показная цивилизація. Отъ Каира до Суэца идетъ желѣзная дорога; черезъ Суэцъ, стоящій у воротъ канала, идутъ корабли всего міра; здѣсь европейская цивилизація, заявившая себя колоссальнымъ подвигомъ — разрушеніемъ моста между Африкою и Европою, остановилась на время, а на востокъ отъ Суэцскаго канала тянутся огромныя пустыни и горныя дебри каменистой Аравіи и Суэцскаго перешейка. Эти нынѣ пустынныя страны были знамениты въ древности; черезъ перешеекъ шла вся тогдашняя міровая торговля, тутъ пролегалъ и сухопутный трактъ изъ Мемфиса въ Индію; въ гаваняхъ каменистой Аравіи шло оживленное движеніе финикійскаго торга съ Египтомъ, Африкою и Аравіею, черезъ перешеекъ двигались завоеватели и цѣлые народы, тутъ разыгрывались колоссальныя драмы исторіи древняго Египта и Сиріи. Тутъ совершались и тѣ событія, съ которыми знакомъ всякій изъ библейской исторіи. Изученіе этой страны интересно и поучительно во всѣхъ отношеніяхъ… Жатва великая, но дѣлателей мало…
Географъ, геологъ, этнографъ, археологъ и антропологъ найдетъ въ пустыняхъ Синайскаго полуострова столько интереснаго матеріала, что его достанетъ на нѣсколько поколѣній изслѣдователей; развалины древнихъ городовъ каменистой Аравіи, торговавшихъ съ Египтомъ, Сиріею, Аравіею и Индіею, важны не для одного археолога, а странная смѣсь горъ всевозможнаго строенія, пустынь и райскихъ оазисовъ на небольшомъ пространствѣ, можетъ объяснить многое въ этнографіи страны, географія и геологія которой представляютъ такъ много для рѣшенія самыхъ важныхъ антропологическихъ вопросовъ о первобытныхъ переселеніяхъ изъ Азіи въ Африку и наоборотъ.
Такой разнообразный интересъ изученія этой страны привлекъ и наше вниманіе; мы рѣшились ознакомиться съ ней, насколько было возможно, и для того рѣшили проѣхать черезъ всю каменистую Аравію, придерживаясь мѣстъ, наименѣе посѣщаемыхъ путешественниками. Здѣсь не мѣсто излагать результаты нашего изученія, это цѣль другого, болѣе спеціальнаго очерка; — мы передадимъ здѣсь только путевыя впечатлѣнія и встрѣчи и то не всей дороги, а самой интересной въ этомъ отношеніи части нашего путешествія.
Путь нашъ черезъ кменистую Аравію лежалъ черезъ Суэцъ, Синай и Акабу, откуда мы думали пройти черезъ Хевронъ въ Іерусалимъ. Приблизительно мы намѣтили себѣ тотъ путь, которымъ пробирались нѣкогда и евреи изъ Египта въ землю обетованную, съ той только разницею, что мы должны были пройти всю дорогу въ нѣсколько недѣль, тогда какъ израильтяне дошли едва въ 40 лѣтъ.
Благодаря нѣкоторымъ бумагамъ, которыя всегда хорошо имѣть съ собою въ дорогѣ, особенно русскому, мы получили при посредствѣ русскаго генеральнаго консула въ Египтѣ рекомендательныя письма къ консульскимъ агентамъ въ Суэцъ и Раифу, а также и къ нѣкоторымъ турецкимъ властямъ. Подобныя бумаги на Востокѣ, какъ и у насъ въ Россіи, имѣютъ огромное значеніе; забѣгая нѣсколько впередъ, мы скажемъ, что въ Эль-Аришѣ, напримѣръ, насъ пропустили даже черезъ холерный карантинъ только потому, что мы показали бумажку отъ какого-то вліятельнаго паши. Пріѣхавши въ Суэцъ, мы при помощи усерднаго консульскаго агента наняли верблюдовъ прямо въ Іерусалимъ и трехъ вооруженныхъ проводниковъ: Юзу — хозяина четырехъ верблюдовъ нашего каравана, Ахмеда — проводника, спеціально для восточной части Синайскаго полуострова, обѣщавшаго вести насъ по такимъ тропинкамъ, которыя одному ему извѣстны, и Рашида — извѣстнаго храбреца, клявшагося своею головою, что онъ доставитъ насъ невредимыми въ Іерусалимъ.
Портреты нашихъ спутниковъ описывать много нечего; все это были коренастые ребята изъ различныхъ арабскихъ племенъ, способные на всякую штуку и вооруженные съ головы до ногъ. До Синая эта предосторожность можетъ быть излишнею, но до того, кто думаетъ пробираться далѣе на Акабу или Газу, не мѣшаетъ захватить побольше револьверовъ, которыхъ арабы боятся пуще огня. Насъ, по крайней мѣрѣ, револьверы выручили изъ большой бѣды, о чемъ скажемъ впослѣдствіи.
Снарядившись совсѣмъ, мы накупили провизіи, наполнили свои мѣшки водою и вышли изъ Суэца 22 мая подъ вечеръ. Переправившись черезъ бухту суэцкаго залива, тамъ гдѣ, предполагается, была и переправа евреевъ черезъ Красное море, мы были уже въ пустынѣ…
Синайскій полуостровъ представляетъ собою треугольное пространство, примыкающее къ пустынямъ Суэцскаго перешейка и омываемое съ двухъ сторонъ двумя заливами Чермнаго моря — Акабинскимъ и Суэцскимъ, обхватывающими его какъ руками. Весь полуостровъ наполненъ массою безпорядочно разбросанныхъ горныхъ цѣпей различной формаціи и отдѣльныхъ пиковъ, между которыми проходятъ узкія долины, называемыя арабами «уади»; нѣкоторыя изъ этихъ уади представляются оазисами; большинство же ихъ мертво какъ и окружающая ихъ пустыня. Со всѣхъ трехъ сторонъ полуостровъ замыкается горами. На сѣверѣ его отдѣляетъ отъ пустыни перешейка кряжъ Этъ-Тиха, тянущійся черезъ весь полуостровъ; на западѣ въ нѣкоторомъ отдаленіи отъ моря проходитъ кряжъ Эль-Раха, а по восточному берегу полуострова идетъ прибрежная Акабинская цѣпь. Главный узелъ всѣхъ цѣпей и горъ каменистой Аравіи составляютъ гори Синайскія, изъ которыхъ отдѣльными громадами высятся: Джебель Муса, Хоривъ, пикъ св. Екатерины, Сербаль и Фурейа. Съ вершинъ этихъ горъ можно обозрѣвать всю панораму полуострова… У подножья Джебель-Мусы показалась гробница шейха Салиха, святого, наиболѣе уважаемаго арабами Синайскаго полуострова. Съ обѣихъ сторонъ нашего пути стояли огромныя скалы болѣе тысячи футовъ вышиною; казалось, мы ѣхали между темными каменными стѣнами, такъ какъ многія скалы имѣли крутые отвѣсы; глазъ терялся въ этой массѣ дикаго мраморнаго камня, не оживленнаго ни одною зеленою травинкою, ни однимъ пернатымъ существомъ; только огромныя ящерицы и трехфутовыя змѣи прятались въ каменныя норы при видѣ нашего каравана, бодро шедшаго по извилистымъ тропамъ змѣящейся уади, усѣяннымъ множествомъ камней. Около полудня мы достигли подножья огромной Фурейа, около которой мы и сдѣлали первый привалъ и ночлегъ, надѣясь осмотрѣть хорошенько до вечера его многочисленныя пещеры. Отдохнувши и оставивъ верблюдовъ на попеченіе Юзи, мы съ Ахмедомъ и Рашидомъ отправились на поиски.
Мы цѣплялись на кручи Фурейа, осматривали русла ея зимнихъ потоковъ, поднимали камни, высматривали пещеры, и судьба наградила насъ нѣсколькими находками каменныхъ орудій. Поотставъ немного отъ товарищей, я забрался въ дикое ущелье, которое со всѣхъ сторонъ замыкалось гранитными скалами. Въ одномъ мѣстѣ его вела какъ бы тропинка на вершину Фурейа; я попытался въ полчаса сдѣлать этотъ подъемъ, но, увидавъ, что вершины не достигнуть до наступленія темноты, я остановился и съ трепетаніемъ сердца взглянулъ внизъ и на все окружающее. Я стоялъ одинъ среди великановъ синайскихъ горъ, направо и на лѣво поднимались кручи Фурейа, впереди и сзади открывалась панорама на весь Синайскій полуостровъ, выше меня было одно безоблачное небо, да горный орелъ каменистой пустыни; ниже голыя верхушки громадъ, окружающихъ синайскій горный узелъ. Это собраніе огромныхъ скалъ, пиковъ, горнихъ вершинъ во всѣ стороны опускалось отлого и переходило незамѣтно отъ темнаго цвѣта камня къ желтоватымъ пескамъ пустыни, которая въ сѣверу замыкалась зубчатою стѣною Этъ-Тиха, а къ югу, востоку и западу сливалась съ поверхностями двухъ прекраснѣйшихъ заливовъ, за которыми высились неровныя цѣпи верхняго Египта и собственной Аравіи.
Глазъ не хотѣлъ оторваться отъ этого зрѣлища; ширина, даль и глубина видимаго пространства очаровывали его; какъ-то невольно глазъ перебѣгалъ съ одного края горизонта на другой, перспектива забывалась: море какъ будто плескалось у самыхъ ногъ, пустыня охватывала своимъ просторомъ и замыкала въ своихъ зыбкихъ пескахъ каменные громады, съ пріютившимся на нихъ путникомъ, надъ которымъ было одно небо и котораго не видѣлъ ни одинъ глазъ человѣческій…
Я приготовился уже сойти внизъ по той же тропѣ, которою и поднялся, какъ передъ глазами моими промелькнули рѣзкія очертанія синайскихъ надписей, высѣченныя на стѣнѣ, запиравшей обратный путъ. Невольно, мой взглядъ остановился на этихъ таинственныхъ письменахъ, для которыхъ еще не нашлось Шампольона. Кто не слыхалъ объ этихъ надписяхъ, тотъ не можетъ себѣ и представить, какое ощущеніе объемлетъ человѣка, стоящаго лицомъ къ лицу съ непонятными іероглифами, выражающими мысли и слова давно исчезнувшихъ людей. Синайскія надписи я встрѣчалъ уже не въ первый разъ; ихъ видѣлъ я много въ своемъ путешествіи къ Синаю; всѣ дороги къ монастырю, особенно западныя, на своихъ скалахъ носятъ изсѣченные таинственные знаки, буквы и іероглифы, въ значеніе которыхъ напрасно пытались проникнуть Линанъ, Нибуръ, Робинзонъ и др. Особенно много ихъ въ долинѣ Феране и Моккатеба; послѣдняя уади даже носитъ названіе исписанной, по множеству іероглифовъ, покрывающихъ ея стѣны. На Фурейа я встрѣтилъ эти надписи уже въ послѣдній разъ и все-таки не могъ удержаться отъ того, чтобы не увлечься ими въ десятый разъ и не простоять съ полчаса, ломая голову надъ разборомъ этихъ таинственныхъ начертаній. Эти разнообразные, подчасъ причудливые знаки, изображающіе то животныхъ, то людей, то предметы, то представляющіе подобіе съ іероглифами Египта, то съ литтерами финикіянъ и евреевъ, то съ греческими буквами заманили не одного путешественника заняться разборомъ ихъ, но не давая ключа къ ихъ разъясненію. Напрасно нѣкоторые приписывали ихъ происхожденіе древнѣйшимъ обитателямъ каменистой Аравіи, даже евреямъ, напрасно другіе видѣли въ нихъ письма финикіянъ, напрасно третьи придумывали еще болѣе мудреное ихъ происхожденіе — всѣ эти догадки не помогали дѣлу. Намъ кажетея, что и тѣ, кто приписываетъ начертаніе надписей паломникамъ различныхъ націй, далеко не достигли истины, — ключа къ нимъ пока еще не найдено.
Болѣе полчаса простоялъ я передъ скалою, испещренною таинственными начертаніями, потомъ, бросивъ на нихъ послѣдній вопросительный взглядъ, началъ спускаться. Трудно было подниматься, но спускъ былъ еще труднѣе; камни валились подъ ногами, нога не держалась на камнѣ, мѣстами какъ бы отполированномъ, рукамъ не за что было ухватиться. Не надѣясь спуститься собственными силами, я сдѣлалъ призывной выстрѣлъ, требующій помощи, и на мой призывъ отозвалась двухстволка Ахмеда, спѣшившаго мнѣ на помощь.
Въ ожиданіи Ахмеда я присѣлъ и сталъ любоваться видомъ, разстилавшимся у меня подъ ногами и принимавшимъ особенно дикій колоритъ при быстро наступающемъ сумракѣ вечера; я уже не видѣлъ ничего ни сзади, ни съ боковъ, потому что съ трехъ сторонъ меня окружали черныя стѣны, только впереди и книзу разстилалось огромное пространство, загроможденное какъ бы умышленно разбросанными безъ порядка каменными громадами; мнѣ казалось, что я сидѣлъ на краю пропасти, потому что внизу дѣйствительно ничего уже не было видно. Вдали передо мною кругомъ на горизонтѣ рисовались силуэты горъ, зубчатыя вершины которыхъ поднимали, какъ миѳическіе исполины, свои побѣдныя головы, украшенныя вмѣсто вѣнцовъ группами камней, вѣнчающихъ тени каменныхъ громадъ. Кругомъ не шелохнется; ни звука, ни шума въ мертвой каменной пустынѣ… Только слышится порою внизу шорохъ да грохоть скатывающагося камня, — то Ахмедъ пробирается по крутому свату горы, испуская по временамъ призывные звуки… Между тѣмъ уже совершенно стемнѣло и темно-голубая синева неба заискрилась тысячами золотыхъ звѣздъ. Чистота воздуха въ пустынѣ изумительна; даже въ темнотѣ виднѣются далекія очертанія горъ, замыкающихъ горизонтъ, а на небесномъ сводѣ звѣзды горятъ ярко, но не мерцаютъ какъ на туманномъ небѣ сѣвера. Здѣсь въ пустынѣ, лишенной всякаго признака растительности, не имѣющей ни одной рѣченки, ни одной лужицы при безконечной сухости и чистотѣ воздуха — это слабое мерцаніе звѣздъ какъ бы подтверждаетъ предположеніе Монтиньи, что мерцаніе звѣздъ обусловливается извѣстною степенью влажности атмосферы при извѣстной температурѣ. Въ пустыняхъ Синайской и Іудейской, какъ мнѣ не разъ приходилось замѣчать, его мерцаніе слабо; надъ моремъ оно дѣлалось сильнѣе; въ Черномъ морѣ звѣзды мерцаютъ сильнѣе, чѣмъ въ Средиземномъ; надъ сонною поверхностью Мертваго моря, такъ же какъ и въ окружающей пустынѣ, мерцаніе гораздо слабѣе. Человѣкъ, которому приходятся недѣлями проводить ночи подъ открытымъ небомъ, привыкаетъ смотрѣть на небо; ему многое дѣлается замѣтнымъ даже безъ помощи инструментовъ.
— Эффенди! — произнесъ Ахмедъ, показываясь у моихъ ногъ съ неизмѣнною двухстволкою на плечѣ и широкимъ ятаганомъ за поясомъ, — пойдемъ внизъ, Юза приготовилъ уже давно ужинъ; корабли пустыни спятъ подъ защитою тѣни шейха Салиха. — Машинально я побрелъ за Ахмедомъ, который бойко началъ снова спускаться, извиваясь какъ змѣя, когда ему приходилось пробираться между камнями; двухстволка его служила для меня значкомъ, по которому я правилъ путь.
— Здѣсь, эффенди, — говорилъ мой спутникъ, — черный джинъ (злой духъ), Аллахъ да проклянетъ его, строилъ себѣ дворецъ; довелъ его уже до вершины, поставилъ кіоски по угламъ и украсилъ человѣческими головами тѣхъ путниковъ, что погибли въ пустынѣ отъ зноя и песчанаго дождя; но Аллахъ разбилъ молніею строеніе горнаго джина и раскидалъ громомъ камни дворца и мертвыя головы — его украшенія.
Много чего еще разсказывалъ Ахмедъ не дорогѣ, пока мы не пришли къ своему становищу. Тамъ наскоро закусивъ, мы закрылись съ головами и уснули на неровной каменистой поверхности Уади Шейхъ, служившей для насъ постелью.
Весь слѣдующій день мы блуждали по Рамлейской пустынѣ, покинувъ каменистую Уади, не будучи въ состояніи найти дорогу къ Красному морю. Ахмедъ ошибся въ разсчетахъ на свою память и мы изъяли направленіе болѣе сѣверное, вмѣсто восточнаго. И вообще не весело странствіе въ пустынѣ, но блуждать по ней, отыскивая дорогу, еще скучнѣе. Послѣ хорошаго отдыха въ Синайскомъ монастырѣ мы были еще бодры, провизіи было пока достаточно; на сѣверныхъ склонахъ горъ, замыкающихъ песчаную степь, я находилъ кое-что интереснаго для себя и потому не замѣчалъ ни страшнаго жара, ни головной боли, вода была еще не испорчена и жажда утолялась ею порядочно; а утоленіемъ жажды поддерживалась и бодрость духа. Послѣ полудня, однако, бодрость начала покидать насъ, особенно послѣ того какъ мы замѣтили, что въ возлѣ нашихъ бурдюковъ показались какіе-то клочья, и что вода сильно уменьшилась въ количествѣ отъ испаренія и употребленія. Дорога по пустынѣ стала утомлять; сильное утомленіе глазъ отъ блеска отражаемыхъ лучей, чувство сухости въ горлѣ и непріятная перспектива заночевать, не найдя дороги, привели насъ въ нехорошее расположеніе духа. Всѣ мы бранили Ахмеда, взявшагося вести по новой дорогѣ и забывшаго ее направленіе. Ахмедъ былъ мраченъ и молча шелъ впереди своего верблюда. Караванъ нашъ былъ къ вечеру похожъ на погребальное шествіе. Но вдругъ глаза у Ахмеда заблистали отъ радости, онъ махнулъ рукой направо и поворотилъ своего верблюда. Всѣ мы послѣдовали его примѣру. Черезъ полчаса мы вошли въ узкую тѣснину, скалы которой оставляли едва проходимую для верблюда тропинку; она стала мало-по-малу расширяться, стѣны отходить въ сторону и мы къ 8 часамъ вечера вошли въ уади Цугерахъ, ведущую прямо къ морю черезъ Акабинскую береговую цѣпь. Всѣ мы ожили духомъ…
Я приказалъ каравану остановиться у круга камней съ плитою посерединѣ, на которой думалъ устроиться на ночь и готовить ужинъ; самъ же съ Ахмедомъ пошелъ бродить по каменистой уади и разминать свои члены, утомленные шаткою ѣздою на верблюдѣ, лазавшемъ по горнымъ кручамъ уади… Хорошею тихою ночью гулялось хорошо и мы, только порядочно утомившись, воротились къ своему огоньку, гдѣ всѣ члены нашей экспедиціи уже мирно отдыхали.
Наше становище мнѣ показалось очень уютнымъ; четыре верблюда стояли на каменной оградой какъ внутри сарая, а плита, на которой постлано было мое походное пальто, казалась хорошею постелью; у изголовья ея искрился маленькій костерокъ изъ навозу и нѣсколькихъ сучковъ, которые мы уже везли съ собою болѣе 100 верстъ съ самой уади Феранъ. На огонькѣ Юза старался превратить отвратительную воду изъ козьяго бурдюка при помощи вина въ нѣкій возможный для употребленія напитокъ, а также размочить въ горячей водѣ окаменѣвшіе синайскіе хлѣбцы, чтобы ихъ можно было раскусить и съѣсть съ солеными оливками. Я занялъ свое предсѣдательское мѣсто на разостланномъ пальто среди своихъ спутниковъ и началъ ужинъ. Все было скверно, отвратительно: и эти хлѣбцы, размоченные въ протухшей теплой водѣ, и красноватая бурда, которую Юза величалъ "джай московь" по воспоминанію о чаѣ, распитомъ нами въ Суэцѣ, Раифѣ и Синаѣ, и эти прѣлыя оливки; но голодъ приправилъ ихъ вкусъ и мы съѣли свои порціи, закусивъ вмѣсто десерта сладкими финиками. Послѣ ужина мы потушили костеръ, собравъ остатки драгоцѣннаго топлива въ корзину, и, завернувшись въ свои бурнусы, улеглись спать. Не прошло и десяти минутъ какъ Юза и Ахмедъ уснули; не спалъ только я да Рашидъ, мой тѣлохранитель и оруженосецъ. Становилось довольно свѣжо; по направленію съ моря тянулъ легенькій береговой вѣтерокъ; я не спускалъ глазъ съ голубого неба, какъ бы стараясь постигнуть тайны его безчисленныхъ міровъ. Мое сладкое поэтическое раздумье перебилъ Рашидъ очень непріятнымъ для меня вопросомъ. — Не слышитъ ли чего-нибудь эффенди, отъ моря? — спрашивалъ мой кавасъ. — Ничего пока, — отвѣчалъ я, хотя мнѣ и показалось, что какъ будто камень и почва передаютъ звуки отъ вдали топочущихъ коней или бѣгущихъ рысью верблюдовъ. — Пусть спитъ эффенди, Рашидъ будетъ караулить всю ночь, — добавилъ мой тѣлохранитель и привсталъ, завертываясь плотнѣе въ бурнусъ. Темный силуэтъ караулящаго Рашида всталъ передъ моими глазами и затемнилъ яркое созвѣздіе Плеядъ, на которое я только что любовался. Прошло еще съ часъ; Рашидъ сидѣлъ, какъ каменная статуя, верблюды слегка фыркали во снѣ, гдѣ-то не вдалекѣ слышался пронзительный вой гіены, которой уже я не слыхалъ съ того времени, какъ покинулъ берега священнаго Нила. Я началъ уже засыпать, какъ сквозь сонъ послышалъ, что кто-то идетъ мимо меня… Я открылъ глаза; Рашида не было на мѣстѣ; осторожно поднявшись, я увидѣлъ, что онъ ползетъ между камнями по склону горы вверхъ, постоянно прислушиваясь. Что-нибудь да почуялъ Рашидъ, уже не арабовъ ли пустыни? я при этой мысли морозъ пробѣжалъ по моей кожѣ, потому что я по опыту уже зналъ, что съ сынами пустыни нельзя обращаться какъ съ арабами Нижняго Египта. Съ трепетомъ въ сердцѣ я сѣлъ на прежнее мѣсто и сталъ обдумывать свое положеніе. Я припомнилъ тогда совѣты консула, синайскихъ старцевъ и другихъ опытныхъ людей не пускаться черезъ пустыню, потому что арабы не совсѣмъ-то спокойны. Что теперь будетъ съ нами, если на нашъ крошечный караванъ нападетъ цѣлое племя арабовъ пустыни? Что могли сдѣлать четыре, хотя и вооруженные съ головы до ногъ человѣка противъ многихъ десятковъ? Мы могли, правда, сопротивляться, продать дорого свою жизнь, если мои спутники согласятся умереть за меня, но все это будетъ безполезно… Такой исходъ не утѣшалъ меня, только-что пустившагося въ первое серьезное путешествіе, и я искалъ другихъ выходовъ, но ихъ не представлялось. Ни одарить, ни заплатить арабамъ за пропускъ я не былъ въ состояніи, а это было единственнымъ, лучшимъ исходомъ… Между тѣмъ Рашидъ вернулся; на его лицѣ нельзя было прочитать ни тѣни безпокойства. — Куда ты ходилъ, Рашидъ? — спросилъ я его. — Ходилъ по слѣдамъ газели, эффенди, — отвѣчалъ онъ спокойно. Этотъ отвѣтъ успокоилъ меня, и я скоро, закутавшись въ бурнусъ, заснулъ богатырскимъ сномъ; мнѣ мерещилось сквозь сонъ, что Рашидъ еще разъ вставалъ и ходилъ куда-то, но усталость взяла свое и мнѣ сладко спалось подъ фырканье верблюдовъ и вой полосатой гіевы.
II
Когда я открылъ глаза, солнце стояло уже довольно высоко; часы показывали шесть, Реомюръ +25, а успѣвшіе уже нагрѣться скалы уади Цугерахъ отражали такую лучистую теплоту, что оставаться долѣе въ этой раскаленной каменной печи было невозможно, тѣмъ болѣе, что и плита, вокругъ которой мы расположились, была совершенно горяча. Наскоро мы закусили, напились бурды — "джая москова", отъ которой меня на тощакъ едва не стошнило, и начали нагрузку верблюдовъ, чѣмъ занимался преимущественно Юза — хозяинъ животныхъ и проводникъ, а Ахмедъ и Рашидъ, собственно мои тѣлохранители, только помогали ему. Послушныя животныя по одному зову хозяина подошли и стали на колѣни; по другому, нагруженные кладью и нашими особами, поднялись, и небольшей караванъ нашъ тронулся далѣе на востокъ по уади Цугерахъ. Вскорѣ передъ нами выросла цѣпь береговыхъ горъ въ двѣ или въ двѣ съ половиной тысячи футовъ высотою, за которыми скрывался Акабинскій заливъ. Не доходя до нея, по словамъ Ахмеда, находилась пещера Судебъ, наполненная костями, и источникъ сладкой воды. Туда мы и направлялись, потому что въ бурдюкахъ нашихъ воды оставалось немного, да и та была сомнительнаго достоинства. Скучна и утомительна ѣзда на верблюдѣ въ пустынѣ, сидишь, какъ привязанный, и покачиваешься; напрасно многіе хвалятъ ощущеніе, получаемое отъ легкой тряски, происходящей на каждомъ шагѣ огромнаго животнаго. Быть можетъ, оно и пріятно въ первое время ѣзды на верблюдѣ, но я не испыталъ его даже въ первые дни своего путешествія по пустынѣ; когда же приходится проводить на верблюдѣ по 12 и по 15 часовъ въ день, и такъ идти цѣлыми недѣлями, то эта ѣзда становится настоящею пыткою, особенно при тѣхъ условіяхъ, при какихъ обыкновенно европейскіе путешественники пользуются верблюдомъ, то-есть при переходѣ черезъ пустыню. Сидишь съ боку горба или на самомъ горбѣ въ массѣ упряжи и багажа, всегда болѣе или менѣе прикрѣпленный, чтобы не упасть при тряской ѣздѣ, да считаешь шаги животнаго, потому что для глаза нѣтъ ничего утѣшительнаго, въ головѣ нѣтъ ни одной мысли, въ членахъ нѣтъ даже желанія двигаться… такъ и кажется, то составляешь одно цѣлое съ кораблемъ пустыни, потому что слѣдуешь за каждымъ движеніемъ его огромнаго тѣла безъ сопротивленія, даже безъ желанія удержаться… А сверху и съ боковъ въ это время палитъ невыносимо; человѣкъ на верблюдѣ представляетъ высшую точку въ пустынѣ; кругомъ его, если только на горизонтѣ не вырисовываются безжизненныя каменныя громады, идетъ одна безконечная поверхность сыпучаго песку; глазъ тонетъ въ этомъ песчаномъ морѣ; бѣловатый и желтовато-красный цвѣтъ, отражаемый песками пустыни, производить до того утомляющее ощущеніе на сѣтчатую оболочку глаза, что онъ закрывается непроизвольно. Нѣтъ и для уха ни одного звука, кромѣ легкаго шлепанья мозолистыхъ ногъ верблюда о почву; кругомъ все безмолвно, мертво, все гармонируетъ съ пустынею — этою мертвою частью природы. Даже непріятно дѣйствуетъ въ пустынѣ среди мертвой тишины какой-нибудь посторонній звукъ; ухо привыкаетъ до того къ однообразной, мертвой тишинѣ, что даже звуки собственнаго голоса, а тѣмъ болѣе разговоръ спутниковъ начинаютъ казаться какой-то дисгармоніей, чѣмъ-то не свойственнымъ пустынѣ; мало-по-малу достигаешь совершенно самоощущенія арабовъ, которые могутъ ѣхать цѣлыми сутками на верблюдахъ, храня гробовое молчаніе, погрузясь въ полное самоуглубленіе. Чувствуешь, что тѣло твое требуетъ абсолютнаго покоя, что ни одна мышечная фибра не способна двигаться, что ни одна мысль не способна народиться въ головѣ, распаляемой жгучими лучами солнца, такъ и кажется, что самый мозгъ принимаетъ болѣе жидкую консистенцію, размягчаясь отъ ужасающаго жара пустыни. Сверху и съ боковъ налитъ аравійское солнце, снизу обдаетъ жаромъ, отражающимся отъ горячаго песку, какъ изъ раскаленной печи; внутри палитъ внутренній жаръ, изсушающій все тѣло, томитъ смертельная жажда, а въ перспективѣ ни сегодня, ни завтра ни малѣйшей тѣни, ни глотка свѣжей воды. Въ этомъ ужасномъ положеніи ничего не чувствуешь, ничего не думаешь, ни къ чему не стремишься; это своего рода буддійская нирвана, пожалуй своего рода блаженство, но за которымъ слѣдуетъ смерть.
Въ такомъ почти состояніи пришелъ я, по крайней мѣрѣ, къ подножію приморскихъ пальмъ Акабинскаго залива. Начали мы идти легкимъ склономъ, потомъ пробираться по крутизнамъ, едва доступнымъ для осла или мула, но никакъ не для верблюда, пробираться по узкимъ тропамъ надъ обрывами, гдѣ одинъ невѣрный шагъ можетъ стоить жизни; до всего этого мнѣ было мало дѣла, потому что я погрузился въ нирвану. Не выводили меня изъ этого полусоннаго состоянія ни крики моихъ спутниковъ, подбадривавшихъ верблюдовъ, ни фырканье животныхъ, неохотно ступавшихъ по непривычной горной дорогѣ, ни грохотъ катившихся подъ нашими ногами камней. Юза, обыкновенно ѣхавшій впереди, когда вступили на горную дорогу, отдалъ свое мѣсто Ахмеду, который шелъ пѣшкомъ, отыскивая дорогу между нагроможденными безпорядочно камнями. Рашидъ также скоро слѣзъ съ верблюда и шелъ, постоянно прислушиваясь; эта предосторожность сегодня не пугала меня, какъ въ ночь, а доставляла своего рода наслажденіе; было, по крайней мѣрѣ, и что смотрѣть… такъ мы шли до полудня, когда жара достигла высшаго предѣла… Ѣхать между каменными стѣнами было совершенно невозможно, потому что ощущеніе, испытываемое нами, рѣшительно можно было сравнить съ ощущеніемъ отъ раскаленной печи. Да и видъ этихъ каменныхъ громадъ, потемнѣвшихъ и черныхъ мѣстами, такъ и напоминалъ закоптелыя и обожженныя стѣны печи. Вдругъ Рашидъ остановился и махнулъ рукою, давая знакъ Юзѣ остановиться. Передній верблюдъ остановился подъ могучею рукою Юзы; другіе послѣдовали примѣру передового. Внезапная остановка вывела и меня имъ полусоннаго состоянія. — Эффенди, — произнесъ Рашидъ таинственно, подходя ко мнѣ,— я слышу арабовъ пустыни; у нихъ много верблюдовъ; надо быть храбрымъ и приготовить наши ятаганы. Не хочетъ ли эффенди прислушаться? — Я сталъ напрягать свой уснувшій слухъ, и дѣйствительно не вдалекѣ отъ насъ слышался топотъ идущаго каравана; я взглянулъ вопросительно на моихъ людей, какъ бы спрашивая у нихъ совѣта, что предпринять, потому что мой умъ не могъ работать вовсе. Рашидъ съ Ахмедомъ хладнокровно осматривали взводы ружей и револьверовъ, тогда какъ Юза, казалось, не обращалъ и вниманія на открытіе Рашида. Всѣ были безмолвны; кругомъ царило также мертвое безмолвіе, слышался только шумъ оправляемаго оружія, да порою доносившійся гулъ отъ приближающагося врага. Тутъ только мало-по-малу подъ подавляющимъ впечатлѣніемъ я вышелъ изъ состоянія нирваны, и предъ моими умственными очами открылся весь ужасъ нашего положенія. По примѣру моихъ кавасовъ, я осмотрѣлъ курки своей берданки и двухъ Вессоновскихъ револьверовъ и клинокъ турецкаго ятагана, хотя все это сдѣлалъ машинально безъ всякой въ тому нужды, просто потому, что ничего другого придумать не могъ. Не зная врага, трудно было и взвѣшивать шансы предстоящей встрѣчи, а быть можетъ, и борьбы; но Рашидъ съ Ахмедомъ, и особенно Юза были такъ хладнокровны, что нельзя было и думать, что мы идемъ на врага, обыкновенно безпощаднаго. — Не страшись ничего, эффенди, — началъ наконецъ Рашидъ послѣ долгаго молчнія, — Рашидъ знаетъ арабовъ пустыни, они трусливѣе степного волка и прожорливой гіены, Рашидъ поручился головою москову-консулу, что онъ доставитъ цѣлымъ въ Эль-Кудсъ (Іерусалимъ) благороднаго эффенди, и сдержитъ свое слово. Скорѣе умретъ Рашидъ, чѣмъ отдастъ арабамъ-разбойникамъ своего господина… Отдаленный выстрѣлъ прервалъ изліянія Рашида и, заставилъ меня вздрогнуть. Дѣло скоро начнется, подумалъ и нельзя отстать и мнѣ отъ людей, которые рѣшаются умереть, защищая меня. Соннаго состоянія какъ не бывало; напротивъ, какая-то, мнѣ невѣдомая нервная сила проходила по моему тѣлу и заставляла его, не смотря на страшную жажду и физическое утомленіе подъ подавляющимъ вліяніемъ полуденнаго зноя пустыни, кипѣть избыткомъ нервной энергіи. Но замолкъ отдаленный выстрѣлъ, отозвалось нѣсколько разъ гулкое эхо въ каменныхъ ущельяхъ Акабинскихъ альпъ и все опять замерло какъ и прежде; даже Рашидъ не слышалъ шума отъ приближающагося каравана. По знаку Ахмеда мы осторожно двинулись снова; удалой Ахмедъ пѣшкомъ шелъ впереди каравана, мы ѣхали гуськомъ, отмѣривая узкую тропу полутора аршинными шагами верблюда. На одномъ поворотѣ нависшая скала образовывала небольшую тѣнь; мы расположились подъ нею обѣдать. Не весела была наша полуденная стоянка всегда, а сегодня подъ подавляющимъ впечатлѣніемъ возможной встрѣчи съ врагами, которыхъ присутствіе мы уже чуяли невдалекѣ, она была просто невыносимой, и я торопилъ своихъ спутниковъ садиться на верблюдовъ. Наскоро мы поѣли синайскихъ хлѣбцовъ съ оливами и съ козьимъ сыромъ, ѣсть который заставляла только безъисходная нужда, закусили финиками и запили отвратительною теплою водою, и готовы были продолжать свой путь. Но недологъ былъ нашъ послѣобѣденный путь; мы и не думали, что прямо отъ стоянки мы торопимся идти на новую стоянку. По крайней мѣрѣ, не успѣли мы еще сдѣлать часу пути, какъ вошли въ узкій дефилей, который выходилъ въ порядочную котловину, со всѣхъ сторонъ запертую горами. Едва мы вступили въ дефилей, какъ Ахмедъ, шедшій впереди всѣхъ, приложилъ руку ко лбу и, обращаясь во мнѣ, хладнокровно заявилъ: — Эффенди можетъ увидѣть арабовъ пустыни; они отдыхаютъ тутъ недалеко; нашъ путь идетъ мимо нихъ. Эффенди не боится арабовъ, какъ левъ не боится волковъ. — Не смотря на такое утѣшеніе, дѣлавшее мнѣ большую честь, я невольно вздрогнулъ, когда бросилъ взглядъ на выходъ изъ дефилея. На противуположной сторонѣ его сидѣли вокругъ старшины, бѣлаго какъ снѣгъ араба, около шести или семи десятковъ полуобнаженныхъ сыновъ пустыни. — Не успѣлъ я еще осмотрѣться, какъ верблюды наши, завидя своихъ собратій и предчувствуя долгій отдыхъ, прибавили шагу, и черезъ нѣсколько минутъ мы были недалеко отъ каравана дикихъ арабовъ. Къ удивленію своему при видѣ нѣсколькихъ десятковъ арабовъ, мирно сидѣвшему вокругъ своего шейха, сердце мое, сильно бившееся при первомъ взглядѣ на эту картину, начало успокоиваться и я скорѣе съ любопытствомъ, чѣмъ со страхомъ, разсматривалъ эту живописную группу полуобнаженныхъ людей. Ахмедъ, по прежнему шедшій впереди нашего каравана, приложилъ руку ко лбу и къ груди и первымъ привѣтствовалъ старшинъ. Старый шейхъ отвѣчалъ тѣмъ же, не приподнимаясь съ мѣста. Нѣсколько молодыхъ арабовъ встали, взяли свои кремневыя ружья и подошли къ намъ произнося привѣтствія. Мои люди усердно прикладывали руки во лбу и груди и бормотали восточныя привѣтствія на своемъ тарабарскомъ языкѣ съ изысканною вѣжливостью. Старый шейхъ привсталъ, поддерживаемый двумя старшинами, и направился прямо ко мнѣ. Его сѣдая длинная борода, бѣлыя какъ снѣгъ брови, умное лицо съ выразительными глазами и ярко-бѣлый бурнусъ и чалма дѣлали его похожимъ на библейскихъ патріарховъ; почтеніе, окружавшее его, еще болѣе, увеличивало сходство. — Шейхъ арабовъ пустыни обращается къ тебѣ, господинъ инглезъ, — такъ началъ свою рѣчь старецъ (Юза быстро переводилъ ее на ломанный французскій или, вѣрнѣе сказать, на смѣсь французскаго съ итальянскимъ), — желаетъ чтобы милосердый Аллахъ хранилъ твои дни и направилъ счастливо твой путь по пустынѣ. Пусть и верблюды твои будутъ здравы и донесутъ тебя до Акаби, Эль-Халиля (Хевронъ) или Эль-Кудса (Іерусалимъ), куда ведетъ путь твой. Арабы пустыни просятъ тебя раздѣлить съ ними бѣдный ужинъ и провести ночь вокругъ братскаго костра.
Юза перевелъ ему мой отвѣтъ и согласіе остаться у братскаго востра на ночь въ самихъ изысканныхъ выраженіяхъ, и караванъ нашъ остановился. Нѣсколько арабовъ помогали моимъ спутникамъ разгружать верблюдовъ, а меня шеяхъ движеніемъ руки пригласилъ занять мѣсто около него. Юза въ качествѣ переводчика помѣстился около меня. Не смотря на то, что мнѣ очень не хотѣлось проводить ночь среди арабовъ, которымъ намѣренія относительно насъ были неизвѣстны, темъ не менѣе вѣжливость, арабскій обычай и, наконецъ, любопытство взяло верхъ, и я тотчасъ же согласился на предложеніе шейха, обмѣнявшись предварительно взглядами со своими спутниками, изъявлявшими также полное согласіе. Старый шейхъ предложилъ мнѣ наргиле и микроскопическую чашку кофе и началъ меня разспрашивать, кто я и куда, и зачѣмъ ѣду. Когда Юза сказалъ шейху, что я не инглезъ, а "паша московъ", тогда арабы только переглянулись между собой въ недоумѣніи, а шейхъ приложа снова руку ко лбу и груди, произнесъ съ знаками всевозможнаго почтенія:
— Сыны мои не знаютъ «москововъ», они и не слыхали о нихъ, но старый Сулейманъ былъ въ Стамбулѣ, Искандеріи (Александрія) и видѣлъ москововъ; проклятый турокъ боится ихъ, потому что воины-московы были въ Стамбулѣ, а ихъ султанъ-падишахъ великій одною рукою своею разогналъ воиновъ турецкихъ какъ трусливыхъ шакаловъ. Много хаджи (поклонникъ) москововъ идутъ черезъ пустыню къ Деиръ-ель-Муса (Синайскій монастырь), но ни одинъ московъ не былъ въ уади Цугерахъ; паша благородный съ сердцемъ львинымъ прошелъ первымъ пустыню Рамле и Джебель Эгъ-Тихъ; мои сыны два дня видѣли уже караванъ эффенди, но Аллахъ привелъ его къ нашему гостепріимству только сегодня. Старый шейхъ съумѣетъ принять его, хотя арабы пустыни и бѣдны, какъ безплодныя скалы Джебель Эгъ-Тиха.
Такъ говорилъ почтенный старецъ, а арабы слушали со вниманіемъ рѣчь своего шейха. Я поспѣшилъ черезъ Юзу благодарить и шейха, и все племя его за то радушіе, съ которымъ онъ принимаетъ нашъ караванъ, измученный блужданіемъ по пустынѣ Рамле, и просить въ эту ночь гостепріимства. Въ самихъ изысканныхъ и вѣжливыхъ выраженіяхъ старый шейхъ обѣщалъ вамъ сдѣлать все, что въ его слабыхъ силахъ. По приглашенію шейха всѣ мои люди расположились около меня; всѣмъ имъ было предложено также по чашкѣ кофе и наргиле. Послѣ этого предварительнаго угощенія, къ продолженіе котораго шейхъ и еще одинъ старшина успѣли у насъ выспросить все, что касается до нашего путешествія, намъ былъ предложенъ ужинъ не роскошный, но довольно обильный. Хлѣбъ, оливы, зелень, финики и кофе составляли его. Мы ѣли не съ большимъ аппетитомъ, не смотря на то, что обѣдали плохо. Съ нами ѣли только шейхъ и другой старшина; прочіе арабы ужинали въ нѣкоторомъ отдаленіи. Послѣ ужина намъ предложили въ глиняномъ кувшинѣ прекрасную свѣжую воду, и это послѣднее угощеніе было для насъ пріятнѣе всего, потому что мы уже болѣя трехъ сутокъ не видѣли хорошей воды. Замѣтивъ, что вода намъ понравилась, шейхъ приказалъ подать еще, прибавивъ, чтобы мы пили ее не жалѣя, потому что источникъ не далеко. Ахмедь, узнавши о существованіи источника, котораго онъ даже онъ зналъ, удивлялся и выспрашивалъ у шейха мѣсто его нахожденія, на что послѣдній отвѣчалъ только молчаніемъ. Не раздѣляя любопытства Ахмеда, я тѣмъ не менѣе просилъ доставить мнѣ лишній кувшинъ воды, намѣреваясь угостить себя и арабовъ русскимъ чаемъ. Не прошло и часу, какъ двое посланныхъ вернулись изъ горъ и принесли по кувшину прекрасной кристальной веды. Я просилъ развести огонекъ, просьба моя была живо исполнена; черезъ полчаса у насъ курился довольно порядочный костерокъ изъ навозу и сучьевъ, Богъ знаетъ откуда появившихся, и сухой травы. Юза, не впервые исполнявшій обязанность повара, быстро сварилъ на огонькѣ кипятокъ въ походномъ чайникѣ, заварилъ чай и разлилъ въ кофейныя чашки. Я же предложилъ ихъ двумъ старшинамъ и арабамъ, ходившимъ за водой. Послѣ обычныхъ благодареній сыны пустыни испробовали по глотку русскаго калашниковскаго чаю и въ одинъ голосъ отвѣтили, что "джай московъ" очень хорошъ. Медленно, смакуя каждый глотокъ, такъ сказать выполаскивая ротъ, оба шейха съ превеликимъ достоинствомъ выпили по первой чашкѣ чаю. Когда я имъ предложилъ по второй, то они потеряли даже свое достоинство, обрадовавшись такому лестному предложенію со стороны "паши московъ" (sic). Церемонія чаепитія сыновъ пустыни, причемъ успѣли сходить еще два раза за водою, въ дикомъ ущельѣ Акабинскихъ альпъ на берегу Краснаго моря, происходила, такимъ образомъ, гораздо долѣе, чѣмъ въ любомъ московскомъ трактирѣ. Было уже совершенно темно, когда поголовное чаепятіе арабовъ окончилось, — потому что я велѣлъ дать каждому арабу хотя по маленькой чашкѣ "московскаго джая". По окончаніи всей церемоніи мы были уже друзьями; шейхи, забывъ о своемъ достоинствѣ, болтали съ нами, какъ бабы, особенно послѣ двухъ чашекъ вина, которыми я обязательно угостилъ обоихъ старшинъ; о другихъ арабахъ и говорить было нечего. Даже Рашидъ, доселѣ какъ-то подозрительно все время посматривавшій на арабовъ, какъ бы опасаясь какого-нибудь коварства съ ихъ стороны, теперь пересталъ смотрѣть хмурою ночью и разболтался съ молодымъ рослымъ арабомъ, дружески предлагая другъ другу наргилэ, обходившій всю компанію по распоряженію шейха.
— Теперь, эффенди, — сказалъ онъ, обращаясь ко мнѣ,— эти арабы намъ друзья, мы можемъ спокойно гостить у нихъ; пусть эффенди спитъ спокойно, Рашидъ все-таки будетъ не спать надъ эффенди. — Я давно уже потерялъ предубѣжденіе противъ арабовъ пустыни и смѣялся надъ тѣми предосторожностями, которыя мы предпринимали ранѣе, но спать не могъ, уже потому, что компанія сидящихъ около костра была черезъ-чуръ весела. Было уже около десяти часовъ вечера; голубое небо заблистало тысячью звѣздъ. Горизонтъ со всѣхъ сторонъ замыкался темною зубчатою линіею горъ, ближайшія изъ которыхъ казались врѣзывающимися черною массою въ прозрачную синеву неба. Надъ нашими горами, какъ и на далекомъ сѣверѣ, стояла большая медвѣдица. Невольно я устремилъ глаза съ темной земли въ синеву блистающаго неба и впивался взглядомъ въ его чарующую красоту. Старый шейхъ, какъ истый сынъ пустыни, любившій небо до обожанія, тотчасъ же замѣтилъ это и началъ поучать арабской астрономіи, которую я слушалъ съ большимъ усердіемъ, стараясь узнать хотя арабскія названія большихъ созвѣздій. — Вотъ въ тѣхъ семи звѣздахъ, — говорилъ онъ, указывая на большую медвѣдицу, — живетъ геній неба; Аллахъ отвелъ ему тамъ жилище, чтобы онъ наблюдалъ за землею. Съ земли жилище генія похоже на фигуру корабля пустыни, и сыны ея называютъ тѣ семь звѣздъ верблюдомъ. Гляди, благородный эффенди, какъ вытянулъ впередъ свою шею небесный верблюдъ; не легко ему нести небеснаго генія… А вотъ тамъ горитъ яркою звѣздою глазъ небесной газели, — продолжалъ старикъ, направляя свой перстъ въ сторону Регула — у той газели четыре дѣтеныша, смотри ихъ глазки глядятъ на мать. Рядомъ съ газелью свѣтится хищный глазъ шакала (Денебола); онъ стремится схватить своими зубами небеснаго козленка, но Аллахъ помѣстилъ на небо охотника араба, который не даетъ шакалу похититъ у матери дѣтеныша. (Небесный арабъ стараго шейха — наше созвѣздіе Дѣвы). — Вотъ тутъ, эффенди, — продолжалъ старикъ, указывая на Лиру, — блестятъ глаза небесной красавицы (Вега и Денебъ), волоса которой усыпаны перлами (Геркулесъ). Выше красавицы Аллахъ помѣстилъ могучаго льва (Кассіопея), а ближе къ концу неба (горизонту) другого небеснаго верблюда, который служилъ пророку… Аллахъ да благословитъ его… — Подъ именемъ верблюда Магометова старый шейхъ подразумѣвалъ четыреугольникъ Пегаса и вмѣстѣ β и γ Андромеды и α Персея. — По всему небу раскинулъ Аллахъ поясъ пророка, украшенный жемчужинами, — добавилъ старикъ, проводя рукой по направленію млечнаго пути и блестящихъ звѣздъ, свѣтящихся на немъ и возлѣ него (Персей, Альдебаранъ, звѣзды Оріона и др.). — По обѣимъ сторонамъ святого пояса пророка Аллахъ поставилъ двухъ стражей, которые оберегаютъ его, — закончилъ шейхъ, указывая на блестящихъ, какъ алмазы, Прокіона и Сиріуса. Долго еще хотѣлъ трактовать старикъ о томъ, что видятъ арабы пустыни на небесномъ сводѣ, какъ поэтическое чувство ихъ помѣщаетъ на небо чадъ земли и тѣмъ примиряетъ область таинственную, полную чудесъ, съ областью міра земного, населяя ихъ одинаковыми существами; но другой шейхъ прервалъ его изліянія. — Сулейманіе, — говорилъ омъ, — эффенди мудръ, какъ старцы земли его; онъ знаетъ, къ чему Аллахъ устроилъ и міръ, и звѣзды, и какъ называютъ ихъ арабы пустыни… Пусть лучше молодежь увеселитъ сердце нашего гостя музыкой и пляскою… Не правь ли я, отецъ мой? — Сулейманіе только кивнулъ головою въ знакъ своего согласія и затянулся душистымъ наргилэ. Не успѣли еще лопнуть пузырьки въ кальянѣ Сулейманіе, какъ нѣсколько молодыхъ арабовъ встало; въ рукахъ у нихъ виднѣлись какіе-то инструменты, нѣчто среднее между флейтою и рожкомъ. Они обошли вокругъ костра трижды и заиграли всѣ вмѣстѣ дикую мелодію. Оригинальные звуки съ какими-то невѣдомыми тонами, то страстно чарующіе, то заставляющіе вздраивать, то вѣжно пѣвучіе, то поражающіе своей дикой гармоніей, быстро слѣдовали одни за другими, не давая опомниться, не давая времени дать отчета ихъ невольному слушателю и цѣнителю. Съ четверть часа продолжалась эта музыка; краткое эхо отдавало по нѣсколько разъ звуки этой арабской мелодіи въ ущельяхъ Акабинскихъ альпъ и замирало по ту сторону ихъ отъ берега Краснаго моря. Окончилась музыка, и около двухъ десятковъ молодыхъ голосовъ затянуло арабскую пѣсню, аккомпанируя ее мѣрно съ мотивами оригинальныхъ инструментовъ. Трудно сказать, что производитъ большее впечатлѣніе — дикая ли мелодія этой музыки, или, поражающіе ухо европейца мотивы арабскихъ пѣсенъ, которыхъ гармоничность нерѣдко переходитъ въ дисгармонію. Оригинальные исполнители этого концерта въ пустынѣ, въ длинныхъ бурнусахъ съ навьюченными на головахъ шалями и тюрбанами, съ ятаганами за поясомъ и съ флейтами въ зубахъ, освѣщаемые слегка буроватымъ дымомъ скуднаго костерка, производили еще не меньшее впечатлѣніе, чѣмъ самый концертъ, а если прибавить къ этому грозныя декораціи въ видѣ замыкающей горной цѣпи съ силуэтами нагроможденныхъ безъ порядка скалъ, сотню верблюдовъ, груду оружія, двухъ сѣдовласыхъ шейховъ, погрузившихся въ сладкій кейфъ надъ едва дымящимся наргили, то, надо сознаться, что одно вполнѣ гармонировало съ другимъ и мало того, взаимно дополняло другъ друга. Я сидѣлъ молча, любуясь веселыми сынами пустыни и наблюдая на всѣмъ, происходящимъ вокругъ меня. Еще съ полчаса продолжалось пѣніе, аккомпанируемое флейтами; мотивы его дѣлались все диче и диче; одно время казалось, что слышишь не звуки человѣческаго голоса, а вой бури, завывающей въ каменныхъ ущельяхъ; наконецъ пѣніе приняло бурный порывистый характеръ, пѣвцы схватили другъ друга за руки и быстро закружились вокругъ востра, не переставая испускать дикіе гортанные звуки плясовой пѣсни. Къ пляшущимъ скоро присоединялись и другіе, до сихъ поръ не принимавшіе участія въ общемъ веселіи, которые и образовали другой кругъ, также завертѣвшійся вокругъ костра. Нѣкоторые изъ пляшущихъ второго круга завертѣли обнаженными ятаганами; еще шибче завертѣлись концентрическіе круги пляшущихъ, еще заунывнѣе полились мотивы, надрывающихъ уже душу, флейтъ, еще присоединились пляшущіе, и цѣлая буйная оргія началась… Я видалъ впервые такое нечеловѣческое бѣснованіе; пляска дервишей въ Каирѣ и въ Нижнемъ Египтѣ казалась мнѣ дѣтскою въ сравненіи съ этими грандіозными танцами арабовъ Синайской пустыни, — такъ причудливо и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ дики были ихъ тѣлодвиженія, такъ безумно ихъ веселье, такъ нечеловѣчески звучали ихъ пѣсни, повторяемыя въ утесахъ неприступныхъ горъ, поражающими душу мотивами. Передъ моими глазами сквозь буроватую дымку костра мелькали темныя фигуры пляшущихъ арабовъ, которые напоминали рой призраковъ въ Иванову ночь у заколдованнаго мѣста, но никакъ не живыхъ веселящихся людей, и въ противуположность этимъ быстро мельккающимъ тѣнямъ рядомъ съ ними вырисовывались силуэты двухъ, неподвижно сидящихъ, шейховъ, которые со своими наргилэ, казалось, составляли одно неодушевленное цѣлое. Пораженный дикою картиною, я не отрывалъ глазъ отъ этого зрѣлища и не замѣчалъ, какъ проходило время. Оглядѣвшись вокругъ, я увидѣлъ, что всѣ мои спутники спали, даже Рашидъ, обѣщавшійся бодрствовать надо мною. Я не захотѣлъ будить его, потому что онъ не спалъ всю прошлую ночь, еще со вчерашняго вечера почуявъ близость арабовъ пустыни. Далеко за полночь продолжалось это бѣснованіе; уже костеръ и наргилэ шейховъ потухли, а арабы вертѣлись, безпрестанно смѣняясь; временемъ, казалось, ослабѣвали ихъ нервы, затихало на время и дикое пѣніе, и дикій аккомпаниментъ, но это только для того, чтобы начаться черезъ нѣсколько минутъ съ удвоенною силою. Наконецъ, видимо и они начали уставать, и старшій шейхъ рукою подалъ сигналъ въ окончанію оргіи. Какъ быстро она началась, такъ быстро и прекратилась, какъ только раздалось слабое, но повелительное слово шейха. Еще, ненадолго передъ тѣмъ бѣсновавшіеся арабы начали завертываться въ свои бурнусы и укладываться на пескѣ, еще не успѣвшею охладиться послѣ зноя полуденнаго. Не смотря на сонъ, одолѣвавшій меня, я не рѣшался засыпать, пока спали мои спутники, и, завернувшись въ пальто, боролся всѣми силами съ дремотою. Не прошло и получаса, какъ смолкло все и, казалось, заснуло, какъ приподнялся мой Рашидъ и началъ бодрствованіе. Увидавъ его, я тотчасъ же закрылъ глаза и уснулъ богатырскимъ сномъ.
III
Я проснулся отъ страшнаго жара, весь въ поту, съ болью въ головѣ, нагрѣтой даже косвенно падающими лучами утренняго солнца. Нѣсколько глотковъ свѣжей воды изъ невѣдомаго источника и умываніе освѣжили меня настолько, что я сталъ подумывать о выступленіи въ путь. Рашидъ и Ахмедъ видимо также торопились раздѣлаться съ гостепріимными арабами и поскорѣе перевалить за хребетъ, чтобы спуститься къ самому берегу Краснаго моря. Только Юза, казалось, хотѣлъ подолѣе остаться и поболтать съ разговорчивыми шейхами, съ которыми онъ бесѣдовалъ еще въ моментъ моего пробужденія. Посовѣтовавшись съ обоими тѣлохранителями, я приказалъ Юзѣ благодарить шейховъ и племя за гостепріимство и предложить имъ небольшой посильный подарокъ, а кавасамъ велѣлъ начать сборы. Верблюды, болѣе привыкшіе къ голосу Юзы, плохо слушались Рашида и Ахмеда, которые въ свою очередь, желая показать, что и они могутъ быть верблюдовожатыми не хуже Юзы, хлопотали изо всѣхъ силъ то съ верблюдами, то съ багажемъ; нѣсколько арабовъ помогали имъ усердно. Я же наблюдалъ и за ходомъ переговоровъ Юзи съ шейхами, нѣсколько затянувшихся, и за нагрузкою верблюдовъ; бросая взгляды то на шейховъ, то на свой багажъ, я замѣтилъ, что одинъ изъ арабовъ, помогавшихъ Рашиду навьючивать корзины съ антропологическимъ матеріаломъ, который я везъ изъ-подъ Синая, полюбопытствовалъ взглянуть на ихъ содержимое и приподнялъ крышку одной изъ нихъ. Изъ туго набитой костями корзины тотчасъ же выпалъ одинъ черепъ къ ногамъ любопытнаго, который отъ страху выронилъ всю корзину и разсыпалъ ея содержимое. Суевѣрный и трусливый арабъ даже попятился, увидѣвъ болѣе десятка человѣческихъ череповъ. Его примѣру послѣдовали другіе; даже у Рашида и Ахмеда не хватило смѣлости собрать разсыпавшіеся черепа и сложить ихъ опять въ корзину; мнѣ пришлось сдѣлать это самому. Разсыпка череповъ имѣла и другое важное значеніе. Едва старый шейхъ замѣтилъ, что одинъ изъ череповъ подкатился въ самымъ его ногамъ, какъ вскочилъ, словно ужаленный, и всѣ переговоры были кончены. Юза передалъ мнѣ, что шейхи просили въ подарокъ по ружью или по револьверу; на чемъ долго и стояли, пока подкатившійся черепъ окончательно не смутилъ ихъ и не увѣрилъ въ моемъ сверхъестественномъ могуществѣ, что старался доказать Юза, убѣждая шейховъ не требовать у могучаго московскаго паши того, чего онъ имъ самъ не предлагаетъ. Когда дипломатическія затрудненія были кончены неожиданнымъ образомъ, насъ ничто не задерживало, и Юза быстро снарядилъ въ путь нашъ маленькій караванъ. Я подошелъ благодарить шейховъ еще разъ и приказалъ Юзѣ передать имъ мою благодарность въ самыхъ изысканныхъ выраженіяхъ. Шейхи отвѣчали очень любезно, прося только оставить имъ на память отъ московскаго паши, хотя то маленькое страшное оружіе, которое я ношу на поясѣ. Я едва не разсмѣялся при этой просьбѣ, такъ какъ страшное оружіе было не что иное какъ акушерскій циркуль, который я употреблялъ для краніометрическихъ измѣреній, и о которомъ Юза успѣлъ наговорить много ужаснаго, когда склонялъ шейховъ не раздражать московскаго паши неумѣстными требованіями. При помощи Юзы, я отвѣтилъ, что подарить этого оружія не могу никому, потому что безъ него я не могу перейти пустыню. Удивленію арабовъ не было границъ, и они съ благоговѣйнымъ ужасомъ разсматривали страшное оружіе, висѣвшее у меня на поясѣ вмѣстѣ съ револьверомъ и ятаганомъ. Послѣ этой выходки, начались обыкновенныя восточныя утонченныя вѣжливости, прощанія, пожеланія и т. п., пока я, понукнувъ своего верблюда, не прекратилъ комедіи, разыгрываемой съ одной стороны почтенными шейхами, а съ другой моими людьми.
Караванъ нашъ тронулся, Ахмедъ по прежнему впереди всѣхъ; старые шейхи провожали насъ прикладываніемъ рукъ во лбу и груди по восточному обычаю, а десятка два молодыхъ арабовъ сопровождало насъ до входа въ дикое ущелье, съ котораго начался подъемъ въ гору. Верблюды едва ступали по узкой горной тропѣ, заваленной огромными камнями, порой лежавшими поперегъ дороги; даже шага верблюда было недостаточно, чтобы перешагнуть ихъ; бѣдныя животныя тщательно обходили препятствія, буквально цѣпляясь ногами объ упоры, отчего балансированіе наше на верблюдахъ достигло самой высокой степени. Еще съ утра у меня болѣла голова подъ неотразимыми жгучими лучами солнца, отъ которыхъ не защищали ни густонамотанная вокругъ головы шаль, ни соломенная шляпа съ широчайшими полями, покрытая поверху еще платкомъ; теперь она заломила до того сильно, что я едва сидѣлъ на верблюдѣ. Тошнота, тяжесть въ груди и безпрестанные толчки, скоро сдѣлали мое положеніе поистинѣ страдальческимъ. Несмотря на то, что мы шли по горной тропинкѣ, и съ обѣихъ сторонъ возвышались каменныя стѣны въ тысячу и болѣе футовъ вышиною, онѣ не только не давали ни малѣйшей тѣни, но отражая отъ себя палящіе лучи полуденнаго солнца, какъ отъ раскаленной печи, только усиливали крайность нашего положенія. Блуждающимъ взоромъ я окинулъ своихъ спутниковъ, они, повидимому, несмотря на привычку, также страдали не мало; Рашидъ и Юза потеряли свои гордыя и рѣшительныя физіономіи и ѣхали, понуривъ головы; одинъ Ахмедъ, нашъ вожатый, крѣпился. Балансированіе на верблюдѣ на многихъ, садящихся въ первый разъ на горбъ корабля пустыни, производитъ въ первое же время впечатлѣніе морской качки и очень часто влечетъ припадки, похожіе на страданіе морскою болѣзнью. По выѣздѣ моемъ изъ Суэца цѣлый день я чувствовалъ приступы тошноты и головной боли; но съ тѣхъ поръ я уже двѣ недѣли находился въ пустынѣ на верблюдѣ и успѣлъ свыкнуться съ качкою. Но сегодня условія были такъ исключительны, качка была такъ утомительна, а физическія силы такъ ослабѣли отъ зноя, что я почувствовалъ снова уже знакомые приступы. Подъ угнетающимъ вліяніемъ всѣхъ этихъ условій, не видя конца сегодняшнему страданію, я потерялъ присутствіе духа, а съ нимъ и физическую твердость. Какъ и вчера, я впалъ въ то же сонное, почти безчувственное состояніе, въ которомъ для человѣка нѣтъ ничего поражающаго его чувства; онъ дѣлается похожимъ на автомата… Но вчера я еще могъ мыслить, хотя немножко, и понимать кое-что изъ происходящаго, зато сегодня мнѣ казалось, что у меня за черепною покрышкою налито было теплое масло, которое при каждомъ толчкѣ ударяло то въ орбиты, то въ основаніе черепа. Это чувствованіе внутреннихъ ударовъ внутри головы было убійственно, и я былъ въ тяжеломъ, подавляющемъ самое дыханіе, кошмарѣ. Неотвязчивыя глупыя идеи, преслѣдовавшія меня съ утра, при дальнѣйшемъ приливѣ крови въ головѣ, начали смѣняться чѣмъ-то неопредѣленнымъ, безконечнымъ, ярко-блистающимъ… Это было впечатлѣніе, производимое притокомъ крови къ мозгу, то неопредѣленное, невыразимое и подавляющее своею напряженностью ощущеніе, которое чувствуетъ человѣкъ, теряющій сознаніе… Что-то безконечное пурпурово-красное, переходящее въ голубовато-зеленый съ золотистыми искорками и быстро смѣнявшееся черною бездною, представлялось моимъ очамъ, созидалось моею мыслью, не работавшей уже правильно въ гиперемированномъ мозгу… Что было за тѣмъ, не знаю, но когда я очнулся и открылъ глаза, въ лицо мнѣ пахнуло свѣжимъ вѣтеркомъ, а караванъ спускался по довольно отлогому спуску.
— Эффенди былъ боленъ, — произнесъ Юза, ѣхавшій позади меня, — и спалъ, а мы перешли торы Назба и сейчасъ увидимъ Красное море.
Тутъ только я понялъ, что со мною было; меня поразилъ легкій солнечный ударъ, отъ котораго я самъ оправился, едва пахнула струйка свѣжаго воздуха, когда мы начали спускаться. Мои арабы замѣтили мое положеніе, но привыкнувъ, вѣроятно, къ подобнаго рода случаямъ, не обратили должнаго вниманія, даже не полили лица бурдою, сохранявшеюся у васъ въ бурдюкахъ, не смотря на то, что, засыпая такимъ образомъ, можно перейти въ вѣчное успокоеніе. Я объяснилъ это арабамъ и велѣлъ имъ наблюдать за мною и, если случится что подобное снова, немедленно подать помощь, правила которой я имъ и сообщилъ. Удивительное вліяніе имѣетъ одна близость моря не только на человѣка, но и на животныхъ: даже верблюды, едва ступавшіе на подъемѣ, несмотря на свои окровавленныя ноги, пошли быстрѣе, когда на встрѣчу намъ подулъ свѣженькій вѣтерокъ съ моря. Да и я, бывшій уже близко къ смерти съ полчаса тому назадъ, быстро оправился, какъ только удушливая атмосфера горныхъ ущелій смѣнилась свѣжимъ, слегка овлаженнымъ, воздухомъ, который несся съ восточнаго берега Синайскаго полуострова.
Еще два или три поворота и, загораживающая намъ видъ вдаль, каменная стѣна осталась въ сторонѣ, а взглядъ, которому ничто уже не препятствовало, упалъ сразу на серебрящуюся поверхность Акабинскаго залива. Она была спокойна, и легкая зыбь только увеличивала ея прелесть. Весь заливъ казался похожъ болѣе на озеро, такъ какъ былъ замкнутъ со всѣхъ сторонъ. Удивительная чистота воздуха давала возможность хорошему глазу видѣть всю поверхность залива. Продолговатая, слегка расширяющаяся къ югу серебристая поверхность его, окаймленная темными берегами, замыкалась съ сѣвера верхушками древнихъ Идумейскихъ горъ, у подножія которыхъ расположена нынѣшняя Акаба, древній Элаѳъ, и издревле кочевали Мадіанитяне, а съ юга, врѣзывающимся глубоко въ море, каменистымъ мысомъ Раа Фуртуко, котораго какъ бы естественнымъ продолженіемъ служили острова Тиранъ и Синоферъ, замыкавшіе заливъ къ югу. Съ востока берегъ залива составляли отроги Идумейскихъ и Аравійскихъ прибрежныхъ цѣпей, тогда какъ съ запада шла высокая въ двѣ и болѣе тысячъ футовъ зубчатая стѣна, среди которой мы и находились къ сѣверу отъ параллели уади Цугерахъ приблизительно тамъ, гдѣ лежали библейскіе "гробы прихоти". Мы вышли, какъ оказывается, туда, куда пришли и евреи, покинувъ горы Синая и Хорива, для "гробовъ прихоти". Такъ какъ верблюды наши и мы сами были страшно изнурены горною дорогою, то мы рѣшились сдѣлать ночлегъ на самомъ берегу Краснаго моря, несмотря на то, что не пришли еще къ обѣщанному Ахмедомъ источнику и пещерѣ, наполненной костями, и что желаніе испить свѣжей воды дѣлалось вопіющею потребностью. Мы продолжали еще осторожно спускаться, пока не подошли по довольно хорошему спуску въ самому берегу Акабинскаго залива. Вдругъ Ахмедъ, шедшій все время впереди, сперва вскрикнулъ отъ радости, потомъ отъ изумленія, причемъ черное облачко набѣжало на его обыкновенно спокойное лицо. — Эффенди, — началъ онъ страннымъ голосомъ, — источникъ близко, мы ошиблись немного въ пути, и потому Аллахъ направилъ наши глаза къ источнику; мы нашли, эффенди, и сладкую воду, и кости; мы зато нашли и еще арабовъ. Не хочетъ ли эффенди посмотрѣть? — На песчаной отмели дѣйствительно виднѣлось множество слѣдовъ и валялись остатки трапезы и костра, очевидно, недавняго происхожденія. Несмотря на видимое безпокойство Ахмеда, я на этотъ разъ не раздѣлялъ его, потому что на вчерашнемъ опытѣ убѣдился, что бояться арабовъ пустыни въ настоящее время даже четыремъ вооруженнымъ человѣкамъ нечего особенно, если имѣется извѣстная доза смѣлости, на которую мы всегда могли разсчитывать. Скоро, впрочемъ, и смущеніе Ахмеда разсѣялось, когда онъ замѣтилъ, что не было видно ни одного слѣда верблюда или лошади, а одни слѣды людскіе и что они не шли далеко по берегу ни въ одну сторону. — Эффенди, — тогда сказалъ Ахмедъ, — то не были арабы пустыни, то были арабы моря; они были здѣсь и уѣхали на лодкахъ; они здѣсь отдыхали и больше сюда не придутъ. Эффенди можетъ не безпокоиться. — Рашидъ, спрошенный о мнѣніи, также подтвердилъ слова своего товарища, хотя и продолжалъ внимательно осматривать слѣды. Верблюды были остановлены и разгружены; изъ ружей, пикъ и покрывалъ мы снарядили нѣчто въ родѣ палатки, потому что я разсчитывалъ при обиліи воды и антропологическаго матеріала остановиться здѣсь на нѣсколько дней. Пока Ахмедъ съ Юзою устанавливали палатку, а Рашидъ изслѣдовалъ слѣды, я снявши съ себя оружіе и одежду, спѣшилъ окунуться въ прохладную морскую воду. Неизъяснимо сладко было перейти изъ палящей атмосферы воздуха въ живительную охлаждающую среду набѣгающихъ на берегъ волнъ и плавать въ морскомъ прибоѣ, ударяющемся съ нѣкоторою силою о прибрежные камни; даже мои спутники-арабы не могли противустоять искушенію и начали раздѣваться, поборовъ восточное отвращеніе отъ общаго купанья. Сперва еще Ахмедъ предостерегалъ меня и своихъ товарищей не купаться въ Акабинскомъ заливѣ, потому что въ водѣ его водятся страшныя морскія чудовища, которыя могутъ унести человѣка въ своихъ могучихъ зубахъ, но потомъ и самъ началъ разматывать свою голову. Не прошло и десяти минутъ, какъ всѣ мы уже плавали въ прохладной стихіи, не заботясь ни о страшныхъ молюскахъ, ни объ акулахъ Краснаго моря, ни о другихъ морскихъ чудовищахъ. Несмотря на сильную жажду и голодъ, какъ-то не хотѣлось выходить изъ воды; уже Юза вылѣзъ на берегъ и сталъ готовить закуску, а Ахмедъ съ кувшинами, искупавшись, пошелъ въ источнику, а я все сидѣлъ, погрузившись по шею въ воду, играя, какъ ребенокъ, съ блестящими золотистыми и серебристыми рыбками, которыя цѣлыми стаями плавали вокругъ меня. Не знаю, какъ долго бы еще я пробылъ въ водѣ, если бы по моей спинѣ не скользнуло что-то, произведшее впечатлѣніе длиннаго извивающагося и скользкаго тѣла. Я вскочилъ, какъ ужаленный, и, обернувшись, увидѣлъ, что какое-то змѣеобразное животное завертѣлось вокругъ меня. Прозрачность воды позволяла видѣть мнѣ его испещренную пятнами вожу, большую голову, украшенную какими-то странными придатками и широкіе плавники… Съ быстротою молніи я бросился въ берегу, и черезъ нѣсколько секундъ сидѣлъ уже на прибрежномъ камнѣ, около подножія котораго лѣпилась цѣлая колонія морскихъ губокъ самыхъ разнообразнихъ цвѣтовъ. Какъ ни манила своею прохладою чудная голубая стихія, омывавшая своими волнами мои ноги, я не рѣшался болѣе ввѣриться ей, когда среди прелестей животнаго и растительнаго міра морской воды копошились отвратительныя чудовища… я теперь уже видѣлъ ихъ; разъ только удалось получить непріятное впечатлѣніе, я не сомнѣвался въ реальности ихъ существованія; эти маленькіе ракообразные, мягкотѣлые и морскіе паучки, копошившіеся въ живыхъ цвѣтахъ зоофитовъ и роскошныхъ водоросляхъ, казались мнѣ чѣмъ-то ужаснымъ, хота я не могъ не знать изъ зоологіи ихъ безвредности. Сидя на камнѣ, и забывъ, казалось, все остальное, я наблюдалъ этотъ прекрасный водный міръ, которымъ такъ богато Красное море; и чѣмъ болѣе я всматривался въ прозрачную глубину голубой среды, тѣмъ разнообразнѣе становились обитатели водъ, тѣмъ роскошнѣе и причудливѣе были ихъ формы. Безконечно разнообразною чередою появлялись все новыя существа, своею красотою затмѣвавшія самыя блестящія краски земли. Акалефы, радіомаріи, трубчатники, раковинчатые слизняки и множество другихъ животныхъ всякихъ зоологическихъ отрядовъ имѣли своихъ представителей въ этой чудной, живой, безпрестанно перемѣняющейся фантасмагоріи, которой роскошными декораціями служили подводныя части камней, облѣпленныя гирляндами губокъ, водорослей и зоофитовъ; морскіе анемоны, лиліи, астры и вѣтви бѣлыхъ и розовыхъ коралловъ составляли общій фонъ, гдѣ на пробивающемся въ глубину снопѣ солнечныхъ лучей веселился блестящій чудный морской міръ. Долго я еще любовался невиданнымъ зрѣлищемъ, представившимся моимъ глазамъ въ прозрачной средѣ, которую только оттѣняли огромные подводные камни; уже Ахмедъ успѣлъ вернуться изъ ущелья съ двумя полными кувшинами води, уже Рашидъ давно, осмотрѣвъ слѣды, усѣлся около Юзы, начавшаго готовить «джай» изъ свѣжей воды, а я все сидѣлъ и любовался воднымъ міромъ. Солнце уже начинало садиться и поверхность Краснаго моря, освѣщенная лучами заката, дѣйствительно казалась красною, багряною, багроватость которой въ подножью береговыхъ скалъ переходила въ густой голубой цвѣтъ.
— Эффенди, — наконецъ началъ Рашидъ, — арабы моря были не одни, арабы моря — купцы съ живымъ товаромъ, Рашидъ нашелъ слѣды ногъ невольницъ на морскомъ пескѣ. Эффенди можетъ самъ посмотрѣть.
Эта интересная новость вывела меня изъ апатіи; я побѣжалъ въ Рашиду, который дѣйствительно доказалъ свое предположеніе неоспоримымъ образомъ; на берегу въ одномъ мѣстѣ виднѣлись отпечатки красивыхъ босыхъ ногъ и маленькихъ туфлей, не оставлявшихъ сомнѣнія, что они принадлежали женщинамъ. — Но отчего, Рашидъ, это слѣды невольницъ, а не женъ арабовъ моря? — спросилъ я.
— Жены арабовъ не ходятъ за мужьями; въ ихъ палаткѣ всегда найдется женская работа; жены арабовъ не пришли и не ушли бы моремъ; ихъ путь идетъ на верблюдѣ; арабы Акабы большіе плуты, они любятъ живой товаръ, — отвѣчалъ Рашидъ увѣренно…
Итакъ до сихъ поръ невольничество или, вѣрнѣе сказать, продажа невольникомъ и особенно невольницъ существуетъ въ Африкѣ даже на берегахъ Краснаго моря, такъ близко къ главамъ строгаго египетскаго правительства. Я не вѣрилъ до сихъ поръ разсказамъ многихъ, что даже въ Каирѣ можно купить себѣ хорошенькую невольницу, а въ Аравіи и очень легко; всѣ усилія филантроповъ всѣхъ европейскихъ націй не могли уничтожить этой постыдной торговли: въ Красномъ морѣ эта продажа не прекращалась, хотя тысячи судовъ всѣхъ націй, со времени прорытія Суэцкаго перешейка, бороздятъ его по всѣмъ направленіямъ. Сидя на ужиномъ и вкуснымъ чаемъ, я разспрашивалъ своихъ спутниковъ объ этой отвратительной торговлѣ, и они мнѣ разсказали много интереснаго. Оказывалось, что въ настоящее время въ торговлѣ людьми продаются не невольники и невольницы-рабы, потому что рабство уничтожено и въ Египтѣ, но матеріалъ для наполненія гаремовъ сластолюбивыхъ пашей, знающихъ и покровительствующихъ этой торговлѣ. Контингентъ этотъ составляютъ евнухи и молодыя женщины, обыкновенно краденные, и только изрѣдка отдающіеся добровольно въ руки торговцевъ человѣческимъ мясомъ. Евнухи обыкновенно привозятся изъ Абиссиніи, гдѣ до сихъ поръ обычай практикуется въ широкихъ размѣрахъ, не смотря на то, что аббиссинцы всѣ христіане. Въ Шоа, вокругъ Денбеа и вплоть до самого Адена можно нуждающемуся добыть себѣ евнуха; тамъ же можно купить и невольницу, но изъ черныхъ. Континтентъ евнуховъ составляютъ не только плѣнные и захваченные при разбойничьихъ набѣгахъ абиссинцевъ, но даже самые обитатели Габеша, еще съ малолѣтства попавшіеся въ руки подобнаго рода торговцевъ. Области, изъ которыхъ добываются невольницы, гораздо обширнѣе; не смотря на уничтоженіе торговли невольниками, повсемѣстно въ Африкѣ можно встрѣчать отдѣльные случаи продажи, особенно на западномъ берегу. Всѣ племена черныхъ доставляютъ хотя небольшой контингентъ рабынь, добываемыхъ при набѣгахъ и междоусобныхъ войнахъ. Черныя красавицы очень цѣнятся въ нѣкоторыхъ гаремахъ Египта и Малой Азіи, особенно изъ племени съ бархатистою черною кожею; въ гаремѣ всесильнаго паши Каира мнѣ самому пришлось видѣть {Во время перевозки гарема изъ Каира на загородныя дачи и виллы Александріи въ сопровожденіи цѣлаго десятка евнуховъ.} двухъ женъ изъ кафрянокъ — женщинъ весьма красивыхъ и изящныхъ. Въ продажу идутъ также въ большомъ количествѣ коптянки изъ Верхняго Египта и арабки различныхъ племенъ Аравіи. По словамъ Рашида, эти послѣднія попадаютъ въ руки торговцевъ различными нечистыми путями. Но всего интереснѣе, что въ числѣ невольницъ, имѣющихся въ запасѣ "арабовъ моря", можно встрѣтить грузиновъ, армянокъ, гречанокъ и евреекъ, которыя попадаютъ на суда женопродавцевъ совершенно непонятнымъ путемъ. По всей вѣроятности, ихъ крадутъ, какъ крали болгарскихъ и албанскихъ дѣвушекъ дикіе башибузуки еще такъ недавно. Ахмедъ подтверждалъ это случаемъ изъ собственной его жизни; въ бытность его въ Газѣ (Палестина) арабы, пришедшіе съ нимъ въ одномъ караванѣ, украли красавицу-еврейку и увезли ее въ пустыню за Эль-Аришъ, гдѣ ихъ и слѣдъ простылъ. Сто итъ только добраться съ живымъ товаромъ къ берегу Краснаго моря, а тамъ всегда его можно сбыть очень выгодно. Восточный и западный берега Аравійскаго залива, западный, начиная отъ Джебель-Зафаране, а восточный почти отъ Акабы вплоть до самаго Бабъ-эль-Мандебскаго пролива, служатъ пристанищами этихъ торговцевъ. Въ дикихъ едва приступныхъ скалистыхъ и песчаныхъ берегахъ Акабинскаго залива ихъ особенно много; за мысомъ Раа-Фуртукомъ по западному берегу Аравіи, по словамъ Рашида, есть цѣлая станція женоторговцевъ, гдѣ выборъ можетъ быть очень великъ. Туда отправляются иногда посланцы отъ египетскихъ и турецкихъ гаремовъ, вербующіе красавицъ, за которыхъ теперь платятъ бѣшеныя деньги. За одну арабку, по словамъ Рашида, купленную въ гаремъ хедива Мегмета, было заплачено около тысячи турецкихъ лиръ (по нынѣшнему курсу 9 р.); выше этой платы онъ не слыхалъ.
— Вотъ, эффенди, — вдругъ заговорилъ вдохновенно Ахмедъ, показывая пальцемъ на одинокую скалу, далеко врѣзывающуюся своею темною массою въ багрово-голубое море, — то камень Жемчужной Красавицы; здѣсь въ каменной трещинѣ, какъ въ гробу, положена прекраснѣйшая въ мірѣ дѣвушка; она умерла на вершинѣ той скалы отъ руки страшнаго мучителя Мусы. Эффенди не знаетъ ни Мусы, ни Жемчужной Красавицы, одинъ Ахмедъ слышалъ, какъ пѣли о нихъ вокругъ шатровъ своихъ арабы пустыни. — Я просилъ Ахмеда разсказать объ этомъ страшномъ героѣ пустыни и его прекрасной жертвѣ; Рашидъ и Юза поддержали меня.
— Муса этотъ, эффенди, — началъ видимо польщенный Ахмедъ, — былъ великій шейхъ Акабинскихъ арабовъ; вся пустыня отъ Раа-Мухамеда (южная оконечность Синайскаго полуострова) до Бахръ-Лута (Мертвое море) знала шейха Мусу и повиновалась ему. Никто лучше шейха не зналъ пустыни, никто не стрѣлялъ дальше его, никто не былъ такъ силенъ, какъ Муса, никто не былъ такъ мудръ, какъ Муса. Караваны боялись ходить по пустыни, гдѣ зоркій глазъ Мусы не пропускалъ ни одной птицы, не только что верблюда; купцы и хаджи не ходили прежнею дорогою; всѣ избѣгали Мусы и шли черезъ Эль-Аришъ и Лебгемъ, а не черезъ Акабу. Но нашелся храбрецъ, который не побоялся Мусы и пришелъ за его головою въ самую пустыню Рамле и Терубина, гдѣ стояли верблюды Мусы на пути хаджи {Надо замѣтить, что черезъ середину Синайскаго полуострова идетъ такъ называемой путь хаджей, т. е. поклонниковъ въ Мекку; изъ Каира путь этотъ идетъ черезъ Акабу; по разсказу Ахмеда караваны, избѣгая нападенія Мусы, шли не дорогою хаджей, а обходили ее, придерживаясь берега Средиземнаго моря.}. То былъ грекъ изъ Берита (Бейруть), славный капудане; онъ обѣщалъ изловить Мусу и повѣсить голову его сушиться на воротахъ своего города. Съ капудане былъ цѣлый караванъ египетскихъ солдатъ. Муса не побоялся капудане, не ушелъ въ гори Джебель-эль-Тиха, не угналъ верблюдовъ въ пустыню Рамле, а самъ вышелъ сразиться съ врагами. Страшно бились воины капудане съ воинами пустыни; ихъ ружья были лучше ружей Мусы, ихъ было больше, чѣмъ арабовъ Мусы, и великій шейхъ попалъ живымъ въ руки врага, когда его воины легли вокругъ раненнаго вождя. Страшно наругался надъ Мусою греческій капудане; онъ отрѣзалъ у него уши и носъ и, привязавъ къ хвосту верблюда, тащилъ шейха много дней по горамъ и по пустынямъ; наконецъ, караванъ ихъ вышелъ сюда въ скалѣ, которая еще не видала Жемчужной Красавицы. Тутъ капудане остановился и повелѣлъ взвести Мусу на эту гору, раздѣть и бить курбашами (толстый ременный бичъ), пока тѣло не отстанетъ отъ костей, а потомъ отрубить ему голову. Тѣло же его привязать въ верхушкѣ горы, чтобы арабы пустыни могли видѣть всегда кости своего шейха. Солдаты исполнили волю капудане; они били Мусу, пока не показались кости, но едва отошли отъ него, чтобы, отдохнувъ, отрубить ему голову, великій шейхъ бросился, избитый, въ море со скалы. Капудане и воины его удивились смѣлости шейха и отправились домой, не думая, чтобы страшный Муса могъ спастись. Но Аллахъ сохранилъ Мусу для мести; онъ спасся чуднымъ образомъ, спрятавшись между камнями на берегу моря, гдѣ прожилъ три дня, питаясь морскими животными, и оправился. Едва онъ былъ въ состояніи взобраться на скалу, какъ вползъ на мѣсто моего истязанія и поклялся страшною клятвою — костями своего дѣда отомстить мучителю-капудане. Пять лѣтъ не могъ отомстить своему оскорбителю Муса, но онъ былъ непреклоненъ въ своей мести. Узнавъ, что капудане живетъ въ Беритѣ, Муса отправился въ Газу, гдѣ жилъ его другъ, разсказалъ ему свое горе и они вмѣстѣ пустились на маленькой лодкѣ въ море къ Бериту. Долго плыли они по бурному морю, но Муса ради мести вынесъ все и, выйдя на берегъ у Берита, благодарилъ Аллаха. Не трудно было отыскать домъ капудане; но самого капудане не было; въ Беритѣ оставалась только его мать и красавица-дочь. Муса рѣшилъ дождаться возвращенія капудане и злобно посматривалъ на его дочь, высматривая, какъ левъ, свою добычу. Долго ожидалъ Муса, но пришло, наконецъ, извѣстіе, что капудане палъ въ битвѣ съ турками, сражаясь за своихъ друзей. Тогда Муса рѣшилъ свою месть перенести на дочь капудане — Жемчужную Красавицу. такъ называли ее люди, любуясь на ея чудную красоту, темные, какъ глаза газели, очи, ея стройный, какъ пальма пустыни, станъ и ея роскошные волосы, унизанные чудными жемчужинами, которые досталъ съ морского дна ея храбрый отецъ. Темною ночью Муса прокрался въ домъ капудане, когда спалъ весь городъ, тихонько пробрался въ спальню молодой красавицы, заткнулъ ей ротъ кускомъ своего бурнуса, обмоталъ ея голову своимъ поясомъ и осторожно вынесъ ее полумертвую отъ страха изъ дому; пронесъ черезъ весь городъ въ своихъ могучихъ объятіяхъ, дотащилъ до морского берега, гдѣ дожидался на лодкѣ его другъ, и отправился съ своею плѣнницею въ море. Страшную месть задумалъ Муса, но никому не сказалъ объ ней. Страшно билась Жемчужная Красавица и на лодкѣ въ морѣ, и на верблюдѣ въ пустынѣ, когда свирѣпый Муса везъ ее въ берегу Краснаго моря черезъ всю пустыню Синая къ той скалѣ, на которой пострадалъ самъ отъ жестокой руки капудане. Никто, кромѣ друга, не зналъ пока о Жемчужной Красавицѣ, но когда Муса прибылъ въ берегу Акабинскаго залива съ своею жертвою, онъ созвалъ всѣ племена, ему подчиненныя, чтобы показать имъ, какъ онъ умѣетъ мстить за себя. Въ ужасѣ собирались сыны пустыни отъ Далекаго Керака (становище арабовъ къ востоку отъ Мертваго моря) до горъ Джебель-Турфа (которыми оканчивается Синайскій полуостровъ) по приказанію страшнаго изуродованнаго шейха, и не зная, что будетъ, со страхомъ смотрѣли то на страшное лицо Мусы, то на сіяющее красотою лицо плѣнной Жемчужной Красавицы. Когда собрались всѣ, Муса разсказалъ имъ о своей мести и о томъ, какъ онъ добылъ дочь капудане. Потомъ онъ взялъ на руки свою плѣнницу и понесъ на вершину горы; двое арабовъ помогали ему. Поставивъ Жемчужную Красавицу на то мѣсто, гдѣ пролилась его кровь отъ руки капудаве, Муса рѣшилъ пролить неповинную кровь дочери капудане, чтобы ея кровь, смѣшавшись съ его собственною кровью, затушила огонь мести. Страшенъ былъ Муса въ эти минуты; онъ сказалъ о своемъ рѣшеніи Жемчужной Красавицѣ и та, рыдая, упала безъ чувствъ на холодный камень. Сердце Мусы не дрогнуло при этомъ; арабы же, окружавшіе Мусу, трепетали. Муса снялъ всѣ одежды съ лежавшей красавицы, онъ оставилъ только дорогія жемчужины, блиставшія въ ея роскошныхъ черныхъ волосахъ, и золотыя украшенія на шеѣ, рукахъ и ногахъ своей плѣнницы. Въ такомъ видѣ онъ велѣлъ поднять ее и показать народу; несчастная Жемчужная Красавица была все время безъ чувствъ, но когда при видѣ ея дивной красоты, ея роскошнаго тѣла, черныхъ украшенныхъ драгоцѣннѣйшими перлами моря волосъ, раздался въ толпѣ голосъ сожалѣнія къ неповинной жертвѣ и негодованія въ Мусѣ, она открыла свои прекрасные глаза, чтобы не открывать ихъ на вѣки. Взглядъ этихъ огненныхъ глазъ обжегъ Мусу; проснулось ли при этомъ состраданіе или другое чувство въ дивной, трепещущей на его рукахъ, красавицѣ, но поднятая рука съ курбашемъ не могла опуститься… Нѣсколько минутъ простоялъ Муса, пожирая глазами свою жертву; наконецъ, поборовъ свое чувство, онъ опустилъ курбашъ, но ударъ его палъ на мертвое тѣло… Красавица была мертва… Месть Мусы не могла совершиться. Надъ обнаженнымъ трупомъ не могъ наругаться и Муса. Въ отчаяніи онъ бросился въ бушующее море со скалы и разбился… Аллахъ не хранилъ его на этотъ разъ. Въ ужасѣ арабы смотрѣли то на обрызганные кровью Мусы прибрежные камни, то на прекрасное тѣло мертвой красавицы, замученной безвинно страшнымъ мучителемъ. Въ каменной трещинѣ схоронили тѣло ея арабы пустыни, прозвали скалу ту именемъ несчастной дѣвушки и разнесли далеко въ свои шатры пѣсни о Жемчужной Красавицѣ. Старый дервишъ, умолявшій Аллаха на этой горѣ три года, видѣлъ не разъ въ часъ полночный, какъ бѣлая тѣнь Жемчужной Красавицы поднималась легкимъ облакомъ изъ дикаго ущелья и медленно проносилась надъ тою горою; она подплывала къ обрыву, гдѣ свергнулся Муса, и наклоняла воздушную свою голову, какъ бы ища своего мучителя въ волнахъ бушующаго моря, и, наконецъ, исчезала, возвращаясь къ своему каменному гробу…
Такъ говорилъ Ахмедъ и поникъ головою, какъ бы задумавшись надъ участью погибшей красавицы; Рашидъ и Юза, — всѣ, живо находившіеся подъ прекраснымъ разсказомъ Ахмеда, не могли сказать ни слова. Вдругъ Рашидъ, указывая пальцемъ на вершину горы Жемчужной Красавицы, прервалъ наше молчаніе, съ ужасомъ произнося:
— Эффенди не видитъ развѣ, что Жемчужная Красавица пришла смотрѣть внизъ на море и искать Мусу? Вотъ она нагибаетъ голову, тихо качается и поднимается все выше и выше. Смотри, эффенди…
Я смотрѣлъ и безъ того уже, насколько могъ внимательно, на бѣловатую тѣнь въ видѣ легкаго облачка, качавшуюся въ ущельяхъ поэтической горы. Всѣ мои спутники были въ ужасѣ. Темнота, уже наступившая, пока мы разговаривали за ужиномъ и за кружками «джаю» и легкій лунный свѣтъ, прорывавшійся сквозь дымку легкихъ облаковъ, а главное, поэтическое настроеніе дѣйствительно позволяло принять столбъ ночныхъ испаренія за воздушный образъ незримой Жемчужной Красавицы. Я не хотѣлъ разрушать поэтическое настроеніе моихъ спутниковъ дѣйствительностью, да это было бы и напрасно, потому что послѣ разсказа Ахмеда никто не повѣрилъ бы моимъ словамъ, что дивный образъ воздушной красавицы не что иное, какъ столбъ испареній отъ какого-нибудь невѣдомаго источника… Долго мы еще сидѣли молча, какъ бы боясь нарушить всеобщую тишину, царившую и на морѣ, и на сушѣ въ пустынѣ. Рябившаяся поверхность Краснаго моря блистала теперь другимъ сіяніемъ, фосфорически-зеленоватымъ; то не былъ ослѣпительный блескъ отражающей солнечный свѣтъ поверхности, то было мягкое, ласкающее глазъ сіяніе, съ которымъ такъ гармонировала и насквозь пронизанная луннымъ свѣтомъ атмосфера и, причудливыми формами врѣзывавшаяся въ синеву неба, зубчатая линія Акабинскихъ альпъ, черныя подножія которыхъ замыкали блистающую, какъ расплавленное серебро, поверхность едва колышущагося моря. Было уже довольно поздно, когда мы заснули, зарывшись на половину въ прибрежномъ сыроватомъ пескѣ.
IV
Эту ночь мы провели покойнѣе, чѣмъ прежнія; пріятная свѣжесть, производимая близостью воды, еще болѣе дѣлала пріятнымъ наше успокоеніе, такъ что мы поднялись на другой день часовъ около 7 утра вполнѣ бодрые и укрѣпленные ночнымъ отдыхомъ. Когда я проснулся въ первый разъ, всѣ еще спали; свинцово-голубая вода залива слегка колыхалась; тамъ и сямъ, прорѣзываясь изъ-за верхушекъ скалъ, скользили по ея поверхности какъ бы украдкою лучи еще не палящаго солнца. Всматриваясь въ водное пространство, я замѣтилъ, что далеко къ югу у самаго острова Тирана показались два или три паруса, которые вскорѣ же и скрылись. Не обративъ на это вниманія, я завернулся снова и заснулъ, чтобы проснуться, когда мои спутники готовы были завтракать. Ахмедъ уже принесъ воды, а Юза сварилъ и чаю и бурды, которую онъ величалъ супомъ, въ которой смѣшаны были образчики всѣхъ нашихъ незатѣйливыхъ съѣстныхъ продуктовъ, начиная отъ оливъ и кончая подболткою изъ краснаго вина. Во время завтрака я сообщилъ своимъ арабамъ о видѣнныхъ мною утромъ парусахъ, что было принято имъ съ большимъ интересомъ. Такъ какъ мы рѣшили этотъ день провести на этой же стоянкѣ, то Рашидъ взялся пройтись по берегу и посмотрѣть на судами, если таковыя окажутся, тогда какъ мы съ Ахмедомъ пойдемъ разыскивать таинственную пещеру съ костями, о которой я уже давно мечталъ. Закусивши, мы раздѣлились: Рашидъ пошелъ взбираться на вручи и на гребни горъ, мы съ Ахмедомъ пошли въ ущелья, а Юза остался при верблюдахъ. Рашидъ скоро исчезъ за выступомъ скалы, какъ только мы вошли въ ущелье, ведущее, по словамъ Ахмеда, кружнымъ путемъ снова въ уади Цугерахъ. Ущелье это было до того диво, что мой глазъ, уже привыкшій видѣть ужасныя по своей дикости мѣста, тѣмъ не менѣе поражался на каждомъ шагу. Мѣстами мы шли по узкой тропинкѣ фута въ 1 1/2 шириною, отъ которой шелъ крутой обрывъ, образующій стѣну каменной трещины въ нѣсколько саженей шириною и нѣсколько сотенъ футовъ глубиною. Голова даже начала у меня кружиться отъ головоломнаго пути, продолжавшагося безъ малаго около получасу. Наша тропиночка потомъ вдругъ какъ бы обрывалась, начала перескакивать, и мы черезъ нѣсколько переходовъ должны были остановиться у каменной стѣны, преграждавшей намъ дорогу; изъ небольшой трещины ея, журча, падала небольшая, но сильная струйка кристальной воды, той самой, которою насъ сегодня и вчера подчивалъ Ахмедъ. Я съ жадностью приложилъ губы свои и пилъ ртомъ и пригоршнями драгоцѣнную прохладную влагу. Напившись до сыта, я долго еще не могъ оторваться отъ этого прелестнаго, при всей его дикости, источника; изъ темной гранитной скалы, безжизненной, какъ и все вокругъ, вытекала сильная хотя и небольшая струйка воды и орошала безплодный камень, протачивая его день изо дня и отбрасывая вокругъ мельчайшія водяныя частицы. И вотъ, отъ союза ихъ съ каменистою почвою выросло нѣсколько зеленыхъ стебельковъ горнаго трубчатника съ блѣдно-розовыми цвѣтами и колонія мелкой травы, зеленѣющей изумрудными отпрысками. Окончательно оживляла этотъ дикій журчащій уголокъ небольшая изящная песчанаго цвѣта птичка, вѣчно танцующая вокругъ падающей воды, какъ и наша оляпка. Грустно, хотя и мелодично щебеча, она взлетѣла при вашемъ приближеніи и, сѣвъ на выступъ, выдающейся надъ ручейкомъ каменной скалы, зачирикала грустную пѣсенку, которая звонко раздавалась и тонула въ одуряющей мертвой тишинѣ пустыни… Я стоялъ, любовался, словно замеръ на мѣстѣ… Ахмедъ поторопилъ меня. — Эффенди, — сказалъ онъ, — долженъ взбираться на этотъ камень, а тамъ и кости, — добавилъ онъ, ложась плашмя на полусферическій камень и стараясь вскарабкаться на него при помощи всего своего туловища. Черезъ минуту Ахмедъ былъ уже на камнѣ, а черезъ двѣ и я послѣдовалъ его примѣру. Мы сдѣлали еще нѣсколько шаговъ, и передъ нашими глазами открылась длинная съ неширокимъ входомъ пещера. Ахмедъ остановился передъ зіяющимъ входомъ съ видомъ страха и сталъ пятиться назадъ; подойдя поближе къ пещерѣ, я замѣтилъ причину ужаса Ахмеда; недалеко отъ входа въ нее виднѣлся въ темнотѣ цѣлый человѣческій скелетъ, а вокругъ его валялось много разбросанныхъ костей. Мы зажгли двѣ свѣчи; я подошелъ въ самому входу въ пещеру и выстрѣлилъ туда изъ револьвера изъ предосторожности, чтобы выгнать оттуда гіену или шакала, которые часто забираются въ такія естественныя берлоги. Но въ такой мертвой пустынѣ предосторожность эта была почти лишнею; пещера наполнилась дымомъ, звукъ выстрѣла гулко раздался въ каменныхъ сводахъ, раза три или четыре отразившись, и замеръ въ каменной громадѣ. Скорчившись, я пролѣзъ во входъ пещеры, пригласилъ Ахмеда слѣдовать за мною, но суевѣрный арабъ дрожалъ отъ страху, слыша трескъ человѣческихъ костей, попираемыхъ моею ногою. Еще нѣсколько шаговъ, и пещера стала высока, я могъ свободно выпрямиться; при тускломъ свѣтѣ свѣчей, слабо горѣвшихъ въ удушливой атмосферѣ, наполненной еще клубами порохового дыма, можно было разсмотрѣть ея внутреннее устройство. То дѣйствительно была огромная расщелина скалы, образовавшаяся отъ вулканическаго удара, и надъ которой вовсе не работало искусство. Слабый свѣтъ свѣчей терялся въ этой колоссальной расщелинѣ какъ въ огромномъ темномъ пространствѣ, освѣщая только ближайшіе выступы стѣнъ. Я началъ осматривать дно пещеры, и она поразила меня огромнымъ богатствомъ остатковъ доисторической эпохи. Все каменистое дно было усѣяно массою костей и остатками кострищъ, углями, обожженными камнями. Я собиралъ эти кости и въ удивленію своему замѣчалъ, что не все это были кости человѣческія; большинство было отъ различныхъ животныхъ. Судя по нѣсколькимъ орудіямъ каменнаго вѣка, можно было сказать, что пещера служила жилищемъ цѣлой семьи людей первобытной культуры, слѣды которыхъ были несомнѣнны. Цѣлый день я рѣшился посвятить разбору этой рѣдкой находки, и потому, забывъ и о Красномъ морѣ, и о торговцахъ живымъ товаромъ, засѣлъ въ пещеру, погрузившись въ разборъ разнообразнаго матеріала. Сплыли двѣ свѣчи, зажжены были другія. Ахмедъ принесъ мнѣ туда и обѣдъ; за нимъ пришелъ и Рашидъ посмотрѣть на мои занятія, но, увидѣвъ кости вокругъ меня, отошелъ въ смущеніи и удалился на становище, а я все сидѣлъ и сидѣлъ въ душной пещерѣ. Не буду здѣсь описывать того, что я добылъ изъ этой пещеры Эль-Назбъ (Судьбы), какъ ее поэтически называлъ Ахмедъ, — это дѣло спеціальнаго очерка; скажу только, что это былъ одинъ изъ полезнѣйшихъ дней, проведенныхъ мною въ пустынѣ.
Солнце было уже довольно близко въ закату, когда я, разогнувъ спину послѣ долгой работы, окончилъ свое описаніе и разборъ матеріаловъ. Ахмедъ, уже привыкшій въ виду человѣческихъ костей, помогалъ мнѣ укладывать нѣкоторыя находки въ походную корзину. Въ послѣдній разъ я освѣтилъ всю пещеру, которую, быть можетъ, съ тѣхъ поръ какъ обитатели каменнаго вѣка, троглодиты Синайскихъ горъ, заснули вѣчнымъ сномъ подъ этими каменными сводами, никто изъ людей не посѣщалъ. Любопытныхъ туристовъ нѣтъ въ Синайской пустынѣ, ученыхъ изслѣдователей можно пересчитать по пальцамъ, а суевѣрные арабы съ трепетомъ и благоговѣніемъ обходятъ эту пещеру Судебъ, гдѣ груда человѣческихъ костей подтверждаетъ имъ слова корана, что "страшною костью станетъ красота человѣческая, черною ямою станетъ чудный глазъ красавицы"… Тусклый свѣтъ наплывшей свѣчи освѣщалъ уходящую, казалось, въ безконечность темноту, играя на мозаичныхъ поверхностяхъ, тамъ и сямъ вкрапленныхъ въ темный дикій камень; густой полный звукъ отъ нашихъ движеній замиралъ гдѣ-то вверху. Мы вышли изъ пещеры и начали обратный путь, неся на плечахъ, при помощи ружья, служившаго вмѣсто шеста, довольно полную корзину. Благодаря этой тяжести, переходъ нашъ продолжался болѣе часу.
Спустившись съ послѣдней крутизны и выйдя изъ ущелья къ нашему становищу, мы съ удивленіемъ замѣтили, что Рашидъ и Юза, стоя на боковомъ выступѣ скалы, висѣвшей надъ нашимъ становищемъ, всматривались внимательно въ морскую даль. Увидавъ насъ, они замахали руками и Рашидъ поспѣшилъ сообщить намъ, что они видятъ двѣ лодки съ парусами, которыя приближаются къ намъ. Это извѣстіе заставило насъ поскорѣе сбросить свою тяжесть и вскарабкаться на скалу, чтобы вмѣстѣ съ нашими спутниками наблюдать приближеніе судовъ, очевидно направлявшихся прямо въ нашу сторону.
— Это, эффенди, арабы моря, — заявилъ рѣшительно Рашідк — это мирные купцы, они везутъ невольницъ, — добавилъ омъ, югда уввдѣлъ, что я посматривалъ на свои револьверы. — Рашидъ видхть, что ихъ немного. Всего десять арабовъ на двухъ лодкахъ и четыре невольницы… Эффенди видитъ ихъ хорошо?..
Не смотря на то, что я усиленно старался всмотрѣться вдаль и напрягалъ все свое зрѣніе, не смотря даже на удивительную чистоту и прозрачность воздуха надъ синайскою пустынею, я не могъ различать людей на болѣе чѣмъ двухверстномъ разстояніи, но зная глазъ Рашида, вѣрилъ ему вполнѣ, хотя Юза и Ахмедъ видимо не довѣряли словамъ товарища. Черезъ нѣсколько минутъ дѣйствительно подтвердились слова Рашида; на лодкахъ было ровно десять гребцовъ, среди которыхъ можно было ясно различить четыре, закутанныя въ бѣлыхъ чадрахъ, фигуры. Рашидъ обвелъ гордо глазами сомнѣвавшихся и началъ спускаться, мы послѣдовали его примѣру. Установивъ свои пожитки въ углу, образуемомъ двумя сходящимися каменными громадами, мы, стоя, ожидали прибытія торговцевъ человѣческимъ мясомъ. Съ лодокъ начали дѣлать какіе-то знаки руками и кусками матеріи, на которые мои люди отвѣчали тѣмъ же. Оказывалось, арабы моря спрашивали насъ, позволимъ ли мы имъ остановиться на занятомъ нами берегу, и не купитъ ли господинъ у нихъ хорошенькихъ рабынь. Они узнали издалека, что на берегу остановился путешественникъ, котораго они приняли за пашу или посланца, пріѣхавшаго высмотрѣть товаръ. Безъ моего вѣдома, Юза съ Рашидомъ не только разрѣшили имъ высадку, но даже подали имъ надежду, что господинъ ихъ желаетъ купить невольницъ. Благодаря своимъ арабамъ, я, такимъ образомъ, не вѣдая того, былъ въ глазахъ торговцевъ и самихъ несчастныхъ женщинъ въ продолженіе нѣсколькихъ часовъ любителемъ этого товара. Не смотря на то, я былъ потомъ очень благодаренъ Юзѣ и Рашиду, что они своею выходкою, безъ моего вѣдома, дали мнѣ возможность присмотрѣться вполнѣ къ характеру продажи женщинъ, что въ настоящее время удается рѣдко видѣть европейцу и чего я прямо позволить бы не могъ. Когда приблизились обѣ лодки къ первымъ прибрежнымъ камнямъ, два молодыхъ и сильныхъ араба выскочили изъ лодки и, идя по горло въ водѣ, потащили лодки, убравшія уже паруса, къ берегу. Черезъ нѣсколько минутъ, при усиленной помощи остальныхъ, также выскочившихъ въ воду, обѣ лодки были на половину вытащены на берегъ. Старѣйшій изъ арабовъ съ длинною съ просѣдью бородою едва вышелъ на берегъ, какъ направился во мнѣ и произнесъ обычное арабское привѣтствіе, въ которомъ меня называлъ и благороднымъ пашою, и орломъ степнымъ, и львомъ пустыни, и неустрашимымъ вождемъ. Юза отвѣчалъ за меня, разбавляя свое привѣтствіе цвѣтистыми оборотами и хвастнею, въ которой, какъ и всегда, выставлялъ меня такъ высоко, какъ только могъ. Не понимая хорошо по-арабски, я долженъ былъ безучастно слушать все то, что изволилъ приврать Юза (а на этотъ разъ онъ навралъ цѣлый коробъ) и отъ нечего дѣлать разсматривалъ лицо предводителя работорговцевъ. Это было лицо отъявленнаго негодяя и мошенника, несмотря на почтенную сѣдину; хищный лукавый взглядъ его такъ и бѣгалъ во всѣ стороны, орлиный крючковатый носъ поминутно касался вѣчно поднимающейся нижней губы; углы рта какъ-то судорожно подергивались; черты лица постоянно перемѣнялись; все тѣло было въ постоянномъ движеніи. Когда окончились предварительные переговоры, предводитель отошедъ въ своему каравану и велѣлъ устроивать становище. Мигомъ была натянута палатка изъ нѣсколькихъ кусковъ полотна, вытащены полинявшіе ковры и подушки, натащено всякой всячины, а потомъ началась выгрузка живого товару. Бѣдныя женщины едва поднялись съ лодокъ при помощи дюжихъ молодцовъ и, поддерживаемыя съ двухъ сторонъ, сошли тихо на берегъ и побрели въ палатку, гдѣ тотчасъ и скрылись. Я успѣлъ только разсмотрѣть, что одна изъ нихъ была совершенно черна, одна довольно бѣла, а двѣ остальныхъ смуглаго арабскаго цвѣта съ большими черными глазами. Всѣ онѣ были закутаны въ бѣлыхъ чадрахъ, а на лицахъ носили еще покрывало изъ тонкаго шелка съ подвязкою на лбу, по образцу египетскихъ женщинъ. Когда невольницы были помѣщены, ихъ господа усѣлись вокругъ палатки и начали готовить себѣ ужинъ, не обращая на насъ никакого вниманія; одинъ предводитель снова подошелъ къ намъ и, по приглашенію нашему, подсѣлъ къ огоньку, который затеплилъ Юза, чтобы заварить чаю. Сперва онъ сидѣлъ молча, но, когда одинъ изъ арабовъ его принесъ наргилэ, то онъ, предложивъ его мнѣ, началъ вести искусную рѣчь, которую Юза при всемъ своемъ усердіи не могъ хорошо перевести. Услыхавъ же, что мы говоримъ по-французски, предводитель тотчасъ пересталъ говорить по-арабски и обратился прямо ко мнѣ, довольно порядочно, по крайней мѣрѣ понятно, объясняясь по-французски. Разговоръ нашъ пошелъ тогда быстрѣе и сталъ до того оживленъ, что я не замѣчалъ даже, что прошло слишкомъ полтора часа, какъ торговецъ гостилъ у нашего костра, попивая мой чай и покуривая наргилэ изъ своего расписного кальяна. Разговоръ, разумѣется, касался спеціальности моего собесѣдника, но онъ такъ искусно велъ его, что я не могъ вывѣдать ничего новаго о его ремеслѣ, о способѣ добыванія и сбытѣ человѣческаго товара, но за то много наслышался разсказовъ о красотѣ его невольницъ, которыхъ онъ достаетъ съ большимъ трудомъ, рискуя собственною жизнью, и о томъ, какъ подчасъ дорого платятъ ему за красавицъ турецкіе и египетскіе паши. Все это, разумѣется, велось къ тому, чтобы и съ меня заломить ужасную цѣну, когда я стану торговать себѣ одну изъ красавицъ, какъ онъ наивно предполагалъ. Когда всѣ его розсказни о прелестяхъ земныхъ гурій, сидящихъ въ его палаткѣ, были недостаточны для того, чтобы подбить меня на покупку, такъ какъ я только слушалъ, не вставляя ни одного лишняго слова, кромѣ вопросовъ, не подавая ни малѣйшаго желанія торговаться, то хитрый арабъ началъ бить на чувственную струну самымъ безцеремоннымъ образомъ. Онъ сталъ разсказывать такія скабрезности, сопровождая ихъ различными поясненіями при помощи тѣлодвиженій, что я принужденъ былъ отогнать его отъ костра; но для негордаго торговца человѣческимъ тѣломъ это ничего не значило. Какъ оказалось впослѣдствіи, Юза, хваставшій постоянно не въ мѣру, особенно когда нужно было возвеличить меня, а со мною и себя лично, столько наговорилъ о неизмѣримомъ богатствѣ москова-паши, что корыстолюбивый арабъ рѣшился, во что бы то ни стало, всучить мнѣ одну изъ невольницъ. Предполагая, что мое упорство зависитъ только отъ скупости, онъ сталъ продѣлывать возмутительныя невозможныя вещи, въ реальность которыхъ трудно даже было бы повѣрить, если бы мнѣ не привелось ихъ видѣть собственными глазами. Первымъ дѣломъ, онъ началъ съ того, что заставилъ своихъ невольницъ выйти изъ палатки и пѣть. Бѣдныя женщины повиновались тирану, потому что довольно толстый курбашъ въ его рукѣ доказывалъ, что хозяинъ ихъ не любитъ шутить. Онѣ вышли изъ палатки, сняли свои покрывала, по приказанію, и начали пѣть визгливую арабскую пѣсню, которую хозяинъ обязательно переводилъ на французскій языкъ. Содержаніе ея было до того отвратительно, что я сталъ требовать, чтобы пѣніе было прекращено, если хозяинъ станетъ заставлять пѣть своихъ невольницъ такія вещи, которыя вынуждаютъ краснѣть даже постороннихъ. Мое требованіе было уважено, и пошлая пародія смѣнилась пѣвучею арабскою шансонеткою, гдѣ описывались восторги горячей любви, изсушающей сердце человѣка какъ палящіе лучи солнца сушатъ траву. Какъ ни старались несчастныя, но эти пѣсни пѣлись сквозь слезы и походили скорѣе на отчаянный вопль, а не пѣсни любви. Горько и стыдно становилось за человѣка, который заставляетъ себѣ подобныхъ играть эту ужасную шутовскую роль. Бѣдныя рабыни наконецъ окончили и долгимъ грустнымъ, какъ бы укоризненнымъ взглядомъ поглядѣли на насъ; я не могъ выдержать этого ихъ взгляда и поспѣшилъ опустить глаза. Хозяинъ тогда спѣшилъ подойти ко мнѣ и началъ расхваливать снова прелести своихъ невольницъ, которыя робко поглядывали то на меня, то на своего тирана, думая, что рѣшается ихъ участь; мнѣ казалось даже, что въ ихъ взорахъ виднѣлась горькая просьба облегчить ихъ судьбу, насколько то возможно. Еще грустнѣе и обиднѣе стало у меня на душѣ, такъ какъ единственною возможностью облегченія несчастныхъ было внушить ихъ у тирана, на что у меня не хватило бы средствъ, если бы даже я и рѣшился на это. Съ болью на сердцѣ, я на этотъ разъ отказалъ хозяину, уже начинавшему формальное предложеніе, говоря, что европейцы не покупаютъ женщинъ и что торговля людьми запрещена повсюду, какъ ему должно быть извѣстно. Продавецъ состроилъ отвратительную полуулыбку и язвительно замѣтилъ, что "европейцу не мѣшаетъ пріобрѣсти себѣ хорошенькую рабыню, когда представится случай".
— Посмотри, эффенди, всѣ онѣ красавицы на подборъ; Юзефъ — старый торговецъ женщинами и умѣетъ угодить благороднымъ пашамъ.
Произнося это, онъ далъ знавъ рукою, и невольницы открыли свои лица. Я невольно взглянулъ на эти безжизненныя лица рабынь, какъ я ихъ себѣ представлялъ по образцамъ гаремницъ, и былъ пораженъ наоборотъ глубокимъ выраженіемъ, лежавшимъ на ихъ страдальческихъ, истомленныхъ горемъ и оскорбленіями лицахъ, Старшею изъ нихъ казалась на видъ негритянка. Обыкновенный негритянскій типъ съ извѣстными губами и носомъ не дѣлалъ ее особенно красивою, но красивые глаза, продолговатое лицо и гладкіе длинные волосы, не свойственные черному племени, и нѣжная бархатистая черноватаго матоваго цвѣта кожа выкупали этотъ недостатокъ, а стройная талія и красивыя плечи придавали ей видъ хорошо сформированной женщины. Она не была настоящею негритянкою, а была скорѣе изъ племени ландниговъ или іолофовъ, приближающагося къ арабамъ. Двѣ другихъ были еще несовершеннолѣтнія, но довольно развитыя въ физическомъ отношеніи, арабки. Бронзоватаго цвѣта лица ихъ съ черными искрящимися глазами, съ миндалевиднымъ разрѣзомъ и длинными черными рѣсницами, такъ были похожи одно на другое, что обѣ казались сестрами. Правильный арабскій типъ съ чудными глазами и тонкимъ орлинымъ носомъ, красивымъ ртомъ, маленькими ушами дѣлали ихъ настоящими красавицами, еслибы не поражала ихъ значительная даже для арабокъ худоба и страдальческое выраженіе ихъ молодыхъ прелестныхъ лицъ. Совершенно въ иномъ вкусѣ была четвертая рабыня, которую торговецъ величалъ "Розой Пустыни" и которая держалась какъ-то особнякомъ отъ другихъ, даже нѣсколько независимо отъ хозяина. Она достойна была своего названія, потому что это была дѣйствительно роскошная женщина. Бѣлое, чистое съ правильными чертами лицо, не загорѣвшее, но съ какимъ-то матовымъ оттѣнкомъ, высокій лобъ, окаймленный блестящими черными волосами, огненный взглядъ, свойственный женщинамъ юга, красивыя губи и роскошныя формы — такова была Роза Пустыни, которою торговецъ видимо дорожился болѣе, чѣмъ всѣми остальными. Юзефъ замѣтилъ, что Роза Пустыни произвела на меня сильное впечатлѣніе, такъ какъ я долго не могъ оторвать глазъ съ ея прекраснаго, правильнаго, даже неискаженнаго душевными страданіями липа и потому поспѣшилъ предложить обратить на нее еще большее вниманіе.
— Эффенди, смотри на Розу Пустыни, — заговорилъ онъ съ отвратительною улыбкою, — какъ она прекрасна… Старый Юзефъ не видалъ женщины роскошнѣе Розы Пустыни; она будетъ красотою твоего гарема, благородный паша московскій, повѣрь — она стоитъ золотого мѣста…
— Отстань отъ меня, Юзефъ, — отвѣчалъ я, — мы европейцы не покупаемъ женщинъ, и никогда не купимъ, не смѣй мнѣ и предлагать своей Розы Пустыни; она свободна какъ и ты, откуда у тебя право продавать этихъ бѣдныхъ женщинъ?
— Эффенди молодъ; онъ пріѣхалъ изъ далекой страны московской, онъ не знаетъ правъ арабовъ моря, — возражалъ Юзефъ — онѣ достались мнѣ не легко; я купилъ ихъ своею кровью, и за свою кровь хочу получить золото… Свою кровь, эффенди, и свой трудъ я имѣю право продавать…
Отвратительно, но логично звучали слова стараго торговца и я поспѣшилъ отойти къ своимъ верблюдамъ, чтобы вырваться отъ навязываній Юзефа. Обернувшись, я увидѣлъ, что Роза Пустыни смотрѣла на меня своими огненными глазами. Я взялъ двухстволку Ахмеда и сталъ взбираться на скалу, чтобы уйти подальше отъ своего становища, чтобы не видѣть этихъ несчастныхъ невольницъ, смотрѣвшихъ на меня, какъ на своего покупателя и избавителя отъ позорной участи, — служить показнымъ товаромъ. Бодро я шелъ по трудной горной тропинкѣ впередъ, думая заглушить въ своемъ сердцѣ непріятное и щемящее чувство, но солнце уже закатывалось, позолачивая только верхушки акабинскихъ альпъ, подножіе которыхъ и море до западной окраины, гдѣ играли еще лучи заката, были темны, и я поспѣшилъ воротиться. Юза долженъ былъ уже приготовить закусить.
Когда я подошелъ въ своему становищу, было уже довольно темно, невольницы были въ палаткѣ, въ которой горѣлъ огонь. Мои арабы приготовлялись къ ночлегу, а арабы тоже улеглись вокругъ палатки Юзефа, который былъ въ шатрѣ рабынь. Не успѣлъ я еще закусить, какъ поле палатки поднялось, и изъ нея вышелъ Юзефъ, направлявшійся во мнѣ. Надо замѣтить, что въ мое отсутствіе шатеръ невольницъ былъ перенесемъ поближе въ нашему становищу, такъ что можно было даже отъ нашего востра слышать шопотъ несчастныхъ женщинъ. Юзефъ, подойдя во мнѣ, остановился, приложилъ руку ко лбу и груди по восточному обычаю и началъ:
— Эффенди благородный, Роза Пустыни желаетъ видѣть тебя, она можетъ говорить съ тобою, старый Юзефъ не помѣшаетъ.
Я глядѣлъ на Юзефа, не зная, чего отъ меня хочетъ торговецъ и эта Роза Пустыни; первымъ моимъ предположеніемъ было, что они сговорились между собою для какой-нибудь низкой цѣли, вторымъ — пришло любопытство узнать, что можетъ быть общаго между мною и красавицею-рабынею. Я всталъ и молча пошелъ къ палаткѣ невольницы; Юзефъ поднялъ полу и опустилъ ее за мною. Я очутился въ таинственномъ полусвѣтѣ ночника, мерцавшаго какимъ-то прерывающимся блескомъ, при слабомъ освѣщеніи котораго я замѣтилъ четырехъ несчастныхъ женщинъ, полулежащихъ на подушкахъ въ дыму курящагося наргилэ; всѣ онѣ были украшены золотыми вещами, а въ роскошныхъ волосахъ Розы Пустыни были вплетены толстыя нити жемчуга; надо сознаться, она была дѣйствительно очень хороша и этой обстановкѣ, въ этомъ одѣяніи… она казалась какимъ-то неземнымъ существомъ, наядою или сиреною Краснаго моря. Невольно я остановился, пораженный такимъ чуднымъ видѣніемъ въ глуши Аравійской пустыни, и первыя мгновенія не понималъ, гдѣ я и что со мною происходитъ. Мнѣ припомнился разсказъ Ахмеда и я невольно сравнилъ лежавшую передо мною рабыню съ Жемчужной Красавицей арабскаго миѳа, а гнуснаго торговца — съ лихимъ мстителемъ пустыни — страшнымъ Мусой.
— Эффенди благородный, купи меня въ свой гаремъ, — вдругъ произнесла Роза Пустыни, по-французски, полувставая и протягивая впередъ свои полныя матовой бѣлизны руки съ золотыми кольцами, и на огненныхъ глазахъ ея показались слезы. Она опустилась снова на подушку и, закрывъ руками глаза, заговорила что-то на непонятномъ для меня языкѣ.
Я стоялъ и глядѣлъ на плачущую женщину, все еще не давая себѣ полнаго отчета въ томъ, что со мною происходитъ; она представлялась мнѣ то настоящею красавицей, о которой говорятъ арабскія сказки, то коварной сиреной, завлекающей и свои сѣти неопытныхъ, то глубоко несчастной, выставляемой на позоръ женщиной. Послѣднее взяло верхъ, и я перенесся быстро изъ міра сказочнаго въ міръ горькой дѣйствительности, въ страну восточнаго деспотизма, страну презрѣнія человѣка… Мнѣ стало горько, грустно, тяжело и я поспѣшилъ войти въ палатки. Я понялъ, что несчастная Роза Пустыни не умѣла говорить по-французски, что она была научена гнуснымъ своимъ хозяиномъ произнести фразу, значенія которой не понимала, и что она была глубоко несчастна.
Юзефъ и не думалъ удерживать меня, когда я рванулъ полы шатра невольницъ и быстрыми нервными шагами пошелъ въ своему становищу. Мои люди даже привстали, когда я бросился на разостланное походное пальто съ видомъ глубокой усталости и сталъ крѣпко закутываться въ него… Но сонъ былъ далеко отъ меня. Видѣннаго было слишкомъ много для того, чтобы спокойно уснуть. Едва я прилегъ, Ахмедъ привсталъ и началъ свое бодрствованіе; онъ чередовался по два раза въ ночь съ Рашидомъ и Юзою. Что я перечувствовалъ въ эту безсонную ночь, трудно описать; ощущенія были слишкомъ разнообразны, слишкомъ сложны, чтобы поддаваться анализу.
Едва забрежжился свѣтъ, какъ я уже торопилъ Ахмеда и Юзу въ дорогу. Наскоро мы подкрѣпили свои силы и начали собираться въ путь. Юзефъ, разбуженный нашими приготовленіями, сперва не зналъ, въ чемъ дѣло; увидавъ же, что мы готовимся выступать, еще разъ приступилъ съ предложеніями, на этотъ разъ ясно формулированными.
— За Розу Пустыни, благородный эффенди, дай только шесть сотъ лиръ; она и будетъ твоею рабою; за дочерей пустыни я прошу всего по три сотни, а черную дѣвушку уступлю на двѣ съ половиною. Не жалѣй золота, эффенди, только у Акаби ты можешь теперь купить хорошенькую женщину.
Я оттолкнулъ Юзефа рукою, когда онъ сталъ удерживать меня, а Юза торопилъ верблюдовъ подняться, едва я успѣлъ усѣсться. Караванъ нашъ тронулся впередъ, оставивъ за собою шатеръ съ невольницами, десятокъ арабовъ-торговцевъ и стараго Юзефа, бѣсновавшагося отъ невыгорѣвшаго дѣла и потерявшаго, благодаря Юзѣ, цѣлый день пути изъ-за меня. Мы направились по горнымъ кручамъ, придерживаясь берега Акабинскаго залива, и скоро оставили далеко становище женопродавцевъ. Я вдохнулъ свободнѣе бальзамическій воздухъ пустыни и моря, сожалѣя о встрѣчѣ, которая отравила для меня слѣдующіе дни пути.
V
Весь тотъ день мы шли неутомимо по горнимъ тропамъ надъ самымъ Краснымъ моремъ; благодаря запасу свѣжей води, взятой изъ колодца у Пещеры Судебъ и не успѣвшей еще испортиться, а также близости моря, освѣжавшаго насъ пріятнымъ бризомъ, нашъ шестнадцатичасовой переходъ былъ довольно сносенъ, мы были бодры. Два раза въ тотъ день мы останавливались, чтобы погрузиться въ соленыя волны прибоя и посбирать рѣдкихъ раковинъ, которыми такъ богато Красное море. Надо было удивляться тому разнообразію и чудной красотѣ, какую представляютъ эти истинные перлы моря; самыя причудливыя форми, самые яркіе цвѣта, разнообразныхъ и нѣжныхъ оттѣнковъ, съ чуднымъ блескомъ и жемчужною игрою, поражаютъ даже въ мертвомъ состояніи; той же красоты, которую представляютъ эти цвѣты моря въ своей родной стихіи, оживленные присутствіемъ живыхъ существъ, не суждено видѣть человѣческому глазу. Я до того увлекся сборомъ раковинъ, коралловъ разнообразныхъ цвѣтовъ, зоофитовъ, морскихъ звѣздъ, что едва могъ оторваться послѣ купанья отъ этого занятія, чтобы начать трястись снова на своемъ верблюдѣ. Къ вечеру, почти къ самому закату солнца послѣ долгаго и утомительнаго перехода, мы, наконецъ, остановились на ночлегъ около дикаго ущелья у подножья Терабина, которое составляетъ естественный выходъ къ Красному морю изъ треугольнаго пространства Рамдейской пустыни (образуемаго Джебель-этъ-Тихо и Терабиномъ съ сѣвера, Акабинскою цѣпью съ востока и съ возвышенностями Уади Цугерахъ съ юга). Черезъ это ущелье пролегаетъ и обыкновенный путь отъ Синая въ Акабы черезъ степь Рамле, тогда какъ мы шли, благодаря Ахмеду, по пути, которымъ не прошелъ ни одинъ европеецъ. Дорогу каравановъ черезъ ущелье Эль-Тапсъ {Имени ущелья Эль-Тапсъ нѣтъ на картахъ Робинзона и другихъ путешественниковъ.}, какъ его называлъ Ахмедъ, у самаго нашего привала обозначали высохшіе и побѣлѣвшіе на солнцѣ остовы павшихъ верблюдовъ: это указывало, что переходъ черезъ Рамле очень тяжелъ, хотя и гораздо короче нашего окружнаго пути. Мѣсто, выбранное нами для ночевки, было одно изъ поразительнѣйшихъ по дикой и суровой красотѣ окружающей обстановки. Со всѣхъ сторонъ огромныя, поднимающіяся выше 2000 фут. горы, спереди чудный Акабинскій заливъ, замыкаемый на далекомъ горизонтѣ съ востока синѣющею цѣпью Аравійскихъ возвышенностей, а сзади, между дикими громадами, извивающееся причудливо, мрачное ущелье Эль-Тапса, загроможденное разбросанными камнями и усѣянное бѣлѣющими остовами. Въ эту ночь мы были свидѣтелями прекраснаго небеснаго явленія — обильнаго паденія звѣздъ. Въ продолженіе болѣе получаса, то и дѣло бороздили прекрасное небо блестящіе метеоры во всѣхъ направленіяхъ; нѣкоторые изъ нихъ, исчезая въ безпредѣльномъ пространствѣ, оставляли въ голубой атмосферѣ яркіе серебристые слѣды, терявшіе свою фосфоричность, казалось, только отъ немерцающаго блеска другихъ болѣе яркихъ метеоритовъ. Въ воздухѣ было тихо, не чувствовалось даже берегового бриза; земля, казалось, спала, какъ спитъ пустыня всегда; одно небо въ ту ночь жило своею особенною таинственною жизнью; блестящіе метеоры, какъ облачные духи, то вдругъ появлялись изъ голубого пространства своими серебристыми тѣлами, то вдругъ пропадали безслѣдно, какъ бы утопая въ безпредѣльности. Было что-то потрясающее душу въ этой игрѣ метеоритовъ; но временамъ изумленному уму казалось, что присутствуешь гдѣ-то внѣ земной сферы, откуда можно было наблюдать систему вселенной, какъ предъ ослѣпленными очами проносятся, по предвѣчно начертаннымъ орбитамъ, цѣлые міры, едва доступные созерцанію человѣческому. Къ полночи прекратилось волшебное видѣніе; послѣ полночи уснули мы, какъ убитые, въ дикомъ ущельи Эль-Тапса рядомъ съ остовами верблюдовъ и людей, заснувшихъ вѣчнымъ сномъ въ мертвой пустынѣ.
Мы проснулись не рано на другой день, потому что меня разбудило собственно солнце, начавшее немилосердно палить мой обнаженный затылокъ. Еще два дня пути оставалось до Акабы и пути не легкаго, не смотря на то, что теперь нашъ путь пойдетъ не по горнымъ кручамъ, а по самому берегу Краснаго моря у подножья Акабинскихъ альпъ. Трудность пути зависѣла главнымъ образомъ отъ того, что у насъ начиналъ уже чувствоваться недостатокъ и въ безъ того уже отвратительно скудной и наскучившей до омерзѣнія пищѣ, а также потому, что у насъ не было совершенно чистой воды. Взятая изъ колодца Судебъ, вода уже начинала въ бурдюкахъ превращаться въ отвратительную теплую бурду, которая могла служить только прекраснымъ рвотнымъ, но никакъ не освѣжающимъ и не укрѣпляющимъ напиткомъ. При такихъ условіяхъ надо было идти еще по крайней мѣрѣ два дня, не говоря о могущихъ встрѣтиться задержкахъ. Ахмедъ, впрочемъ, увѣрялъ, что воды этой хватитъ еще дня на четыре, а провизіи при разумной экономіи дня на три, такъ что мы могли отправляться смѣло, надѣясь достигнуть Акаби, не умеревъ ни съ голоду, ни съ жажды, хотя и потерпѣвъ всѣ нужды и лишенія, обусловливаемыя отвратительною пищею и скверною вонючею водою. Мы снялись съ сегодняшняго ночлега довольно въ худомъ расположеніи духа, такъ какъ путь на верблюдѣ по пустынѣ начиналъ уже наскучивать при вашихъ условіяхъ. Не имѣя достаточныхъ средствъ и надѣясь на свою выносливость, я не запасся необходимыми припасами изъ Суэца и принужденъ былъ питаться тѣмъ, что забралъ изъ Синайскаго монастыря. Меня предупреждали, что рискованно будетъ идти черезъ пустыню въ іюнѣ мѣсяцѣ при страшныхъ тропическихъ жарахъ безъ достаточной провизіи съ тремя вооруженными проводниками. Предостереженія были не напрасны; мы пострадали ужасно отъ недостатка пищи и питья, я вынесъ легкую лихорадку и солнечный ударъ до Синая, воспаленіе соединительной оболочки глазъ (conjuctivitis) отъ ослѣпляющаго блеска песковъ пустыни, и другой солнечный ударъ послѣ Сивая до Акаби и третій впослѣдствіи на пути изъ Акаби въ Эль-Аришу. Переходъ черезъ пустыню понадорвалъ мое здоровье и вообще, такъ что я прибылъ въ Іерусалимъ страшно изнуренный и обезсиленный {Только благодаря любезности генеральнаго консула В. Ѳ. Кожевникова, принявшаго на себя заботы обо мнѣ какъ о родномъ, я былъ обязавъ тому, что возстановлены были мои истощенныя силы.}. Денъ этотъ былъ одинъ изъ тяжелѣйшихъ во время всего перехода, потому что страданія мои были чрезвычайны, и я бросался въ морю, сгарая желаніемъ освѣжить свой языкъ хотя каплею прохладной не вонючей води. Ни ѣда, ни ѣзда не шли на умъ, я мучился, а не жилъ въ тотъ день, качаясь почти безъ сознанія на горбѣ верблюда, не давая себѣ яснаго отчета въ томъ, что происходитъ вокругъ; для меня безслѣднымъ остался почти весь путь отъ ущелья Эль-Тапса почти до самой Акаби. Помню только, что мы шли все у подножья горъ, почти у самаго морского берега, что порою волны Акабинскаго залива лизали ноги нашихъ верблюдовъ, что, я безсознательно глядя вокругъ, видѣлъ только голыя скалы сперва Терабина, а потомъ отроговъ Эль-Тиха, и тихое море у своихъ ногъ, и голубое небо надъ головою. Большаго не припомню; даже характеръ береговыхъ скалъ и почвы берега не удержался въ моей памяти, такъ что когда я писалъ эти строки, то усиленно старался припомнить, по какой почвѣ мы шли отъ Эль-Тапса до Акаби. Даже мои выносливые арабы потеряли свою энергію; еще Рашидъ, бодрѣе всѣхъ насъ ѣхавшій на своемъ верблюдѣ, походилъ на прежняго гордаго коваса, но за то Ахмедъ и особенно Юза сидѣли на горбахъ, какъ мокрыя курицы. Не будь дорога такъ проста, потому что мы ѣхали все время по берегу залива, никуда не сворачивая, мы непремѣнно бы заблудились, такъ какъ ни Ахмедъ, ни Юза — присяжные проводники — не могли уже исполнять своихъ обязанностей. Дорогу нашу теперь довольно часто обозначали высокіе, побѣлѣвшіе на солнцѣ, остовы верблюдовъ, а иногда и людей, прежде пострадавшихъ и погибшихъ въ пустынѣ; эти ужасные знаки служили для насъ и вѣхами, указывавшими путь, и страшными memento more. Не будь у насъ подъ бокомъ освѣжающихъ волнъ Краснаго моря, мы едва ли бы выбрались изъ пустыни; я, по крайней мѣрѣ, обязанъ своимъ спасеніемъ единственно частому купанью въ морскомъ прибоѣ. Едва закружится голова и застучитъ въ вискахъ, едва мысли начинаютъ путаться и переходить въ страшный кошемаръ, какъ я кричалъ, чтобы караванъ останавливался; едва ступая ногами, я сходилъ съ верблюда, срывалъ съ себя одежды и бросался въ голубыя волны, не думая ни о какихъ морскихъ чудовищахъ. Только благодаря этому освѣжающему купанью, я предохранялъ себя отъ пораженія солнечнымъ ударомъ, который былъ бы смертеленъ для меня въ тогдашнемъ обезсиленномъ состояніи. Какъ мы доѣхали въ тотъ день до ночлега, я не могу представить теперь; помню только, что, когда разгружены были верблюды и мы улеглись уже безъ ужина и чаю на свои плащи, и холоднымъ ночнымъ воздухомъ пахнуло на насъ съ моря, то мы словно ожили. Въ ту ночь стало до того свѣжѣть, что мы даже начали зябнуть, это было якоремъ спасенія для меня. Едва я почувствовалъ, что кожа моя начала энергически работать подъ знакомымъ намъ, сѣверякамъ, дѣйствіемъ легкаго холодка, какъ я оправился до того, что снова сталъ бодрымъ, веселымъ и ощутилъ потребность ѣды. Оправились и мои арабы, но этихъ дѣтей пустыни пугалъ ночной холодъ, и они дрогли до непріятнаго ощущенія. Согрѣться же имъ было нечѣмъ, потому что у насъ было нечѣмъ разложить костра. Поѣли въ сухомятку черстваго синайскаго хлѣба, оливъ, начинавшихъ горькнуть, козьяго сыру и, запивши бурдою, и улеглись спать снова и заснули сномъ праведниковъ.
Проснувшись на другой день и чувствуя себя довольно бодрымъ, я началъ оріентироваться на счетъ нашего географическаго положенія. По всѣмъ даннымъ мы находились на параллели сѣвернаго отрога Джебеля-эль-Тиха въ томъ мѣстѣ, гдѣ приморская цѣпь наиболѣе отходитъ отъ берега Акабинскаго залива. Въ этомъ мѣстѣ Джебель-эль-Тиха съ приморскими горами образуетъ горный узелъ, который обозначается нѣсколькими возвышающимися пиками. По разсчетамъ Юзы и Ахмеда, а также по моимъ вычисленіямъ, мы должны были быть, если не въ ночи, то на другое утро въ Акабѣ. Это надежда оживила насъ и мы бодро выступили въ путь. Но этой бодрости хватило намъ не надолго, мы еще ранѣе полудня погрузились въ ту же апатію, въ какой были во весь вчерашній день. Та же безучастность ко всему, тоже холодное равнодушіе, та же мучительная подавленность когда ничего не желаешь, ничего не чувствуешь, ничего не мыслишь, когда погружаешься въ забытье, въ нирвану. Быть можетъ, мои спутники и не доходили до такого состоянія, но я былъ погруженъ въ него всѣмъ своимъ существомъ такъ мы ѣхали часовъ до 4-хъ пополудни, не думая ни объ отдыхѣ, ни о чемъ вообще, безучастно только поглядывая вокругъ то на море, къ сѣверу съуживающееся длиннымъ языкомъ, то на скалы, каменною стѣною стоявшія на всемъ пути вашемъ слѣва, и покачиваясь на верблюдахъ, которые, видимо, послѣдніе два дня ослабѣли до того, что едва волочили ноги. Я не думаю, чтобы мы въ послѣдніе дни дѣлали по обычныхъ пяти верстъ въ часъ, не смотря на то, что животные наши были не особенно нагружены. Въ Акабѣ мы надѣялись отдохнуть, запастись провизіей и силами на новый переходъ черезъ пустыню; къ Акабѣ относились всѣ наши стремленія и пожеланія, какъ къ конечному пункту настоящихъ страданій, хотя до конца было еще очень далеко. Но и Акабы, казалось, не такъ легко было достигнуть; вотъ уже почти два дня мы идемъ отъ Эль-Тапса по дорогѣ вѣрной, караванной, по которой нельзя заблудиться, благодаря бѣлѣющимъ тамъ и сямъ костякамъ верблюдовъ, а оконечности Акабинскаго залива, гдѣ стоитъ Акаба, не видать; къ сѣверу длинный язычекъ залива по прежнему оканчивается какъ-то неопредѣленно, какъ будто синеватая дымка подернула весь горизонтъ, а такъ не кончается пустыня… Грустныя мысли пали опять въ голову, и безъ того уже поразстроенную не мало; неужели намъ не дойти къ утру до Акаби, думалось мнѣ, и казалось съ этою думою отлетала послѣдняя надежда на выходъ изъ мертвой пустыни, оставалось готовиться въ тому, чтобы остаться въ пустынѣ на вѣки… Я замѣчалъ, что и арабы мои сдѣлались грустные, какъ я, и Юза погонялъ верблюдовъ, хорошо понимая, что мы не придемъ въ Акабу скоро, такъ какъ животныя измучены и не могутъ идти по прежнему ходко. Но вотъ Рашидъ поднялся немного на горбъ верблюда и сталъ всматриваться въ даль пустыннаго берега; мы всѣ послѣдовали его примѣру, оживившись нѣсколько надеждою увидѣть желанную цѣль. Ничего, однако, кромѣ чернаго пятна, какъ будто двигающагося, на горизонтѣ не замѣчалось, на это пятно были устремлены наши усталые взоры, и, казалось, оно росло въ размѣрахъ и подвигалось въ нашу сторону.
— Эффенди, — вдругъ рѣшительно произнесъ Рашидъ, обратившись ко мнѣ, и глаза его загорѣлись огнемъ, — то видно арабы пустыни. Рашидъ съумѣетъ умереть за эффеиди, если будетъ нужда, но пусть не боится, эффенди, арабы пустыни — трусливые шакалы.
Непріятно прозвучали для меня слова Рашида, видимо, возбужденнаго своимъ открытіемъ, хотя, судя по прежнему опыту, нечего было опасаться встрѣчи съ сынами пустыни. Непріятное чувство перешло наконецъ въ настоящій страхъ, когда я замѣтилъ, что Рашидъ, а на нимъ Ахмедъ и Юза осмотрѣли свое оружіе и вынули ятаганы изъ ноженъ, какъ для настоящаго боя. Пятно на горизонтѣ разрѣшилось тѣмъ временемъ въ порядочную группу верблюдовъ, шедшихъ не караваннымъ образомъ, а толпою, какъ идутъ всегда верховые верблюды арабовъ. Можно было насчитать нѣсколько десятковъ животныхъ. Мы, очевидно, встрѣчались съ цѣлымъ племенемъ дикихъ арабовъ, быть можетъ, подстерегавшихъ насъ, чтобы получить изрядный бакшишъ на пропускь. Этого намъ и слѣдовало опасаться, потому что у меня едва оставалось нѣсколько турецкихъ лиръ. Наша апатія исчезла, какъ дымъ; видимая опасность заставила даже меня воспрянуть духомъ. При видѣ моихъ горячившихся арабовъ, игравшихъ оружіемъ и приготовлявшихся въ бой, какъ на веселый пиръ, весь мой страхъ мало-по-малу сталъ переходить не въ мужество, но въ какое-то неопредѣленное чувство, родъ опьянѣнія, въ которомъ человѣку не представляется даже видимая опасность серьезною. Какъ-то машинально, но вынулъ я ятаганъ, осмотрѣлъ взводы Вессоновскихъ револьверовъ и снялъ съ шеи верблюда берданку и положилъ около себя, хотя, собственно говоря, не желалъ и не думалъ сражаться. Четверымъ, даже отлично вооруженнымъ, трудно было справиться съ нѣсколькими десятками хищниковъ, если дѣло дойдетъ до боя; а я все почему-то надѣялся, что дѣло обойдется безъ рѣзни. Арабовъ-пустыни уже можно было легко различать. Нѣсколько десятковъ верблюдовъ, на которыхъ чинно возсѣдали сыны пустыни съ длинными копьями въ рукахъ, ятаганами за поясомъ и ружьями на плечахъ, шли прямо на насъ; впереди каравана ѣхалъ шейхъ въ зеленой чалмѣ {Зеленая чалма составляетъ признакъ мусульманина хаджи, побывавшаго въ Меккѣ и Мединѣ и принесшаго поклоненіе гробу Магометову.}.
Не прошло и десяти минутъ съ тѣхъ поръ, какъ я увидалъ шейха, мы были уже окружены со всѣхъ сторонъ многочисленными арабскими всадниками и цѣлымъ лѣсомъ копій внушительной длины. Сердце во мнѣ сильно забилось, когда окинувъ взглядомъ вокругъ, я замѣтилъ, что мы находимся въ центрѣ круга, составленнаго дикими сынами пустыни, лица которыхъ не внушали никакой симпатіи. Теперь только я понялъ, что между арабами пустыни, видѣнными нами недавно, и этими существуетъ огромная разница, и что мы отъ этихъ не отдѣлаемся такъ легко. Невольно я вздрогнулъ при мысли о возможности и даже необходимости боя, потому что заплатить мнѣ за проѣздъ было нечѣмъ, а намѣреніе арабовъ было очень ясно. Увидавъ, что мои арабы вынули ятаганы, я взвелъ курокъ Вессоновскаго револьвера, все еще не имѣя ни малѣйшаго желанія вступать въ неравный бой, исходъ котораго намъ легко было предвидѣть. Шейхъ, увидавъ нашу видимую готовность сопротивляться, махнулъ рукой и заговорилъ словами привѣтствія, прикладывая руку во лбу и груди и приглашая насъ переговориться.
Юза, великій дипломатъ, отвѣчалъ ему тѣмъ же и съ моего согласія подъѣхалъ ближе къ шейху, сопровождая всѣ свои движенія пріемами утонченной арабской вѣжливости, на которые можно было посмѣяться, если бы мы не находились въ такомъ ужасномъ положеніи. Долго говорилъ Юза, разнообразя свои переговоры то энергическими жестами, то изысканными пріемами, но шейхъ упорно стоялъ на своемъ. Предводитель арабовъ пустыни требовалъ съ насъ за свободный проѣздъ черезъ его владѣніе всего 20 золотыхъ, угрожая въ противномъ случаѣ задержать насъ. Юза представлялъ ему всѣ резоны, что идетъ московскій паша, что нельзя безпокоить благороднаго эффенди, который не любитъ шутить, но все это было напрасно; дипломатія его не помогала; опасность нашего положенія увеличивалась. Я уже представлялъ себѣ перспективу плѣна у арабовъ пустыни со всѣми ужасами его или смерти въ бою съ ними за свободу; другихъ выходовъ не предвидѣлось, потому что нельзя было разсчитывать ни на мягкосердечіе корыстолюбиваго шейха, ни на успѣхъ прорыва силою черезъ кольцо арабскихъ воиновъ. Я уже началъ Юзѣ диктовать ультиматумъ, которымъ объявлялъ шейху, что, не имѣя требуемыхъ денегъ за уплату проѣзда, мы будемъ или прорываться силою, или оставаться на мѣстѣ, пока не придутъ въ намъ на помощь изъ Акабы (послѣднее, разумѣется, было выдумкою съ цѣлью острастки арабамъ), какъ смѣлый Рашидъ спасъ насъ всѣхъ изъ отчаяннаго положенія энергическимъ поворотомъ дѣла.
— Мудрый шейхъ, — вдругъ произнесъ онъ, обращаясь въ предводителю съ ятаганомъ въ рукѣ,— московъ-паша не волкъ и не гіена; онъ не боится арабовъ. Его спутники также. Ихъ чудныя малыя ружья (такъ называютъ арабы револьверы) посѣютъ много смерти между сынами пустыни, и московскій паша найдетъ себѣ дорогу по трупамъ своихъ враговъ… Но ты, шейхъ, если и избѣгнешь смерти отъ руки москова-паши, то не уйдешь отъ его мести… Твоя голова будетъ сушиться на солнцѣ {Рашидъ разумѣлъ здѣсь египетскій способъ казни грабителей, которыхъ отрубленныя головы вывѣшивались на воротахъ городовъ, пока не истлѣвали совершенно.}, чтобы всѣ знали, что московъ шутить не любитъ. Рашидъ замолчалъ и вынулъ револьверъ, хладнокровно взводя его курокъ; всѣ мы послѣдовали его примѣру; передъ строемъ арабовъ, склонившихъ свои копья, какъ бы по данному сигналу, затрещали взводы восьми револьверовъ… Шейхъ, испуганный зловѣщимъ трескомъ страшнаго, въ понятіи арабовъ, оружія, невольно отступилъ, весь строй арабовъ осадилъ верблюдовъ также.
Юза крикнулъ на нашихъ верблюдовъ, и мы приблизились снова къ арабамъ, которые изумленно смотрѣли на насъ, не зная, что предпринять.
— А чтобы тебѣ, старый шейхъ, не дожидаться долго, — прибавилъ энергически Рашидъ, видя смущеніе арабовъ, — я отрублю тебѣ голову сейчасъ, какъ мнѣ приказываетъ московскій паша. — Съ этими словами онъ взмахнулъ надъ головою шейха ятаганомъ, но старый арабъ ловко увернулся. Я трепеталъ на эту отчаянную выходку Рашида, думая, что еще секунда, и мы будемъ разорваны оскорбленною толпою арабовъ, но эта выходка и спасла насъ. Старый шейхъ просилъ пощады, какъ ни въ чемъ не бывало. Рашидъ соскочилъ съ верблюда, взялъ за поводъ его и повелъ прямо на полукругъ арабскаго строя. Цѣпь разступилась съ удивительною быстротою и пропустила насъ, все еще державшихъ револьверы на готовѣ. Я видѣлъ, что насъ провожали свирѣпые взгляды, горѣвшіе изъ-подъ черныхъ рѣсницъ дикарей, видѣлъ какъ судорожно нѣсколько рукъ схватывалось за копья и за ручки ятагановъ, слышалъ скрежетаніе зубовъ шейха и лязгъ бряцающаго оружія, но никто изъ враговъ нашихъ не шелохнулся, чтобы погрозить намъ даже однимъ жестомъ, — такъ велико было обаяніе револьверовъ въ Синайской пустынѣ, и такъ дѣйствительна была рѣшимость четырехъ человѣкъ, очертя голову, бросившихся на проломъ. Мы не гнали верблюдовъ, но они сами, какъ бы чуя опасность, которую едва миновали ихъ хозяева, удвоили шаги. Долго еще мы шли, озираясь на черную группу людей и верблюдовъ, которая оставалась неподвижною, по крайней мѣрѣ, впродолженіе получаса, пока наконецъ не двинулась по берегу по направленію къ Эль-Тапсу и не скрылась на береговомъ изгибѣ. Мы избавились еще отъ одной опасности и благодарили Провидѣніе, давшее возможность намъ такъ счастливо и такъ славно пробиться черезъ толпу дикихъ сыновъ пустыни. Героемъ дня былъ Рашидъ, и всѣ ему отдавали должную дань благодарности; даже соперникъ его Ахмедъ, увидавъ, что арабы удалились, произнесъ отъ души: — У Рашида храброе сердце, онъ хорошій другъ, эффенди. — Не много было сказано въ этихъ словахъ, но я замѣтилъ, что для Рашида эта похвала соперника стоила всѣхъ моихъ благодарностей, исключая, разумѣется, денежныхъ.
Эту ночь мы провели на самомъ берегу моря, рѣшившись караулить по очереди свой ночлегъ, такъ какъ не могли еще успокоиться вполнѣ на счетъ безопасности со стороны арабовъ, которые во всякомъ случаѣ находились недалеко отъ васъ. Несмотря на значительную усталость и изнеможеніе, я долго не могъ уснуть подъ подавлявщими впечатлѣніями дня и въ раздумьяхъ о предстоящемъ пути. Только бы добраться до Акабы, думалось мнѣ; дальше не простирались мои горячія желанія, но до нея, кажется, намъ не дойти… Недалекій вой гіены прервалъ мои размышленія. Отъ него повеселѣло на моей душѣ. Въ мертвой пустынѣ мы не слышали гіены впродолженіе многихъ ночей; онѣ воютъ недалеко отъ жилыхъ или, по крайней мѣрѣ, не мертвыхъ мѣстъ. Это размышленіе ободрило меня настолько, что я съ наслажденіемъ засыпалъ теперь подъ отвратительный стонъ гіены, когда прежде дрожалъ отъ одного вида этого трупнаго животнаго.
Когда я проснулся, Юза показывалъ уже мнѣ на бѣлѣвшую точку на горизонтѣ, которая выдѣлялась рельефно на голубой дымкѣ дали въ лучахъ восходящаго солнца… То была Акаба! По Красному морю виднѣлось два или три паруса, спѣшившіе въ единственному населенному пункту Акабинскаго залива, откуда-то донесся отдаленный выстрѣлъ ружья. Черезъ нѣсколько времени мы уже различили купы финиковыхъ пальмъ, первыхъ въ пустынѣ послѣ Синая, которыя помахивали своими верхушками надъ бѣлыми квадратными домиками бѣднаго арабскаго городишка. Еще часа полтора, и мы будемъ у воротъ Акабы; двѣ четверти пути по пустынѣ уже сдѣлано, остается на Акабою еще двѣ, а съ ними еще много горя и лишенія, но о нихъ ни пока говорить не будемъ. Я забылъ уже все претерпѣнное, радуясь, что прошелъ весь Синайскій полуостровъ при такихъ условіяхъ, въ какихъ не проходилъ ни одинъ путешественникъ; безъ всякихъ денежныхъ средствъ, самъ-четверть, безъ запаса провизіи, въ самое трудное время года, побывавъ даже тамъ, гдѣ не ступала нога европейца, и поплатившись за все это только двумя солнечными ударами и рядомъ лишеній, которыя теперь были забыты, едва показались пальмы Акабы.
А. Елисѣевъ.


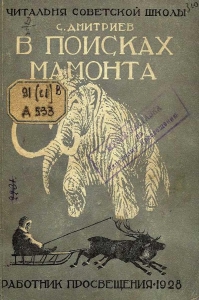
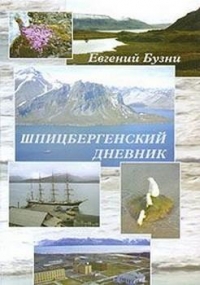
Комментарии к книге «На берегу Красного моря», Александр Васильевич Елисеев
Всего 0 комментариев